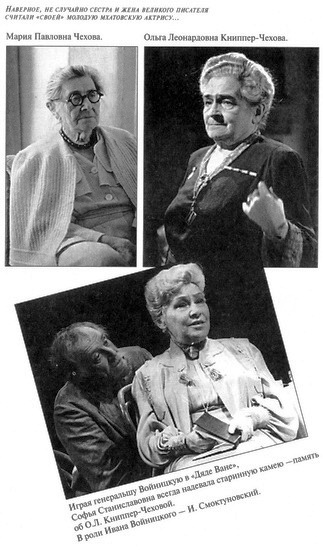Софья Пилявская
ГРУСТНАЯ КНИГА
Юрий Белявский. ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
Замечательная актриса Софья Станиславовна Пилявская умерла 21 января 2000 года в самой привилегированной российской больнице — знаменитой «Кремлевке». За время ее недолгой болезни Софью Станиславовну несколько раз навещала жена первого президента России Наина Иосифовна Ельцина, в последние годы близко сошедшаяся с ней.
В день прощания с С. С. Пилявской в МХАТе были завешены зеркала, а отпевал ее в маленькой аристократической церкви в Брюсовом переулке сам митрополит Питирим, также относившийся к числу ее друзей.
Все программы ТВ сообщили о её смерти, а газеты опубликовали большие уважительные некрологи.
Всю свою сознательную жизнь Зося Пилявская (она любила, когда друзья называли ее так, и я позволю себе иногда употреблять именно это имя ее юности) служила в самом знаменитом отечественном театре — МХАТе. Власть никогда не обходила ее наградами и званиями. Последние полвека прожила она в престижном «сталинском» доме в самом центре Москвы. Казалось бы, долгая счастливая жизнь…
Но при этом свидетели ее последних дней утверждают, что вспоминала она перед смертью отца, сгинувшего в ГУЛАГе, и почему-то еще мхатовского актера Ю. Э. Кольцова, проведшего в лагерях семнадцать лет своей жизни. И постоянно возвращалась к теме страха, преследовавшего ее всю жизнь.
Не так все было просто и безоблачно в судьбе и в душе этой, до самых последних ее дней безумно красивой женщины, породистой и благородной «старой графини», как я называл ее про себя.
Конечно, она была из этого великого и несчастного поколения советских людей, возвеличенного и переломанного их XX веком. В самом начале его Зося появилась на свет и на самом его излете была отпущена им на рандеву с Богом.
Наверное, именно поэтому книга, которую вам предстоит прочесть, получилась, по мнению самой Софьи Станиславовны, очень грустной.
Между тем начиналась жизнь ослепительно и прекрасно. Детство, проведенное в Кремле, обожаемый ею отец — старый большевик («старбол», как их называли), крупный партийный чиновник, один из так называемой ленинской когорты, сподвижник и личный приятель многих из тех, кто был или казался хозяевами тогдашней жизни. Раннее появление в театральной среде, занятия с сестрой «самого» Станиславского Зинаидой Сергеевной и, наконец, осуществленная мечта — зачисление в труппу МХАТа.
Начало тридцатых годов, когда это произошло, — время в советской истории особое.
Передышка, данная Зверем, опившимся кровью во время военного коммунизма, заканчивается, и все, кто хоть что-нибудь понимает, чувствуют — интуитивно ли, расчисленно ли — приближение нового приступа кровавой ярости.
Пока же нэп еще не задавлен полностью, в московских магазинах продаются хорошие вина, вкусная еда, иностранная одежда. Цензура хоть и зверствует, но осторожно и с оглядкой, издательствам время от времени удается издавать приличные книги, театрам ставить то, о чем буквально через несколько лет даже подумать будет страшно.
Художественный театр благоденствует, все еще живы, вожди регулярно посещают спектакли, а великие «старики» на вакации отъезжают за границу.
Именно в это время Зося вступает в свою самостоятельную жизнь. Кроме всего прочего, а может быть, прежде всего остального, Бог даровал ей великую красоту. Красоту не стандартную и вместе с тем почти совершенную. Говорят, что ее муж, Николай Иванович Дорохин, человек веселый и искренний, увидев в музее Венеру, вполне серьезно заметил: «Моя Зося-то получше будет». В. И. Немирович-Данченко, повидавший на своем веку множество красавиц, во время одной из репетиций сказал, обращаясь к Софье Станиславовне: «Какие же у вас обольстительные руки!» В. В. Шверубович (сын В. И. Качалова) вспоминал: «Зимой с Зосей еще как-то можно было ходить по улицам, но летом просто невозможно».
Приносит ли красота счастье? На этот риторический вопрос народный фольклор дает множество ответов, в большинстве своем для красоты неутешительных.
Они входили в жизнь вместе — три обворожительные юные польские красавицы подруги: С. Пилявская, В. Полонская, Н. Ольшевская. Думаю, что самая трагическая судьба выпала Веронике Витольдовне Полонской, последней возлюбленной Маяковского. Я застал ее за несколько лет до смерти, она, оболганная и обобранная, доживала век в театральной богадельне. Я пытался расспрашивать ее, она кое-что рассказывала о смерти Владимира Владимировича, после каждой фразы тревожно переспрашивая: «Вы уверены, что обо всем этом уже можно говорить?» В конце разговора, когда речь зашла о быте и нравах начала тридцатых, она успокоилась, даже стала шутить, а на мой вопрос о трех красавицах ответила горько: «Из нас настоящей красавицей была все-таки Зося. Да много ли счастья…»
Нина Ольшевская, мать знаменитого актера Алексея Баталова и вполне известных ныне Михаила и Бориса Ардовых, воспетая и прославленная во множестве мемуаров как ближайшая подруга Анны Ахматовой, тоже прожила не самую легкую жизнь.
Думаю, что с Софьей Станиславовной ее великая красота сыграла довольно злую шутку. Это была другая красота, совершенно невостребованная ее временем. Это была, если позволено мне будет так выразиться, совершенно антисоветская красота. Красота тонкости и благородства, аристократизма и породы. Трудно, да невозможно просто было представить ее в ролях комсомолок и ткачих, трактористок и лихих пулеметчиц.
С. С. Пилявская — человек до мозга костей театральный, беспредельно преданный своему театру, даже в самых страшных снах не видевшая себя вне театра, прожила в этом театре довольно сложную и вовсе не счастливую жизнь.
Мне трудно это объяснить, я не историк театра и даже не театральный критик, да и пишу не театроведческий трактат, а скромное предисловие к книге, которая сама, как мне кажется, многое объясняет. Дело даже не в том, что в какие-то годы ее затеняли такие мхатовские звезды, как Степанова, Андровская или Тарасова. Были роли и у Пилявской, в том числе и абсолютно блистательные, но были и долгие годы ее персонального, личного театрального безвременья. Позволю себе предположить, что виной тому стремительно менявшаяся атмосфера жизни, в том числе и театральной, а Пилявская, будучи человеком гармоническим, с твердо определенными нравственными постулатами, при всем своем желании (да, да, в какие-то жизненные моменты именно желании) в эту атмосферу вписаться не могла. Больше всего на свете она не выносила плебейства, а плебейства вокруг становилось все больше и больше. Особенно остро она переживала это в последние годы своей жизни. Думаю, именно поэтому, остановившись в своих мемуарах на определенном жизненном периоде, она необычайно твердо отказалась их продолжать. На все наши дружеские приставания она, обычно удивительно деликатная и к другим мнениям внимательная, отвечала сухим отказом.
По тем же, уже изложенным выше причинам не сложился у нее и серьезный роман с кинематографом. Пожалуй, кинозрителям она запомнилась лишь по фильму «Все остается людям», где все держится на ее блистательном партнерстве с Черкасовым, да по эпизодической роли в ныне почти культовом фильме «Покровские ворота».
В конце концов Пилявской все-таки повезло. Она дожила до своей востребованности. Оказывается, в России не только писателям следует жить долго. Свой ренессанс она пережила с приходом в МХАТ О. Н. Ефремова. Надо заметить, что Олег Николаевич тоже не сразу разглядел в благородной даме великую актрису, но зато, разглядев, занимал ее в ролях почти беспрестанно.
После выхода на экран «Покровских ворот» предложения сниматься поступали чуть ли не ежедневно. Но она отказывалась от всего, даже не читая сценариев. Причины здесь были личные, но об этом чуть позже. Кстати, к самому факту выхода «Покровских ворот» на экран, как рассказывал мне М. М. Козаков, Софья Станиславовна приложила руку. Фильм, как известно, очень не понравился главному тогдашнему теленачальнику С. Г. Лапину. Чего только не делал Козаков для спасения своего, на мой взгляд, лучшего фильма. Даже роль Дзержинского для умаления грехов в каком-то телесериале сыграл — ничего не помогало. Наконец как-то при случае поделился проблемами с Пилявской. «Что ж, я попробую», — сказала Софья Станиславовна. Неизвестно, какой у нее разговор состоялся с Лапиным, но фильм на экран вышел.
Но это эпизод, столь же мгновенный, как и ее появление в «Покровских воротах». А жизнь С. С. Пилявской состояла, по моему разумению, не из эпизодов, а из двух примерно равновеликих частей. Первая часть длилась до середины — конца пятидесятых годов, когда из жизни один за другим ушли самые дорогие для нее люди — муж, Н. И. Дорохин, мать, С. И. Пилявская, и, наконец, абсолютно обожаемая ею О. Л. Книппер-Чехова.
Близость с Ольгой Леонардовной была почти мистической. История о том, как Зося по ее просьбе стирала смертную рубаху Чехова, у меня как у читателя вызывает абсолютный душевный трепет — просто мурашки по коже. Именно Зосе Ольга Леонардовна завещала сжечь всю свою частную переписку, и Пилявская сожгла этот огромный пакет на Николиной Горе. С такой же просьбой по поводу собственной частной переписки обратилась перед смертью Софья Станиславовна к одной из своих учениц. Думаю, уже сожгли.
С мужем своим, актером МХАТа Николаем Ивановичем Дорохиным, Софья Станиславовна жила в любви и счастливо. Умер он 48-ми лет от роду, как говорили в старину, в одночасье. За двадцать минут до наступления 1954 года, на пороге квартиры О. Л. Книппер-Чеховой, куда они шли встречать Новый год. С тех пор, до последнего в ее жизни 2000 года, Софья Станиславовна встречала Новый год только в собственной квартире в полном одиночестве.
С матерью своей, Софьей Иосифовной, Зося всю жизнь была душевно связана так прочно, как будто пуповину некогда забыли перерезать.
И вот все они ушли. А Зося окаменела.
То есть она продолжала исправно ходить на службу в театр, даже стала преподавать в Школе-студии и находила в этом немалые радость и удовлетворение, встречалась с друзьями, регулярно навещала Елену Сергеевну Булгакову. Жизнь продолжалась, и продолжалась для нее бесконечно долго, еще почти полвека. Друзья любили ее, ученики обожали, окружающие невольно испытывали почтение к благородной даме, всегда одетой в один из трех цветов — белый, черный, серый. Но все меньше и меньше оставалось вещей в современной жизни, волновавших и интересовавших ее, и все больше воспоминаний роилось в ее седой, красивой и удивительно гордо поставленной голове. Она ненавидела и презирала нынешнее театральное закулисье, насквозь невыносимо для нее плебейское, она не любила и не понимала новых театральных нравов, не понимала и не пыталась Понять.
Для нее прервалась связь времен, а она продолжала жить в новом времени, не имея с ним почти никаких духовных связей. Приходили новые роли, она играла, но не претендовала на них. Единственная роль, на которую она хотела бы претендовать, — роль Хранительницы Традиций, но как раз в ней вновь и не была востребована. Верней, не востребованы были сами традиции. Ими предпочитали клясться с трибун театральных форумов, не понимая, зачем они потребны в потной и трудной повседневной жизни. Однажды Зося сказала: «Я так не хотела дожить до столетия МХАТа. А вот дожила. Я так одинока».
Софью Станиславовну Пилявскую похоронили на Новодевичьем кладбище в могиле ее мужа, Николая Ивановича Дорохина. В том же ряду могилы Чехова, Книппер-Чеховой, Тарханова, Москвина, Немировича-Данченко. Она вернулась к своим.
Юрий Белявский.
Что видишь, то и пиши,
а что не видишь — писать не следует.
М. Булгаков
Есть дни и годы, к которым память возвращается
снова и снова — всю жизнь.
А. Луначарский
Часть I
1911–1926 годы
Я родилась в мае 1911 года в Красноярске. Родители мои поляки. Отец — Станислав Станиславович Пилявский — родился в 1883 году в семье врача. Воспитывал его отчим, потому что моя бабушка, овдовев в 21 год и оставшись с четырьмя детьми, вскоре вышла замуж за богатого польского помещика Феликса Козловского.
Еще в Виленской гимназии отец вступил в нелегальный марксистский кружок. Этим кружком руководил Иван Осипович Клопов — офицер, преподаватель гимнастики (совсем как Родэ у Чехова в «Трех сестрах»). Только офицер Клопов сотрудничал в газете «Искра» и, кажется, занимался ее распространением.
После окончания гимназии отец поступил в Петербургский университет на юридический факультет, где через некоторое время вместе с Николаем Николаевичем Крестинским (в гимназии они учились в одном классе и дружили всю жизнь) стал в свою очередь руководить подпольным марксистским кружком.
В 1903 году отец вступил в партию большевиков. В 1905 году был первый раз арестован и пробыл в заключении около года. Из университета его исключили. После освобождения был в Ковно и Вильно на подпольной работе (кличка — Фома). Какое-то время жил у родителей.
Моя мать Софья Иосифовна, урожденная Стоковская, тоже человек не совсем обычной биографии. Ее мать — моя бабушка Стоковская — родилась в аристократической польской семье, очень молодой влюбилась в небогатого «шляхтича», тайно с ним обвенчалась, за что и была изгнана из семьи и проклята родителями. Мама была третьей и самой младшей дочерью, дед (мамин отец) умер, когда ей не было и месяца. Воспитывалась мама у одной из своих родственниц — сестры грозной моей прабабки, так и не сменившей гнев на милость.
Как и когда встретились мои родители, я не знаю. Венчались они уже в Петербурге, потому что благодаря знакомству отчима с ректором Петербургского университета отец вновь был принят туда и окончил в 1908 году юридический факультет. В 1907 году родился мой брат Станислав.
В конце 1908 года отца опять арестовали, судили и выслали на вечное поселение в Красноярск. Мама с моим братом тоже вскоре уехала к отцу. Вот почему я стала сибирячкой.
В том же году деятельность офицера Клопова была раскрыта. Его судили, лишили офицерского звания и приговорили к высылке за пределы европейской части России. Списавшись с моим отцом, Клопов и его жена с двумя молоденькими дочками переехали на постоянное жительство в Красноярск. Мои родители были очень дружны с этой семьей.
Красноярск я помню смутно, в ту далекую пору он был заштатным городом. В центре одна мощеная улица — Дворянская, тротуары деревянные. На площади собор, аптека, театр и кондитерская «Жорж Борман». Кондитерскую помню по пирожным и лимонаду. Смутно помню и городской театр, где я даже изображала однажды роль мухи в детском любительском спектакле.
Ссыльные называли город «Ветропыльск».
Жили мы на окраине (иначе нельзя было), наша улица называлась Узенькая.
Одноэтажный деревянный, в несколько окон со ставнями на улицу дом. Парадная дверь с козырьком. В холодных сенях — большое окно во двор. В те времена такой дом считался солидным и стоил недешево.
Квартира в несколько комнат. Кухня с русской печью и плитой, из кухни ход в сени и во двор. А там — будка и большой рыжий пес Цезарь, который иногда возил меня в санках.
В одной из комнат с окном во двор всегда жил или ночевал кто-нибудь посторонний. Освещение — конечно, керосиновые лампы и свечи. Удобства самые примитивные: воду носили ведрами (привозил водовоз), но была «умывальня» с тазами, кувшинами и рукомойниками.
Из прислуги были у нас кухарка, дворник и няня Зося, которую вывезли из Польши. Прислугу мои родители могли содержать потому, что мать и отчим отца высылали нам деньги, как и мамина старшая сестра — очень состоятельная женщина. Деньги высылались на имя мамы; она не была под надзором полиции и даже преподавала в местной женской гимназии музыку или пение.
Когда мне исполнилось 11 месяцев, мама повезла меня крестить в Польшу, в имение Козловских. Пока доехали до места, я уже пошла. По словам мамы, во время крестин я вела себя буйно. Крещена я тремя именами, как и полагается в католических дворянских семьях. У девочек первое имя материнское, у мальчиков — по отцу. Таким образом, я — София Аделаида Антуанета.
Детство, особенно раннее, обычно вспоминается светлым и радостным. Так и у меня: радость от катания на санках во дворе, радость от украшенной горящими свечами елки с подарками под ней (а до этого клеились разноцветные цепи, золотились орехи и делались какие-то игрушки). И вот наконец праздник. В гостиной что-то готовилось, а мы и наши гости Ира и Боба Мазинги (их отец, барон фон Мазинг, тоже был выслан в Красноярск) стояли под дверью, стараясь заглянуть в замочную скважину, и с нетерпеньем ждали марша или полонеза, который мама играла на пианино, — это был знак того, что сейчас откроется дверь.
Вспоминая сейчас то бесконечно далекое время, я понимаю, что мой очень активный, выражаясь мягко, характер доставлял родителям и всем близким много хлопот. Мой брат Станислав был кротким, воспитанным мальчиком, во всем мне уступавшим.
Обычно после мытья головы нам каждый раз закручивали волосы на папильотки нитками: маме хотелось, чтобы мы были в «локонах». Однажды, в знак протеста, я, раздобыв ножницы, срезала почти все свои волосы, устроив маме сюрприз. В результате нас обоих остригли почти наголо — есть фотография.
Хорошо помню воскресные завтраки и за столом, кроме членов семьи, большого, рыжего человека с добрыми, какими-то сияющими глазами — дядю Авеля. Его очень усердно потчевали, и он с аппетитом ел. Один раз, глядя на него, я спросила: «А вы не лопнете?» — повергнув маму в панику, а отца в смущение. А дядя Авель только хохотал. Это был Авель Сафронович Енукидзе, член партии большевиков с 1898 года, тоже не по своей воле оказавшийся на берегу Енисея. Он содержался не то в крепости, не то в казармах под Красноярском, и по субботам начальство отпускало его до утренней поверки в понедельник.
В субботу к вечеру он пешком приходил к нам, ночевал в комнате с окном во двор и утром, умытый и выбритый, в чистой суконной рубашке появлялся к завтраку.
Мы, дети, очень его любили. Почти все воскресенье он возился с нами, выдумывая различные игры, катал меня на закорках, я — к ужасу мамы — запускала обе руки в его пышную огненную шевелюру, а он смеялся.
Авель Сафронович был очень добрым и мужественным человеком. Говорили, что я родилась, когда он находился у нас в доме.
Сразу после моего рождения бабушка Стоковская опять проявила храбрость и упорство. Она приехала в далекий и «дикий» Красноярск и прожила с нами около года. По маминым рассказам я знаю, что именно мое появление было причиной ее смелого поступка: она тогда была уже старой.
Зимой нас, детей, будили обычно в одно время. Вставали при свече. После завтрака становилось уже светло, нас снаряжали на прогулку и отправляли на улицу, даже если мороз достигал 45°. Но была одна ужасная процедура — лицо и руки под очень теплыми варежками густо мазали гусиным салом.
Мой отец, будучи ссыльным, не имел права служить, но был обязан каждую субботу являться к приставу для отметки. Его использовали только во время сибирской переписи населения и внутринадельного размежевания в Енисейской губернии. Это было связано с дальними разъездами. Отец прекрасно ездил верхом, иногда ему приходилось сплавляться на плотах по Енисею — там, где из-за многочисленных порогов река не была судоходной. Это было небезопасно. Поэтому во время отсутствия отца все очень волновались.
На лето наша семья выезжала на дачу. На нескольких телегах везли мебель, домашнюю утварь, даже пианино. Дача стояла на берегу Енисея. Место это называлось «За монастырем». Помню круглую клумбу и в середине ее большой стеклянный шар. Очевидно, тогда так было модно. Дача была большая, и кроме нас там жили Мазинги, а где-то рядом семья доктора Гусарова. Очень крупный, красивый, светло-русый, всегда элегантный (это я поняла гораздо позднее, по фотографиям), эдакий красноярский доктор Астров, он лечил всех и от всего. Меня он принимал на свет. Я болела, кажется, всеми детскими болезнями, а в три года даже натуральной оспой. Это ему я обязана выздоровлением и тем, что оспин на лице осталось немного.
Потом я узнала, что доктор Гусаров не только лечил, но и помогал ссыльным. Он имел отношение к распространению «Искры» в Сибири. Мой отец не мог заниматься делами газеты — у него были свои, особые задачи.
Величественный Енисей тогда никакого впечатления на меня не производил — река как река, в которой меня иногда купали у берега.
Хорошо помню «тот» берег, где стояла скала Столбы. Кругом была тайга. В памяти мелькают обрывки рассказов взрослых о пустынности и опасности «того» берега.
Через 50 лет после того, как меня увезли из Сибири, летом я прилетела сниматься в Дивногорск, где достраивалась Красноярская ГЭС.
По дороге с аэродрома я жадно смотрела по сторонам. Дорога почти все время вилась по берегу Енисея. Тут я вполне оценила всю красоту этой могучей реки.
Дивногорск, совсем тогда юный город, спускался террасами к Енисею. Длинная набережная с современными магазинами, а в конце ее — прекрасная гостиница. Меня поразил вестибюль, где прямо из пола, во всю вышину лестничного проема, росла чудесная белоствольная береза, а в ее кроне щебетали птахи. Работники гостиницы очень гордились этой березой.
Окна моего номера выходили на Енисей. Виднелись только вода и «тот» берег, тогда еще не застроенный. Смешанный лес красоты необыкновенной, и кое-где пестрые, яркие поляны — красные, лиловые, желтые, — это цвели маки, ирисы и еще какие-то цветы.
Мне любезно предоставили машину и водителя-красноярца. Весь день мы кружили по Красноярску. Искали Узенькую улицу. Попадались похожие деревянные особнячки, но того, главного для меня, так и не нашли.
Не зря новый город около Красноярской ГЭС назван Дивногорском — это воистину чудо, гигант, а за ним — Красноярское море. Возили меня на глиссере и по Енисею, и по Красноярскому морю, которое разлилось на многие километры, затопив старинные сибирские села…
И вновь я возвращаюсь больше чем на половину столетия назад, на нашу Узенькую улицу.
Было мне лет пять, когда в комнате с окном во двор появилась молодая красивая женщина — Елена Густавовна Смиттен, тоже член партии, высланная в Красноярск. Она, как и все до нее, столовалась вместе с нами. Мы, дети, звали ее Лена.
Очевидно, это был конец 1916 года. Дядя Авель больше у нас не показывался. А в самом начале 1917 года уехал в Петроград отец, а с ним и Елена Смиттен. Мои родители разошлись.
Мы, дети, ничего не знали, внешне все было привычно благополучным. «Папа уехал на службу, и мы тоже скоро уедем в Петроград», — так нам было сказано.
Как я понимаю теперь, уехал он нелегально, накануне Февральской революции.
В Красноярске с нами осталась старшая сестра отца, Аделаида Станиславовна, отважно решившаяся на такое далекое и трудное путешествие — из Польши в Сибирь, чтобы убедиться, что и там можно жить. Приехала и осталась надолго, а когда уехал отец, она не сочла возможным оставить маму и нас. Воспитанная в женском монастыре (по моде того времени), она была восторженной, доброй и прилежной католичкой, совсем не приспособленной к повседневности, много молилась, всего пугалась. Нас она очень полюбила, и мы отвечали ей тем же, но совсем ее не слушались. После отъезда отца она часто плакала — тогда мы не понимали, почему.
Летом 1917 года мы не поехали на дачу, а в доме началась какая-то суета. Каждый приход почтальона вызывал большое волнение взрослых, долгие разговоры за закрытой дверью мамы и тети Адели.
Начали упаковывать вещи, их оказалось много — накопилось за 8 лет и мебели, и всякой домашней утвари. Дворник заколачивал ящики. Моя наивная мама думала взять с собой и пианино. Но постепенно выяснилось, что придется оставить не только его.
Хозяйственные люди посоветовали маме заготовить и везти продукты. Вялилось мясо, заказывалась соленая рыба и как-то по-особенному, в огромном чугуне в русской печи, варился мясной бульон до образования очень твердого куска, похожего на столярный клей.
И вот в конце лета настал день отъезда. Было пыльно и жарко. Вещи погрузили на ломовую телегу, в нашем распоряжении были два извозчика. Вокзал в Красноярске располагался тогда в пяти верстах от города. С нами уезжала и няня Зося.
Дорога от Красноярска до Питера почти совсем не запомнилась. Помню только, что вагон, в котором мы ехали, был мягкий. Моя непоседливость и тут доставила много хлопот: на меня опрокинулся чайник с кипятком. Я не помню боли, но в памяти осталась плачущая тетя Аделя, а на бедре — след от ожога.
В Питере меня поразил огромный дом в самом конце Каменноостровского проспекта (потом Кировского), в котором нам предстояло жить.
Когда я взрослой побывала там, то «огромный» дом оказался обыкновенным, в несколько квартир, дорогим доходным домом, каких много строили в начале XX века в Петербурге.
Квартира наша была большая, кажется, на первом этаже. Меня с братом выпускали только в чахлый палисадник перед окнами, дальше нам ходу не было, да и не тянуло — страшновато было после нашего двора на Узенькой. Квартиру снял для нас отец. Сам он в это время жил где-то в другом месте. Для нас, детей, особенным было то, что папа только навещал, а не жил с нами. Глобальные же события (было начало осени семнадцатого) проходили мимо нашего понимания.
Чем короче становились дни, тем сильнее было волнение взрослых: мамы, тети и няни Зоей. Отца мы видели теперь редко. Вскоре нас совсем перестали выпускать из дому. Брата почему-то не устраивали в гимназию, а было ему десять лет, и он уже два года проучился в Красноярске. Очевидно, брату было поручено меня опекать, он пытался читать какие-то польские сказки, однако меня это мало занимало, и мы подолгу торчали у окон. Но через какое-то время и это запретили.
На улице иногда возникало движение, не то, к которому мы постепенно привыкли, а какое-то особое: то большая, шумная толпа, то строем проходили военные, то с грохотом проезжали какие-то огромные повозки. Иногда мы слышали, как далеко что-то гремело, и тогда взрослые начинали метаться по комнатам, как испуганные птицы. А мне делалось страшно за папу, казалось, что ему угрожает опасность. Особенно жутко было, когда гасло электричество, которое мы, увидев впервые, восприняли как чудо.
Осень наступила сырая и ветреная, в квартире было холодно, нас подводило еще одно «чудо» — паровое отопление, которое часто бездействовало.
Живя в замкнутом мирке под командованием трех растерянных женщин, мы и не подозревали, какие великие перемены готовятся в мире и свидетелями каких событий мы окажемся.
В магазины, когда они были открыты, и вообще в город никто из наших женщин не ходил. Отец сказал, что из-за сильного польского акцента, не разобравшись, их могут принять за немок, и тогда — беда. Ходила за покупками дворничиха, очевидно, диктуя свои условия за услуги. Даже мы, дети, понимали, как трепетала перед ней мать.
Однажды вечером появился отец — похудевший, какой-то непривычно мятый, с красными глазами. О чем-то строго говорил, взрослые послушно кивали. Нам также непривычно сурово приказал слушаться маму. После этого мы увидели его очень нескоро.
Тут началось нечто непонятное, страшное, но весьма интересное. Даже мы, особенно брат, понимали, что на улице стреляют. Когда брали Зимний и стреляла «Аврора», нас пустила в подвал все та же «благодетельница» — дворничиха.
Очень смутно в памяти мелькают обрывки тех исторических дней. Ничего я, конечно, не понимала: почему кто-то радуется, а кто-то подавлен, растерян и очень сердит. Очевидно, в нашем доме жили и «буржуи», как их тогда называли. Кто-то уезжал, кого-то выселяли. Все это мы с братом наблюдали, стоя у окон.
Иногда мама, тепло одевшись, уходила поздно вечерей. Мы, конечно, поднимали рев, хотя тетя Аделя и пыталась растолковать нам, что это
дежурство у дома. А мне слово «дежурство» было непонятно, и от этого становилось еще страшней.
Когда выпал снег и стало морозно, внезапно приехал отец в какой-то странной пролетке, запряженной парой лошадей, с кучером-солдатом. Радости было много. Ведь мы так долго ничего о нем не знали! Побыл он не более часа. Все что-то объяснял маме, давая ей какие-то бумаги. Эти бумаги потом магически действовали на нашу «благодетельницу», которая из суровой и величественной стала ласковой и угодливой, даже со мной и братом. Про бумаги я помню потому, что все время висела на отце, а брат только подходил и прислонялся к нему. Отца это волновало. Став взрослой, я всегда знала, когда он был взволнован, — он снимал и протирал очки куском замши или отдельным носовым платком (отец был очень близорук). Еще тогда я запомнила и очки, и замшу. Уезжая, он обещал в следующий раз взять меня с собой, уж очень я, наверное, ревела.
Зима мне запомнилась холодом в доме и отсутствием вкусного. Мы потихоньку доедали взятое из Сибири вяленое, соленое и «пареное», похожее на столярный клей.
Иногда, после таинственных бесед мамы все с той же «благодетельницей», у нас появлялись картошка и капуста, кажется, все подмороженное.
На улицу нас все еще не пускали, было там как-то сумбурно-шумно, бегали мальчишки с газетами, что-то выкрикивая, маршировали какие-то люди, и не только военные. И ночи были не тихие — часто проезжали машины, иногда стреляли, кто-то кричал.
События происходили и в нашем «каменном гнезде».
Бедная, напуганная всем происходящим наша тетя Аделя мечтала об отъезде в Польшу, наивно думая, что уж там-то, дома, все тихо, а не так, как у этих русских. Каким образом это произошло — не знаю, но старшая (на 18 лет старше) мамина сестра тетя Маня, которая присылала нам деньги в Сибирь, оказалась в Питере. Из более поздних рассказов взрослых я знала, что тетя Маня снимала квартиру в Петербурге и в Париже, а постоянно жила в Варшаве. Вдовела она дважды и каждый раз оставалась единственной наследницей своих богатых мужей. Были у нее какие-то коммерческие дела, и, наверное, приехала она в Питер собирать остатки своего национализированного капитала и, конечно, рассчитывала увидеть маму и всех нас.
Моего брата тетя Маня знала маленьким, до отъезда в Сибирь, а меня и вовсе никогда не видела. Как происходила наша встреча в Петрограде — мне трудно сказать. Помню, что мама, брат и я пришли в нарядную квартиру, где царил страшный беспорядок. Нас встретила полная, как мне тогда казалось, старуха, с очень толстой косой до колен (так она ходила дома). Рядом с ней стояла на немыслимо кривых и коротких лапках маленькая коричневая такса. Я и брат таких собак никогда не видели и смотрели на нее недоуменно, вспоминая нашего великана Цезаря, а такса деликатно обнюхивала нас и тоже, наверное, удивлялась.
Вместе с маминой сестрой Марией Иосифовной и уехали к себе на родину наши добрые тетя Аделя и няня Зося. Помню обильные слезы при расставании, и не зря: больше мы никогда не виделись.
Стало в нашей большой холодной квартире совсем неуютно. Мама часто уходила из дома, ведь на ней теперь лежало все: и добывание скудных продуктов по карточкам, и обмен вещей на крупу, постное масло и керосин (дров для плиты не было, и появилась керосинка). Мы оставались одни в полутемной квартире, и нам было страшно.
Где-то в начале января 1918 года опять приехал отец, на этот раз на «автомобиле», как говорили тогда. В то время должность и служебное положение моего отца были мне, естественно, неизвестны. Только много лет спустя из воспоминаний Анатолия Васильевича Луначарского я узнала, что летом 1917 года — в сложное для большевиков время — отец вошел в городскую думу Петрограда. Вот как писал об этом Луначарский:
«В конце концов Управа была избрана приблизительно пропорционально от всех партий, и мы как для нашей пропаганды, так отчасти даже для хозяйственной и культурной работы в городе приобрели серьезные возможности.
В Управу от нас вошли я в качестве товарища городского головы и товарищи Кобозев и Пилявский в качестве членов управы…»
[1]
Отец был худой, печальный и о чем-то долго разговаривал с мамой. Пробыл он у нас дольше обычного, что-то ел и пил чай. Вечером, когда отец собрался уезжать, я устроила скандал, наверное, ревела благим матом, требуя выполнения обещания взять меня с собой. Потом мама мне говорила, что я вела себя неприлично, «не как воспитанный ребенок». Но ведь он обещал!
И вот, одетая в несколько одежек, сижу первый раз в жизни в автомобиле. Он гремит, чихает, но мы едем.
В памяти остались огромный мост, у которого нас остановил, как я поняла гораздо позднее, патруль, матрос в бушлате, перекрещенный пулеметными лентами и с большим пистолетом, солдат с винтовкой и еще какой-то человек в кожаной куртке, тоже с пистолетом. Отец показал им какую-то бумагу, они откозыряли, и мы двинулись дальше.
В дороге нам повстречалась свадьба: карета, запряженная парой лошадей, невеста в фате, веселые вскрики. Свадьба проехала, а вот каких-то людей на нашем пути стаскивали с пролетки и куда-то уводили.
Мы ехали по набережной Невы. Исаакиевский собор испугал меня — ничего подобного я не видела.
Вскоре мы подъехали к очень большому дому с какой-то странной дверью. Это была гостиница «Астория». Широкая круглая лестница с ковром. В вестибюле много людей — и в штатском, и военных. Шумно.
Когда мы с папой поднимались по этой диковинной лестнице, навстречу нам сверху стремительно спускался полный человек с пышной шевелюрой. Увидев отца, он быстро сказал: «Товарищ Пилявский, у вас деньги есть?» — «У меня нет, простите», — смущенно ответил отец. Когда человек, махнув рукой, побежал дальше вниз, отец сказал: «Это Зиновьев», — хотя мне было абсолютно все равно.
И вот мы на третьем этаже, на овальной площадке перед бездействующим лифтом. Напротив лифта двустворчатая дверь с номером над ней, а справа от нее дверь поуже, тоже с цифрой.
Мы вошли. Двухкомнатный номер. В спальне на кровати сидела Елена Смиттен, я ее не сразу узнала. Серая, отечная, с опухшими ногами, а руки худые. Она, наверное, удивилась, увидев меня, но встретила ласково. Отец что-то быстро ей говорил. Я поняла, что он торопится: он даже не снял пальто, а был уже поздний вечер, и ушел.
Тут было теплее, чем у нас, но свет тоже какой-то тусклый. И всюду бархат, шелк, дорогая мебель…
У постели Лены (так мы ее привыкли называть еще в Красноярске), на тумбочке с мраморным верхом, стояло что-то круглое на ножках. Она сказала: «Сейчас мы с тобой будем варить кашу». По ее указанию я достала с полки большого шкафа кастрюльку и пакет с какой-то серой мукой. «Пойди в ванную и налей полкастрюли воды».
Когда я вернулась с водой, «что-то круглое» на тумбочке стало розовым — это была впервые мной увиденная электроплитка. Бесконечно долго варили мы эту «кашу», забыв посолить. Мне очень хотелось спать и вовсе не хотелось каши, а Лена ела и хвалила. Была она тихая, какая-то виноватая и, конечно, очень больная. Меня она уложила на папину кровать, и я моментально провалилась в сон.
Утром, еще при электричестве, меня разбудил папа. Он был уже одет и выбрит. Лена повела меня в ванную и помогла умыться и одеться. Каждое движение давалось ей с трудом. Отец нас поторапливал и сказал, что завтракать мы будем у Зоей, то есть у моей мамы.
Мы очень долго спускались по лестнице — Лене было трудно. В руках отца был небольшой чемодан. Прошли через потрясшую меня вертушку и зеркальную дверь.
На улице было еще не совсем светло. Обратный путь на том же автомобиле я как-то смутно помню.
Приехав к нам, сразу стали завтракать: очевидно, мама знала о нашем приезде и постаралась накормить прилично. Потом они втроем ушли в бывшую тетину комнату и оставались там довольно долго, а я хвасталась брату всем увиденным, но он меня слушал рассеянно.
Наконец мама и отец вышли из комнаты, а Лена осталась там. Отец крепко поцеловал брата и меня. И очень низко склонился, целуя мамину руку.
Елена Смиттен — вторая жена отца — осталась жить у нас.
Оказывается, узнав, что Лена тяжело больна, беременна, лишена элементарного ухода и лекарств в этой роскошной «Астории», где было устроено подобие общежития, наша непрактичная, в чем-то наивная, плохо приспособленная к тогдашней очень трудной повседневности мама нашла единственно правильный выход: она просто приказала привезти Лену к нам, и отец подчинился.
Лена жила с нами до середины марта, и мама поставила ее на ноги. Как и чем она ее лечила в те трудные дни, я не знаю.
Только став взрослой, я поняла всю сложность взаимоотношений моих родителей в то время. Поступок матери для меня — высшее проявление духовности и нравственного начала. Я бесконечно благодарна моим родителям за то, что они сумели уберечь нас, детей, от непонятных нам тогда драматических жизненных поворотов в их судьбе и воспитали в абсолютном уважении, любви и преданности: мама — по отношению к отцу, а он — по отношению к маме.
…Зимой 1918 года случилось событие, оценить которое я смогла много позднее.
В Мариинском театре давали оперу «Борис Годунов» с Шаляпиным. (Меня, наверное, не с кем было оставить и пришлось взять в театр.) В обрывках памяти роскошный голубой с золотом огромный зрительный зал. Масса звуков. На сцене актеры, а зал полон плохо, по-зимнему одетыми людьми. Мы сидели в ложе вместе с Крестинскими — Николаем Николаевичем и его женой Верой Моисеевной. Дядя Коля, как я его называла, был очень дружен с отцом, они учились вместе в гимназии и потом в Петербургском университете. Он тоже окончил юридический факультет. Николай Николаевич Крестинский был человеком необыкновенного ума, образованности, высочайшей принципиальности и беззаветной преданности делу партии. Он тоже был выходцем из дворянской семьи и в детстве так же, как и мой отец, изучал европейские языки. Но если отец хорошо знал, кроме польского и русского, французский и несколько хуже — немецкий, то Крестинский в совершенстве владел тремя европейскими языками, при обязательном знании (для них обоих) латыни и греческого.
Крестинские были люди бесконечно добрые, обожающие друг друга, очень любили детей. История их женитьбы не совсем обычна. Родители Веры Моисеевны, будучи евреями, не разрешали дочери перейти в православие. А без этого венчание с русским было невозможно. Поэтому Крестинские не могли иметь детей, так как дети считались бы незаконнорожденными. Тетю Веру фанатики родители прокляли, когда она ушла из дому. Только в девятнадцатом или в начале двадцатого года у них родилась дочь Наташа.
…Но вернусь в оперу. Очевидно, я сначала вела себя прилично, а вот во время сцены кошмара, когда Шаляпин — Борис (я помню его пятящуюся фигуру с протянутыми вперед руками) молил: «Не я, не я твой лиходей», — я заорала, и мама, зажав мне рот, вытащила меня в аванложу, где я долго еще ревела. Всю жизнь меня этим попрекали, кто в шутку, а мама — совершенно серьезно.
Как известно, Совнарком под председательством Ленина принял решение объявить столицей Москву, и в конце марта 1918 года из Петрограда в Москву переехало правительство — весь аппарат и семьи ответственных работников.
Я и тут оказалась причиной многих сложностей и пережитых страхов. В конце марта я заболела сыпным тифом. Благодаря маминым усилиям никто не заразился, но переезд наш в Москву был отложен на неопределенный срок. Мы трое остались в Питере.
Уже наступило лето, есть было нечего. Я отлично помню постоянное ощущение голода, хотя мама и брат отказывали себе во всем ради меня. Еду тогда можно было получить только в обмен на вещи, и в короткое время наше имущество сильно истощилось, не говоря уж о маминых «фамильных драгоценностях».
Где-то в середине или в конце лета мы стали собираться в дорогу. Мама начала укладывать вещи, брат ей помогал, и почему-то все ее успокаивали. Я же, ничего не понимая, радовалась, что мы едем в Москву к папе.
Ехать в то время с двумя детьми, с багажом, даже имея при себе соответствующие документы, было очень рискованно. Вся дорога от Петрограда до Москвы кишела бандами. Поезда останавливали, пассажиров обыскивали, а кого-то и в поле уводили. Поезда брались с бою мешочниками и всякого рода «смятенными» людьми. Один хороший, добрый человек по просьбе отца помогал нам. Если бы не он, мы бы не уехали.
Отъезд с Каменноостровского я помню. Мы ехали на ломовом извозчике через весь город. По-настоящему страшно стало на вокзале — это я могу сравнить только с эвакуацией в 1941 году. Наш покровитель и еще какой-то человек тащили наши пожитки, а мы, мертвой хваткой держась друг за друга и за маму, почти бежали к какому-то служебному вагону. Устроили нас в коридоре у закрытого выхода из вагона, где находился проводник. В считанные минуты вагон оказался забитым до отказа. Провожавший давал маме указания, как вести себя в дороге и во всем слушаться проводника. Мама покорно кивала.
Брата и меня усадили на корзину, где мы и замерли в обнимку с портпледом, на другой корзине — мама. Все мы держали в руках какие-то свертки, бидоны, а я — еще и плетеную корзиночку для гимназических завтраков (были такие в старину).
Наш покровитель ушел, вернее, протиснулся в чуть приоткрытую проводником дверь в тамбур и исчез. Долго мы сидели оглушенные и молча ждали, когда тронется поезд. Очевидно, я заснула.
Когда я очнулась, поезд шел, было почти темно, мама и брат дремали. Помню, что мне было страшно от массы людей, от храпа (я никогда не слышала, как храпят), от вони и еще оттого, что мама строго-настрого приказала молчать.
Мы то ехали, то подолгу стояли. Сколько так продолжалось — не знаю. Казалось, что бесконечно. Вдруг в вагоне начались шепоты, переговоры — что-то тревожное. Оказывается, наш поезд шел не прямо в Москву, а на Великие Луки (это все я узнала много позже). И чем дальше шел, тем быстрее. С разгону въехали на какой-то полустанок. Проводник что-то шепнул маме, она схватилась за нас и за мелкий наш скарб, а он стал выталкивать багаж на платформу. Мы выскочили. Поезд ушел. Какие-то люди с поезда, было их довольно много, разбредались куда-то, а мы трое, сидя на корзинах, опять замерли от неожиданности и страха.
Высадили нас в заштатном городке Торопец и тем спасли. Оказалось, что впереди какая-то банда, перекрыв пути на Великие Луки, грабила и убивала.
Каким-то образом мы оказались в доме за высоким забором с массивными воротами. Дом этот принадлежал довольно богатой еврейской семье. Не знаю почему, но они приютили нас. Жили мы в комнате, больше похожей на склад ненужной мебели. Спали на наших больших
корзинах, почти не распаковывая, все ждали — вот-вот поедем в Москву. Но прожили там до холодов.
Вспоминаются обрывки каких-то страшных рассказов о том, как на центральной площади, в традиционном для таких городков сквере, находили трупы изувеченных красноармейцев с вырезанными на спине звездами. Это значило, что в очередной раз сменилась власть. У хозяина нашего дома были в запасе разные флаги, и он по утрам лазил на чердак смотреть в слуховое окно, какой вывешивать. Говорили также, что были погромы, но наших хозяев не тронули.
Только много лет спустя я поняла, сколько же страхов пережила мама за время жизни в Торопце — в ее красивых темных волосах от висков протянулись белые пряди.
…Стояла уже зима, когда однажды ночью послышался очень сильный стук в ворота. Все вскочили, мы тоже. Открывать пошел хозяин. Какие-то громкие голоса, что говорят — не понять, но вдруг прозвучала наша фамилия: «Здесь Пилявская?» Мама толкнула брата и меня себе за спину и держала очень крепко, а руки у нее тряслись — это я хорошо помню.
Вошли двое, кажется, военных, что-то спросили, но мне помнится, что мама не ответила, у нее, наверное, пропал голос. Еще какая-то фраза, как будто доброжелательная, и громко за дверь: «Сюда несите!» И вот в нашу заставленную всякой рухлядью комнатку внесли завернутого с головой человека. Осторожно положили на пол, еще что-то говорили, а мы трое все так же стояли. Потом они ушли, тихо закрыв за собой дверь.
Мама оторвалась от нас и, встав на колени, начала разворачивать голову лежащего. Очень белый, неподвижный, перед нами был отец. Мама какие-то секунды была как каменная, потом начала хрипло что-то говорить и вдруг очень проворно стала снимать с отца пальто, шапку… Брат ей помогал, стаскивал бурки, расстегивал френч. Мокрое полотенце — на сердце и на голову, чем-то терли виски, что-то давали нюхать. Это был глубокий обморок (у отца находили порок сердца).
И вот он пошевелился, открыл глаза и стал нас близоруко рассматривать (очки оказались под шапкой) и даже потрогал каждого рукой. Тут мама, привалясь к чему-то спиной, запрокинув голову, не то заскулила, не то застонала, но очень коротко. Потом мы все вместе старались как можно удобнее уложить отца, он подчинялся и что-то ласковое говорил.
Постучали в дверь, и наш хозяин протянул кружку с теплым молоком. Это был щедрый по тем временам подарок. Мы опять все вместе заставили отца выпить молоко. От всего пережитого брата и меня быстро сморило, а родители долго тихонько разговаривали.
Сегодня даже трудно поверить, как тяжело и опасно было отцу добираться до нас из Москвы в то далекое время — в начале девятнадцатого года, когда Москва и Петроград были в кольце, когда поезда почти не ходили. Отец даже не знал, живы ли мы. И вот наконец он едва добрался до Торопца, обнаружил, что мы здесь, — и у него начался сердечный приступ.
Наутро мы стали торопливо собираться в дорогу, часть скарба пришлось оставить, так как те же военные, которые привезли отца к нам, все подгоняли и что-то доказывали маме, а она покорно соглашалась. Отец был явно нездоров — нервное и физическое истощение очень изменило его внешне. Помню, что ему не разрешали ничего нести.
В Москве, на вокзале, нас протащили через людской водоворот, и мы долго сидели в каком-то служебном помещении и ждали отца. Нам с братом хотелось есть. Впрочем, в то время почти всегда хотелось есть.
После заштатного Торопца ошеломила вокзальная площадь, тогда она называлась Каланчевской или просто Каланчевкой. Море людей, невероятный гам, все это колыхалось, пробиваясь куда-то. Проехать на любом транспорте было непросто — никаких правил движения. Трамваи не ходили.
Наша дорога была недолгой. Отец привез нас на Новую Басманную (номер дома не помню). Парадная дверь заколочена. Поднялись на второй этаж со двора по черной лестнице, прошли через холодную кухню с большой плитой, через какие-то коридоры и оказались в огромной комнате, обитой красным штофом, с роскошной мебелью, обитой таким же штофом. Великолепие комнаты ослепляло, но было очень холодно.
Отец уехал: он с Еленой Густавовной и грудной дочкой — моей сестрой Наташей — жил в Кремле, в кельях Чудова монастыря.
Долгожданная Москва не показалась нам ласковой. Наша пурпурная ледяная комната была частью когда-то богатой квартиры, а теперь густонаселенной коммуналки. В кухне стояло несколько примусов и керосинок, на них готовили жильцы, которые не всегда жили дружно. Мама запрещала нам даже высовываться из двери нашего жилища. Теперь я понимаю, что она и сама всего боялась. Отец нам, правда, сказал, что это жилье временное, надо потерпеть.
У нас появилась «буржуйка» — маленькая железная печурка с трубой, выведенной в форточку. «Буржуйка» крепилась на железном листе, попросту прибитом большими гвоздями к великолепному паркету. Все это «сконструировал» очень мрачный человек, сам предложивший свои услуги. Он же предложил подкупать у него «дрова» (по одному полену), наструганные в щепки. Стоило это все очень недешево.
Мама пошла работать руководительницей детской группы, которая помещалась во 2-м Доме Советов, то есть в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. Это давало ей обед и жалованье. Деньги, свернутые в рулончик, были похожи на трамвайные билеты — цифры астрономические, но купить на них можно было очень мало. (Чайноё блюдце пшенной размазни в «обжорном» ряду под Каланчевским мостом стоило не то 4 тысячи, не то 40 тысяч.)
Каждое утро, еще затемно, мама уходила на службу, а мы с братом к двум часам дня, держась за руки, шли с Новой Басманной пешком в «Метрополь», к маме, за этим самым обедом и за хлебным пайком — его давали там же. Придя домой, мы на «буржуйке» грели суп, а кашу ели холодной. Вот так одним обедом мы питались втроем.
Под суп мы приспособили нарядную жестяную банку на два фунта с дужкой, как у ведерка (от конфет «ландрин» фирмы «Жорж Борман»), а на ее крышке был портрет Наполеона в треуголке. Как-то, уже в конце зимы, «Наполеон» подвел нас: дно прохудилось, и мы остались голодными. Конечно, не обошлось без рева.
По воскресеньям — вначале с мамой, а потом и одни — мы ходили под Каланчевский мост, где рядами сидели сытые спекулянтки, торгующие жидкой пшенной кашей и другими мало доступными нам блюдами. «Товар» они держали в ведрах, укутанных в обрывки старых одеял, и нередко сами сидели сверху. Мама выдавала довольно длинную ленту денег брату, каждому из нас по чайной ложке и одно блюдце на двоих. Стоя мы съедали точно поровну кашу, вычистив блюдце до блеска.
В нашем роскошном жилище по утрам было от -2° до +1°. На штофных стенах появлялась изморозь. Я часто простужалась. Однажды я, голодная и замерзшая, нарушила запрет и выползла из нашей комнаты. И запах — одуряющий, горячий, вкусный — повел меня в кухню. Там на столе в какой-то большой миске высилась гора жареных пирожков.
Я понимала, что это чужое, но их было так много! И я, схватив один, стала его судорожно заглатывать, почти не жуя. И тут случилось ужасное: в дверях кухни я увидела тетку, разгневанную, красную, она надвигалась на меня с криком: «Ах ты поганка, отродье!..» и т. п. В первую минуту я остолбенела, потом, петляя, как заяц, кинулась бежать, а мне вслед неслись жуткие вопли. Когда я вбежала в комнату и захлопнула дверь, на меня напала икота. Реветь громко я боялась и, забившись куда-то, просидела до прихода брата, принесшего обед, но есть я не могла.
После кражи пирожка прошло несколько часов. Соседка-торговка, успев за это время распродать свой товар, вернулась домой и, дождавшись прихода мамы, начала срамить меня с удвоенной яростью. Ошарашенная мама вначале ничего не поняла, а потом начала совать ей деньги, а та сперва не брала, продолжая орать так, что в приоткрытые двери высовывались головы других жильцов, но никто не вмешался. Наконец, утомившись и взяв у мамы «тысячи», она величественно удалилась. Уже в комнате мама, плача навзрыд, все твердила: «Как ты могла!» А брат трясся, как в ознобе, и повторял: «Ты же заплатила!»
Этот свой позор я и сейчас помню во всех подробностях.
Теперь я понимаю, что мое воровство ускорило наш отъезд с Новой Басманной. Случилось так, что Авель Сафронович Енукидзе узнал, в каких условиях мы живем (а был он в ту пору секретарем ВЦИКа), и через кого-то из своих порученцев передал маме ордер на комнату во 2-м Доме Советов. Он же обеспечил какой-то транспорт и человека для помощи при переезде. Только много позднее я узнала, что между отцом и Авелем Сафроновичем произошел не совсем дружеский разговор о мере щепетильности и скромности.
До этого ни брат, ни я гостиницы «Метрополь» не видели: мы приходили к маме со двора, позади самого здания, где был вход в квартиры и занимались детские группы. И вот наши пожитки несут через главный вход в роскошный вестибюль гостиницы «Метрополь», поднимают на второй этаж и открывают дверь под номером 219. Сказка! Одноместный, но большой номер с альковом, стеклянная дверь на балкон, откуда открывается вид на сквер с фонтаном (теперь там памятник Карлу Марксу).
Обстановка номера выдержана в серо-фисташковых тонах, бархатные портьеры и ковер того же оттенка. И только лампочка в люстре одна и горит вполнакала. Но зато есть ванная, как теперь пишут — «совмещенный санузел», из крана течет вода и батареи теплые. И не надо далеко ходить за обедом, а можно тут же, в ресторане, в помещении, отгороженном для «раздаточной», получить этот обед в свою посуду.
В том далеком девятнадцатом в нашей жизни часто сочетались приметы времени, явно несовместимые: например, часть «Метрополя» еще служила гостиницей для иностранцев и каких-то богато одетых людей, говоривших по-русски, а другая часть — и в том числе наш второй этаж, со скатанным в конце коридора ковром, с боковыми лестницами, одна из которых вела на общественную кухню с огромной плитой и с титаном для кипятка, — называлась 2-й Дом Советов.
Наш номер стараниями мамы очень скоро стал даже уютным. Корзины мама как-то задрапировала сибирским покрывалом, на письменном столе было все необходимое. Небольшой овальный обеденный стол покрывала скатерть, а на ночном столике у кровати появились фотографии родных. И не было «буржуйки» с дымом и с хлопьями сажи из трубы. Брат спал на диване, а я с мамой.
Мы с братом пребывали в состоянии тихого блаженства, но вскоре, осмелев, стали проситься в коридор обследовать этот сказочный дом. Мама говорила примерно так: «Если вы будете вести себя, как благовоспитанные дети, то, может быть, и можно, но я боюсь, что вы доставите неприятности Авелю Сафроновичу и папе!» Мы, конечно, клялись, что никогда!
Мама, как и раньше, уходила на работу в детскую группу, а мы вначале робко, а потом осмелев, а главное — познакомившись с такими же «жильцами», как мы, носились по широким коридорам, играли в прятки, забываясь иногда до того, что появлялся какой-нибудь бывший коридорный и начинал усовещивать: «Граждане дети, надо быть потише. Ведь это что ж такое!»
…Много лет спустя, когда нам с мужем доводилось бывать на приемах ВОКСа (они часто устраивались в «Метрополе»), мне всегда виделось: бойкий человек с черпаком в руках стоит ногами на бархатном диванчике, окружающем колонну с большой хрустальной люстрой, и покрикивает: «Ну, шевелись, а ну дружно!» И шлепает кашу в подставленные миски, тарелки и банки. А на соседнем бархатном диванчике так же разливают суп.
В начале зимы девятнадцатого года на семейном совете было решено определить меня в так называемую «лесную школу» для начинающих. Помещалась она под Москвой, на станции Мамонтовская. Это, наверное, была первая в новой стране попытка как-то начать учить и воспитывать детей, которые оставались без присмотра дома или вовсе этого дома не имели.
Я не без рева подчинилась, и мама повезла меня в Мамонтов-ку. Мы довольно долго шли от станции, мама несла небольшой баульчик с моими пожитками, а я — красный мешочек, сшитый из наволочки с диванной подушки (очевидно, в нем хранилось самое мое драгоценное, что — не помню).
Дошли мы до места. Это была большая, выстроенная под «модерн», деревянная дача в один этаж, с застекленными террасами и со шпилем на шатровой крыше. В ней было несколько комнат, где тесно в ряд стояли железные кровати с тощими тюфяками, жидкими одеялами и плоскими подушками.
Заведовали этой лесной школой две суровые женщины. Были еще сторож и повариха. Все они, а главное — много стриженых почти наголо девочек, одетых кто во что, вышли поглядеть на новенькую. Я закаменела от страха, особенно когда в адрес мамы послышались не помню какие, но явно нелестные слова о барстве. Мама была в потертом, еще сибирском пальто из жеребенка с котиковым воротником и в такой же шапке. Когда мама заговорила, ее польский акцент был встречен смехом.
Одна из руководительниц, взяв у мамы направление, провела нас в комнату и указала на кровать у окна, сказав, что пальто можно оставлять на кровати, потому что ночью холодно.
Дни тогда стояли короткие, маме надо было уезжать до темна. Она шептала мне пб-польски ласковые слова о том, какая я хорошая и терпеливая, что надо слушаться и что она обязательно приедет в воскресенье. И я осталась одна.
Когда, немного проводив маму, я вернулась в комнату, в моем бауле уже хозяйничали девочки постарше меня. Они, со смехом вытаскивая мои пожитки и разбрасывая их, кричали: «Подбирай, буржуйка!» Подбирать я не смела и, сидя на краешке кровати в пальтишке брата, которое было явно мне велико, вертела головой, в страхе разглядывая моих товарок.
Стало быстро темнеть. Мне было жутко и очень тоскливо. Одна из девочек спросила: «Какая твоя фамилья?» Я ответила: «Зося Пилявская». И тут же, пошептавшись, они стали выкрикивать: «Пиявка, пиявка, Зыза!» Хорошо, что я не заревела…
Когда позвали ужинать, я поплелась за всеми. Опять пошептавшись, две девочки, подойдя ко мне с двух сторон, быстро проговорили: «Будешь жаловаться — ночью обольем водой».
В большой комнате с линейной керосиновой лампой (электричества в доме не было) стояли два длинных стола со скамейками по обе стороны. Давали кашу-размазню в оловянных мисках с такими же ложками и кружку морковного чая.
Меня посадили с краю. Сидевшая рядом шепнула: «Оставишь полкаши». Я оставила. Я очень их боялась.
Сразу после еды погнали спать. Сколько времени?.. Пока мы укладывались, горели две коптилки, потом их унесли и наступил мрак. Из окна дуло. Хорошо, что я не расставалась со своим мешком. Сунув туда шапку, я положила его под голову. Пододеяльников не было, от одеяла шел чужой запах. Я втянула пальтишко под одеяло и затаилась.
Девочки громким шепотом переговаривались. Я услышала «Зыза» и еще что-то, но не откликнулась. В эту ночь мой мешок был мокрым от слез, но даже шмыгать носом я не смела.
Утром, в темноте, опять с коптилками появилась воспитательница и зычно скомандовала: «Вставать!» Вставали неохотно, тихо переругивались, меня оставили в покое. Последовал приказ умываться, то есть сполоснуть лицо и руки под рукомойником. Из моего баула почти все исчезло, главное — кусочек мыла. Вытерлась я не помню чем, только не полотенцем. После завтрака — каша, такой же чай и кусочек клейкого хлеба — был приказ одеваться на прогулку. Ко мне подошла одна из начальниц и спросила, почему я опухла и красная (а я просто обревелась ночью). Меня как больную отослали лежать. Никто мной не интересовался. Мои товарки носились с криками по саду.
Эти девочки, наверное, не были злыми, наверное, в их коротеньких биографиях было много трудного, они уже притерлись друг к другу в этой школе, а я им была чужая.
Пока я лежала, у меня созрел план бегства: я решила терпеть до приезда мамы, а когда она пойдет обратно, потихоньку идти за ней и обнаружить себя только на станции. Убежать другим путем не было возможности. Денег на билет не было, да и в какую сторону ехать к дому, я тоже не знала. После того, как я утвердилась в своем решении, я даже немножко поспала.
Никто и ничему в этой школе не учил. Все болтались без занятий от еды до еды, а воспитательницы следили только за тем, чтобы не было побегов и серьезных драк. Вот и все воспитание. Меня по-прежнему звали Пиявкой и Зызой, но больше особенно не задирали. Наверное, они сочли меня очень глупой и от глупости — тихой.
И вот настало воскресенье. Я с утра маячила на террасё, потом около дома и наконец увидела маму. На этот раз вместо шапки на ней был платок. Мы не сразу пошли в дом. Мама все расспрашивала, как приняли меня девочки, как проходят уроки и еще о чем-то… Я что-то врала, должно быть, довольно складно, так как мама мне верила. Она привезла мне что-то по тем временам лакомое, кажется, лепешки. Мы сидели на дровах за террасой, и я поедала мамины гостинцы а оставшиеся спрятала в мешок — он всегда был при мне. Мое расставание с мамой было до того спокойным, что она даже удивленно взглядывала на меня.
Было еще светло, когда я с разрешения одной из начальниц пошла провожать маму. Через какое-то время мама стала говорить, что пора мне возвращаться. Мы обнялись, и она пошла, все оглядываясь. Тогда я тоже вроде бы пошла обратно, но, когда мама завернула за угол, я короткими перебежками последовала за ней. Так было до самого вагона, где я возникла перед ней со своим мешком.
Когда мама меня увидела, лицо у нее стало испуганное, потому что я сразу заревела во всю мочь и, захлебываясь слезами, стала рассказывать правду. Мама тоже заплакала, на нас стали обращать внимание, и она, пересадив меня к стенке и прижав к себе, стала шептать: «Мы до дому, мы до дому». Какое же было блаженство опять быть с мамой и ехать в Москву!
До «Метрополя» мы шли пешком. Там, в нашем чудном номере, меня долго мыли и вычесывали голову — для проверки. Брат, помогая маме, приговаривал что-то вроде: «Я так и знал».
Меня, счастливую, уложили в чистую мамину постель, и я блаженно провалилась в сон. Так окончилось мое короткое «обучение» в этой «школе».
После этого мама или брат, случалось, будили меня ночью, когда я кричала во сне.
Весну, лето и осень мы прожили в «Метрополе», досконально изучив все закоулки, коридоры и залы гостиницы. Сквер с фонтаном служил для всевозможных игр, а темная аллея у Китайгородской стены очень привлекала нас таинственностью и тем, что можно было подглядывать за влюбленными парами, а иногда удавалось и спугнуть кого-нибудь из них. Занятий в школах в то время не было из-за отсутствия то дров, то воды, а чаще света. Нам, детям, была предоставлена полная свобода.
…Было совсем тепло и зелено, когда отец повел нас с мамой к себе в гости в Кремль, в Чудов монастырь.
Кремль 1919 года был совсем не похож на нынешний — роскошный, парадный, начищенный до блеска, с массой цветов и голубых елей. Тогда, во-первых, оставалось еще много следов от перестрелок и атак семнадцатого года. Во-вторых, и до революции Кремль, видимо, не был сильно ухожен. Лежала на нем какая-то печать провинции.
Чугунная решетка, которая шла от Боровицких ворот вдоль всей стены до Спасской башни, отделяла Дворцовую и Соборную площади от нижнего сада. В начале совсем невысокий, а к концу довольно крутой склон холма был покрыт разнопородным кустарником, редкими березками и другими деревцами. На верхней площади, где склон был особенно крут, стояла мраморная галерея, выстроенная покоем, а на ее потолке — большие круглые мозаичные портреты всех царей Романовых за триста лет. На широкой площадке, куда вело несколько ступеней, в центре галереи стоял бюст Петра Великого.
Сам дворец казался каким-то слинявшим, облупленным, двери соборов были чуть приоткрыты и закреплены толстыми цепями, оставляя лишь узкие щели. В Архангельский собор я могла просочиться только потому, что была очень тощей. Внутри было жутко из-за полутьмы, шуршания птичьих крыльев под куполом и суровых ликов со страшными глазами — мне казалось, что они смотрели прямо на меня.
Царь-колокол и Царь-пушка были на своих местах, а вдоль стены на гранитных подставках лежали пушечные стволы старинного литья разных калибров. Повсюду сквозь камень, гранит и чугун пробивались какие-то кусты и кустики. На первом высоком выступе колокольни «Иван Великий» росла довольно большая березка, а выше — еще одна. Брусчатка площади во многих местах зеленела травой.
Вход в Кремль был по пропускам. Скоро мне и брату выдали дневные — с 8 часов утра до 11 вечера — постоянные пропуска. Тогда в Кремль входили через Кутафью башню и по мосту через, Троицкие ворота (на месте нынешних часов тогда еще оставалась икона). Направо от выхода из Троицкой башни — Потешный дворец (он и сейчас есть), а за ним начинались Детская половина дворца и Зимний сад, аркой переходящий ко дворцу.
Въезд был через Спасские ворота, Боровицкие были заперты, а ворота Никольской башни использовались только в дни парадов. Ни у Спасской башни, ни у Кутафьи не было тех многочисленных пристроек из красного кирпича, которые сегодня органично вписываются в древние стены.
Если идти по Кремлю от Спасской башни, то сразу по правую сторону были замысловатое готическое здание со стрельчатыми высокими окнами, значения которого я не знала, и еще одно большое строение, а за ним — ворота в Чудов монастырь. Весь монастырь с приземистой церковью, низкой колокольней, трапезными, кельями и кладбищем не занимал много места. Окруженный своей невысокой оградой, он где-то примыкал к стене самого Кремля.
Я сейчас не могу точно описать расположения келий из двух покоев, помню только, что двери и окна были низкими и очень массивными, потолки сводчатыми, а подоконники такой глубины, что я, лежа поперек, только руками могла дотянуться до рамы окна.
Когда мы пришли туда, где жил отец с семьей, все мое внимание сосредоточилось на сестренке. Ей не было года, ходить она еще не умела — быстро ползала по родительским кроватям. Поджав одну ножку, она все пыталась приподняться и шлепалась на попку, смешно гукая. Меня оставили следить, чтобы она не подползала к краю кровати. С ней можно было играть, как с куклой, она была, как теперь говорят, очень контактной, веселой и добродушной. Радость и протест выражала одинаково — громким визгом. Мы сразу подружились, а потом я возила ее гулять в странной детской коляске, больше похожей на садовую тачку. Маленькая Наташа росла на искусственном питании, а в то суровое время это было сложно. Карточные пайки родители старались получать всякой крупой для детских каш. Обыкновенное молоко было тогда недоступной роскошью, а сгущенное выдавали по карточкам редко.
Всем в доме руководила чудесная, но очень строгая няня Аннушка, взятая буквально с улицы моим отцом для ухода за новорожденной Наташей. Прежние хозяева этой замечательной женщины эмигрировали, и она осталась «без места». В доме отца она прожила долго, до начала тридцатых годов. Наташа, а за ней и я называли ее Ня-Аня. Она была уже очень пожилой, когда захотела уехать «помирать» на родину, куда-то на Тамбовщину.
Аннушка тогда буквально выходила Наташу на этих скудных пайках, часто лишая взрослых, и в первую очередь себя, самого необходимого. Благодаря ей сестренка моя росла здоровой, даже излишне пухлой от этих самых каш. Для отца Ня-Аня была непререкаемым авторитетом, он очень был ей благодарен, а она, любя и уважая его, тем не менее учила жить «как люди», иногда сбиваясь на «барина», чем повергала отца в смятение.
В Ту пору в Кремле, в Офицерском корпусе, доходившем до внутреннего дворцового двора (где стояла древняя каменная церквушка, обложенная поленницами березовых дров — чтобы не рухнула), на первом этаже была совнаркомовская столовая. Входить в нее надо было через парадное крыльцо под козырьком на витых чугунных столбиках. За первой дверью была такая же «вертушка», как в питерской «Астории», только меньше, а за ней на площадке стояло чучело медведя с подносом в лапах. Здесь был гардероб, а за ним выход во двор-садик. Дверь налево вела в столовую, где обедали ответственные работники. Это был и своеобразный клуб, где они могли видеться вне работы.
А обедали они так: ели суп, а какое-то «второе» укладывали в вынутую из портфелей плоскую тару, чтобы отнести домой. Еще им давали сухим пайком ужин: половину батона или французскую булку из серой муки и кусок колбасы или сыра. Столовая была открыта до вечера, обедали кто когда мог.
На втором этаже этого здания были квартиры. Все окна выходили на улицу, а на противоположной стороне, отделенные широким коридором с окнами во двор, размещались кухни с огромными дровяными плитами: одна — для столовой, другая — для жильцов.
В этом корпусе жили Авель Сафронович Енукидзе (один в двух комнатах), Стучки, Крестинские, Сольц, Бонч-Бруевичи, кто еще — сейчас не вспомню, кажется, Троцкий с женой и сыновьями и Каменев с женой.
Все, кроме Авеля Сафроновича и Сольца, были семейные. На коммунальной кухне весь день пекли из чего-то лепешки прямо на плите, что-то варили, одалживая друг у друга соль.
В здании Потешного дворца жили Луначарские, Цюрупа, остальных не помню. А на детской половине — Сталины, Ворошиловы и, кажется, Чичерин.
В кельях Чудова монастыря, где поселилось довольно много семей, телефонов, конечно, не было, и все срочные вызовы и распоряжения давались под расписку нарочным. Поэтому нам, детям, часто приходилось бегать в столовую к папам. И вот однажды, посланная Леной со срочной запиской к отцу, я помчалась в столовую. С разбегу влетела в «вертушку» и, выскочив из нее, попала кому-то головой в живот, получила шутливый подшлепник, что-то со смехом было сказано кем-то в ответ на мое «ой!» — и я вбежала в открытую дверь столовой. Пишу об этом так подробно потому, что человек этот был Владимир Ильич. Так в первый раз я даже не увидела его толком. Семья Ульяновых столовалась дома, а сюда его привело, наверное, какое-нибудь дело.
Мы прожили в «Метрополе» часть зимы девятнадцатого — двадцатого годов. По-прежнему брат и я нигде не учились, и я много времени проводила в Кремле с маленькой сестренкой. Мне даже доверяли гулять с ней. Обыкновенно я катала ее по тротуару, идущему от Троицких ворот, вдоль здания Арсенала, в сторону Никольской башни и обратно. Почему так подробно о маршруте — объясню потом.
Не помню точно, когда стало известно, что Чудов монастырь, а также готическое здание (то есть все постройки от Сената и до Спасской башни) будут сносить. Вначале работы происходили в монастыре, на погосте снимали надгробные кресты и ограды, а иногда вскрывали и захоронения. Однажды мне довелось издали, потому что такое место обычно было оцеплено и всех любопытных отгоняли, увидеть в изголовьи гроба что-то очень блестящее, наверное из парчи, что-то еще сверкнуло; но все остальное меня так испугало, что я кинулась в дом рассказывать об этом Ня-Ане. Она вздыхала, крестилась и говорила о грехе. Когда за мной пришел брат, чтобы вести меня домой в «Метрополь», следов этих работ уже не было: это место сровняли.
Наверное, в феврале или в начале марта 1920 года мама сказала, что получила ордер на комнату, так как в «Метрополе» долго жить нельзя, а в этом доме мы будем жить постоянно. Она ходила с ордером смотреть комнату, ей все понравилось, хозяева квартиры очень милые люди, и у них есть дочка чуть старше меня.
Вскоре мы прощались с полюбившимся нам «Метрополем» и обитателями второго этажа.
И вот я опять сижу поверх багажа на повозке ломового извозчика (были такие в ту пору в Москве). Возили эти громоздкие повозки могучие лошади с мохнатыми ногами — зимой на полозьях, летом в больших плоских телегах. Назывались эти лошади по-ученому — першероны, а попросту — ломовики.
Ехали мы через шумный Охотный ряд, мимо Иверской часовни, потом по Никитской в Шереметевский переулок (ныне улица Грановского), в дом.№ 3.
Почти все дома в этом переулке в прошлом были доходными домами Шереметева. Дом, в котором нам предстояло жить, был выстроен буквой «П», по центру был палисадник, куда выходило три подъезда, и на улицу тоже три. Этот дом и сейчас существует.
Оказывается, нами «уплотнили» семью известного солиста Большого театра Александра Владимировича Богдановича. С ним жили его жена, в прошлом замечательная певица Маргарита Георгиевна Гукова, и дочь Таня. Приняли они нас кротко-доброжелательно, очевидно, боялись худшего.
Квартира была большая, барская, в шесть комнат. Просторная передняя, направо кабинет хозяина, всюду на дверях тяжелые портьеры. Квартира тогда еще не походила на коммунальную.
Наша комната — большая, светлая, бывшая детская — находилась в конце довольно широкого коридора, около ванной. Мебели у нас, естественно, не было. Хозяева квартиры оставили в комнате стол и диван, а кровать, шкаф, несколько стульев и некрашеный комодик (он и сейчас у меня) были получены мамой тоже по какому-то ордеру. Для меня предназначалась папина походная, еще сибирская, кровать, которая хитроумно складывалась в размер небольшого длинного чемодана в брезентовом чехле. В комнатке около кухни жила прислуга Богдановичей — Ириша. Она приняла нас вначале очень сурово, но потом сменила гнев на милость.
Семья Богдановичей для меня очень дорога. Этой семье я обязана бесконечно и писать о них буду подробно.
Мне тогда было неполных 9 лет, и Таня сразу стала мной руководить. Вначале она водила меня по всей квартире, показала кухню, черный ход во двор и чудесно обставленные комнаты ее семьи. Года через два у них реквизировали и кабинет, и комнату рядом с нашей, а тогда даже наше вселение не портило общего впечатления, было только очень холодно — топились голландские печи, но редко, дров было мало, и стоили они очень дорого.
Для своей «резиденции» мы с Таней облюбовали большой стенной шкаф в коридоре, где хранились какие-то вещи. Там было теплее, а главное — таинственней. Я слушала, разинув рот, о балетах и операх, о всех чудесах театра, с которыми Таня была уже знакома.
Но вскоре мне предстояло еще одно испытание. Нас с братом определили в школу — его в бывшую мужскую Травниковскую гимназию, которая находилась в соседнем Кисловском переулке, а меня — во второй класс тоже бывшей женской Щепотьевской гимназии, где на класс старше училась Таня Богданович.
Здание этой школы со входом с Кисловского переулка боковым фасадом выходит на Воздвиженку. И сейчас оно напоминает мне о моем таком пестром событиями, но прекрасном детстве и ранней юности.
Мои страхи и волнения, связанные с поступлением в школу, слава Богу, не оправдались. Все мальчишки и девчонки были примерно моего возраста и тоже пришли, как и я, не зная школы. Было нас около сорока человек. В этой бывшей женской гимназии впервые появились мальчики — началось совместное обучение.
Раньше эта гимназия принадлежала трем сестрам Щепотьевым. Старшая была начальницей, ее мы уже не застали, а младшие сестры не только преподавали, но и по привычке учили манерам. Выпускницы старших классов еще ходили в форменных платьях с черными передниками, делали книксен, встречая педагогов, а мы — пестрая и шумная команда, смотрели на них во все глаза. Еще раздавались в коридорах и в школьном саду на переменах возгласы младших сестер Щепотьевых: «Дети, силянс
[2], прошу здороваться по правилам!» Мы, девочки, еще кое-как приседали, а мальчики тщетно пытались «по правилам» шаркнуть ножкой, поклониться только головой и с шумом неслись дальше.
Класс наш был дружным. Я не помню, чтобы мальчики нас обижали. Скорее, было наоборот, но держались мы врозь, у них были свои интересы, а у нас — свои.
Как мне помнится, твердой программы обучения еще не было. Нас учили в первую очередь обществоведению. Этот предмет преподавала наша классная руководительница — педагог нового толка: она «боролась» со всем «устарелым». Читала нам чьи-то статьи, в которых мы ничего не смыслили, рассказывала о революции 1905 года, о ссылках и каторге, где мучили людей, о том, как стреляла «Аврора» (что я слышала собственными ушами), и даже о том, что имя «Ленин» Владимир Ильич Ульянов взял себе, когда его сослали на эту северную реку. Очевидно, она была не талантлива как педагог, не образованна и не умела нас заинтересовать. Странно, но я не помню ее внешности и даже имени, хотя других помню хорошо.
Русский язык и грамматику пыталась нам преподавать младшая Щепотьева — Надежда. Я говорю «пыталась», потому что наша «классная» обязательно присутствовала на ее уроках, делала ей замечания, комментировала по-своему. Та, бедняжка, покрывалась пятнами и от волнения возражала очень робко, хотя была права. Урок шел «не туда». Мы все очень жалели учительницу русского и сразу дружно возненавидели «обществовичку». У нее была какая-то обидная кличка, но я забыла какая.
Преподавали нам и естествознание. Этот предмет вела высокая, с унылым лицом, жеманная дама. Она нам рассказывала о цветах, травах и особенно много о рыбах, за что тут же и получила кличку Осетрина.
Та же Щепотьева учила нас и начальным правилам арифметики. Эти уроки она вела твердо, и придраться к ней «классная» не могла, а вернее — не умела.
Домашних заданий не давали, мы по-прежнему жили привольно.
Читать я научилась раньше, и Таня Богданович давала мне свои детские книжки: «Дюймовочка», «Мальчик-с-пальчик», «Маленький лорд Фаунтлерой» и многие другие. Я даже нахально пыталась обучить Ня-Аню грамоте по новому букварю, где были такие примеры: «Мы не рабы! Рабы не мы!» Долго по слогам читала я ей, но когда я или брат спрашивали Ня-Аню, поняла ли она, ответ был один: «Что ж не понять — барыня».
По-прежнему я много времени проводила в Кремле и знала каждый его закоулок. Как же там было интересно! Нижний сад от Боровицких ворот с промежуточными башнями шел до Спасской, а почти рядом с ней стояла низкая, из белого камня церковь, очень древняя. Она была заперта, а в промежуточных башнях двери всегда были приоткрыты. Заглядывая внутрь, я видела зажженные свечи перед иконами и людей, особенно пожилых женщин. Тогда еще на Москве был колокольный звон, конечно, кроме Кремля. Во время благовеста из дальних церквей в нижнем саду было еще уютней и таинственней.
Это у меня перемешивалось с рассказами об операх в Большом театре — «Царь Салтан», «Золотой петушок», и в голове смутно рождались очень туманные картины с прекрасными королевнами, сказочными превращениями в далеких синих морях. Все было ново и бесконечно заманчиво.
Наверное, это был парад в честь третьей годовщины Октября в двадцатом году, Брата и меня с довольно большой группой из семей, проживающих в то время в Кремле, пустили на кремлевскую стену смотреть парад. Вел нас человек в кожаной куртке и галифе.
Вначале шли довольно долго по крутой каменной лестнице, где было совсем темно, и я в страхе цеплялась за брата. Потом открылась дверь с тяжелым засовом, и стало видно небо, а вскоре мы оказались на очень широкой дороге за зубцами стены. Потом я слышала, что ширина стены была такой, что на ней поместилась бы пара лошадей в упряжке.
Конечно, сейчас, через столько десятилетий, я не могу точно описать свои ощущения, но помню хорошо, что глаза разбегались — куда смотреть: на Москву или вниз на Красную площадь с деревянной трибуной? Вскоре из Никольских ворот показалась большая группа людей и направилась к трибуне.
Тут те, с кем мы пришли, стали называть чьи-то имена, указывая вниз. Брат мне все шептал: «Вот это Ленин!» А я никак не могла разобрать — где? И все спрашивала: «А папа?» Только спустя какое-то время, когда Владимир Ильич, вскинув руку, приветствовал участников парада, я наконец уразумела. Вот так во второй раз я увидела Ленина. Потом я видела его на территории Кремля не однажды…
Наверное, всем, кто знает старые хроникальные кадры, не надо рассказывать, каким скромным был тот парад. Не все были в военной форме и шли не так стройно, печатая шаг, и оркестр был небольшой. Проходили мужчины, по-разному одетые, и довольно много женщин, были и военные верхом, в шлемах, впереди — стройный всадник с шашкой наголо. Кто — не знаю, но думаю, что Ворошилова, Фрунзе и Буденного не было на том параде. Еще шла Гражданская война, и все военачальники были на фронтах.
Из Чудова монастыря надо было выезжать, его сносили, и отцу дали квартиру в Кавалерском корпусе. Это небольшое двухэтажное здание стояло в саду, куда выходила дверь из коридора столовой Совнаркома. Раньше оно предназначалось для дежурных офицеров, а может быть, и для дежурных фрейлин. Там были очень комфортабельные двухкомнатные квартирки с хорошей мебелью, кровати с великолепным голландским бельем, пуховыми подушками и одеялами на шелковой вате, чудесно оборудованные ванные со всеми удобствами, камчатные скатерти, наборы посуды… Из парадной двери вел один марш лестницы, еще дверь — и вы попадали в большой широкий, с окнами почти до полу коридор, куда выходили двери квартир, а с другой стороны был такой же коридор, куда из этих же квартир выходили небольшие окна. Эти коридоры — «Белый» и «Желтый» — вели во дворцовые покои. Сейчас ни Офицерского, ни Кавалерского корпусов и всех примыкающих к ним построек нет. На этом месте стоит Дворец Съездов.
Когда я в первый раз попала на эту папину квартиру, все было мне непривычно, и я робела. Но довольно скоро осмелела до того, что вылезла из окна спальни в коридор и пошла в сторону дворца, попала в большую переднюю, в которую выходили боковые закрытые двери, а белая с золотом двустворчатая дверь впереди была чуть приоткрыта. Я туда проникла и оказалась в роскошном зале, где в глубине на возвышении стояло очень красивое большое кресло с высокой спинкой. Оказывается, я «посетила» Малый тронный зал императрицы. Одна из боковых дверей вела в древние царицыны терема, а вторая — на современную женскую половину.
Вскоре я повела по этому пути брата, и когда мы с ним вошли в Малый тронный зал, то увидели пожилого человека с петушиной метелкой на деревянной ручке. Этой метелкой он старательно обметал пыль с тронного кресла. Увидев нас, он застыл. Мы от смущения — тоже. Лицо его было недоуменно-страдальческим. Я догадалась сделать книксен, как нас учили в школе, и, кажется, это его чуть примирило с нами. Он проговорил что-то вроде: «Тут надо тихо» или «Нельзя шуметь» — не помню. Потом мы видели его много раз, все за такой же работой. Одет он был в ливрейные брюки с позументом, куцый пиджачок и войлочные туфли.
Мы вели себя пристойно, и он однажды повел нас в царицыны древние терема. По узким лесенкам, через низкие, с полуовальным верхом двери, обитые красным сукном или тисненной золотом кожей. Там у меня сладко замирало сердце, когда я глядела на свинцовые переплеты маленьких окон, на резные лавки, витые столбики кровати с тяжелым балдахином и высокие кованые сундуки-укладки. Оконца выходили — одни во внутренний дворцовый двор, другие — на Красное крыльцо. Все это напоминало декорации уже виденного мной в Большом театре «Царя Салтана» и плохо вязалось с суровой нашей повседневностью.
Но время шло. Надо было ходить в школу, и для Кремля с его чудесами оставалось меньше времени. Однако в свободное время я по-прежнему гуляла с сестренкой по дорожкам Кремля. Теперь я часто встречала тетю Веру Крестинскую с шестимесячной дочкой — тоже Наташей. Мне даже разрешали иногда подержать Наташу, на руках.
В ту далекую пору и Кремль был другим — и порядки были нестрогие, и опять-таки сочетались приметы времени, казалось бы, несовместимые, вроде старого Дворцового лакея. Молящихся старух, стариков в часовнях и латышских стрелков или кремлевских курсантов.
Только я стала привыкать к школе, к нашему классу, как моей маме кто-то внушил идею, что меня — польского ребенка — надо учить в польской школе (была такая в Москве в ту пору).
Моей маме, прожившей в России почти 60 лет и так до конца дней и не научившейся правильно говорить по-русски, все польское казалось прекрасным, и судьба моя была решена. Я затаилась. Обсудила свое положение с Таней, закрывшись в стенном шкафу. И мы выработали план.
Было решено, что в то утро, когда мама поведет меня для зачисления, я «не проснусь». И вот настал этот час. Меня стали будить. Чего только со мной не делали! Поднимали на ноги, складывали вместе со мной эту папину «раскладушку», сталкивали на пол, брызгали водой — я «спала». Мама в страхе вскрикивала: «Децко мое!» Так продолжалось дня три. Я «спала» намертво. Когда мама уходила на работу, а брат в школу, я «оживала». На вопросы отвечала: «Не помню».
И только когда было решено обратиться к врачу, я заявила в открытую, что не уйду из моей школы. Бедной моей маме пришлось с этим смириться, и все пошло по-старому.
К тому времени я побывала не только в Большом театре, но и в Художественном на «Синей птице». В этом спектакле мне больше всего понравились сцена «Неродившиеся души» (потом она была купирована) и музыка. Мы с Таней все напевали эту полечку. А что это был за театр — Художественный, — меня тогда совсем не волновало.
Однажды у наших хозяев с утра началось волнение. Ждали кого-то очень важного, о чем-то спорили, суетились. Таня мне сказала: «Придет самый-самый главный в Художественном театре, как Шаляпин в Большом». Маргарита Георгиевна и Александр Владимирович даже поспорили. Он говорил, что надо устроить обед, а она, из-за отсутствия продуктов, — чай. Примирились на печенье из пшена и еще на чем-то к чаю.
Около трех часов хозяева уже были в передней. Мы с Таней притаились за портьерой на двери коридора, ведущей в переднюю.
И вот звонок. Александр Владимирович открывает входную дверь, жена рядом, и из-за их спин возникает фигура гиганта в шубе, шапка в левой руке, и где-то очень высоко надо мной — серебряная голова и сияющее улыбкой прекрасное лицо. С гостя снимают шубу. Он склоняется к руке Маргариты Георгиевны, мы слышим его голос: «Я, наверное, помешал вашему обеду?» И испуганный ответ хозяйки: «Нет, нет, мы уже… Прошу к чаю!» Еще какое-то движение — и его уводят в столовую.
Мы выползаем из нашего укрытия и начинаем детально изучать шубу, шапку и огромные фетровые боты с отворотами. И тут я ставлю свою ногу в тряпочной самодельной туфле поперек этого бота… Так я впервые «соприкоснулась» с великим Станиславским.
Константин Сергеевич приходил приглашать Маргариту Георгиевну Гукову преподавать в Оперной студии, которая тогда создавалась по его инициативе.
Маргарита Георгиевна Гукова в начале XX века была приглашена в Большой театр с третьего курса Московской консерватории сразу на первые партии. По классу драмы ее педагогом был Л. Сулержицкий. О ней говорили как о лучшей Татьяне в «Евгении Онегине». В 1914 году Маргарита Георгиевна с мужем поехала в Германию на консультацию к знаменитому ларингологу, который случайно повредил ей связку в горле и приказал долго молчать, обещав, что голос не пострадает. В это
время была объявлена война, уходил последний поезд в Россию, его брали с бою, и они чуть не остались. Она, бедная, кричала и навсегда погубила свой дивный голос.
Рассказывали, что Константин Сергеевич приглашал ее в Художественный театр — актрисой, но она отказалась, и вот теперь он пришел звать ее как педагога к себе в Студию, где с ним уже сотрудничали А. Вл. Богданович, А. В. Нежданова, немного позднее — Н. С. Голованов, Л. В. Собинов, Вс. Р. Петров, С. И. Мигай и директор Большого театра Е. К. Малиновская.
Это было началом реформы в оперном искусстве России.
Оперная студия находилась в доме № 6 по Леонтьевскому переулку (ул. Станиславского).
Как известно, Константину Сергеевичу был предоставлен советским правительством старинный особняк. В бельэтаже в нескольких комнатах жила семья Станиславских. Там располагались кабинет, спальня, столовая и две маленькие комнатки окнами в сад, занимаемые Марией Петровной Лилиной — женой К. С., замечательной артисткой Художественного театра. Остальные помещения бельэтажа занимала студия. В подвальном этаже — очень тесно — жили иногородние студийцы.
В парадные сени бельэтажа вела широкая деревянная лестница. Затем парадный зал, разделенный белыми мраморными колоннами, большая библиотека. Из парадных сеней две двери вели в жилые комнаты и на антресоли, в жилище старшей сестры Константина Сергеевича Зинаиды Сергеевны Соколовой — педагога Студии по классу драмы. Входная парадная дверь вела из сада, а в глубине сада была маленькая дверь на кухню, в хозяйственные помещения и к внутренней деревянной винтовой лестнице. По этой лестнице можно было попасть в маленькую комнату, где жили «на покое» две старые горничные. Где-то здесь же в одном из закоулков помещался и дядя Миша — дворник, истопник (дом отапливался голландскими печами), гардеробщик и почти секретарь.
Теперь в этом доме музей-квартира Станиславского. Подвальный этаж занимает экспозиция костюма из постановок Константина Сергеевича, а тогда каждый угол и даже площадки внутренних лестниц были обитаемы: С жильем в Москве было трудно: приходилось тесниться и студийцам, и семье Алексеевых-Станиславских.
Уму непостижимо, как Марии Петровне Лилиной удавалось всех расселить, а главное, накормить. С раннего утра все «спальные места» сворачивались, и с 11 утра начинались по строгому расписанию студийные занятия, продолжавшиеся с небольшими перерывами до поздней ночи.
Главными помощниками Константина Сергеевича были Зинаида Сергеевна Соколова и Владимир Сергеевич Алексеев — высокообразованный, великолепно знающий всю оперную классику, тонкий музыкант, он же преподавал пластическое движение и ритмику.
В квартире Богдановичей стали появляться молодые люди — студийцы. Разучивались партии. Первой зазвучала опера «Вертер», потом «Онегин». Уроки продолжались почти весь день. Я не могла понять, почему нужно было вначале «мычать», петь «а-а-а» и «у-у-у» и еще какие-то буквы, а не сразу дивные арии и дуэты. Только много времени спустя я поняла, как долго и трудно надо учиться, чтобы красиво и легко петь.
В городских школах занятия в те годы не всегда бывали регулярными. Мы часто были свободны и вместе с Таней ходили в Студию. Мне выпало счастье с моих десяти лет, с 1921 года, видеть, как репетирует Константин Сергеевич Станиславский, смотреть и слушать его. Упомянутый выше дядя Миша был в доме Станиславских одним из «главных» людей. Вот он-то и пускал нас в это святое место.
Тогда было как-то проще, на нас не обращали внимания, не гнали, лишь бы было тихо, а мы и дышали-то с опаской, чтобы не помешать. Подоконник первого окна от двери в Онегинский зал был нашим постоянным местом. Сколько волшебного, сказочного, волнующего видела я с этого подоконника!
Репетиции «Вертера» я помню очень смутно. Помню, что я завидовала девочке, которую выводили или даже выносили на руках по ходу действия (эта девочка — актриса МХАТа, заслуженная артистка РСФСР Галина Петровна Шостко).
Хорошо помню репетиции «Онегина», на них присутствовали весь состав студийцев и все педагоги. Репетиции шли под рояль. Константин Сергеевич входил из дверей библиотеки — элегантный, галстук бабочкой, пенсне на черном шнурке. Необыкновенной красоты руки! Склоняя голову, произносил: «Общий поклон», — и садился в кресло. Сначала он что-то говорил исполнителям, потом его обычное: «Ну-с, начнем!»
Но Станиславский недолго сидел в кресле. Сперва он приподнимался, замирал в какой-то неудобной позе и наконец устремлялся, например, к Татьяне Лариной в сцене письма, начиная показ. И вот он уже Татьяна — чудо грации, женственности, и все это точно в музыку, перо — в чернильницу, слова — на бумагу, сияющие любовью глаза… Еле заметный переход — и он уже няня.
А как гениально Константин Сергеевич строил сцену ларинского бала: от застойной скуки к танцевальному веселью под военную музыку, к, Ссоре и к драматическому окончанию Татьянина дня. Константин Сергеевич бывал и порхающей Ольгой, и ротным, и влюбленной в Ленского смешной увядающей девицей, и строгой мамашей…
Каждая группа гостей, приезжавших на бал, точно знала свою биографию: кто они, откуда, каковы их отношения с Лариными, кто им особенно мил, а кто не очень. А как он выводил Татьяну, когда учил студийца быть Греминым!
За роялем всегда был концертмейстер, а потом главный дирижер Оперной студии М. Жуков.
Я помню сдачу «Онегина». Кроме всех педагогов, присутствовали: Луначарский, Енукидзе, Малиновская, Подгорный, конечно, Лилина, секретарь Станиславского по Художественному театру Таманцева и весь оперный цвет Большого театра. Исполнители играли в своих платьях. Успех был очень большой. После этой сдачи были отпущены большие средства на постановку и издан соответствующий указ «сверху». А Луначарский отозвался о постановке «Евгения Онегина», что «это благоуханно».
Кажется, в феврале 1922 года папа мне сказал, что весной он, наверное, уедет ненадолго в Италию. Помню это потому, что он попросил меня показать на карте Европы, где находится Италия, чего я, конечно, по полнейшему невежеству сделать не смогла. После маленького урока географии он стал рассказывать об особенностях и красоте этой страны — таким образом я узнала о готовящейся Генуэзской конференции, хотя в то время политическое значение этого события было мне неведомо.
Я не один раз видела наркома иностранных дел Георгия Васильевича Чичерина. Из рассказов взрослых я знала, что он из родовитой, старинной дворянской семьи, получил блестящее образование, воспитанный, тонкий ценитель музыки, превосходный пианист и очень скромный человек. Леонид Борисович Красин говорил о Чичерине, что серенький костюм из недорогого материала, который он обыкновенно носил, сидел на нем так же изящно и ловко, как фрак дипломата.
Чичерин был главой нашей делегации в Генуе. Подготовительная работа перед конференцией велась крупными партийными деятелями под руководством самого Ленина. Отец рассказывал, что всех членов делегации, а их было много, разбили на десятки, каждой из которых руководили те, кто знал правила этикета, костюма — что и когда надевать, как вести себя за столом, вплоть до самых, казалось, незначительных мелочей. С одной из таких десяток занимался и мой отец.
В конике марта делегация выехала из Москвы и в начале апреля прибыла в Геную. Мой отец заведовал секретариатом делегации.
Об огромном значении для нашего государства этой конференции и о ее блестящих результатах написано немало. Известно также, что выступление на первом заседании конференции Чичерина на безукоризненном французском языке поразило членов европейских делегаций, очевидно, не ожидавших встретить среди посланцев нашей страны таких людей.
Помню рассказ отца о том, как, живя в «Палаццо Империал» в местечке Санта-Маргерита неподалеку от Генуи, они заслушивались, когда поздними вечерами Георгий Васильевич подолгу играл Моцарта — своего любимого композитора. Уже тогда Чичерин страдал тяжелой формой диабета, а работа была безмерно ответственной, и так он отдыхал, а может быть, готовился к следующему трудному дню…
В двадцатых числах мая 1922 года делегация вернулась в Москву.
Несколько лет работы моего отца в Наркоминделе, наверно, были для него самыми значительными. Тогда еще был жив Ленин. Работа связывала его и с такими выдающимися деятелями, как Л. Б. Красин, В. В. Воровский, М. М. Литвинов, А. Д. Цюрупа, Я. Рудзутак, не говоря уже о А. С. Енукидзе, Н. Н. Крестинском, Г. М. Кржижановском…
Всех этих людей Анатолий Васильевич Луначарский называл «маршалами Ильича».
В сентябре 1922 года Константин Сергеевич Станиславский с Художественным театром уехал на два года на гастроли по Европе и Америке. В его отсутствие Оперную студию вели его помощники — педагоги и певцы Большого театра.
Событие, запомнившееся на всю жизнь, произошло в 1922 году.
Начало года. Зима. Объявлен парадный концерт в Большом зале консерватории. Весь сбор от концерта шел в пользу беспризорников, во множестве мелькавших по Москве. Спали они обычно в котлах, где днем варили асфальт. Они были небезопасны, отличались необыкновенным проворством и отвагой.
К 1922 году Москва была уже прибрана, улицы асфальтировались. А ведь в первые годы после Октября зимой на улицах наметались огромные сугробы, в которые с заборов и с невысоких крыш соскакивали «попрыгунчики», иногда те же беспризорники, а то и просто бандиты. Маскировались они в белые простыни или занавески, к их валенкам или сапогам прикреплялись пружины, а иной раз они появлялись из-за угла на ходулях. Встреча с таким «привидением» наводила ужас на прохожих, и, раздев и отобрав все ценное, «попрыгунчики» скакали дальше. А уж рассказы о них были один страшнее другого. Вечерами даже взрослые в одиночку ходили неохотно.
В 1922 году — откуда что взялось? — уже открылись магазины с нарядными витринами, ночные рестораны, роскошные кафе, появились извозчики на «дутиках» или в санях с медвежьей полостью… На Петровке во всю длину дома развернулась вывеска «Дрова! Лучшие на всем свете дрова! — Я. Рацер». Казалось, что бойкая торговля шла во всех закоулках Москвы. А уж об Охотном ряде и говорить нечего. С угла Театральной площади и почти до Иверской часовни сплошные ряды: мясо, дичь, рыба, молочные поросята, а около этих богатств прохаживались сытые, в белых передниках, с длинными ножами мясники и рыбники. Прибаутки, остроты, зазывание покупателей. Ну прямо как в пьесах Островского! А на противоположной стороне лавки Головкина и других знатных купцов-поставщиков: грибы всех сортов и видов, всяческие маринады и соленья, зелень, овощи, фрукты…
Цены, конечно, были бешеные, и обыкновенные люди могли только смотреть издали на эту роскошь.
А по другую сторону Иверской, почти вплоть до Александровского сада и здания Манежа, стояли деревянные дома и домишки, а на их фасадах красовались большие вывески: «Пух», «Перо», «Яйца».
Вокруг Иверской часовни, где горели неугасимые лампады и множество свечей, кроме молящихся была толпа продающих, меняющих и покупающих всякую мелочь — словом, «толкучка».
На Никитской, угол Кисловки, где в то время еще действовал Никитский монастырь, была нэповская булочная-кондитерская. По воскресеньям мама давала брату драгоценный червонец (эти червонцы старались не менять, так как курс их не был твердым), и мы с братом шли за красивой и вкусной большой плюшкой, стараясь не смотреть на другие кондитерские чудеса.
На Арбатской площади, на месте нынешнего круглого метро и дальше, вглубь, до церкви Бориса и Глеба, тянулся Арбатский рынок. Там было все — роскошное, свежее, красивое, но, конечно, недоступное. На этом рынке нэпманы часто стояли целыми семьями, а по вечерам кутили под цыганское пение в саду «Эрмитаж», в ресторанах. И еще они «уважали» оперетту.
Тверская вся была в частных магазинах — «что угодно для души»: великолепная обувь от «Братьев Зелениных», шляпы, ткани всех видов, цветы, всяческая галантерея, розовые шелковые чулки — мечта всех тогдашних девиц, французская парфюмерия…
Так вот в этом двадцать втором году был анонсирован по высоким ценам благотворительный концерт с участием Шаляпина, Неждановой, Собинова, Петрова, Гельцер, Смольцова и других знаменитостей того времени.
Начинаться концерт должен был с выступления сводного детского хора, для которого из многих школ отобрали по десять детей. Мы с Таней Богданович оказались счастливыми — нас взяли: меня на второй голос, а Таню — на первый. Руководил хором и учил нас петь дивные старинные русские песни хормейстер Крынкин. В ту пору эта фамилия была очень известна. Отец Крынкина держал на Воробьевых горах знаменитый до революции ресторан, говорили, что ресторан был знаменит и старинными русскими песнями.
Наш хормейстер был очень строг, мы его боялись до ужаса; дирижировал он на спевках своей толстой тростью — суковатой палкой. Помню, как он бесчисленное количество раз заставлял нас повторять конец песни «От ворот поворот виден по снегу» и добился-таки нужного звучания. Песня кончалась как бы единым тихим вздохом. И еще мы пели «Плывет лебедушка» и «Поздно вечером сидела, все лучинушка горела».
Нам было приказано, как угодно, но быть в белых платьях и таких же туфлях. Уж не помню, из чего мама смастерила мне этот концертный туалет.
На генеральной репетиции Крынкин все еще дирижировал тростью. На концерте он потряс нас фраком и дирижерской палочкой.
Мы с Таней упросили ее отца, который тоже был участником концерта, разрешить нам остаться за органом, где все было слышно и даже чуть видно в щелку.
Особенно запомнился мне Шаляпин. Он и сейчас как живой стоит перед глазами. Что делалось в зале, когда его объявили! Он пел «Элегию» Массне, «Гренадеров» и на бис — «Дубинушку». Провожали его стоя, бесконечными криками «бис» и сокрушительным громом аплодисментов.
Мне выпало счастье слушать великого Шаляпина дважды: второй раз (и сознательно — первый) был и последним — в том же году Шаляпин уехал за границу. Мне, уже взрослой, рассказывала Маргарита Георгиевна Гукова, что перед тем, как покинуть Россию, Федор Иванович собрал у себя на прощальный ужин узкий круг друзей. Супруги Богдановичи тоже были там. И вот, сидя за столом, Шаляпин чуть слышно запел «Глядя на луч пурпурного заката…» У Маргариты Георгиевны, прикрывшей глаза рукой, градом катились слезы. «Я не видела сидящих за столом, — говорила она, — но, наверное, плакали все».
…К тринадцати годам я уже целиком была во власти театра. За два года (конечно, в ущерб школьным наукам) мы с Таней много раз бывали в Большом театре, пересмотрели много спектаклей 1-й и 2-й студий МХАТа, особенно почему-то 1-й, а некоторые спектакли — по несколько раз.
Спектакли 1-й студии, то есть МХАТа 2-го, в те годы давали в небольшом театре на Триумфальной площади. Потом, когда МХАТ 2-й переехал на Театральную площадь в здание нынешнего Детского театра, на Триумфальной играл Театр Сатиры, а после него, уже в шестидесятых годах, — «Современник». Когда расширяли площадь, это здание снесли. Мне его жаль — столько связано с ним волнующих, радостных воспоминаний, столько пролито слез и столько смеха было, тоже до слез.
В двадцатых годах МХАТ 2-й и звезды его труппы: М. Чехов, Берсенев, Дикий, Гиацинтова, Корнакова, Бирман, Дейкун, Соловьева, Успенская, Дурасова, Чебан, Жилинский, Готовцев, Попов, Сухачева, Хмара, Азарин, Волков, Пыжова — пользовались очень большим успехом.
Для меня воспоминания об этом театре связаны прежде всего с именем Михаила Чехова. Я помню его очень хорошо, до сих пор звучит в моих ушах его голос.
«Сверчок на печи» Диккенса. Михаил Чехов в роли игрушечника Калеба — страдающий отец, оберегающий свою дочь от страшной действительности. «Потоп» Бергера, где Чехов то противный и злой, то открыто распахнутый к добру. «Петербург» Андрея Белого. Чехов в роли дряхлого сановника Аблеухова, с невероятными ушами и напряженно испуганным взглядом совершенно круглых глаз. Хорошо помню его присказки: «Знаешь-те ли вы?» и «Почему у барышень пятки розовые?» А как он слушал механизм в бомбе: «Тикает!»
Хорошо помню Чехова в «Гамлете» — он был даже красивым! Как смотрел он в сцене «Мышеловка» на короля (его играл Чебан)! А в «Двенадцатой ночи» Шекспира он меня совершенно сразил в роли Мальволио, его выход с торжественным лицом, в желтых подвязках. Очень понравилась в этом спектакле и Софья Владимировна Гиацинтова — хрустально звонкая, озорная и заразительно веселая.
«Эрик XIV» Стриндберга был для меня тогда слишком сложным спектаклем, но жуткая фигура Чехова — Эрика врезалась в память.
Несколько раз смотрели мы с Таней спектакль «Любовь — книга золотая» Ал. Толстого. В нем мы любовались необыкновенной артисткой Корнаковой: красота, женственность, талант, актерское обаяние, голос.
А как Корнакова играла в «Закате» Бабеля! Замечательно играла там и Серафима Бирман. Сейчас помню, как она говорила: «Мама, куда вы подевали мое зеленое платье?»
Когда создавалась 1-я студия, впоследствии МХАТ 2-й, помимо Константина Сергеевича Станиславского, руководителем и наставником был Леопольд Антонович Сулержицкий — личность огромного человеческого и творческого таланта, «мудрый ребенок», по определению Льва Толстого. Наверное, тот факт, что Сулержицкий так рано ушел из жизни, не мог не сказаться на творческом развитии этого коллектива. Возможно, были допущены какие-то ошибки — не мне об этом судить, произошел раскол труппы (если бы не уехал Чехов!). В 1936 году театр закрыли, и это взволновало и огорчило очень многих.
Во 2-й студии, которая в 1924 году целиком влилась в труппу Художественного театра и еще больше украсила созвездие его талантов, я, к сожалению, видела меньше спектаклей, но что-то врезалось в память навсегда. Помню «Зеленое кольцо» Гиппиус с очень смешной Анастасией Платоновной Зуевой, с Ниной Николаевной Литовцевой и Аллой Константиновной Тарасовой. Хорошо помню: когда в спектакле «Младость» кто-то по ходу действия просил позвать Васю, а «недослышавший» Н. П. Баталов переспрашивал: «Кого?» — из зала неслись подсказки шепотом и громко: «Васю, Васю!» Так велика была сценическая правда. От спектакля «Узор из роз» осталось лишь, как Раиса Молчанова говорила: «Малашка не от работы ослепла — от ветра!» Некоторые спектакли 2-й студии сохранились на Малой сцене МХАТа надолго, и даже я, поступив в театр, была занята в них. Но об этом позже.
В Малом театре я тоже стала бывать рано, но великую Ермолову не видела. Полюбила и запомнила с тех пор многих замечательных артистов — Массалитинову, Рыжову, Пашенную, молодую красавицу Гоголеву, Климова, Кузнецова и многих других.
Большое впечатление произвели на меня тогда спектакли «Нравы Растеряевой улицы» Успенского и «Доходное место» Островского.
На спектакле Малого театра «Волчьи души» (Джек Лондон) с Верой Пашенной в главной роли я почему-то оказалась с отцом. Во время пылкого любовного объяснения, где Пашенная была в белом туалете с голой спиной, мой бедный папа стал шептать мне: «Пойдем, это же, право, неинтересно, прошу тебя…» И так несколько раз. Уж не помню сейчас, удалось ли ему меня увести.
В театре Мейерхольда в те далекие годы я видела «Лес» Островского и агитскетч «Даешь Европу» (авторов сейчас даже и не припомню. По-моему, одним из них был И. Эренбург). Хорошо помню М. И. Бабанову в роли Боя («Рычи, Китай» Третьякова). Как она была трогательна и достоверна! Самоубийство ее героя потрясло до слез. Уже взрослой видела мейерхольдовского «Ревизора», в котором главной фигурой оказалась Анна Андреевна — З. Н. Райх, несмотря на великолепного Хлестакова — Гарина. Впечатление было жутковатое еще и от множества странных фигур, которых нет в перечне действующих лиц комедии, например, какой-то голубой гусар с лицом-черепом у ног Анны Андреевны. Марья Антоновна — Бабанова, хрупкая, наивная. Ее очень хлестко била по щекам мамаша.
Мне довелось видеть и ленинградский спектакль Мейерхольда «Маскарад». Этот спектакль был как драгоценное кружево. Трагический и грациозный, он казался воплощением лермонтовского замысла.
Помнится еще один вечер в этом театре. Было это много позднее. В черном колете, в лосинах и высоких сапогах с наколенниками З. Н. Райх читала монолог Гамлета «Быть или не быть». Это производило очень странное впечатление.
Когда в конце тридцатых Мейерхольд оказался в беде и театр его закрыли, Константин Сергеевич Станиславский — не принимавший ни единого его спектакля — позвал Всеволода Эмильевича к себе в оперный театр работать над «Пиковой дамой». Учитель пытался спасти своего строптивого талантливого ученика, и тот снова благодарно ответил филигранной работой над величайшим творением Пушкина и Чайковского в замысле Станиславского. Это была последняя работа в жизни Мейерхольда. Правда о страшном конце его и Зинаиды Райх стала известна нам только теперь.
В Вахтанговском театре я видела в середине двадцатых знаменитую «Турандот» Гоцци с Завадским, Мансуровой, Орочко. Как они были великолепны, блистательны, артистичны и сказочны!
Память возвращает меня в 1924 год. Умер Ленин. Зима была лютой, а в те трагические дни морозы стояли особенно сильные. В Колонном зале Дома Союзов лежал мертвый Владимир Ильич.
Я, в мои тринадцать лет, была достаточно взрослой, чтобы понимать горе и тревогу отца и его товарищей, возможность видеть и немного знать которых мне подарила судьба. Известие о смерти Ленина ошеломило тогда всех. В какую-то из ночей мама, брат и я тоже стати собираться в очередь к Колонному.
Отца в эти дни мы не видели. Все, как тогда называли, ответработники, сменяясь, несли почетный караул у гроба круглые сутки, а со всех концов страны, да и из-за границы ехали на похороны делегации выборных и отдельные люди.
Часов в 11 вечера мы, надев на себя все, что было у нас теплого, пошли к Кремлю. Очередь, по три человека в ряд, кончалась у Боровицких ворот. Ночная Москва была в белом морозном тумане. Помню хорошо, что было совсем тихо, люди говорили шепотом и соблюдался абсолютный порядок. На Манежной площади горело два больших костра. Люди по очереди грелись и опять становились в свой ряд. Двигались очень медленно, и когда вышли к Охотному ряду, стало видно, что такая же нескончаемая колонна медленно спускается от Лубянской площади. У здания Дома союзов, тоже в полной тишине, группами, по очереди из каждой колонны, впускали внутрь на широкую лестницу, по которой сверху, уже из зала, по одной стороне двигался поток людей вниз.
В зале я помню люстры, затянутые черным крепом, очень много венков. Группа людей, сидящих справа от постамента с гробом, и чуть впереди — поникшая фигура Надежды Константиновны Крупской с исплаканным лицом, с унылыми прядями, выбившимися из пучка седых волос, вдоль щек. А он показался мне совсем не крупным, не таким, как в раннем моем детстве. Когда мы медленно проходили мимо гроба. Менялся караул — по четыре человека с четырех сторон. Мелькнула фигура Авеля Сафроновича в дверях, ведущих во внутренние помещения.
Сколько раз спустя годы я выходила из этих дверей на эстраду во время концертов, а тогда возвышений никаких не было — паркетный пол был одного уровня.
Прошло более шестидесяти лет, а помню я эти дни отчетливо. И деревянный Мавзолей, который строили день и ночь. И похороны. Мы с братом опять стояли на стене Кремля, куда пускали по пропускам. Когда загудели заводы и паровозы, зазвонили церковные колокола, стало жутко. На площади все обнажили головы, несколько человек подняли гроб и понесли в Мавзолей.
Совершенно непонятно, как меня переводили из класса в класс! Я почти не готовила уроков — была околдована театром. Запомнились только уроки литературы и истории, которые очень интересно вел наш классный руководитель Головня. Через много лет мы встретились. Он стал доктором наук, профессором, а я уже играла в Художественном театре.
…Наверное, мне было лет четырнадцать или меньше, когда я решила поставить в школе спектакль. В свой план я посвятила Тоню Шибаеву — мы сидели с ней за одной партой. Она была первой в классе по точным наукам и снисходительно давала списывать контрольные. Тоня Шибаева не выразила восторга и посоветовала мне заниматься делом, пока меня не выгнали из школы. Я кинулась за помощью и советом к мальчишкам. Среди них я была «свой парень», так как участвовала во Всех проделках, драках и розыгрышах. Я была очень горда их отношением ко мне.
Решено было идти к Головне. Он выслушал нас и дал согласие. Почему-то остановились на «Женитьбе» Гоголя. Стали распределить роли. Нашлись две тихие, покорные девочки, согласившиеся играть Агафью Тихоновну и сваху. Тетку невесты мы просто вычеркнули — не нашлось охотниц. Мальчишки разобрали все роли, кроме Подколесина: «Он много говорит и старый». Я нахально заявила, что сама его сыграю. Головня посмеивался.
Текст учили, вычеркивая все, что было непонятно или казалось лишним. Не помню, кто был Кочкаревым, но помню, что мы с ним все время спорили и поносили друг друга. Я кричала, что театр мне известен лучше, чем ему и вообще всем, а в ответ слышала, что, «если девчонка будет представлять старика, какой это театр?»
И все-таки спектакль состоялся. «На ноги» мы встали за два дня до «премьеры», а до этого, сидя после уроков за партами, старались произносить текст «наизусть, подряд и друг за другом».
В нашем школьном зале была сцена и даже какое-то подобие занавеса, который раздвигался рывками. Мальчик, игравший Кочкарева, оказался дельным и преданным, тащил из дому все, что мы считали необходимым: скатерти, занавески, почему-то фотографии в рамках, один сапог и щетку. Я принесла мамин халат для своего героя и штору. Кто-то достал курительную трубку, мы ее насадили на длинную палку — получился «чубук».
Все «артисты» должны были достать себе длинные брюки — верх нам казался не принципиальным. Юбки и шали выпрашивали у нянь и бабушек. У моего брата были единственные приличные выходные брюки. На них я и нацелилась, поклявшись вернуть в целости. Штаны «Подколесина» оказались в поперечных складках, так как брат был высокий. В мамином халате, с трубкой на палке я являла собой зрелище немыслимое. К тому же в день «премьеры» мальчишки подстригли мне волосы — для достоверности.
Волновались мы очень, но чем ближе к спектаклю, тем меньше ссорились, стараясь поддержать друг друга. Своих домашних я в школу не пустила.
Когда дали последний звонок (у нас даже был «помощник режиссера», он же суфлер) и занавес, судорожно дергаясь, раздвинулся, в зале раздались смех и шепот. А когда я начала говорить — смех перешел в хохот. Головня шикнул, и зал затих, но ненадолго.
Степан с одним сапогом и щеткой зрителям явно понравился. Беда была со свахой и Агафьей Тихоновной. Сваха, выйдя на сцену, стала унылым ровным голосом произносить слова. Я же, старательно «представляя» Подколесина, попутно руководила ею: «Сядь! Встань! Громче! Не туда пошла!», а она еще больше робела. Снова хохот и какие-то реплики из зала. Спас положение Кочкарев, он, наверное, был самым живым и настоящим на нашем фоне. А в общем, мы имели успех.
Толкая друг друга, мы выходили на поклоны. Девочки жалели меня за изуродованные волосы, а мальчишки одобряли за «жертвенность». Головня, пряча улыбку, хвалил — и мы были горды.
Разобрав «костюмы, декорации и реквизит», отдав в учительскую мебель, я в сопровождении мальчиков, измученная, поплелась домой. Мои «сопостановщики» донесли мой узел только до двери, очевидно, боясь гнева моих близких за испорченные вещи.
Мама встретила меня испуганным возгласом: «Децко мое!» — глядя на стриженную клоками голову, а увидев брюки брата, впала в тоску: от булавок остались дырки, к тому же, зацепившись за что-то, я выдрала небольшой клок ткани. Брат возмущался очень бурно, так как в то время порвать выходные штаны было почти трагедией. В итоге дома было решено «больше не пускать ее бегать по театрам», и я ударилась в рев.
Придя в школу на следующий день и ожидая насмешек и осуждения, я была удивлена, почувствовав явное одобрение класса — и не за исполнение роли Подколесина, а за мой энтузиазм. Головня весь урок посвятил Гоголю и обещал, если мы будем хорошо учиться, помочь нам поставить следующий спектакль. Таким образом, жертвы мои были не напрасны.
В середине двадцатых годов квартира Богдановичей в Шереметевском была отдана какому-то «ответработнику», и нас переселили в одиннадцатикомнатную квартиру, ставшую коммуналкой. В ней было, наверное, человек сорок жильцов. Рядом с нами жила мать двух латышских стрелков, служивших в охране Кремля. В свои выходные они навещали ее, пили спирт и очень громко пели песни на родном языке. Мы их боялись, особенно мама.
В самом конце огромного нашего коридора была ванная комната. По утрам к ней тянулась длинная очередь. Умываться надо было мгновенно, чтобы не вызвать гнева ожидающих. Поэтому у нас в комнате был отгорожен угол с тазом, ведром и двумя кувшинами для воды. Для большого мытья ходили в Чернышевские бани или в Кремль к папе.
…Ранней весной 1925 года я заболела: высокая температура, боли в животе. Был приглашен врач, который нашел острый приступ аппендицита, и испуганная мама согласилась на операцию.
Позвонили на работу отцу, и он попросил не увозить меня в больницу до его прихода. Очень скоро он привез известного профессора Очкина. Доктор, осмотрев меня, серьезно сказал: «Зарезали бы девчонку». Он нашел у меня брюшной тиф. Болезнь протекала тяжело, температура была предельной, я часто лежала без сознания. Кроме того, у меня находили порок сердца.
Во время этого тифа, а он осложнился возвратным, меня ни на минуту не оставляли одну — в бреду я стремилась бежать, кидалась к окну. Папа приезжал каждый день хоть на несколько минут, а иногда сидел около меня и ночью.
Только через два с половиной месяца я стала подниматься. Меня обрили наголо, пообещав, что вырастут кудри. Но маминой мечте не суждено было сбыться. Страшная, худая, с прямым ежиком вместо кудрей, я имела очень жалкий вид. Добрая тетя Вера Крестинская подарила мне прелестный кружевной чепчик.
Богдановичи переехали в Пименовский переулок. Это был кооперативный поселочек из нескольких небольших домов, в одном из которых был очень популярный тогда «Кружок» — он занимал весь подвальный этаж. Там бывали многие знаменитые артисты, режиссеры, писатели, ученые, поэты. Часто бывали. Маяковский, Есенин, иногда Луначарский и Енукидзе.
Квартира Богдановичей находилась над одним из помещений «Кружка», и, когда мне доводилось ночевать у них, я, замирая, слушала шум, а иногда и отдельные фразы, сказанные громовым голосом Маяковского. Казалось, что там, Внизу, особый, волшебный мир.
После болезни я была очень слаба, и папа взял меня на время своего отпуска в Малаховку, где в каком-то бывшем имении разместился закрытый пансионат. Помню, что там жил в то время известный нарком Крыленко. Он учил меня играть в шахматы (безрезультатно) и в крокет, где я проявила сноровку и даже обыгрывала его иногда, а он сердился, не то в шутку — не то всерьез. Он был очень вспыльчивым и нервным — таким он мне запомнился.
Был там конный двор. Отцу давали верховую лошадь. Это был красавец конь, серый, очень горячий — по кличке Сокол. Отец получал удовольствие от прогулок верхом, это был для него лучший отдых.
Я часто вертелась возле конюшен, а после того, как мне показали новорожденного жеребенка, еще нетвердо стоящего на тонких дрожащих ножках, я совсем заболела лошадьми и стала просить, чтобы меня научили ездить верхом. И вот папа сажает меня на мужское седло, у меня замирает сердце, кажется, что я где-то очень высоко. А подо мной тихая почтенная лошадь Галка. Папа подтягивает стремена, учит, как держать носок, в левой руке — уздечку, и ведет Галку на поводу по старой аллее.
Довольно быстро я научилась свободно сидеть в седле, и отец иногда брал меня с собой. Но тогда пределом моих возможностей была только езда осторожной рысью. Скоро я освоилась до того, что мне позволили пользоваться дамским седлом, хотя это гораздо труднее и неудобнее. Я очень была горда и мечтала уже о длинных прогулках, но тут кончился папин отпуск, а с ним и моя верховая езда.
Потом, когда я стала взрослой, отец несколько раз брал меня с собой: где-то рядом с «Бегами» давали напрокат оседланных лошадей по предъявлению какого-то документа. Ездили обыкновенно в Петровском парке. Я очень гордилась этими прогулками и изо всех сил старалась «гарцевать» по правилам. Отец терпеливо руководил мной. Я уже упоминала, что в седле он был профессионалом. К сожалению, огромная занятость отца очень скоро прекратила наши прогулки.
Еще только раз я сидела верхом, много лет спустя, на Дальнем Востоке, во время шефской поездки театра в Дальневосточную армию — в интернациональном полку, которым командовал полковник Берзарин, впоследствии первый советский комендант поверженного Берлина.
В последний школьный год у нас однажды был вечер со спектаклем, в котором я играла Софью Перовскую (наконец-то выступала в женской роли). Помню только свой костюм — черный бархатный верх с белым воротником и длинная юбка. Все это дала мне тетя Вера Крестинская. В то время Николай Николаевич Крестинский — дядя Коля — был полпредом в Германии, а тетя Вера часто оставалась в Москве со своей маленькой Наташей.
Наступила пора выпускных экзаменов, и я с ужасом поняла, что ничего не знаю по точным наукам. Дома был «траур». Срочно прекратились мои «поиски» в драматическом искусстве. С помощью брата я пыталась постигнуть премудрость точных наук — но все было тщетно. Было решено взять репетитора на все лето, чтобы я могла сдать экзамены осенью и получить аттестат. Каждый день по три часа я корпела над ненавистными предметами. На экзамен шла как на казнь, но сдала все, к изумлению близких, и даже на четверки.
Сразу после сдачи экзаменов все мои «знания» как вымыло из головы. Я и теперь, в старости, не знаю простейших вещей из этой области. Но в аттестате (к сожалению, он затерялся во время войны) была только одна тройка — по поведению.
Выпускной вечер в школе связан у меня с бурными переживаниями. Еще был нэп, и родители моих соклассниц делали все, чтобы их дочери блистали нарядами. Всем шили крепдешиновые платья и покупали туфли на высоких каблуках. Мне заказали у сапожника туфли на маленьком — «венском» каблуке. Это были мои первые туфли — до этого я донашивала обувь брата, из которой он давно вырос, или что-то из маминой обуви. За два-три дня до «бала» мама показала мне светло-сиреневое платье из маркизета и батистовую комбинацию, переделанную из ее сорочки. Что она отнесла в торгсин или в ломбард, чтобы купить этот маркизет — я так никогда и не узнала.
Сам выпускной вечер плохо сохранился в памяти. Помню только, что девочки пристально разглядывали друг друга, и, кажется, я была «не хуже других» в своем маркизете. После вечера мы всем классом пошли гулять по ночной Москве, и я, зная об этой прогулке, заранее прихватила старые мамины теннисные туфли, а новые несла с собой, не доверяя «кавалерам». Мы оказались на Каменном мосту, стояли у перил, о чем-то горячо спорили, и вдруг одна моя туфля улетела в воду.
Дома мне было очень стыдно и очень жалко маму, еще и оттого, что она меня не ругала.
Часть II
1927–1931 годы
К началу 1927 года я окончательно решила, что, кроме театра, у меня другой дороги нет. В любом качестве — но в театре!
К тому времени гениальное творение Станиславского — опера «Евгений Онегин» уже была перенесена на сцену нынешнего театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Знаменитый дирижер Большого театра Вячеслав Сук дал согласие заведовать музыкальной частью Оперной студии Константина Сергеевича.
Подробный и очень точный анализ этого спектакля дает в своей книге «Правда театра» П. Марков — лучше него не скажешь.
На сцене этого театра прошла премьера оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова. Кто пел первый спектакль, почему-то не помню, а вот второй спектакль партию Грязнова пел Сергей Иванович Мигай — в то время очень известный и любимый публикой солист Большого театра.
Все крупные певцы того времени шли учиться к Константину Сергеевичу Станиславскому.
Замечательной Любашей была Гольдина, прелестно звучала в заглавной партии Шарова. Много тогда говорили о роли Грозного в исполнении Виноградова. Партию Лыкова пел Смирнов, в хоровых ансамблях участвовали все солисты Оперной студии.
В составе «Онегина», выпущенного ранее, были: Татьяна — Горшунова, потом ее сменила Мельцер — замечательная певица и артистка, очень красивая (я видела ее еще в двадцать втором году на занятиях М. Г. Гуковой); Онегин — Бителев, а потом Румянцев; Ленский — Смирнов, потом Печковский, Лемешев и Платонов.
Главным дирижером Оперной студии был Михаил Жуков.
Спектакли музыкальной комедии Владимира Ивановича Немировича-Данченко я увидела гораздо позднее, когда уже работала во МХАТе.
В Оперной студии я умудрялась быть не только на всех премьерах, но и на репетициях, проводившихся в Леонтьевском Константином Сергеевичем Станиславским.
В Художественном театре к этому времени я посмотрела «Турбиных», «Горячее сердце», «Смерть Пазухина», «На всякого мудреца…» со Станиславским в роли Крутицкого, «Бронепоезд 14–69»…
Первый раз я видела «Турбиных», сидя на ступеньках бельэтажа. Сразу и на всю жизнь я была покорена Верой Соколовой в роли Елены Тальберг, Хмелевым — Алексеем Турбиным, Борисом Добронравовым — Мышлаевским, Яншиным — Лариосиком, Кудрявцевым — Николкой. Весь этот спектакль вспоминается как прекрасный сон.
Не менее прекрасным был спектакль «Горячее сердце» по Островскому. Добронравов — Наркис (тупое, толстой лицо с бараньими глазами; грим — только парик и усы, а узнать нельзя), Хмелев — Силан (бестелесный старец, будто одни портки в валенках семенили по двору, а было ему 26 лет), да и вообще весь актерский ансамбль был блистательным и неповторимым.
Старшая сестра Станиславского — Зинаида Сергеевна Соколова — жила, как я уже писала, на антресолях в доме в Леонтьевском переулке. Кроме большой работы в качестве режиссера в Оперной студии, она вела драматический класс — кружок. Учеников у Зинаиды Сергеевны было человек десять — двенадцать. Точно установленного времени для обучения не было, но, что очень важно, еженедельно работу со своими учениками Зинаида Сергеевна показывала Константину Сергеевичу для разбора и уточнения.
В эти годы Станиславский выверял создаваемую им Систему и давал соответствующие задания Зинаиде Сергеевне для занятий с кружковцами.
И вот осенью двадцать седьмого года я решилась проситься в ног класс-кружок. Прослушать меня просила Зинаиду Сергеевну Маргарита Георгиевна Гукова. Мне было назначено время. Зинаида Сергеевна уже знала меня — я примелькалась за эти годы в Леонтьевском, но она не слышала, как я говорю.
Дело в том, что в доме у нас обычно говорили по-польски, а раньше родители часто говорили между собой на французском. Брат и я тоже говорили по-польски, знали разговорную французскую речь, а по-русски говорили только вне дома. Моя мама до конца своих дней думала по-польски, переводила мысль на русский и говорила с очень сильным польским акцентом. Я же не выговаривала букву «л» и очень нажимала на шипящие «ч», «ш», «щ», произнося их жестко.
Наивно полагая, что моя речь не может стать препятствием к поступлению, я приготовила монолог Фленушки из двухтомного романа Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» и огорошила Зинаиду Сергеевну своим произношением: «Мне про мужжа гадачь не приходица, с измауства жиуа я в обичели и спознауась я с жизнью кеейною». И так же басню Крылова «Ворона и Лисица»: «Ворроне где-то Бок посуау…» и т. п. Выслушав меня терпеливо, Зинаида Сергеевна сказала мне ласково: «Милая барышня… вас, кажется, зовут Зося? Должна вас огорчить. Сильный польский акцент почти не исправим, и на русской сцене вам вряд ли удастся быть». Вот так!
Не помню, как добрела я домой. Там, наревевшись вдоволь, я заявила домашним, чтобы при мне не смели говорить по-польски. С тех пор я исключила для себя язык моих родителей.
Кинулась я к Богдановичам и рассказала о своем горе. Меня эти замечательные люди ободрили, обещав посоветоваться с князем Волконским — известным тогда педагогом. Он часто бывал у Константина Сергеевича, который очень ему верил, признавая его метод.
Совет Волконского был прост. Букву «л» легко исправить простым упражнением, терпеливо его повторяя. А против «шипящих» одно лекарство. По многу раз читать одну фразу, например, из пушкинской прозы, сказок или из «Конька-Горбунка», чередуя прозу со стихами. Волконский сказал, что, если у меня есть слух и терпение, может быть, и выйдет толк.
Терпения у меня хватило, я рвалась к намеченной цели. По несколько часов в день я упорно твердила одну фразу и с величайшим трудом, очень медленно пыталась говорить по-московски — округло, мягко произнося гласные, убирая жесткость согласных. Читала, строго соблюдая знаки препинания, повышая и понижая голос по законам классической речи («по Волконскому»), Для домашних моих это была пытка, но они кротко терпели, особенно после того, как довольно скоро я четко начала выговаривать — «ложка», «лужа», «лыжи».
У Богдановичей стали говорить, что дела мои идут успешно, и это придавало мне уверенности.
У брата были способности к математике, и предполагалось, что он пойдет учиться дальше. Для поступления в университет надо было заполнять подробнейшую анкету после сдачи экзаменов.
Экзамены брат выдержал очень хорошо, а вот в анкете в пункте о происхождении (крестьянское, рабочее, мещанское и дворянское) ему пришлось написать «из дворян». Это не понравилось тов. Землячке — была такая партийная деятельница с большим стажем, очень грозная и одержимая ненавистью к дворянам. Она наложила резолюцию: «Пусть этот “дворянчик” поработает на Урале, а там видно будет».
Отец не счел возможным хлопотать о сыне — тогда это было не принято, — и брат уехал на три года в Пермь работать слесарем на Мотовилихинском металлургическом заводе.
Мне же сидеть на иждивении родителей было невозможно — отец получал «партмаксимум», точную цифру я не помню, но на два дома, даже очень скромно, жить на эти деньги было довольно трудно, а мамин заработок не был регулярным. Я решила, что попутно с исправлением речи должна что-то делать и хоть немного зарабатывать. Посоветовавшись с Богдановичами, я отправилась
на курсы машинописи.
Учиться на курсах было неинтересно. К тому же они мешали мне заниматься исправлением речи, поэтому до конца я так и не доучилась. Но все элементарные основы печатания усвоила, и у меня созрел план. В секрете от всех я позвонила Авелю Сафроновичу Енукидзе. Как сейчас помню, его кремлевский номер телефона — «2-й верхний». Все эти годы он заезжал к нам очень редко, но мы всегда чувствовали его дружеское участие и доброту. Очень робко я спросила, не могу ли я на время получить пишущую машинку, чтобы печатать дома. Он знал о моем провале в Леонтьевском, был очень ласков, одобрил мой план и обещал не только машинку, но и кое-какую работу.
Так у нас в доме появился старый «Ундервуд». Мама удивлялась моей смелости, а от отца почли за лучшее все скрыть. Я отчаянно старалась быстрее научиться зарабатывать и для облегчения задачи упразднила слепой метод печатания десятью пальцами, а била по клавишам главным образом указательными.
Через некоторое время мне стали приносить для перепечатки какие-то простенькие бумаги, я старательно их перепечатывала на казенную бумагу и даже зарабатывала 10–15 рублей в месяц. Лишь много лет спустя я догадалась, что эти деньги Авель Сафронович давал мне из своих. На протяжении многих лет он заботился о нас, спасая от голода, поощряя меня в желании быть самостоятельной.
…Осенью 1928 года я опять предприняла попытку поступить в класс З. С. Соколовой. Читать решила тот же репертуар.
Я очень трусила, но было и чувство некоей гордости, что я одолела главное препятствие, и еще мне казалось, что я глубже поняла чувства моей героини — Фленушки.
Я кончила монолог и, замирая, ждала приговора.
Зинаида Сергеевна довольно долго с любопытством смотрела на меня, потом улыбнулась (а была она строгой), сказала: «Не ожидала я, молодец, я буду советоваться с Константином Сергеевичем. Наверное, я вас возьму. Приходите завтра». Боже, как я была счастлива!
Когда отец узнал, что я окончательно решила стать актрисой, он очень загрустил, даже испугался и стал говорить о том, как тяжело и унизительно быть в театре посредственностью и что если так случится со мной, то ему будет очень горько. Я знала о его преклонении перед Комиссаржевской, слышала рассказы о том, как они — студенты Петербургского университета — по ночам, греясь в извозчичьих чайных, выстаивали огромные очереди за билетами на галерку на спектакли приехавшего на гастроли Художественного театра.
О том, что я принята в студию, я сказала отцу только после первого занятия. Мое сообщение взволновало его, но поздравил он меня сдержанно: «Старайся, надейся, увидим».
Всех учеников Зинаиды Сергеевны я уже знала, и они меня тоже. Приняли меня хорошо, особенно Володя Красюк — племянник Константина Сергеевича по сестре Анне Сергеевне Штекер. А ее дочь — Милуша Штекер — работала в Художественном театре помощником режиссера.
Анна Сергеевна Штекер была замужем за влиятельным, богатым человеком. В молодости участвовала в Алексеевском «Кружке искусства и литературы» и после открытия Художественного общедоступного театра еще продолжала играть, но недолго. Кроме Людмилы и Володи у нее было несколько детей, двое старших — Андрей и Соня — умерли от туберкулеза. Я хорошо знала Георгия — Гоню. Он был женат на прелестной Кате Сапожниковой — Китри. И мы с Гоней и Китри одно время очень дружили. Был еще и Глеб, но я его знала очень мало.
Ходили слухи, что рассказ А. П. Чехова «Живая хронология» написан с Анны Сергеевны Штекер. Как-то я, восхищаясь портретом юной Людмилы, сказала: «Итальянская головка!» А Людмила в ответ: «А я от заезжего итальянца!»
К старости Анна Сергеевна стала очень строга, все следила за «приличиями» и осуждала «вольное» поведение молодежи, а уж мы-то под строгим взглядом ее сестры — «Бабы Зины», как любя ее все называли, были как овцы — ходили по струнке. Сама же Зинаида Сергеевна, оставшись рано вдовой с маленькой дочерью, очень строго вдовела, ничем не напоминая свою младшую сестру.
Ко времени моего поступления в класс Зинаиды Сергеевны у нее уже обучались Н. Богоявленская, Г. Шостко, Т. Любимова, В. Красюк, Кристи (впоследствии довольно известный театровед) и заканчивал учение А. Абрикосов, ставший позднее артистом Вахтанговского театра. Остальных, к стыду своему, боюсь перепутать, некоторые из них в 1935 году перешли в новую студию Константина Сергеевича — Оперно-драматическую. Это было ядро будущего драматического театра имени Станиславского, что на Тверской улице.
Первые уроки у Зинаиды Сергеевны я воспринимала как воспитательные. Говорилось о том, каким должен быть будущий артист. Малейшее отклонение от установленной дисциплины не прощалось, все наносное и не относящееся к занятиям оставлялось за порогом этого дома, и наше поведение ни в коем случае не должно было мешать занятиям оперной труппы. Мы едва дышали, опасаясь помешать кому-либо.
Владимир Сергеевич Алексеев — старший брат Константина Сергеевича, высокообразованный и тонкий музыкант, преподавал у нас в классе ритмику, пластику и упражнения с несуществующими предметами. Эти уроки проходили в Онегинском зале по вечерам, когда он был свободен от оперных занятий.
Владимир Сергеевич был необыкновенно мягким человеком: делая замечания, облекал их в форму просьбы. Он интересно рассказывал нам о юношеских спектаклях в доме своих родителей и о том, каким был в детстве наш грозный Учитель — Константин Сергеевич Станиславский.
Уже в качестве ученицы драматической группы я впервые увидела Станиславского на занятиях ритмикой. Мы все, образовав круг, под аккомпанемент Владимира Сергеевича ходили, меняя соответственно музыке ритм — от медленного шага до бега. И вдруг из дверей библиотеки вышел Он. Мы замерли. А Он присел в стороне за роялем. Мы продолжали свое хождение и бег, но ноги у меня стали деревянными, и это не укрылось от глаз Константина Сергеевича. Мы услышали: «Стоп, минуточку!» И вопрос ко всем: «Что вы сейчас делали?» Константин Сергеевич, указав на меня, сказал: «Вот вы, пройдите отсюда до двери» (это почти через весь зал!). Боже мой! В детстве, когда я с подоконника смотрела на его репетиции с оперными, все казалось таким понятным и простым, а теперь, когда сама должна была что-то сделать, «простое» стало невероятно сложным! И, конечно, непреодолимое волнение и страх.
Воображаю, как бездарно проделала я этот «путь»!
На моем примере Константин Сергеевич начал объяснять всем, что без конкретной задачи нельзя действовать. Для чего этот проход, каковы предлагаемые обстоятельства? Все надлежит знать. У актера должно быть богатое воображение и такая же фантазия, а нафантазировав — нужно поверить в могущественное «если бы» и тогда, поставив для себя точную задачу, действовать. Потом я и остальные ходили и бегали в различных «предлагаемых обстоятельствах». Константин Сергеевич давал самые простые задачи: открыть, закрыть дверь или окно. Пробежать, чтобы встретить или позвать кого-то и, главное, — для чего позвать. И кого встретить — друга или врага?
Зинаиды Сергеевны с нами не было — она дежурила на оперном спектакле. В этот вечер Константин Сергеевич занимался с нами довольно долго. Сначала он незаметно снял сковывающее нас напряжение, подсказывал озорные задачи и даже сам, только чуть-чуть меняя «физику», слегка привставал и обнаруживал стремление «бежать» к какой-то заветной для себя цели… Происходило, как всегда на его гениальных показах, чудо перевоплощения.
Когда занятия кончились, Константин Сергеевич сразу стал немного другим. Сказав свое обычное «Общий поклон», пошел к дверям библиотеки, на ходу указав на меня: «Надо вырабатывать походку, она у вас мелкая». Это я запомнила дословно, а вот чтобы записывать все его уроки — ума не хватило.
Первое время на занятиях с Зинаидой Сергеевной я больше наблюдала, как занимаются другие. Со стороны все казалось понятным и простым, хотелось попробовать самой. Мои товарищи разбирали по задачам и по кускам басни Крылова «Орел и куры», «Ворона и Лисица» и еще что-то.
Очень много я трудилась над логическими ударениями и соблюдением знаков препинания — повышением и понижением голоса в соответствии с ними. Запятая — голос вверх, точка — голос вниз. Этим я занималась самостоятельно.
В год моего поступления в Студию занятия совпали с подготовкой к тридцатилетнему юбилею Художественного театра. Мне выпало счастье быть на обоих юбилейных вечерах.
В первый вечер чествовали юбиляров. На авансцене полуовалами были выгорожены как бы гостиные с парадной мебелью. С правой стороны от публики — президиум, возглавляемый A. В. Луначарским. Слева — пустующие кресла для юбиляров.
Сцена сияла светлым убранством и цветами, в центре сцены вверх уходила белая лестница, покрытая красным сукном, а по обе ее стороны рядами, как в амфитеатре, сидели вся труппа и весь состав работников театра. Нарядные, красивые, с цветами.
Когда открыли занавес и прогремели аплодисменты, президент Академии наук академик П. С. Коган попросил пригласить юбиляров.
Откинулись портьеры на верху лестницы, и под звуки фанфар первыми вышли те, кто служил в театре с основания: портные и портнихи-одевальщики, гримеры и парикмахеры, бутафоры и гардеробщики, рабочие сцены и все те, кто не виден зрителям, но участвует в создании спектакля. После них шли «молодые» артисты (юбилярами считались пришедшие в театр до 1902 года включительно) — Ф. В. Шевченко, Л. М. Коренева и другие. Потом появились первые «старики»: О. Л. Книппер и И. М. Москвин, М. П. Лилина и В. И. Качалов. Кто шел в паре с Л. М. Леонидовым и B. В. Лужским — не помню. Овации все увеличивались. И наконец показались Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко.
Зал и все сидящие на сцене с самого начала стоя гремели аплодисментами, а при появлении основателей, как могучий обвал, покрывая звуки фанфар, аплодисменты смешались с криками благодарности и приветствий.
Мне и многим из молодых студийцев разрешили сидеть на корточках или стоять на коленях между рядами бельэтажа (лестничные ступеньки были более привилегированными местами). И никто из сидящих на своих местах не роптал из-за такого «уплотнения»!
Много времени спустя Федор Михальский совершенно серьезно вспоминал, как он боялся, что бельэтаж и ярусы не выдержат.
Конечно, в ложе было правительство. Начались приветственные речи, Константин Сергеевич благодарил правительство и всех, кто помогал создавать театр и кто участвовал в строительстве его здания. Он попросил почтить память всех ушедших, в том числе и Саввы Морозова. И ложа встала.
Потом Владимир Иванович говорил о наследниках, о втором поколении — о молодых, которые понесут дальше знамя театра.
Все это продолжалось долго, но промелькнуло как один миг.
Зрительный зал блистал дамскими туалетами, смокингами и даже фраками. Это были артисты, художники, музыканты, ученые — весь свет (без иронических кавычек). В нижнем фойе потом состоялся банкет (о нем мы услышали от наших педагогов — почетных гостей юбилея).
Через день было продолжение юбилея — играли отдельные сцены и акты. В начале вечера Москвин — «Царь Федор». Позднее он же — «Братья Карамазовы». Качалов — «Гамлет» в его собственной композиции. Леонид Миронович Леонидов в тот юбилейный вечер буквально ошеломил Митей Карамазовым. Было так жутко, так жаль его, могучего, одержимого, любящего и невиновного. Я, как сейчас, слышу его стон-протест из-за ширмы, где его переодевали: «Узко-о!»
После антракта «старики» — первый состав «Трех сестер» — играли 1-й акт: Маша — О. Л. Книппер-Чехова, Вершинин — К. С. Станиславский, Кулыгин — В. В. Лужский, Тузенбах — В. И. Качалов, Соленый — Л. М. Леонидов и Наташа — М. П. Лилина.
Открытие занавеса встретили овацией, а выход Станиславского — таким громом, стоя, что надолго задержали действие. А когда буквально выпорхнула Лилина — Наташа, в зале ахнули и опять долго не давали им говорить.
Какой же щедрый подарок сделали нам «старики» и какой дали великий урок «жизни человеческого духа на сцене»!
…После большого антракта шла «Колокольня» из «Бронепоезда 14–69», и никто в зале не знал, что Константин Сергеевич долго был без сознания. Вот почему после «Сестер» поклонились только один раз. Он, говорили, упал тут же, на сцене. За кулисами была паника. Ф. Н. Михальский осторожно, чтобы не заметили, пригласил двух знаменитых профессоров — Фромгольца и Маргулиса, бывших на юбилее. Они так и не вернулись на свои места.
Константина Сергеевича увезли домой, конечно, и Марию Петровну тоже. Профессор Маргулис провел у постели Константина Сергеевича почти всю ночь, а утром был созван консилиум. Официально у него признали тяжелый приступ «грудной жабы», а по теперешним понятиям, у него был обширный инфаркт, осложненный впоследствии двухсторонним воспалением легких.
Только по окончании «Колокольни», которую играли как-то отчаянно отважно (ею кончался юбилейный вечер), кто-то из публики узнал о случившемся несчастье, а после узнали и все.
С того вечера Константин Сергеевич никогда больше не играл на сцене. Нас несколько дней не пускали к Зинаиде Сергеевне. В Леонтьевском доме была тревожная тишина.
Через некоторое время наши занятия возобновились, но как бы «под сурдинку». С Владимиром Сергеевичем занятий не было, чтобы звуки рояля не тревожили Константина Сергеевича. Болезнь его протекала трудно, в какие-то дни состояние бывало критическим, и тогда наши занятия отменялись.
В такие вечера мы, тихонько перешептываясь, сидели на лестнице на большом деревянном рундуке
[3]. Никому не хотелось уходить из этого ставшего таким дорогим дома.
Страшно было и за Зинаиду Сергеевну, и за Владимира Сергеевича — в таком тревожном и подавленном состоянии они находились, а весь подвальный этаж, где жили оперные студийцы, словно вымер — так тихо там стало.
Зинаида Сергеевна жила в просторной светлой комнате с окнами в сад, задняя часть которой отделялась деревянной перегородкой вроде забора — там она спала, а в передней части комнаты стоял большой стол, где мы и располагались. Вокруг было множество всевозможных вещей, некоторые из них лежали на резных старинных табуретах. Повсюду книги. На подоконниках — какие-то мелочи вперемешку с цветочными горшками и посудой. По углам — сундучки-укладки, на стенах — фотографии, а на самом видном месте — пришпиленный прямо к стене английской булавкой большой конверт с надписью: «На случай моей смерти».
Поначалу обстановка комнаты и особенно конверт на стене отвлекали внимание, хотелось все рассмотреть. Но потом я привыкла и вместе с остальными учениками потихоньку посмеивалась над «порядком» в комнате нашей учительницы.
…Теперь в этой комнате начало экспозиции музея — история рода Алексеевых. В нынешнем доме-музее К. С. Станиславского все в идеальном порядке, а в те далекие времена было не совсем так. Порядок соблюдался в парадных сенях, где черная печь и мраморный стол (только бюста Константина Сергеевича тогда не было). В Онегинском зале стояли разрозненные стулья и несколько разных кресел. В кабинете Константина Сергеевича на диване за круглым столом не было чехла. На спинку дивана булавками прикалывалась простыня, иногда с аккуратной заплаткой, видневшейся над головой или около прекрасного лица нашего великого Учителя.
В остальных комнатах было сумбурно.
Мария Петровна любила писать письма, сидя в постели, — она поздно вставала. В двух ее маленьких комнатках все было вперемешку — книги, папки с записями, очень много писем, плетеные рабочие корзиночки с нитками, вышиванием, пузырьки с лекарствами и длинными на них рецептами. На старинном туалете — увеличенная фотография в раме молодых Марии Петровны и Константина Сергеевича из-под венца и тут же папки с записями, очевидно, для Константина Сергеевича.
Мария Петровна Лилина была тончайшая, величайшего таланта и огромного диапазона артистка. Ей одинаково были доступны самые разные роли — от трагических до остро комедийных, но, будучи женой Константина Сергеевича, она всегда была как бы немного отодвинутой в Художественном театре. Константин Сергеевич ставил жену в положение рядовой артистки. Такой была их необыкновенная скромность. Это был вопрос чести семьи Станиславских.
Мария Петровна была самой верной ученицей своего гениального мужа и помощницей в создании его Системы. Иногда она даже как бы «подставляла» себя, задавая Константину Сергеевичу вопросы для того, чтобы актеры еще раз услышали и поняли его объяснения.
…Но вернусь к послеюбилейным дням, очень напряженным от страха за Константина Сергеевича.
Когда ему становилось лучше, он тут же включался в работу Художественного и Оперного театров. Постельный режим не позволял прямого общения: у Константина Сергеевича теперь бывали только врачи и самые близкие.
Но, несмотря на строжайший режим, он довольно много говорил по телефону (отводная трубка была у постели), писал деловые письма и свои распоряжения для Художественного театра, а о том, что происходит в Оперном театре, узнавал через брата и сестру.
Константин Сергеевич очень волновался за работу над «Борисом Годуновым». Иногда потихоньку от врачей начиная работать над эскизами для «Пиковой дамы».
Две очень важные главы из его книги «Работа актера над собой» — «Общение» и «Эмоциональная память» — были написаны еще до болезни, но он продолжал вносить в них поправки.
Эта работа имела прямое отношение к нашим занятиям. Зинаида Сергеевна, бывая у Константина Сергеевича, тщательно записывала все услышанное и потом работала с нами на основе этих записей. Нас, конечно, в период болезни к нему не пускали.
Наша маленькая группа к тому времени уже вкусила счастье встреч с Учителем. Через безумное волнение и скованность страхом мы старались понять, казалось бы, простые задачи, и иногда это нам удавалось: увидеть, услышать партнера, «пропустить через себя» и ответить. Это были этюды на общение, самые вроде бы несложные, но как же трудно было убедить Константина Сергеевича в правде того, что мы делали!
Чаще он бывал недоволен нами, и тогда звучало его убийственное: «Не верю!» Но иногда, ухватив какое-то мгновение правды и видя, как Константин Сергеевич всем своим существом помогает не потерять эту правду, а развивать ее и довести до логического конца, мы бывали счастливы.
В такие минуты те, кто не был занят в этюде, неотрывно смотрели на лицо Учителя — в нем все отражалось и становилось понятным без слов.
Константину Сергеевичу становилось то лучше, то наступало резкое ухудшение, и тогда около него круглосуточно дежурили врачи.
Накануне Нового, 1929 года заболела Мария Петровна. Чрезвычайное напряжение физических и моральных сил на протяжении последних месяцев свалило ее. Обо всем этом рассказывается в четвертом томе «Летописи жизни и творчества К. С. Станиславского». Мне же хочется привести небольшую выдержку из письма Ольги Сергеевны Бокшанской от 2 января 1929 года, помешенного в той же летописи.
Здоровье, пишет она, «начало было улучшаться, теперь снова внушает опасения. Последними неутешительными сведениями очень взволновался Вл. Ив. (Немирович-Данченко. —
С.П.), который трогательно и глубоко переживает болезнь Константина Сергеевича.
Со времени болезни Константина Сергеевича вся жизнь театра окутана, как сказал вчера на встрече Нового года Вл. Ив., дымкой печали, грусти, опасений»
[4].
Наши занятия у Зинаиды Сергеевны в начале 1929 года как-то тускло отражаются в памяти. Все те же разборы по задачам и «задачкам» басен и отрывков из прозы Тургенева, Бунина, других писателей. Наша маленькая группа была какой-то инертной. Все мысли были о другом: что там, в нижних комнатах? Да и Зинаиде Сергеевне было не до нас.
Мы часто ходили в оперный на сценические репетиции «Бориса». Так как мы были «леонтьевскими», нас пропускали свободно.
Было очень интересно наблюдать, как в качестве режиссера работал Иван Михайлович Москвин. Особенно мы любили сцены кошмара. Замечательным Борисом был Николай Панчехин, кроме прекрасных вокальных данных, имевший и недюжинные актерские способности.
Москвин показывал, как Борис, пятясь от видения, споткнувшись о ножную скамеечку, пытается спрятаться за нее от призрака. Эта мизансцена, точно положенная на музыку, производила жуткое впечатление, и Панчехин в этой сцене был великолепен.
Николай Панчехин — один из любимых учеников Станиславского в Оперной студии. Партия Годунова была большой его победой, и, как мне помнится, Константин Сергеевич горячо одобрил эту его работу.
Очень хороша была М. С. Гольцина — Марина Мнишек. Она тоже получила одобрение Константина Сергеевича. Спектакль имел большой успех.
Так прошла зима, а в самом начале мая 1929 года Константин Сергеевич и Мария Петровна уехали в сопровождении врача за границу.
Примерно с марта возобновились наши занятия с Зинаидой Сергеевной. Мы «распахивали» тексты стихов Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина и других поэтов, следуя задаче Станиславского в работе с оперными студийцами над романсом: «Из восьми строк романса надо сделать драматическую повесть».
Занятия по ритмике с Владимиром Сергеевичем по-прежнему проходили в Онегинском зале под метроном и под рояль. Мы делали упражнения на оправдание позы (что и сейчас практикуется в нашей Школе-студии на первом курсе). Еще выполняли этюд «зверинец», когда можно было изображать любое животное, но так, чтобы легко узнавалось, «кто есть кто».
Я эти этюды не любила, стеснялась, но нашла выход: ложилась на пол боком, руки под щекой и на вопрос добрейшего Владимира Сергеевича «Кто вы?» отвечала: «Я рыба, а она спит». Владимир Сергеевич говорил о хвосте, плавниках и жабрах, а я нахально утверждала: «Но она же спит!»
Я никогда не вела дневников, о чем теперь жалею, и поэтому не могу точно назвать весь репертуар, над которым мы работали в отсутствие Константина Сергеевича. Но все, что связано с занятиями, запомнилось легко и навсегда.
Помнится, что с осени 1929 года мы с Зинаидой Сергеевной стали читать и разбирать по задачам — большим и малым — водевили «Спичка между двух огней» и «Лев Гурыч Синичкин». В «Спичке» я была занята, но эта работа меня «не грела», как тогда говорили, а скорее пугала. Я знала, какие требования Станиславский предъявлял к водевилю — его надо было переживать, как драму, даже «как высокую трагедию», а я не могла заставить себя поверить в те «предлагаемые обстоятельства», «зажить» в них, и могущественное «если бы» у меня не возникало. Я мучилась, мне было стыдно, но справиться с собой не могла — не умела.
В куплетах и танцах, которыми занимался с нами Владимир Сергеевич, я ощущала себя тяжеловесной, неуклюжей, и чувство неловкости меня не оставляло. Надо было быть «веселей», а мне было тоскливо. Для труднейшего жанра — водевиля — надо иметь особую, отважную веселость и умение очень серьезно шалить. Это особое актерское свойство, и не всем оно дано. Этим свойством виртуозно владели Михаил Чехов, Степан Кузнецов, Владимир Хенкин, а позднее Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Осип Абдулов. Может быть, и сейчас есть актеры, которым это хорошо удается.
По приезде Станиславских мы должны были сдавать работу над водевилями Константину Сергеевичу. Моими партнерами были Красюк, Кристи и Любимова. Для меня это была Голгофа.
Константину Сергеевичу, этому идеально непосредственному зрителю, на нашем показе было скучно, но он терпел, «закусывал» руку (была у него такая привычка), доносилось его «гм, гм», а незанятые студийцы видели его лицо… По окончании возникло долгое молчание, а потом: «Ну-с, что вы сейчас делали?» И далее последовало все то, о чем я уже упоминала. Мне кажется, грозного разноса не случилось потому, что Константин Сергеевич очень любил Зинаиду Сергеевну и берег ее самолюбие и гордость. С Владимиром Сергеевичем было легче, у него был замечательный, легкий характер. Думаю, что без нас между ними разговор был «конкретнее».
К концу 1929 года Зинаида Сергеевна решила делать инсценировку романа Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», взяв в основу линию Фленушки, то есть то, с чем я пришла в студию. Были скомпонованы три сцены: встреча Флены с Петром Самоквасовым, маленькая сценка с подружками-черницами и большая сцена с Игуменьей — решение Флены о великом постриге.
На роль Игуменьи была назначена Наташа Богоявленская, на роль Петра Самоквасова — Володя Красюк, а я была Флена.
Материал давал простор для фантазии и воображения. Старая Русь, лесной монашеский скит с его строгим укладом, с запретом всего мирского, тайная любовь, свидание с купеческим сыном… В этих «предлагаемых обстоятельствах» мне не было тоскливо, и «могущественное “если бы”» постепенно становилось реальнее. И еще очень манила прекрасная старинная русская речь, которой я уже свободно могла владеть.
Этой работой были очень увлечены и Зинаида Сергеевна, и все участники, остальные нам даже завидовали. Я много читала о том времени, о монастырской жизни. Мне помогало то, что я видела приблизительно таких монашек.
Еще во второй половине двадцатых годов на Никитской стоял женский Никитский монастырь. Ворота его выходили на Кисловский переулок, за невысокой оградой виднелись церковь, колокольня, трапезная и другие службы. Мы со школьными подружками любили заглядывать за эти ворота.
На Страстной (Пушкинской) площади на месте памятника великому Пушкину стоял женский Страстной монастырь, окруженный высокими стенами из красного кирпича с закрытыми воротами, за которыми шла своя таинственная жизнь. Позднее, когда я уже служила в театре, а Страстной монастырь снесли, бывшие монашки брали заказы на стегание одеял и разнообразные тончайшие вышивки для белья, носовых платков и дамских блузок. У меня до сих пор сохранились образчики их великолепного мастерства.
Зинаида Сергеевна очень интересно рассказывала о старине, о разбитых женских судьбах, похожих на судьбы Игуменьи и Флены, знакомила нас с церковными обрядами, учила, как надо двигаться, креститься, кланяться. После продолжительной «застольной» работы мы стали репетировать в Онегинском зале, где колонны были для нас деревьями. Репетиции проходили вечером, когда сцена, уже с приподнятым полом, бывала свободной от оперных репетиций. Одновременно с работой над этой ролью я старалась вникнуть в глубочайший смысл и красоту стихотворений Пушкина («У лукоморья дуб зеленый»), Лермонтова («Белеет парус одинокий»), Блока («Под насыпью во рву некошеном…»), Есенина («Шаганэ ты моя, Шаганэ…»). Это были мои первые попытки работы над стихом, конечно, под руководством Зинаиды Сергеевны. Но основные силы были все же направлены на роль Фленушки, чтобы оправдать надежды и доверие Зинаиды Сергеевны и не осрамиться перед Константином Сергеевичем.
Володя Красюк был очень похож на своего дядю Станиславского в молодости — фигурой, лицом, всем обликом. Но не талантом. Он был красив, хорошо воспитан, послушен, старателен. Иногда во время сцены он вдруг спрашивал: «Тетя Зина, я правильно делаю?» У Зинаиды Сергеевны раздувались ноздри, и она, сдерживая легкое раздражение, говорила: «Прошу продолжать».
Так до осени 1930 года моя жизнь была заполнена занятиями в студии, печатанием якобы нужных бумаг, за которые я получала (благодаря Енукидзе) как раз столько, сколько нужно было для оплаты занятий. Позднее, уже будучи в театре, я узнала, как много добра делал он не только для нас, но и для Художественного театра и его актеров: комнаты (тогда отдельных квартир почти не было), путевки, лечение, выезды «стариков» за границу для лечения и многое другое. Енукидзе очень любил театр и артистов. Он любил делать добро.
В свободное от основных дел время я довольно много ходила в Оперную студию Константина Сергеевича. Там все было «свое».
Как же Станиславский умел добиваться в опере живого общения, необыкновенной пластики, искренности! Иногда, например, в «Богеме» или в «Майской ночи», мизансцены строились так, что казалось — петь невозможно, а пели и были живыми людьми, и радостно было не только слушать прекрасное пение, но и участвовать в «жизни человеческого духа» на сцене.
У Константина Сергеевича не было разделения на солистов и хор. Солисты участвовали в хоровых ансамблях, а певцам хора, если оказывались хорошими голосовые и актерские данные, давали и сольные партии.
Летом 1930 года я гостила в Юхнове у дорогих мне Богдановичей. Старшие и мы, молодежь, пошли за грибами, и тут, в лесу, я сначала услышала знакомый голос, куда-то звавший своих спутников, а потом увидела и самого живого Лариосика — Яншина. Я так оторопела от этой внезапной встречи, что бросилась в сторону и пошла напролом к своим, чтобы поделиться этой сенсацией.
В ту пору Михаил Михайлович был худеньким, стройным, спортивным. Тогда в лесу он был элегантен не «по-грибниковски» — в белых брюках, светлой рубашке, с браслетом (вероятно, ручные часы) на очень красивой руке. Руки у него были прекрасные и сохранились такими до последних его дней.
Осенью 1930 года вернулись Станиславский и Лилина. Мы с трепетом ждали, когда дойдет до нас очередь и мы будем вызваны на высший суд.
Нашу работу по Мельникову-Печерскому Константин Сергеевич принял спокойнее, чем водевиль (о чем я уже писала), даже одобрил. Было много указаний Володе Красюку (мы показывали только сцены свиданий). Константин Сергеевич требовал от нас обоих большей органики и глубины. Говорил: «Надо больше любить». И объяснял, что любовь бывает «для себя» и «от себя» и что вторая — жертвенней, сильнее. Он согласился, что работу нужно продолжить, одобрил план инсценировки и предложил Зинаиде Сергеевне дать мне еще задание, другого плана. Я была и счастлива, и испугана ответственностью.
После довольно долгих раздумий Зинаида Сергеевна велела мне (а решала она) читать «Василису Мелентьеву» Островского. Василиса — вдова, очень опытная и смелая женщина, а кем я была тогда?.. Я понимала, что мне дают все очень «русское», чтобы искоренить мое «иноземное», и очень старалась. Начала читать о царствовании Ивана Грозного. Атмосфера совпала с «Царской невестой» и с «Борисом Годуновым».
В то довольно трудное время в моем гардеробе была одна юбка и две блузки — фланелевая и полотняная, которые всегда должны были быть свежими. Юбка висела на «плечиках», отглаженная с вечера, а дома я надевала что-то перешитое из маминого. И еще у меня было платье (тоже перешитое из маминого) для походов в театр.
Однажды со мной произошел казус. Из боязни измять юбку, я надевала ее в последний момент перед выходом в студию. В тот день я, очевидно, торопилась (об опоздании не могло быть речи) и, явившись в Леонтьевский, где на площадке лестницы, ведущей на антресоли, находилась вешалка для верхней одежды, расстегнула пальтишко и ахнула и остолбенела: на мне были только байковые голубые штаны.
Очень воспитанный Володя Красюк ждал, когда можно будет принять мое пальто, чтобы повесить на вешалку, а я в таком виде! На мое счастье, кто-то из девочек пришел раньше. Поняв, в чем дело, они выгнали вниз Красюка и, давясь от смеха, пошли к Зинаиде Сергеевне с рассказом. В результате меня облачили в юбку Зинаиды Сергеевны (она была мне до полу). Тут же мне было сказано, что надо привыкать к костюму и что с этого дня я всегда буду репетировать в таком виде. Так оно и было потом, а в тот момент Зинаида Сергеевна даже не улыбнулась.
Зинаида Сергеевна традиционно устраивала вечера-показы своих учеников. На такие вечера приглашались, конечно, Константин Сергеевич с Марией Петровной, кое-кто из Художественного театра, бывали и почетные гости, в том числе и Енукидзе.
В первый год моего обучения я не участвовала в таком вечере. Потом был юбилей театра, болезнь и отъезд Станиславских, а в их отсутствие никаких торжеств в студии не устраивали. И вот с ранней весны 1931 года мы стали готовиться к вечеру-показу.
Даже сейчас, спустя более шестидесяти лет, я помню мое волнение, доходящее до паники. Вечер был назначен на двадцатые числа мая. Открываться он должен был инсценировкой романа «В лесах», где я все время на сцене. Потом что-то из Пшибышевского — без меня, потом кто-то еще читал, и снова я — в роли Василисы Мелентьевой, с монологом «Задумала я думушку»…
К нам, «кружковцам-студийцам», очень хорошо относился Юрий Александрович Бахрушин — сын знаменитого основателя театрального музея. Он, кажется, заведовал постановочной частью оперного театра у Константина Сергеевича. Он обещал Зинаиде Сергеевне, что оденет нас, как надо. И правда, костюмы были замечательные. Для Флены — монашеский черный сарафан и все, что к нему полагалось: мягкие черные сапожки и белый платок с каким-то темным орнаментом, а для Василисы Мелентьевой он одел меня пышно — кика
[5], нарядный сарафан с расшитыми кисейными рукавами, летник из парчи, красные сапожки на высоких каблуках.
И вот настал этот торжественный для нас день. Ждали гостей из Художественного. Из моих близких должны были быть Богдановичи.
Заметно волновались Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич — это был и экзамен. А уж мы были почти без памяти от страха.
Одевали нас в библиотеке, примыкавшей к Онегинскому залу. Комнату разделили ширмой. Мы трясущимися руками помогали друг другу одеваться, а потом шли на последнюю проверку к Бахрушину. Мы все были без грима, только перед выходом Юра Бахрушин, благословляя нас, пудрил всех большой пуховкой.
Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич были уже с гостями.
Не помня себя, вбежала я на сцену и, по мизансцене, спряталась за дальнюю колонну. Первый ряд кресел и стульев был близко от сцены, и я увидела ноги: справа от себя какие-то элегантно обутые мужские, потом полные женские, еще маленькие, нарядные, Р. К. Таманцевой, секретаря Константина Сергеевича, — я их узнала. Длинные необыкновенно узкие черные ботинки Константина Сергеевича — вытянутые ноги и ступня на ступню — так он всегда сидел, пока был спокоен. Боже мой! Все это промелькнуло за секунды. Мне надо было произносить текст, начинать сцену с Самоквасовым — Володя сидел, прислонясь к дальней от меня колонне. И вот я вымолвила: «Соловушек Слушать? Опоздал, молодец, смолкли соловушки — Петров день на дворе».
Что я делала дальше, было как во сне. Уж очень страшно. Но нам уже тогда внушали, что волнение надо направлять на роль, иначе будет просто паника. Может быть, это и выручило. В зале было тихо. Когда я выбегала со сцены, чтобы тут же вернуться обратно, меня судорожно поглаживали и шептали что-то ободряющее.
Но вот кончились все сцены из Печерского, и мне можно было перевести дух, но тут же был приказ Бахрушина переодеваться на «Мелентьеву». Весь монолог в стихах, а повторить — нет сил. Одели меня, скоро выходить на сцену, а я чувствую, что меня тошнит — вот-вот я осрамлюсь. Бахрушин стоял рядом, взял меня за плечи, сильно встряхнув, прошептал: «Глупости!» И еще: «Воды не дам». Он стал хлопать меня по щекам и пудрить.
От исполнения монолога в памяти осталось, что стояла я, опершись о колонну, и читала в зал, глядя на окна и почти не видя их.
По окончании было довольно шумно в фойе-гостиной. Нам выходить в костюмах в публику не разрешалось. Приходили «за кулисы» Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич, что-то говорили ласково. Зашла Маргарита Георгиевна Гукова — поцеловала меня. Вся наша «команда» сидела за ширмой в тревожном ожидании — что скажет Сам?
Когда гости разошлись, а мы, переодевшись, поднялись к Зинаиде Сергеевне в ее комнату, она стала нам рассказывать, что из театра были Е. С. Телешева — актриса и режиссер, Н. А. Подгорный, Р. К. Таманцева, еще назвала кого-то, сейчас не помню, а среди почетных гостей был Авель Сафронович Енукидзе. Говорила Зинаида Сергеевна долго, за что-то хвалила, а за что-то порицала, это относилось ко всем участникам. О Константине Сергеевиче сказала, что он будет говорить с нами сам, но, кажется, он доволен. Отпуская нас, Зинаида Сергеевна сказала, что соберет через дня три, а точно сообщит через Володю Красюка. Мы, «артисты», еще долго шептались, сидя на рундуке в «холодных» сенях, а потом пошли провожать друг друга.
Я в то время уже жила с мамой и братом на Покровке, угол Лялиного переулка, в маленьком трехэтажном доме, где на каждом этаже было по одной трехкомнатной квартире. Мы занимали две комнаты, а в третьей жила большая семья, тоже переселенная из Шереметевского переулка. Меня проводили до трамвая «А» — он ходил по Бульварному кольцу и доезжал до Покровских ворот.
Дома меня расспрашивали, но я была так взволнована и измучена, что вразумительно рассказать ничего не могла, только потрясла всех сообщением, что приходил дядя Авель. Маме хотелось, конечно, тут же обсудить все с Богдановичами, но у них, как и у нас, не было телефона.
Уже на следующий день к вечеру под моим окном возник Володя Красюк и сообщил, что завтра к шести часам вечера я должна быть у Зинаиды Сергеевны, чтобы к семи часам явиться к Константину Сергеевичу по его вызову. Сердце у меня оборвалось от страха и от недоумения: за что, в чем я провинилась? Володя ничего не мог мне объяснить.
В назначенное время, чисто вымытая, в наглаженной блузке и начищенных туфлях, я явилась к Зинаиде Сергеевне. Встретила она меня очень сдержанно, сказав, что Константин Сергеевич пожелал послушать, как я читаю, и, приказав мне вспомнить и по возможности повторить все стихи, над которыми мы работали, вышла из комнаты, оставив меня одну. В голове у меня все смешалось, я пыталась повторять то одно, то другое. И казалось, что я не помню ничего. Что греха таить, мы очень боялись Станиславского. Ведь Константин Сергеевич мог быть и очень грозным, его гневные глаза могли испепелить.
Так я и промаялась, ничего толком не повторив. Еще мешала мысль: для чего Он зовет и почему так сдержанна и сурова Зинаида Сергеевна? Но вот она вернулась и, сказав «пойдемте», повела вниз, как на казнь! Спустились, вошли в коридорчик. Вот она, низкая массивная дверь с поперечными медными полосками и с большим тяжелым кольцом вместо ручки… Я стояла как вкопанная. Зинаида Сергеевна постучала. Раздался его голос: «Войдите!» А я боюсь двинуться… Что-то прошептав, Зинаида Сергеевна толкнула дверь, и мы вошли.
Константин Сергеевич сидел на диване за круглым столом, на столе лампа с зеленым абажуром-козырьком, книжка, бумаги сложены, на них карандаш, вазочка с веткой сирени, на блюдце стакан с водой, накрытый белой аккуратной бумажкой. Лицо суровое, глаза пристальные, обычное — «общий поклон» (кажется, я со страху сделала книксен). «Садитесь». Зинаида Сергеевна села, а я продолжала стоять. «Ну-с, где вы учились до нас?» Я прошептала: «В школе». — «Я говорю о специальном образовании», — услышала я и в страхе, без голоса, прошептала: «Нигде». После мучительной паузы: «С чего хотите начать?» Я молчала. Голос Зинаиды Сергеевны: «”Желанье славы”. Сосредоточьтесь, не спешите».
И я начала: «Когда любовию и негой упоенный…», потом «На смерть поэта», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Под насыпью, во рву некошеном», «Россия, нищая Россия», «Девушка пела в церковном хоре», «Эх, вы сани, а кони, кони!», «Отговорила роща золотая» — Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. Как я все это читала? И как вообще выдержала? Смотреть на Константина Сергеевича я не могла; перед чтением увидела, что рука козырьком над глазами — это плохой признак. Обращалась я к Зинаиде Сергеевне, и какой Он был все это время — не видела. Наконец прекратились приказания, и я замолчала, тупо уставясь в пол.
От Константина Сергеевича я услышала что-то вроде: «Ну, ну, увидим» и еще что-то совсем тихо. Потом, чуть привстав, он произнес то ли «Всех благ», то ли «Всего наилучшего». Но все сурово, неласково, совсем не так, как на занятиях.
Мы вышли в парадный вестибюль. Зинаида Сергеевна, строго глядя на меня, сказала: из Художественного театра сообщили, что я допущена к прослушиванию и что меня известят. Еще она сказала, что я, наверное, думаю, что всему научилась, говорила о необходимости быть к себе требовательной… Она была очень ревнива — наша «Баба Зина», и не очень охотно отпускала учеников. Например, Н. Богоявленская начинала в студии гораздо раньше меня, а в Художественный театр поступила на несколько лет позднее.
Я была очень растеряна от суровости Константина Сергеевича и от строгих слов Зинаиды Сергеевны. Только потом я уразумела, что так проявлялись их требовательность и ответственность за студию, за свой метод.
Отпуская меня, Зинаида Сергеевна рекомендовала «все вспомнить, все проверить и ждать»!
Сколько дней я ждала в непрерывном страхе, точно сейчас не вспомню, но 27 мая к вечеру под окном у меня опять появился Володя Красюк и сообщил, что на следующий день, 28 мая, к 12 часам я должна быть на Малой сцене для экзамена. У меня тут же от страха сел голос, и я стала сипеть. Володя сказал, что решили (кто — я не спрашивала) показывать сцену Флены и Самоквасова и потом читать, что прикажут. Сказав, что он за мной заедет, Красюк убежал.
В доме началась паника (к тому времени мне из папиных черных брюк и старого серого пиджака соорудили платье — довольно приличное, по тогдашней моде — длинное, как теперь называют, «миди», с белым воротником и манжетами), мытье головы и почти бессонная ночь.
Утром зашел Володя, и мы отправились. Малая сцена — чудесный, старинный особняк, приспособленный под театр. Широкая деревянная лестница в два марша, а внизу у лестницы — деревянный рундук, совсем как в Леонтьевском, только меньше. Володя побежал наверх и скоро вернулся, сказав, что идет просмотр самостоятельных работ молодых артистов Художественного театра, а после окончания будут слушать меня.
Сколько мы сидели на этом рундуке в ожидании — не знаю, казалось, целую вечность. Но вот послышался говор, смех — по лестнице спускалась довольно большая группа нарядно одетых молодых людей, актрисы — в крепдешине, в лакированных туфлях, кто-то был узнаваем, но я сидела в остолбенении.
И в этот момент, перегнувшись с верхней площадки, Евгений Васильевич Калужский (я его узнала По «Турбиным») произнес: «Софья Станиславовна, пожалуйста, сюда». Господи! Артисты замолчали, остановились и, отступив, дали мне дорогу. И я пошла. Красюка многие знали. Он был свой, из вспомогательного состава. Его о чем-то спросили и тут же повернули за нами наверх.
В дверях одного из фойе нас встретил мужчина с военной выправкой. Хлопнув Володю по плечу, с полупоклоном сказал мне: «Просим подождать здесь, идет
обсуждение, я за вами приду». (Это был один из лучших помощников режиссера — Сергей Петрович Успенский, в прошлом офицер царской армии. Впоследствии мы с мужем дружили с ним.) Через какое-то время он вернулся: «Прошу пройти за мной. Что приготовить из мебели?» Вошли в самое большое фойе Малой сцены, и я увидела у противоположной стены два ряда кресел. Постепенно они стали заполняться. Здесь были почти все «старики», только без Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. А также большая группа актеров, которые встретились нам на лестнице.
Довольно скоро вошел пожилой плотный человек с головой патриция. Сдержанный гул смолк.
Для нас поставили два стула рядом — как на эшафоте. С. П. Успенский шепнул мне: «Подойдите, это Василий Григорьевич Сахновский». Я двинулась к нему, не помня себя, и услышала барственный голос: «Благоволите назвать, что вы нам покажете». Ответил за меня Володя. И Сахновский молвил: «Прошу».
Что я делала в сцене свидания Флены с Самоквасовым, я сейчас сказать не смогу, все помнится как в тумане. Кончили. Я жду: сейчас велят стихи читать. И вдруг слышу: «Благоволите завтра в двенадцать часов быть в конторе Федора Николаевича для встречи с Евгением Васильевичем Калужским — за ответом». «А читать?» — спросил Володя. «Не надо. Завтра в двенадцать. Благодарю». И Успенский вывел нас из зала.
Мы вышли на площадь с памятником Свободы, где сейчас стоит Долгорукий, и поплелись в Леонтьевский к Зинаиде Сергеевне, Она была заметно взволнована, подробно расспрашивала. Отвечал Володя, а я еле сдерживала слезы и меня слегка мутило.
Рассказ Красюка Зинаида Сергеевна слушала очень внимательно. Когда мы уходили, она сказала: «Завтра сразу приходите ко мне». И мы опять поплелись — на «Аннушку» и ко мне домой, там Красюк сдал меня маме.
Замечательный был человек — мой партнер Володя Красюк! Он был так внимателен и заботлив, так поддерживал меня во время всех моих испытаний! Года через три Володя умер от туберкулеза, как многие из Алексеевых. Умирал очень тяжело, но кротко, все о себе зная. Светлая ему память. Слава Богу, что его мать, Анна Сергеевна Штекер, умерла внезапно — во сне, не дожив до кончины своего любимого сына.
Жил Володя с матерью и сестрой Людмилой, о которой я уже рассказывала, в Брюсовском переулке, в доме наших «стариков», где сейчас мемориальные доски В. И. Качалову, Л. М. Леонидову и Е. В. Гельцер. Одну из квартир этого дома Константин Сергеевич предназначал дочери Кире Фальк, которая долго жила с дочкой Килялей во Франции, и вот временно эту квартиру отдали Штекерам. Беспорядок в квартире был отчаянный: например, почему-то абажур заменял старый зонтик, два стула всегда лежали кверху ножками на секретере и т. п.
Я довольно хорошо знала всю эту семью и даже бывала на даче в знаменитой Любимовке. В то время некоторые из Алексеевых еще переезжали на лето в Любимовку, в большой барский дом с несколькими террасами и двумя галереями, которые оканчивались флигелями. На даче справляли именины Володи, кажется, в 1930 году, и я тоже была приглашена. Хорошо помню «кукушку» — маленький паровозик, ходивший по одноколейке и довозивший до Любимовки.
Итак, 29 мая 1931 года, задолго до назначенного времени, в наглаженной блузке, с пальто на руке (уж очень было старенькое) я вышла из дому. Вначале бродила по улицам, чтобы прийти точно, и без каких-то минут до назначенного времени ступила во двор театра, откуда был вход в контору.
Раньше мне в конторе бывать не доводилось. Ступеньки на крыльцо, дверь, дальше опять — вниз. Маленькое помещение: стол, за ним у телефона два человека напротив друг друга. Затем вешалка для пальто и ход в знаменитую контору Федора Николаевича Михальского (в «Театральном романе» Булгакова — Фили). Направо от входной двери узкая лестница в медицинскую часть — царство доктора Иверова, а напротив стола — три ступеньки в бельэтаж, где в то время был гардероб для публики.
Войдя и со страхом уставясь на сидевших у телефонов, я вымолвила, что вызвана к Калужскому.
Меня провели в гардероб, через стеклянные двери которого был виден заветный круглый коридор, с полом, затянутым солдатским сукном, по которому бесшумно ходили какие-то люди. Провожатый предложил мне сесть, быстро ушел к телефонам и, очень скоро снова возникнув, сказал: «Сейчас выйдут». Я замерла.
Через минуту из больших, застекленных квадратиками дверей появился Евгений Васильевич, поздоровался со мной за руку и сказал: «Поздравляю, есть решение принять вас во вспомогательный состав Художественного театра с окладом сорок рублей в месяц. Сбор труппы двадцать восьмого августа, следите за расписанием. На днях театр уезжает на гастроли в Ленинград. Еще раз поздравляю!»
Я пыталась найти слова благодарности, но, очевидно, очень нескладно, так как Евгений Васильевич произнес: «Да, да, всего хорошего». Не помня себя, я вышла из конторы и, ликующая, понеслась к Зинаиде Сергеевне в Леонтьевский. Приняла меня Зинаида Сергеевна ласковей, чем раньше. Она говорила о чести, которой я удостоилась, и просила не уронить достоинства студии и учения Константина Сергеевича.
Константин Сергеевич должен был ехать в Ленинград вместе с театром, но врачи запретили, и он, оставшись в Москве, много работал в Оперном театре над «Золотым петушком».
В то лето заканчивалась застройка дач на Николиной Горе. Там были выделены большие земельные участки артистам, писателям, художникам, ученым и другим уважаемым людям. Сейчас до Николиной около часу езды на машине, а тогда… поездом до Перхушкова, а от станции — на лошади, в пролетке, а чаще в телеге — 14 километров. Тогда кооперативный поселок «Николина Гора» был небольшим и очень лесистым. Необыкновенно красиво раскинулся он на высоком берегу Москвы-реки.
У дорогих моих Богдановичей тоже достраивалась дача в этом чудесном месте. К тому времени у моей подружки Тани уже был малыш. Меня пригласили на два-три дня в гости. Их дача была рядом с дачей Качалова, даже забора не было. И так случилось, что Вадим Васильевич Шверубович зачем-то забежал к ним. Нас познакомили и сообщили при этом, что я в мае выдержала экзамен и принята в Художественный театр.
Вадим Васильевич — легкий, стремительный, порывистый, стройный, очень светлый блондин — излучал доброжелательность, остроумие, предупредительность. Я смотрела на него во все глаза — сын Качалова!
Уж не помню, как, но он решил: если я принята в театр, то меня необходимо представить Нине Николаевне и Василию Ивановичу. И вот мы идем по тропинке, соединяющей дачи. Вадим Васильевич рассказывает мне, что у них еще не дача, а изба-пятистенок, недостроено крыльцо и нет террасы. Я слушала не очень внимательно — волновалась: сейчас увижу Качаловых.
Нина Николаевна была в доме, а Василий Иванович сидел в «саду». Сада тоже еще не было: сосны, березы, кусты. Сидел Василий Иванович на каком-то строительном материале.
Встретили меня ласково. Помню, меня удивило, что Вадим Васильевич называл отца Васей. Нина Николаевна говорила с нами из окна, меня узнала по весеннему экзамену, о чем-то спрашивала, звонко, весело смеялась.
Потом, очарованную таким знакомством, Вадим Васильевич препроводил меня к Богдановичам.
Это была моя первая встреча с Вадимом Васильевичем Шверубовичем. Потом был большой перерыв — Шверубович тогда работал в Ленинграде у Акимова. Осенью, кажется, 1932 года Вадим появился в Художественном театре в должности заместителя заведующего постановочной частью, то есть заместителем Ивана Яковлевича Гремиславского.
С тех пор началась наша дружба с Вадимом.
Часть III
1931–1941 годы
В конце августа я пришла на сбор труппы и, трясясь от волнения, сидела в зрительном зале у входа в амфитеатр, ожидая вызова к режиссерскому столу для представления присутствующим — всем, кого я до этого дня видела только издали или знала понаслышке. Они и те, кто невидим зрителям, и составляли Художественный театр.
Когда заполнился партер, ко мне подошел Михаил Михайлович Яншин, представился, напомнив нашу встречу в лесу, сказал ободряющие слова (теперь уж не помню, какие) и в этот страшный для меня момент взял меня под свою опеку.
В те годы молодых людей, принятых в театр, при первом знакомстве не встречали аплодисментами, как теперь (за что?), а пристально рассматривали, вежливо приветствуя кивком головы. Это теперь на сбор труппы приходят далеко не все актеры, а тогда в зрительном зале бывал весь состав театра, поэтому путешествие к столу, где зав. труппой называл твое имя, для нас, новичков, было большим испытанием. (И я всегда буду благодарна Михаилу Михайловичу Яншину за помощь в тот трудный день.)
Сезон открывали 1 сентября «Воскресением». Этот спектакль обычно играли два дня подряд — так было легче Василию Ивановичу Качалову, выступавшему в сложнейшей роли — «от автора».
После торжественных речей во время сбора труппы ко мне подошел старший помощник режиссера Николай Николаевич Шелонский и повел меня в репертуарную контору. Шли мы по заветному коридору, затянутому серым сукном, к директорской ложе и дальше, между декорациями по узкому проходу, где на сцену и во двор вели небывалой высоты двери, — в закулисную часть. Здесь внизу была служебная дверь во двор, на которой висела табличка с надписью «Посторонним вход воспрещен».
Репертуарная контора и женские гримуборные были на втором этаже, куда вела лестница в два марша. Между первым и вторым этажами на площадке вывешивали во всю стену расписания репетиций, составы спектаклей, репертуар, все распоряжения, приказу и благодарности.
В репертуарной конторе тогда царили три дамы: Анурина, Чуйкова (жена И. М. Раевского), а также машинистка Н. Н. Шелонская.
Николай Николаевич представил меня. Мне было сказано, что я должна быть в зрительном зале на репетициях народных сцен в «Фигаро» и очень внимательно следить за всем, что вывешивается на доске. Сегодня я вызываюсь для встречи с Евгенией Николаевной Морес на предмет ввода на роль ребенка в сцене «Этап» (спектакль «Воскресение»), В день спектакля я должна внимательно следить за сценой «Посетители в тюрьме», а потом быть готовой к «Этапу». Пропуск на спектакль мне даст Федор Николаевич Михальский.
Очень скоро появилась Евгения Николаевна Морес и увела меня в дальнюю женскую гримуборную, где сначала сама кричала ребенком, а потом слушала, как орала я, от старания спускаясь до баса. Но через некоторое время я уразумела, что от меня требовалось, и дело пошло на лад. Евгения Николаевна Морес замечательно играла мальчишку в картине «Деревня» в этом же спектакле.
Три дня до открытия сезона я ходила на все репетиции, проходившие на сцене, и, сидя в полутемном зрительном зале, не верила, что скоро и я буду стоять там.
1 сентября, за полчаса до начала, я была в конторе у Федора Николаевича Михальского и никак не могла пробиться сквозь толпу жаждущих. Я видела, как за пропуск люди протягивали рубль, и, когда меня наконец «прибило» к заветному барьеру, я тоже протянула рубль, увидела смеющиеся глаза Михальского и услышала серьезный голос: «Вы же служите у нас, зачем же деньги? By компрэнэ?»
«Воскресение» я уже видела, но в этот особый для меня вечер сердце у меня прыгало, когда я села на ступеньки бельэтажа. Мне указали, за кем из тюремных посетителей следить. В антракте перед четвертым актом я была за кулисами на женской половине. Вскоре пришла Морес и повела меня на сцену, где за декорацией я должна была «играть» свою первую роль. Она точно указала мне место и после каких слов и действий на сцене я должна начинать крик. Затем она опять отвела меня на женскую половину, сказав, что еще рано — кричать надо в самом конце спектакля.
Мне все казалось, что я могу опоздать. И вскоре после начала последнего акта я на цыпочках пошла по лестнице к сцене и увидела Василия Ивановича Качалова, сидящего на диване под зеркалом у дверей, ведущих на сцену, а вокруг него на полу и на ступеньках лестницы — толпу «кандальников», занятых в «Этапе». Я невольно остановилась, не зная, куда ступить. Меня заметили. Василий Иванович, наклонясь к кому-то, о чем-то тихонько спросил и вдруг обратился ко мне: «Софья Станиславовна, пожалуйте к нам, вам еще рано». Я не уверена, что Василий Иванович узнал меня, но такими они были — наши драгоценные «старики». Конечно же, он хотел меня ободрить, понимая мое состояние. Не помня себя, я присела на краешек дивана. Они очем-то разговаривали, но больше слушали Василия Ивановича. Раза два он сказал мне: «Вам еще рано, не спешите, сначала я пойду, а вы — с ними». (Василий Иванович был занят со второй половины акта, все самое трудное он уже сыграл и теперь мог немного передохнуть.) Я боялась на него смотреть, но все-таки увидела, что стекла пенсне обведены серо-голубой краской, грима-тона на лице не было.
Василий Иванович пошел на сцену, «кандальники», взяв меня под свою опеку, проводили к моему месту. Я замерла. Наконец началась сцена, где мне надлежало вступать, слышался голос Еланской — Катюши: «Позвольте, я понесу девочку». Я продолжала кричать, скулить и всхлипывать вплоть до слов «Партия, марш!» Началась песня, потом заключительные слова Качалова: «Все чаще вспоминались слова Катюши: “Уж очень обижен простой народ”».
Какие-то секунды в зале стояла тишина, и — как взрыв — аплодисменты!
…Выйдя во двор театра через заветную дверь, я остановилась, не веря, что сейчас была там, на сцене, где творилось великое искусство Художественного театра.
Этот спектакль заканчивался в первом часу ночи, но никто не бежал в гардероб, не было громких разговоров. У ворот, как всегда, стояла большая группа людей, ожидая выхода актеров: Качалова, Еланской, Ершова, Хмелева (он играл эпизод в сцене «У политических»).
Я ехала домой на трамвае «А», и мне все казалось, что люди должны узнавать меня — я же причастна!
На следующий день я вышла и в «посетителях» тюрьмы. Тут уж гордости моей не было предела!
На Малой сцене Художественного театра уже не первый год играли комедию Валентина Катаева «Квадратура круга». С I сентября некоторые спектакли Малой сцены шли в помещении Вахтанговского театра, коллектив которого был на гастролях. Все спектакли перед открытием сезона тщательно проверялись. Репетиции «Квадратуры круга» вел Николай Михайлович Горчаков.
Исполнителями были: Тоня — Титова, Ольшевская; Людмила — Бендина, Лабзина; Вася — Грибов, Дорохин; Абрамчик — Грибков, Раевский; поэт Черноземный — Ливанов.
Меня вызвали следить за третьим актом (я думала — на будущее). Как вдруг слышу от Горчакова, что мне поручили выход с репликой: «Я категорически протестую против алкоголя в комсомольской среде!».
На двух репетициях я судорожно, но, как мне казалось, внятно произнесла этот «монолог». Именитые артисты обоих составов смотрели на меня с любопытством, и, конечно, было страшно.
На спектакле, выйдя на сцену с остальными «гостями», я здоровалась и одновременно со всеми что-то говорила. Когда же подошла очередь моего «монолога» и я его произнесла, М. Титова, стоявшая близко, шепнула: «Не слышно!» И тут же я услышала шепотом скороговорку Грибова: «Не мешай!» И мне: «Повтори, девочка». Я в отчаянии, почти со слезой, прокричала свой «монолог» и услышала смех в зале.
Спустя время я уже сама играла Тоню и бывала партнершей Алексея Николаевича Грибова. Мы с ним были очень дружны до самого его конца. Ту первую его ласковую помощь мне, напуганной и робкой, я буду всегда помнить.
Так начался мой первый сезон служения во МХАТе — ответственный, так как в театре не было «пустяков и мелочей» и молодежь была занята с 9 часов 30 минут утра и иногда до самого конца вечернего спектакля. Для нас, новичков, утро начиналось с тренировки: танец, гимнастика, голос — все это происходило до начала репетиций. Конечно, мы уставали, но какая же то была прекрасная пора! Были живы и в зените славы почти все «старики» первого поколения.
В сентябре 1931 года Константин Сергеевич с Марией Петровной впервые после болезни и лечения приехали в театр. У входа в контору их ждали «старики», чтобы проводить в зрительный зал, где вся труппа и весь персонал театра стоя встретили их громом аплодисментов. Василий Григорьевич Сахновский произнес слова приветствия, Иосиф Моисеевич Раевский — несколько слов от месткома.
После этого был парадный чай в буфете, а потом перешли в нижнее фойе, где Константин Сергеевич всех расспрашивал и, как мне издали казалось, боялся обойти кого-нибудь вниманием. Он был растроган и встречей «стариков», и тем, что произошло в зрительном зале и потом, и его радостное волнение было заметно.
Дневной чайный буфет Художественного театра притягивал как магнитом, но в первый свой год в театре мы входить туда не решались. Там сиживали драгоценные наши «старики» первого поколения, и каждого из них окружали группы молодых, тогда уже известных и очень любимых «вторых». (Константин Сергеевич и Владимир Иванович в буфет обычно не входили, только в особых случаях.) Частенько во время этих посиделок «старики» что-то тихонько рассказывали, например, Михаил Михайлович Тарханов. А он был неистощим. «Молодежь» давилась смехом, но, если становилось невмоготу и смех прорывался — так, Б. Добронравов не умел смеяться тихо, — тогда вг проеме арки возникала строгая фигура помощника режиссера, который внятно произносил: «Мешаете!» Тут же все стихало. Но жизнь в буфете с огромным самоваром, где за стойкой стоял старик Алексей Алексеевич Прокофьев, служивший еще со времен «Общества искусства» у Константина Сергеевича, продолжалась.
Тогда в театр приходили, хоть на короткое время, не только занятые в репетициях, а все артисты. С особого разрешения Владимира Ивановича приходил уже очень старый провинциальный трагик Россов, в бывших плоеных, очень ветхих манишках, и подолгу сидел за стаканом чая. Ему незаметно подсовывали бутерброды, опять же по распоряжению Владимира Ивановича, который, наверное, его и содержал. Владимир Иванович помогай негласно очень многим, так же как и Константин Сергеевич.
Однажды я подсмотрела: Владимир Иванович, проходя по овальному коридору, остановился и заглянул в буфет. Все встали, Мария Петровна Лилина и Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, сидевшие за столиком у стены, чуть привстав, тоже поклонились. Такой была дисциплина в театре.
Меня курировала Елизавета Сергеевна Телешева — актриса и режиссер. Она была ласково строгой и внушала мне, что здороваться надо всегда первой — молча кланяясь, и я проделывала это, от старания иногда по несколько раз с одними и теми же артистами и всем остальным персоналом.
Но вернусь к своему началу. После длительного отсутствия в Москву вернулся Владимир Иванович Немирович-Данченко. В зрительном зале собрались вся труппа, режиссура театра и некоторые сотрудники. Василий Григорьевич Сахновский рассказал, как проходит сезон, что репетируется, а в заключение, представляя Владимиру Ивановичу вновь принятых артистов, назвал и мое имя, прибавив: «Пожалуйте сюда!» Опять я проделала этот нелегкий путь и остановилась, не чуя под собой ног, перед Владимиром Ивановичем.
Внимательно посмотрев на меня и чуть привстав, не подавая руки, он сказал; «Здравствуйте», — и отпустил меня, наклонив голову. Я вернулась на свое место в амфитеатр, села, руки дрожали, и очень билось сердце: я же впервые видела Владимира Ивановича так близко, и он показался мне очень суровым.
…Красивые молоденькие актрисы Нина Ольшевская, Ирина Вульф, Людмила Варзер и прекрасная Вероника Полонская как-то очень просто и доброжелательно приняли меня в свой круг. Мне было тогда 20 лет, а им немногим больше, но они все были замужние, а у Нины Ольшевской был необыкновенно обаятельный и смешной малыш лет двух-трех — будущий знаменитый Алексей Баталов, и в то далекое время я часто помогала Нине купать его в корыте. Жили они с мужем (Владимиром Петровичем Баталовым) во дворе театра, в маленьком двухэтажном деревянном доме — в «дровах», как назывался наш театральный двор, где лежали большие поленницы дров и был навес с деревянными декорациями.
Там же жили Вера Сергеевна Соколова — лучшая Елена в «Турбиных» — с сыном и своей тетей, главный администратор — Федор Михальский, и в бывшей качаловской квартирке — семья Аллы Константиновны Тарасовой.
В сентябре 1931 года каждый день шли репетиции спектаклей сентябрьской афиши — возобновление, проверка по всем частям и вводы в народные сцены. Таким образом я попала в спектакли «Женитьба Фигаро», «Страх» (молчаливая стенографистка), «Мертвые души» (сцены ужина и бала). Ввели меня в спектакль «Сестры Жерар» на Малой сцене, в котором играли все мои новые подруги: Кокошкина, Варзер, Ольшевская, Вульф (она в то время была женой Юрия Александровича Завадского) и Полонская.
В Нору (Веронику) Полонскую были влюблены почти все мужчины труппы. При ней, говоря словами Ростана, были «все женщины ревнивы и все мужчины неверны». От нее исходила какая-то сияющая женственность. Необыкновенной красоты фигура, лицо — нежнее и мягче любого классического образца. А главное, она была прекрасный, умный, глубоко чувствующий человек. За год до моего поступления в театр Нора перенесла потрясение — гибель Маяковского, которого она любила. В связи с этой трагедией о ней говорили много и очень несправедливо. А все было гораздо сложнее, чем могло казаться со стороны.
Нора была замужем за Михаилом Михайловичем Яншиным, и этот брак для нее не был счастливым. В последний год своей жизни Владимир Владимирович Маяковский встретил Веронику Полонскую и горячо полюбил. Любовь была взаимной. Эта любовь какое-то время помогала ему переносить все сложности жизни, которые мучили поэта.
После вечера, так подробно описанного у Катаева, ранним утром Владимир Владимирович вызвал Нору к себе. Был он в состоянии очень нервном и подавленном, как и все предыдущие дни. Потребовал, чтобы Нора немедленно оставила театр и вообще больше туда не ходила. Но надо быть актрисой, чтобы понять, что она не могла сделать этого так сразу, тем более что в то утро была назначена с Немировичем-Данченко генеральная репетиция спектакля, в котором она играла главную роль. Как она могла провалить репетицию, проводимую одним из основателей театра, подвести товарищей, заставить ждать напрасно всех, кто собрался?!
Они с Маяковским поссорились, и Нора выбежала от него, торопясь в театр. Сделав несколько шагов по коридору, она услышала выстрел, кинулась обратно и еще успела увидеть его живые глаза. При ней они померкли. Все последующее она не воспринимала, так как была без сознания. (Об этом подробнее можно прочесть в ее воспоминаниях, напечатанных в журнале «Вопросы литературы» за 1987 год.) Осенью 1931 года на ней еще лежала печать глубокого потрясения.
Вероника Витольдовна Полонская обладала редким качеством быть одинаково простой и естественной в любых жизненных ситуациях, а жизнь ее не очень баловала, и пережить ей довелось много трудного.
Тогда, в молодости, она и Нина Ольшевская были ко мне очень добры. И наша дружба осталась крепкой и верной на всю жизнь.
О том, что меня приняли во вспомогательный состав труппы Художественного театра, я рассказала отцу только на следующий день после разговора с Евгением Васильевичем Калужским. Когда я пришла к папе и обрушила на него все события и все мое торжество, он был очень взволнован. «А ты не сочиняешь?»
Боже мой, как же он гордился! Я еще и не вошла в театр. Я еще только ждала начала сезона и сбора труппы, а" отец уже представлял меня: «Моя дочь — артистка Художественного театра!»
А «артистка» после ввода в «Воскресение», «Квадратуру», «Битву жизни» была допущена к народным сценам в спектакль «Женитьба Фигаро». В этот уникальный спектакль меня вводила Елизавета Сергеевна Телешева — она и Вершилов помогали Константину Сергеевичу, выполняли его задания. В течение двух бесед Елизавета Сергеевна рассказала мне очень много о Бомарше, о его пьесе, о той эпохе, о костюме, как его носить, и о том, кто я и как должна себя вести, защищая интересы Сюзанны и Фигаро. Эти занятия со мной Елизавета Сергеевна проводила не по расписанию. Она нашла для этого время, поскольку иначе не считала возможным выпустить меня на сцену.
В течение нескольких спектаклей в сцене суда я сидела в глубине, и только потом меня перевели «на балкон», где мы — несколько новичков — были на виду. Была я занята и в финальном шествии с танцами и пением по вертящемуся кругу. Вся вокальная часть и весь состав оркестра театра в гримах и костюмах участвовали в финале «Фигаро», а для бороды дирижера оркестра Бориса Львовича Изралевского был сшит специальный шифоновый «футляр», так как дирижер тоже находился на сцене.
Даже если бы я была профессиональным писателем, мне недостало бы красок описать этот сверкающий спектакль. Фигаро — Николай Баталов и Марк Прудкин. Сюзанна — неповторимая Ольга Андровская. Граф Альмавива — изысканный, капризный красавец Юрий Завадский: Графиня — Нина Сластенина, позже Ангелина Степанова. Керубино — Александр Комиссаров (его до слез «гонял» на репетициях К.С., но в итоге был создан блистательный образ влюбленного во всех женщин восторженного юноши — смешного, отважного и трогательного). Фаншетта — Вера Бендина. К.С. говорил о ней, что «ей не нужна Система, она сама — “система”», а Вл. Ив. называл ее «гениальная любительница». Садовник Антонио — Михаил Яншин. Марселина — Фаина Шевченко, мощная, красивая, пылкая и тоже смешная. Декорации Головина, костюмы Ламановой, композитор — Глиэр.
Об этом спектакле — шедевре Константина Сергеевича — написано много.
Какая радость быть занятой в таком спектакле!
Когда сцена освободилась от репетиций текущего репертуара, начались ежедневные репетиции «Мертвых душ». Инсценировку, как известно, делал для театра Михаил Афанасьевич Булгаков, он же был уже и сорежиссером у Василия Григорьевича Сахновского и Елизаветы Сергеевны Телешевой. Некоторые парные сцены Константин Сергеевич уже репетировал у себя в Леонтьевском.
Меня заняли в сцене бала. «Бал» и «Ужин» готовились для показа Константину Сергеевичу.
Помню, что в этом готовящемся варианте на балу появлялась Коробочка и спрашивала: «Почем ходят мертвые души?» Репетировала Коробочку Мария Петровна Лилина. Эта уникальная артистка могла играть все и, конечно же, сыграла бы Коробочку замечательно, но об этом позднее.
Сахновский строил «Бал» и «Ужин» Очень остро, даже шаржированно. Очень много было, кроме необходимых танцев, шумной беготни, а после появления Коробочки даже паники.
В те дни в конторе Федора Николаевича Михальского я впервые увидела Михаила Афанасьевича Булгакова. Как всегда днем, у Михальского бывало много актеров. Забегали за контрамарками, со всякими малыми и большими просьбами. Там же назначались деловые и дружеские встречи. (Жизнь конторы блистательно описана Булгаковым в «Театральном романе», или, как он сам называл роман, — в «Записках покойника».)
Едва он вошел, его моментально окружили. Я, стоя у конторских дверей в «передней», где постоянно у двух телефонов дежурили «адъютанты» Федора Николаевича — Снетков и Глушков, с жадностью рассматривала Михаила Афанасьевича: так вот он какой, знаменитый автор «Дней Турбиных»! Очень интересное, выразительное, нервное лицо, пристальный взгляд светлых внимательных глаз, хорошая фигура. Элегантный, холодный, даже чуть чопорный с чужими и такой открытый, внимательный и насмешливо веселый с друзьями или просто знакомыми.
Каждому хотелось быть к нему поближе, поздороваться за руку, поговорить или просто постоять рядом. Когда шум в конторе грозил нарушить установленный порядок, Михальский произнес по-французски: «Медам, силянс!» И добавил уже по-русски: «Всех вас ожидают на бале». Первым двинулся Булгаков, а за ним остальные, договаривая что-то уже шепотом.
Готовя к показу Константину Сергеевичу две эти сложнейшие сцены, волновались все.
16 октября с утра артисты прошли обе сцены, выслушали последние замечания Сахновского, и после маленького перерыва, за 10–15 минут до срока, все были на сцене на своих местах. К 12 часам за закрытым занавесом в зрительном зале послышались приглушенные голоса, движение, по ступенькам из зала взбежал помощник режиссера спектакля Николай Николаевич Шелонский: «Внимание, даю занавес!»
Грянул оркестр, все затанцевали, Засуетились, заговорили разом, кидаясь навстречу Чичикову — Топоркову. Губернатор — Станицын тоже суетился. Топорков порхал среди дам… Когда явилась Коробочка — Лилина со своим страшным вопросом, начался сумбур, паника, и на этом пошел занавес.
После небольшого перерыва Константин Сергеевич смотрел четвертый акт, а потом беседовал с режиссерами, художником Дмитриевым и главным машинистом сцены Титовым.
Мы — гости на балу и ужине — писали свои очень подробные биографии: кто мы, откуда, кто богаче, кто беднее, кто муж, есть ли дети, а главное — каковы наши взаимоотношения. Про себя я должна была сочинить, почему я на балу без мужа. Все дамы завидовали губернаторской дочке (эту роль без слов играла Вероника Полонская). Полонская была необыкновенно хороша, как со старинной гравюры. У всех дам и барышень был характерный грим. Грим придумывали и лепили мы сами. Нам помогали Яков Иванович Гремиславский и Михаил Григорьевич Фалеев.
Константин Сергеевич строил сцену так: бал в разгаре — веселье, музыка, «галопад»; приезд Чичикова; из внутренних комнат доносится особенное оживление, возгласы: «Павел Иванович! Павел Иванович!» Порхающей походкой, раскланиваясь, влетает Чичиков — Топорков, и на авансцене его особо приветствуют восторженными восклицаниями две дамы: дама приятная — Фаина Шевченко, и дама приятная во всех отношениях — Вера Соколова. Жена Манилова — Сластенина, вице-губернаторша — Хованская и безымянная дама — я. Каждая, подбегая, стремится заинтересовать Чичикова собой. У меня была фраза: «Ах, Боже мой, Павел Иванович!»
Эта сцена прерывалась обращением к Чичикову губернатора — Станицына. Совсем молодой тогда Виктор Яковлевич был очень смешным и достоверным в этой возрастной роли как будто большой, белый, глупый одуванчик.
Потом шла сцена представления Чичикова губернаторше и дочке, мгновенная влюбленность Чичикова в нее, а мы, дамы, ревнуя, пытались его отвлечь. Вокруг него все больше и больше роилось дам и девиц, весь он был утыкан бутоньерками. Все это на фоне мазурки, под оркестр. А кончалась сцена бала уходом парами к ужину — губернаторша с Чичиковым во главе под звуки полонеза, на повороте круга.
Между сценами «Бал» и «Ужин» Константин Сергеевич ввел, не останавливая поворотного круга, сцену «В буфетной», где с грохотом мылись тарелки, на вытянутых руках величественных лакеев повар проверял блюда, посыпая их чем-то, и лакеи шествовали к столу. Эта сцена всегда вызывала бурную реакцию зрительного зала.
Ужин шел по нарастающей. Пили за здоровье губернатора и Чичикова, намекая на его сватовство к дочке, мы бегали чокаться с хозяевами, Чичиковым. И в этот момент из центральных дверей с криком: «Опоздал, опоздал!» — появлялся Ноздрев (Москвин) с зятем Межуевым (Калужским). Приветствия, целованье дамских рук и потом: «Ба! Чичиков! Ну что, много наторговал мертвых?» И дальше… Сцена финала шла стремительно: все метались, кто-то пытался урезонить Ноздрева, тот рвался «влепить безешку», Чичиков «незаметно» убегал в центральную дверь, Ноздрев налетал на губернаторскую дочку, она — в обморок, мамаша — тоже, дамы, обмахивая обеих веерами, злорадно переглядывались. Звучал грозный голос губернатора: «Вывести его сейчас же вон! И зятя Межуева тоже!» Торжествующе хохотала, всплескивая руками, Фаина Шевченко. Если не ошибаюсь, часть финала шла под туш.
Хорошо помню одну репетицию с Константином Сергеевичем: приезд Чичикова на бал и его приветствие дамам.
Константина Сергеевича не удовлетворяло даже то, что делали Фаина Шевченко, которую он очень высоко ставил, и Вера Соколова, не говоря уж о том, как старались и что делали Нина Сластенина, Евгения Хованская и я.
Нам надо было быть и восторженными, и пылкими, и в «лучшем своем качестве», но абсолютно искренними и легкими.
За режиссерским столом, кроме Станиславского, сидели Булгаков, Сахновский, Телешева, заходили Леонидов, Тарханов, а от стола несся грозный голос Константина Сергеевича: «Не верю, сначала!», «Не понимаю слов», «Сначала!» И все грозней и грозней. И это под оркестр, танцы в полную силу. И так не один час. Наверное, от физической усталости ушло напряжение, а от огромного желания сделать, как надо Ему, появилась искренность.
Эту репетицию прекратил Иван Иванович Титов — главный машинист сцены с основания театра, красивый, крупный человек, тогда уже совсем седой. Он бесстрашно подошел к Константину Сергеевичу и шепнул, что пора ставить декорации к вечернему спектаклю, и наш грозный Учитель со словами: «Прошу простить» сразу встал, и мы услышали: «Все в нижнее фойе, репетиция продолжается. Оркестр свободен, благодарю». И уже в фойе Константин Сергеевич терпеливо объяснял нам, что в этой сцене необходимы радостный праздник, увлеченность им, а не простое выполнение режиссерских приказов.
Позднее Константин Сергеевич заново сделал картину «Вечеринка». В связи с этим мне хочется привести малоизвестное письмо Булгакова к Станиславскому.
«Цель этого неделового письма выразить Вам то восхищение, под влиянием которого я нахожусь все эти дни. В течение трех часов Вы на моих глазах ту узловую сцену, которая замерла и не шла, превратили в живую.
Существует театральное волшебство!
…Я затрудняюсь сказать, что более всего восхитило меня. Не знаю, по чистой совести. Пожалуй, Ваша фраза по образу Манилова: «Ему ничего нельзя сказать, ни о чем нельзя спросить — сейчас же прилипнет», — есть самая высшая точка. Потрясающее именно в театральном смысле определение, а показ, как это сделать, — глубочайшее мастерство!
Я не боюсь относительно Гоголя, когда Вы на репетиции. Он придет через Вас. Он придет в первых картинах представления в смехе, а в последней уйдет, подернутый пеплом больших раздумий. Он придет»
[6].
На одной из репетиций (это было уже весной 1932 года) Константину Сергеевичу что-то не нравилось в том, как Мария Петровна Лилина играла Коробочку, и он пошел на показ. И опять произошло чудо! Направляясь к креслу Коробочки, он становился как бы меньше, и казалось, что в кресле сидит старая баба, а не красавец мужчина, и ясно было, что «механизм часов» остановился. Мария Петровна очень точно схватила суть показа, #сцена пошла.
Но в начале лета Станиславские снова уехали для лечения за границу, так как всю зиму и весну Константин Сергеевич часто болел, тяжело, с высокой температурой. Вернулись они только во второй половине ноября 1932 года, а роль Коробочки была передана Анастасии Платоновне Зуевой.
На одной из репетиций при повороте круга во время ухода гостей с бала на ужин что-то нарушилось, и массивные двери стали угрожающе клониться. Из зала раздался испуганный возглас Марии Петровны Лилиной, еще чьи-то «ахи», но пары продолжали двигаться в том же ритме, оживленно болтая, и только оказавшись за сукнами, разбежались с круга. Круг был остановлен в считанные минуты. Все было налажено, и бледный Николай Николаевич Шелонский сказал, что Константин Сергеевич просит повторить уход. Поворот прошел благополучно, а участников сцены бала Константин Сергеевич поблагодарил за храбрость и высокую дисциплинированность. Все мы гордились похвалой и собственным «спокойствием», хоть и было страшно. Потом рассказывали, как побелел Станиславский, схватившись за сердце.
В конце ноября состоялась генеральная репетиция «Мертвых душ» с публикой.
Рапповская критика в лице Бескина, Новицкого и Ермилова громила и инсценировку Булгакова, и спектакль Станиславского, но кто сейчас помнит этих «критиков»?
На премьере «Мертвых душ» был Всеволод Эмильевич Мейерхольд с женой — Зинаидой Райх.
И здесь я хочу привести выдержку из воспоминаний профессора Чушкина, который описывает эту премьеру и реакцию Мейерхольда на спектакль.
«Мейерхольд был чем-то задет, раздражен. Он бросал короткие реплики, непримиримый ко всему, что видел на сцене, нападал, отвергая все целиком.
…Особенно возмущала Всеволода Эмильевича сама инсценировка «Мертвых душ», сделанная М. А. Булгаковым, с которым у него были свои давние счеты… По существу, это был творческий спор Станиславского и Мейерхольда, спор резкий, принципиальный, начавшийся еще со времен студии на Поварской.
И теперь в связи с «Мертвыми душами» предметом спора был не столько сам Гоголь и приемы его сценического воплощения, сколько различия в понимании природы театра, роли и задач режиссуры, места актера в спектакле, сущности гротеска»
[7].
С осени 1931 года Константин Сергеевич приступил к работе над спектаклем «Страх» Афиногенова, до этого времени спектакль готовил Илья Яковлевич Судаков. Несколько репетиций провел Владимир Иванович Немирович-Данченко.
В «Страхе» Афиногенова я была занята в безмолвной роли стенографистки в седьмой картине. В этой сцене участвовали такие персонажи: профессор Бородин и старая большевичка Клара Стасова.
Первоначально роль Клары репетировала Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, но Константин Сергеевич принимал больше ее дублершу — Нину Александровну Соколовскую, а с Ольгой Леонардовной занимался ролью Клары очень пристально. Ей, дорогой нашей «герцогине», «Леопардовне», как любовно называли ее, было трудно, уж очень не ее была эта роль. Константин Сергеевич снял Книппер-Чехову. «Ольга Леонардовна ужасно мучается, но заставляет себя относиться к происшедшему исключительно сдержанно и умно», — писала О. С. Бокшанская в письме к Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко.
Мой отец был на премьере «Страха». На следующий день взволнованно говорил о постановке и о том, как необходим такой спектакль. А о Леонидове сказал, что пережил потрясение, как в давние студенческие годы во время гастролей Художественного театра в Петербурге.
Что говорил отец в мой адрес, я не помню — наверное, о том, как я должна ценить возможность быть рядом со всеми, кто играл в спектакле. Замечательных артистов второго поколения он знал хуже и теперь расспрашивал меня о Ливанове, Добронравове, Ершове, Вербицком, Тарасовой, Морес, Зуевой. Отец был очень занят, не мог часто бывать в театре и очень сожалел об этом.
В начале июля 1931 года, когда театр был на гастролях в Ленинграде, умер В. В. Лужский.
В жизни я с ним никогда не встречалась. Ходила к выносу из театра, внутрь войти не посмела. Из Ленинграда приехали Ольга Леонардовна, Евгений Васильевич Калужский — сын Лужского, еще были актеры, но кто точно, назвать не берусь. Поразили до жути фанфары из музыки Саца на смерть Гамлета. Потом эта скорбная, торжественная, грозная музыка звучала много раз…
В сезоне 1932–1933 года хоронили Владимира Федоровича Грибунина. Он тяжело и долго болел. Единственный раз, уже больным, пришел он днем в театр — в чайный буфет. Как же его встречали, как радовались его приходу! Крупная, красивая, величавая седая голова. Я его видела только в роли Курослепова из «Горячего сердца» Островского — вечно пьяного купца.
«Старики» говорили, что он был артист милостью Божьей, — озорник и выдумщик, играл еще в «Обществе литературы» у Станиславского и что Константин Сергеевич корил себя за то, что мало занимал его в больших ролях и недооценил его огромный талант. Говорили также, что его очень высоко ставил Немирович-Данченко.
Театр прощался с Владимиром Федоровичем Грибуниным в нижнем фойе. Стояли молча — так он завещал. У гроба на коленях металась Вера Николаевна Пашенная — жена Грибунина, она почти голосила.
Станиславского и Немировича-Данченко не было. Сахновский сказал: «На колени!» Все опустились. «Художественный театр прощается с Вами». При выносе я во второй раз услышала фанфары.
Поздней осенью 1932 года Станиславский начал репетиции «Талантов и поклонников» Островского. Он был доволен предварительной режиссерской работой Н. Н. Литовцевой и В. А. Орлова. Одновременно он много работал над «Севильским цирюльником» у себя в оперном театре, занимался с отдельными исполнителями «Золотого петушка» и готовил к выпуску «Мертвые души». Какими же могучими творческими силами обладал наш гениальный Учитель и как выдерживало этот груз его больное сердце?!
Я старалась бывать на всех его репетициях, когда они проводились в театре, и в меру своих сил пыталась понять, чего он требовал от актеров. Он говорил: «Ничего не нужно «играть», лишь выполнять простые физические действия, и все остальное будет само жить… — таков закон нашего театра. Через мысль — к выполнению поставленной задачи».
Примерно с первой половины сезона 1932 года по инициативе Елизаветы Сергеевны Телешевой была взята в работу, как теперь говорят, внеплановая пьеса Островского «Воспитанница».
Основные роли были распределены следующим образом: помещица — Шереметьева, ее сын — Михайлов, воспитанница Надя — Пилявская, приживалка — Елина, горничная — Берестова, чиновник — Людвигов, лакей — Названов.
Конечно, я была очень горда полученной ролью, но и трусила очень. Мне казалось, что я не «играю» в первой сцене «Воспитанницы» — «Надя и горничная». А Елизавета Сергеевна требовала: «Вы говорите только для уха, а надо — для глаза, чтобы партнер видел то, о чем идет речь». Как же трудно давалась эта простота и правда!
Оформляли нашу «Воспитанницу» тогда совсем молодые артисты Василий Петрович Марков (позже маститый профессор Школы-студии) и Николай Петрович Ларин. Оба они были хорошими художниками. А костюмы делала знаменитая Надежда Петровна Ламанова. Остатки моих чудесных костюмов иногда попадаются в костюмерной Школы-студии, но теперь это неузнаваемая рвань.
Эту работу мы должны были сдать в «готовом» виде Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу.
Я часто бывала у Нины Ольшевской, которая к этому времени стала женой Виктора Ефимовича Ардова и переехала с сыном к нему в Нащокинский переулок, в писательский дом. В доме этом жили Булгаковы, Ильф и Петров, кажется, Катаев, драматург Файко — на одной площадке с Булгаковыми, — Габрилович, Мандельштам, Кирсанов.
Ардовы жили на первом этаже в небольшой квартирке окнами во двор. У них бывали разные люди. Особенно близкими были Михаил Светлов, Юрий Олеша, Михаил Вольпин, Николай Эрдман, Евгений Петров, Илья Ильф, Александр Роскин (писатель и музыкант, погиб на фронте), Владимир
Луговской и многие другие.
Для меня Виктор Ефимович Ардов выделяется даже среди тех крупных имен, какие я назвала. И вот почему. Писатель-сатирик, не претендующий на большие свершения в литературе, он очень точно определил для себя свои возможности, а боль от ударов по самолюбию тщательно прятал за шуткой, остроумием и даже за неким словесным цинизмом. А на самом деле в те тревожные годы он вел себя отважно — так ему подсказывало его большое сердце.
В квартире Ардовых я впервые увидела опальную Анну Андреевну Ахматову. Она была тогда почти без средств и, приезжая в Москву, не была уверена, что некоторые друзья-поэты широко откроют перед ней двери своих домов. А вот Виктор Ардов и Нина Ольшевская подчиняли свой дом, домашний уклад интересам Анны Андреевны, делая для нее все возможное, чтобы ей было легче. Тогда она еще была с челкой и в темных ее волосах было мало седины. Худая, черное старенькое платье, шаль на плечах, тоже не новая. И сидела она, как на знаменитом портрете Альтмана, спокойно горделивая.
Иногда Ахматова жила в Москве подолгу, а иногда приезжала на короткий срок. Как-то приехала с сыном. В моей памяти он — очень молодой, немного манерный, смешно не выговаривал несколько букв. (Когда я увидела его — маститого ученого — в диалоге с академиком Лихачевым, то почти не узнала, а вот в его речи мелькнуло что-то от того юноши.)
Позже Анна Андреевна приезжала уже одна хлопотать о сыне — его арестовали. И тоже жила у Ардовых. По тому времени это было непросто. Помню, иногда вдруг после полуночи раздавался звонок в дверь, Виктор бледнел, Анна Андреевна застывала в своей горделивости, Нина шла открывать. Отважными гостями оказывались Светлов, Вольпин, Олеша — вместе или поодиночке. После секундной паузы Виктор обрушивал на гостей крепкие «русские» слова, извиняясь перед Ахматовой.
Алексей Баталов — тогда смешной малыш, обращался с Анной Андреевной как с обыкновенной «тетей». Она разговаривала с ним «по-взрослому», серьезно слушала, были у них и какие-то свои игры, так мне помнится. С тех давних лет семья Ардовых стала для Анны Андреевны своей, близкой и очень ею ценимой. Их дом стал ее домом. Алеша вырос, и его отдельная комнатка, уже на Ордынке, в более просторной квартире, всегда была готова принять надолго дорогую гостью.
Известно, что Карпухину в первом составе «Дядюшкиного сна» по Достоевскому блистательно репетировала Мария Петровна Лилина, но обострившаяся болезнь сына — Игоря Константиновича, вынудила ее оставить роль. Мария Петровна уехала за границу. Дублировала роль Мария Осиповна Кнебель, и ей досталась премьера.
Ниже я постараюсь точно передать то, что знаю из уст Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой о Марии Петровне Лилиной, о верной дружбе этих уникальных женщин и актрис.
По возвращении, зимой 1933 года, Мария Петровна попросила Евгения Васильевича Калужского дать ей роль старой горничной в третьем акте «Вишневого сада» — безмолвный выход на несколько минут в глубине сцены. На вопрос Калужского о том, с кем Марии Петровне удобнее играть (старых горничных было две), она назвала меня.
Мария Петровна приезжала в театр задолго до второго акта. Заходила к Ольге Леонардовне и шла даже не в свою уборную, где гримировалась Степанова — Аня, а туда, где обычно одевались участники народной сцены. Я и актриса, выходившая гостьей, располагались в гримуборной рядом. Надо мной посмеивались, поздравляли с «ролью». Я приходила рано, делала старческий грим, прикрепляла седую накладку под чепец и ждала.
В самом начале третьего акта я слышала голос Марии Петровны: «Идемте на сцену». Довольно долго мы стояли за декорацией (Мария Петровна отказывалась садиться на приготовленный для нее стул). Наконец — выход на сцену. С блюдом сластей подходила Ольга Леонардовна — Раневская, на нее смотрели преданные, кроткие глаза старой горничной, а барыня — Раневская шептала ей ласковые слова. Мы кланялись хозяйке и уходили. За кулисами к Марии Петровне подходила ее старая портниха-одевальщица Мария Ивановна Исаева. «Вот и поиграли, надо привыкнуть к сцене, спасибо, Машенька», — говорила Лилина. Вот так вела себя замечательная артистка, жена Станиславского. Ей предстояло после долгого перерыва играть Карпухину в «Дядюшкином сне».
Один раз во время дневного «Вишневого сада» мы с Кокошкиной вышли вслед за Марией Петровной во двор, где не оказалось заказанного ею извозчика (тогда на машинах почти не ездили). Кокошкина и я побежали нанимать извозчика. Когда мы въехали во Двор, выяснилось, что у Марии Петровны только мелочь, и той мало. Мы стали вытряхивать свои кошельки, а извозчик все торговался и наконец изрек: «Довезу тебя до бани». Мария Петровна, садясь в пролетку, весело сказала: «До бани — это хорошо, это близко, не беспокойтесь, девочки». (Баня была против церкви в Брюсовском переулке.)
…В этом же сезоне разрешили возобновить «Турбиных». Как же все играли! Как опять зазвучал прекрасной красотой правды Художественного театра этот спектакль! Он стал еще глубже в своей «мужественной простоте» и душевности.
Я помню Михаила Афанасьевича Булгакова на генеральном прогоне «для своих» — взволнованного, восхищенного и благодарного. «Свои» устроили овацию и артистам, и режиссерам, и автору.
В показе первого акта «Талантов и поклонников» я сидела под сценой и «делала» калитку — гремела щеколдой на первый выход Негиной, а в четвертом акте выходила в паре с Люсей Варзер в сцене вокзальчика — мы, курсистки, проходили на перрон.
До этого шла большая сцена главных персонажей — «Провинциальный вокзальчик». Негину играла Тарасова, Домну Пантелеевну — Зуева, Смельскую — Андровская, Бакина — Прудкин, князя Дулебова — Вербицкий, Великатова — Ершов, Мелузова — Кудрявцев, Нарокова — Качалов и Орлов, Мигаева — Грибов, Васю — Дорохин, Трагика — Шульга.
Наш выход — глубокий второй план. Шли мы из кулис в дверь на перрон с еще несколькими «пассажирами». Вдруг послышалось знаменитое «Стоп, минуточку». Это, оказывается, мне! «Вот вы, курсистка, пожалуйте сюда!» Константин Сергеевич стоял у рампы, я, ни жива, ни мертва, подбежала к рампе и присела на корточки.
Константин Сергеевич спросил, понимаю ли я, что значит ехать из захолустья учиться в губернский город, а то и в столицу. Кого я оставила дома? Написала ли я биографию своей курсистки и знаю ли, что даже в таком маленьком проходе нужна абсолютная правда и нельзя выходить болтая (передаю почти дословно)?
Мы старались быть правдивыми, но, очевидно, «по верху», а от него не скроешься! А артисты ждут, и выходит так, что я задерживаю важную сцену!
Когда Константин Сергеевич отпустил меня и я с трудом поднялась — затекли ноги, на меня смотрели, кто с завистью, а кто и с жалостью. А главное, артисты досадовали на остановку — так мне показалось, может быть, от страха.
…На сборе труппы осенью 1933 года были приняты в театр Вера Николаевна Попова, Анатолий Петрович Кторов, Борис Яковлевич Петкер — артисты бывшего театра Корша, красивые, великолепно одетые. У Веры Николаевны — жабо из органди, что в то время было редкостью. Артистки второго поколения Художественного театра — Андровская, Еланская, Соколова не имели таких возможностей и одевались очень скромно, а старшие — строго, элегантно, но тоже неброско.
Пришедшие артисты были очень талантливые и знаменитые, и мы, молодежь, смотрели на них с восхищением. Много лет спустя мы подружились с Кторовым, и эти товарищеские отношения сохранились до его кончины.
Несколько позднее появились Николай Николаевич Соснин и Михаил Пантелеймонович Болдуман, который сразу вошел в спектакль «Таланты и поклонники» в крошечной роли обер-кондуктора. И хотя это даже не эпизод, а запомнился! Стали его вводить и в «Страх» в седьмую картину за Василия Новикова (небольшая роль воинствующего бюрократа Невского). В этой же картине был занят и Александр Леонидович Вишневский — старейший артист театра, который учился в Таганрогской гимназии еще с Антоном Павловичем Чеховым.
Чтобы не беспокоить Александра Леонидовича репетицией, по решению Ильи Яковлевича Судакова ввод был проведен без него. Когда Болдуман в костюме Новикова вышел в вечернем спектакле на сцену, Александр Леонидович стал хватать его за полы пальто, громко шепча: «Куда вы? Тут сцена, понимаете, сцена!» А несчастный Болдуман — Невский вырывался, пытаясь произносить текст роли. Все участвующие в этой картине кисли от смеха, удерживая Вишневского, и только у Леонида Мироновича Леонидова лицо было грозным, а Нина Александровна Соколовская — Клара — терпеливо ждала, когда успокоят Вишневского (мы с Кокошкиной дружно уткнули носы в бумаги и перестали «стенографировать»).
1933 год был полон для меня большими событиями.
Помню, как пригласил меня в гости Федор Николаевич Михальский. У него, в «дровах», собиралась тогдашняя молодежь, которую он бережно воспитывал и учил традициям театра. Бывали там Алексей Грибов, Паша Массальский, Николай Дорохин, мой будущий муж, и Иосиф Раевский.
Надо сказать, что мое знакомство с Николаем Дорохиным было для моих товарищей смешным, а у меня вызвало недоумение. Когда нас познакомила певица вокальной части театра, с которой мы жили в одном дворе, к нам тут же кто-то подошел, и вдруг Дорохин меня представил: «Познакомься — моя жена!» Очень я была удивлена такой шуткой. Кругом засмеялись.
У Михальского, в его необыкновенно уютной комнате, я впервые услышала, как поет Иван Михайлович Москвин. Он частенько приходил туда — то было начало его романа с Аллой Константиновной Тарасовой (я уже писала, что Михальский жил в одном с ней домике во дворе театра). Алла Константиновна чудесно напевала украинские песни, а Иван Михайлович неотрывно смотрел на нее.
Эти дивные вечера были полны стихами, пением — Федор Николаевич играл на гитаре, а Николай Дорохин на «ливенке» — саратовской гармошке. Часто Москвин составлял хор по голосам — все мы были музыкальны, и под его управлением неплохо звучали старинные русские и украинские песни.
Время было-довольно трудное, денег в обрез, и застолья у Федора проходили и под пшенную кашу, и под картошку, печенную в голландской изразцовой печке. На скромную выпивку гости-мужчины, как теперь говорят, «скидывались».
…Наша работа над «Воспитанницей» во второй половине сезона походила к концу. Уже прошел генеральный показ Василию Григорьевичу Сахновскому, Павлу Александровичу Маркову, Михаилу Михайловичу Тарханову, Евгению Васильевичу Калужскому, еще многим из «начальства» и «своим», кто хотел. После генеральной нам сказали, что ненадолго приезжал Владимир Иванович. О том, как мы все тогда волновались, писать не буду; чем дальше шла моя актерская жизнь, тем серьезней были испытания.
Через некоторое время Елизавета Сергеевна Телешева сообщила мне и моему первому партнеру в большой роли Косте Михайлову (Константин Константинович Михайлов — народный артист РСФСР, профессор, артист театра Моссовета), что Владимир Иванович Немирович-Данченко назначил нам репетицию у себя дома.
Боже мой! Первая встреча в работе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко!
За пять минут до назначенного часа мы под опекой Елизаветы Сергеевны, которая тоже волновалась, стояли у парадного входа дома на Большой Никитской улице — угол Скарятинского переулка. Всю левую сторону бельэтажа окнами на улицу и в переулок занимала квартира Владимира Ивановича и его семьи. Здесь они жили еще до 1917 года.
В довольно темной передней нас встретила пожилая женщина в белом переднике. В квартире стояла тишина. «Пожалуйста, пройдите в кабинет. Владимир Иванович сейчас выйдут». Налево была вторая дверь из передней — в просторный светлый кабинет, где, как я потом узнала, стояли большие книжные шкафы, каждую секцию которых украшали овальные портреты писателей, вставленные в дверцы. Эти шкафы были сделаны по эскизу Владимира Ивановича. (Сейчас они, так же как мягкая мебель орехового дерева, крытая вишневым бархатом, овальный стол, диван и несколько стульев, находятся в музее-квартире Владимира Ивановича в доме № 5/7 на улице его имени.)
Вошел Владимир Иванович, за руку поздоровался с Елизаветой Сергеевной, нам приветливо кивнул головой. Этот первый урок-репетицию я не забуду никогда.
Владимир Иванович сказал, что хочет посмотреть сцену ночного свидания. Для нас вместо скамьи были приготовлены три стула. Мы с Костей сели и застыли на какие-то секунды, потом, когда начали по тексту, я услышала: «Она, наверное, дрожит. Да, дрожит. Знобит и от страха, и от того, что пришла любовь!» А я сижу как пень и жду этой «дрожи». Я решила, что эта дрожь должна снизойти на меня, что играть ее нельзя.
Владимир Иванович, повторяя: «Конечно, дрожит!», обратился к Телешевой: «Ей надо дать шаль». А сам, чуть поднимая воротник пиджака и поеживаясь, подбадривал нас: «Ну же, ну! Смелее!» Тут я начала немного соображать и старалась делать то, что так терпеливо подсказывал мне Владимир Иванович.
Так постепенно, освобождаясь от скованности, мы дошли до второй половины этой небольшой сцены, и опять осторожный негромкий голос: «А здесь ее голова — к нему на плечо». Я сделала так, тут же последовал подсказ Михайлову: «Как вы можете так сидеть, вы же добивались этого — обнимайте!» Костя, так же как и я, конечно, был скован. Вдруг Владимир Иванович сел на место Михайлова и, по подсказке Телешевой произнося текст пьесы, показал мне рукой на свое плечо. И тут я осрамилась: от внезапности и от страха засмеялась. (Как же сердилась на меня потом Е. С. Телешева и шутя издевался Михайлов!) Владимир Иванович взглянул на меня, встал и сказал так, как мог сказать только он: «Да, наверно, это выглядело бы смешно». Я готова была провалиться сквозь землю! Очень скоро он отпустил нас, оставив для разговора Е. С. Телешеву.
…18 января 1933 года был день рождения Станиславского — его 70-летие. Задолго до этого дня со всех концов света к нему шли восторженные приветствия и поздравления.
Из Художественного театра на квартиру Константина Сергеевича в день юбилея пришла небольшая делегация счастливцев от всех поколений нашего театра. До этого к Станиславским явились представители московских театров, пробыли долго и утомили Константина Сергеевича. К вечеру в его квартиру было проведено радио, по которому из ЦДРИ, или из ВТО (боюсь быть неточной) юбиляра приветствовали: ученики, артисты, режиссеры, деятели искусств.
В конце сезона 1933 года нам, участникам «Воспитанницы», сообщили, что нашу работу будут смотреть у себя в Леонтьевском Константин Сергеевич и Мария Петровна.
После показа на квартире Владимира Ивановича мы еще репетировали с Елизаветой Сергеевной Телешевой, и она старательно следовала его указаниям, но было очевидно, что до сцены филиала, до высочайших требований наших основателей театра мы не дотягиваем.
Показ «Воспитанницы» Константину Сергеевичу прошел, наверное, хуже, чем генеральная в филиале. Волновалась я исступленно, для меня это был двойной экзамен. Думаю, что выдержала я его не на высокую отметку. Я даже не могу точно сказать сейчас, весь спектакль мы играли или отдельные сцены.
Хорошо помню, что после показа в фойе Леонтьевского дома на мраморном столе стояли блюда с бутербродами и нас поили чаем. Помню, как Константин Сергеевич стоял по другую сторону стола с блюдом в руках и говорил: «Пожалуйста, не стесняйтесь, прошу вас». И секретарь Станиславского Таманцева больно толкнула меня в бок и прошептала: «Берите же, Константин Сергеевич держит, а ему нельзя». И я взяла бутерброд.
Говорил он с нами ласково, сказал, что, когда мы искренни и действуем по задачам, он нам верит. С Е. С. Телешевой разговор был без нас.
Вскоре последовало решение играть эти три спектакля выездными с афишей «Группа артистов МХАТ».
В отпуск 1933 года мы целый месяц каждый день играли наш спектакль под Москвой, в Рязани, Орле, Туле и в Воронеже. Возил нас Сергей Петрович Успенский.
Поездка была трудной из-за переездов, спали мало и кое-как, сидя в жестком вагоне, а однажды я спала даже на рояле. Но принимали нас благосклонно.
Измученные, но довольные приемом и заработанными деньгами, вернулись мы домой, и я заказала себе у знаменитого сапожника дорогие красивые туфли.
Отец не видел меня в моей первой центральной роли — у него не было времени выехать куда-нибудь на наш спектакль, а мама видела.
В отпускное время (два месяца) артисты Художественного театра любили ездить в Дом отдыха ВЦИКа «Титьково». Авель Сафронович Енукидзе считал возможным выделять в этот дом отдыха путевки артистам МХАТа. Досталась путевка и мне.
В необыкновенно красивом месте, на высоком берегу реки Медведицы стоял большой старый барский дом, оборудованный к тому времени как гостиница. Так же были оборудованы и все службы и флигели. В то лето там отдыхали Фаина Васильевна Шевченко с мужем Александром Григорьевичем Хмарой и дочкой Фленой, чета Кторовых — Вера Николаевна и Анатолий Петрович, Сергей Капитонович Блинников с женой Анной Коломийцевой, Морес и Комиссаров, Гаррель и Павел Массальский, Мария Титова — жена Кедрова, Варвара Вронская и я.
В отдельном дальнем домике жили дети Леонидова — Юра и Аня с мамой Анной Васильевной и дочери Судакова с бабушкой.
В Титьково много купались, мы с Титовой брали лодку, и я подолгу гребла, так как очень боялась потолстеть — кормили там вкусно. Ходили на дальние прогулки большой компанией, а вечерами играли в шарады. Сейчас не верится, что взрослые, известные, а то и знаменитые артисты могли играть так увлеченно и серьезно.
Упрашивали Фаину Васильевну и Александра Григорьевича петь под гитару старинные русские и цыганские романсы. Хмара замечательно играл на гитаре. Как же они пели! Кругом замолкало все. Слушать их дуэты можно было без конца, а иногда Хмара составлял хор, и мы все пели старинные русские песни на два голоса. Пели, наверно, хорошо, потому что даже поздними вечерами нам не делали замечаний.
Больше мне в Титьково бывать не приходилось, но то замечательное лето осталось в памяти навсегда.
С октября 1933 года в театре стали готовиться к 35-летнему юбилею театра (к сожалению, Станиславские были за границей на лечении). В большом секрете готовился «капустник». Его сочиняли мастера шутки и розыгрыша: Блинниковы, Топорков, Петкер, Массальский, Станицын, Дорохин. Репетировали по ночам. Федор Михальский изображал свободного художника в блузе с бантом, безумно влюбленного, сочинявшего даме сердца смешные стихи. Иван Яковлевич Гремиславский, строгий заведующий постановочной частью театра, был печальным скрипачом во фраке, играл серенады той же даме. А мужем дамы был главный бухгалтер (фамилии не помню). Дамой должна была быть машинистка из месткома, но струсила, и ее заменила актриса Н. Михаловская. Эта «жгучая любовная трагедия» вызвала много веселья у зрителей.
Огромный успех выпал на долю участников танца маленьких лебедей из «Лебединого озера». Ими были четверо почтенных помощников режиссера: Н. Н. Шелонский, О. И. Поляков, С. П. Успенский и Платон Лесли. В мастерских Большого театра им сшили специальные балетные пачки, трико и туфли. Учил их балетмейстер Большого театра Б. Поспехин.
Когда открыли занавес, они совершенно серьезно и точно в музыку провели этот номер, их лысеющие головы украшали лебединые перышки (у иных в сочетании с очками), сбоку сидел в каске настоящий пожилой пожарник с виолончелью, хотя танцевали они под оркестр. В зале стоял стон, и им пришлось бисировать.
«Убил» всех Борис Николаевич Ливанов. Во все зеркало сцены спустили белый задник, на котором были нарисованы два трона — на одном Станиславский, огромный, в дамском туалете с бюстом, на другом — Немирович-Данченко, маленький, с коротенькими ножками. По бокам, на колоннах разной высоты, секретарши — Ольга Бокшанская с секирой и Рипсиме Таманцева с трезубцем. Над тронами в виде почти голого купидона с венками «летал» Александр Леонидович Вишневский, а внизу на скамьях по обе стороны — «старики»: Книппер-Чехова, Москвин, Леонидов, Лилина, Качалов и Тарханов. Внизу красовалась надпись: «Простите. Ливанов».
В зале и «свои», и гости рыдали от смеха, и, против правил, топали ногами, не давая убрать этот гениально написанный шарж.
Владимир Иванович в ложе вытирал глаза платком, его жена Екатерина Николаевна весело смеялась, а рядом с ними хохотал Авель Сафронович Енукидзе.
У меня был снимок этого ливановского произведения, но кто-то попросил переснять и, конечно, не вернул
[8].
К юбилейному банкету в «Новомосковском» ресторане готовились по подписке. Я внесла пай, но решила не ходить — у меня не было ни вечернего платья, ни вечерних туфель. Мои дорогие подруги Нора Полонская и Нина Ольшевская, накричав на меня, обозвав дурой и мещанкой, нарядили меня в Норино открытое вечернее платье, Нинины черные замшевые туфли и даже в ее беличью шубку (Нина почему-то не могла быть на банкете).
Моими кавалерами за столом были Виктор Яковлевич Станицын и Петр Владимирович Вильямс. Вначале я робела и чувствовала себя самозванкой, но… недолго. Это был первый банкет в моей жизни! Во главе стола сидели Владимир Иванович с Екатериной Николаевной. Кавалеры мои повели меня чокаться, и Владимир Иванович представил меня жене. Музыка — вальс, фокстрот, танцы, тосты… — все как во сне. На первом трамвае меня проводили домой. Я очень боялась испачкать Нинины туфли, но все обошлось.
Так мне подарили этот праздник мои дорогие подруги.
В том же 1933 году для юбилея Александра Леонидовича Вишневского возобновили спектакль «У жизни в лапах», где Александр Леонидович играл небольшую роль, а главными героями были Юлианна и Пэр Баст — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова и Василий Иванович Качалов. В спектакле были заняты В. Полонская, А. Кторов, М. Названов. В сцене у Юлианны, где впервые появляется Баст — Качалов — седой, с прекрасным смуглым лицом, стройный, высокий, с охапкой хризантем, — все дамы в него сразу влюблялись, а о нас и говорить нечего.
Возобновляла спектакль Нина Николаевна Литовцева, заведовал постановкой Вадим Шверубович, так что спектакль был «семейный».
На мое счастье, мне досталась роль одной из двух горничных Юлианны — Ольги Леонардовны. Я ликовала оттого, что у меня не было дублерши и на каждом спектакле Качалов (по роли) обнимал именно меня. Был у меня еще выход в последнем акте, так что я могла смотреть из кулис знаменитый третий акт: «цыганская» музыка Саца, влюбленный взгляд Баста — Качалова, обращенный на Фрекен — Нору, борьба Баста со змеей, его падение и смерть.
Однажды Миша Названов не успел подхватить падающего Василия Ивановича и тот упал в рост. Названов даже заплакал от страха, а Василий Иванович в антракте уверял испуганную Нину Николаевну, что специально просил изменить мизансцену. А я, стоя на выходе за спиной Ольги Леонардовны (ламановский туалет на ней был еще в наметке), нечаянно наступила на шлейф ее платья, и, когда Ольга Леонардовна быстро двинулась к выходу на сцену, нитки затрещали. Я обмерла и чуть не ахнула в голос от ужаса. Ольга Леонардовна на ходу обернулась ко мне и приложила палец к губам. И после на мои извинения — никаких замечаний, ни малейшего раздражения.
Вот такими были наши неповторимые «старики». И порядки, установленные ими в театре, были иными, чем теперь. Старики, да и все мы приходили в театр за полтора — два часа до спектакля. На сцену проходили не позднее второго звонка, а некоторые и по первому. Театр для каждого был священным местом, и спектакль, действие, актерская работа и вообще всякая работа по созданию спектакля были превыше всего. Надо сказать, что трепетное отношение к работе было характерно для каждого члена коллектива, независимо от того, кем он был — артистом, гримером или гардеробщиком. К сбору труппы в начале сезона готовились заранее, как к большому празднику. Каждый старался нарядно одеться. Партер зрительного зала был полон, так как приходили все — от основателей до рабочих сцены. На общее собрание отводился один час, а потом начинались репетиции.
…Память высвечивает отдельные яркие моменты нашей театральной жизни. Вспоминается мне, как читал Михаил Афанасьевич Булгаков свою «Кабалу святош» («Мольер»), Вся труппа и режиссура собрались в нижнем фойе. Как же он читал! Невозможно забыть его голос, его глаза, когда он, Мольер, говорил Мадлене в конце первого акта: «Не терзай меня», и это тоскливое в последнем акте: «Мадлену мне! Посоветоваться! Помогите!» Казалось, что никто не сможет сыграть так, как он, и так было со всеми ролями, в том числе и с женскими.
У этого спектакля была трагическая судьба. Репетировали его очень долго, с большими перерывами. Константин Сергеевич требовал многих переделок текста, отличающихся от замысла Булгакова. Режиссер спектакля Николай Михайлович Горчаков был нетверд — он хотел угодить Станиславскому и в то же время не обидеть Булгакова. Михаилу Афанасьевичу было очень трудно.
…Как-то на вечерний спектакль «Страх» опаздывала (что случалось в театре крайне редко). занятая в первом акте Нина Сластенина. Леонид Миронович Леонидов, готовый к выходу на сцену, появился на площадке закулисной лестницы, удивленно сверяя свои часы с театральными (от него скрыли задержку начала спектакля, не давали второго звонка). В это время со двора влетела Сластенина и… увидев Леонидова, упала в обморок. Ее моментально подхватили ожидающие — помощник режиссера и одевальщица, обрызгали водой, потрепали по щекам, и через 6–7 минут она была на сцене.
Такой строгой была тогда дисциплина, и, что греха таить, очень боялись гнева Леонида Мироновича.
А вот еще один случай, связанный с премьерой спектакля «Страх».
Участники спектакля решили сделать Леониду Мироновичу подарок в складчину. Он очень любил гравюры и даже их коллекционировал. Удалось достать чудесный экземпляр — «Дама с левреткой». Решено было, что поздравительное письмо и подарок понесет Леониду Мироновичу его дублер — Василий Александрович Орлов. И произошло вот что! Подарок был вручен, Леонид Миронович остался доволен, но в антракте этого же спектакля Васю Орлова пригласили в партком, секретарем которого был некто Иван Мамошин. Орлову был учинен допрос и предъявлено обвинение: «Цариц даришь? (Затем шли «русские» слова.) Знаешь, чем это пахнет?» И дальше в том же духе.
Рассказ испуганного Орлова поверг всех в смущение. Решили посоветоваться с опытным Николаем Афанасьевичем Подгорным — одним из младших «стариков». Николай Афанасьевич успокоил, сказав, что все выяснит. Через два-три дня в театре была «ложа», то есть Сталин, Ворошилов и Енукидзе. В те годы было не так строго, и гостей принимал Подгорный. Николай Афанасьевич, рассказав историю подарка, спросил: как надлежит себя вести? Отсмеявшись, высокие гости сказали: «Покажите нам его!» Но Иван Мамошин на это время сгинул. Так и не нашли.
Я еще вернусь в моих записках к этому «деятелю». Он был невежественный и глупый человек, многим причинил зло, а наши наивные в партийных делах «старики» терпели его, думая, что когда-нибудь «там» разберутся и уберут его.
В начале августа 1934 года Станиславский вернулся в Москву из очередной поездки за границу, а Мария Петровна с детьми и внуками осталась во Франции. Ей был предписан курс лечения, и вернулась она только в ноябре.
Начиная с осени 1934 года Константин Сергеевич редко бывал в театре, а с начала сезона 1935 года врачи совсем запретили ему приезжать в театр. Репетировал он в основном дома, в Онегинском зале, у себя в кабинете или в саду, где под большим тенистым деревом стояли стол, кресла и скамейки (сейчас на этом месте построен большой дом-коробка, дерева нет и от сада почти ничего не осталось).
Перед началом сезона 1935–1936 годов была назначена репетиция «Фигаро» с участием всех занятых в спектакле актеров. Собирались в саду — был теплый день. Пришла вся труппа. Были приглашены Василий Григорьевич Сахновский и Надежда Петровна Ламанова.
Константин Сергеевич вышел в наглухо застегнутом пальто и, сняв шляпу, произнес свое обычное: «Общий поклон». Подошел только к Н. П. Ламановой и, поцеловав ей руку, посадил рядом с собой. Я помню, как задолго до этого дня Станиславский во время просмотра костюмов для «Талантов и поклонников» аплодировал (чего почти не бывало) костюмам Ламановой, особенно для Смельской — Андровской.
Перед репетицией Константину Сергеевичу представили двух вновь принятых актрис: Аню Комолову и Мусю Пятецкую. Сахновский предложил им прочесть что-нибудь для Константина Сергеевича. От страха у Ани Комоловой градом полились слезы, и она затряслась, как в ознобе, а Пятецкая, тоже дрожа, начала читать «Сон Татьяны» из «Евгения Онегина». Читала она искренне, по-своему, смешно. Через некоторое время Константин Сергеевич ласково сказал: «Благодарю вас», и кончилась ее «пытка» — читать Станиславскому, да еще при всей труппе.
Началась репетиция-беседа. Константин Сергеевич предостерегал от штампов, от успокоенности успехом, говорил о необходимости постоянного углубления идеи этой великой комедии. Обращался к главным персонажам, точно указывая, чего должен добиваться каждый для достижения своей задачи.
К сожалению, я не записала эту беседу. Отец всегда говорил мне, что я должна вести рабочий дневник, а я только все собиралась. В тот день, в саду, я была сражена распоряжением Константина Сергеевича: «После репетиции прошу остаться Завадского, Станицына, Пилявскую для индивидуальной беседы». Каждый поймет мое состояние. (Первая мысль — что я сделала не так, чем провинилась?)
После окончания репетиции все, поспешно откланявшись, ушли, чтобы не задерживать Константина Сергеевича.
Юрий Александрович Завадский (у него к этому времени уже была своя студия или даже театр) играл графа в «Фигаро». Беседа Станиславского с ним была сравнительно короткой.
Потом подошел Виктор Яковлевич Станицын. Очевидно, разговор шел о «Пиквикском клубе» — первой самостоятельной режиссерской работе Виктора Яковлевича.
Я маячила далеко — у стены, мне казалось, что Константин Сергеевич говорит нестрого, доброжелательно.
Но вот Станицын встал, откланялся, я быстро пошла к Константину Сергеевичу и тут ясно увидела его замкнутое строгое лицо.
«Садитесь». Я стою. «Садитесь!» И вот он заговорил: «Почему вы так самонадеянны? Думаете, что всего достигли? Верите комплиментам? Почему не приходите ко мне? Я могу вам помочь. Почему вы перестали учиться? Ведь так просто позвонить по телефону и попросить хотя бы дядю Мишу узнать, когда я свободен. Ведь вы же выросли в этом доме». И дальше еще страшнее: «Меня предали старики! Не верят в Систему и те, что всего достигли! (Это о втором поколении.) Но вы — молодежь, должны использовать мой опыт». На галерее второго этажа ходила Рипсиме Карповна — секретарь, но она не смела прервать Станиславского.
Тоскливо и страшно было его слушать. Ведь Константин Сергеевич не знал, что к нему не пускали даже «стариков», которые хотели только навещать его, не затрудняя делами, не говоря уж обо всех других! Подгорный, Егоров, Таманцева, домашний доктор Шелогуров держали в постоянном страхе Марию Петровну, говоря ей, что малейшее волнение может трагически отозваться на сердце Константина Сергеевича, и она верила и деликатно отстраняла даже близких старых друзей. Его отгородили от всех глухой высокой стеной. В дом попадали только те, кто был угоден этим приближенным. И никто не смел открыть ему глаза, потому что это действительно могло кончиться катастрофой.
И что я могла сказать этому гениальному человеку — Учителю с верой и непосредственностью ребенка?! Ничего. Отпуская меня, Константин Сергеевич сказал: «Дайте мне слово, что придете. Приводите своих молодых товарищей. Может быть, еще не все потеряно!» И я дала слово — и солгала. Константин Сергеевич вправе был думать, что я тоже предала его.
Я вышла в переулок, где меня ждали Гриша Конский, Миша Названов, Валя Цишевский, Костя Михайлов, и тут я заревела. Мы быстро отошли от дома, где из окон нас могли увидеть, и я стала рассказывать.
Когда много лет спустя я рассказала об этом Ольге Леонардовне, она так горько сетовала на невозможность общения с семьей Станиславских. «Как же он был одинок!» — все повторяла она.
Константин Сергеевич ухватился за идею создания новой студии — оперно-драматической, где был тот же состав педагогов, что и в мое время, и еще прибавились ученики Зинаиды Сергеевны, а первым и главным помощником Станиславского стал Михаил Николаевич Кедров.
Вспоминается мне еще давний случай со спектаклем «Фигаро».
Этим спектаклем открывали сезон на большой сцене. Играл первый состав, только Графиню вместо Нины Сластениной играла Ангелина Степанова. Публика принимала спектакль великолепно. Играли хорошо, крепко. Дошло до сцены суда. Декорации этой сцены — галерея, балкон, внизу лавки для народа и на небольшом возвышении — судейский стол торцом к публике и обращенные к зрительному залу кресла Графа и Графини.
Мы, несколько актеров, стояли на сцене на балконе и вдруг увидели, как в ложе открылась дверь и, пригнув свою прекрасную белую голову, появился Станиславский.
Мы шепотом вниз: «Ка Эс!»
[9] Что тут началось на сцене! Как засверкал темперамент, как яростны стали схватки «противников»! Судья — Тарханов и его присяжные, не видя ложи и не слыша нашего шепота, секунду недоумевали, а потом включились, подхватив этот бешеный внутренний ритм. Как говорил Константин Сергеевич, ничто не слишком, если есть на то право, то есть — талант. Публика восторженно реагировала и после конца акта благодарила актеров громом аплодисментов.
В начале последнего антракта всех участвующих позвали в нижнее мужское закулисное фойе — вызывал Константин Сергеевич. Когда мы пришли, там уже был весь мужской состав спектакля. Константин Сергеевич стал говорить, что он рад тому, как сохранился и, более того, расцвел спектакль, благодарил за полную отдачу сил всех исполнителей. Как же было стыдно (и наверное, не мне одной) за то, что не всегда этот шедевр Станиславского игрался так, как для него.
Позднее других вошла Ольга Николаевна Андровская (Сюзанна) — ее переодевали в сложный костюм Графини. Расступившись, ей дали дорогу, а Константин Сергеевич, подойдя к ней, поцеловал ее в лоб и сказал: «Прелесть моя, в “Комеди Франсез” нет такой актрисы». Ольга Андровская по праву заслужила эту похвалу, она всегда играла в полную силу.
В октябре из Риги пришла весть о скоропостижной кончине Леонида Витальевича Собинова. Большая группа артистов Художественного театра пришла на площадь перед Белорусским вокзалом, где уже стояла толпа, встречавшая гроб с телом великого певца. Я тоже была там.
Вспоминалось детство. Я много раз видела Собинова и его красавицу жену Нину Ивановну. Потом, уже взрослой, я встречала их в Пименовском переулке, бывая в гостях у Богдановичей. Я видела его за столом — веселого, озорного. Был у Леонида Витальевича уморительный номер: «О чем думает монашка, глядя в молитвенник». Смеялись всегда до упаду. У Богдановичей бывала и Антонина Васильевна Нежданова. Когда ее очень просили, она пела французские шансонетки — кокетливо и смело, под аккомпанемент Николая Семеновича Голованова. Сергей Иванович Мигай тоже смешил до слез, изображая, как пели в опере в старину. Все это было как прекрасный сон!
К осени 1934 года был готов к показу Константину Сергеевичу «Пиквикский клуб». Ставил, как я уже говорила, Виктор Яковлевич Станицын, оформление Петра Владимировича Вильямса. В спектакле была занята вся тогдашняя молодежь театра. Великолепно играл Пиквика Владимир Грибков, Джингля — Павел Массальский, Иова Троттера — очень смешно, на постоянной слезе — Сергей Блинников. Замечательным Сэмом Уэллером был Анатолий Кторов, очень скоро заменивший Василия Осиповича Топоркова, который играл Уэллера на премьере. Горничную Мэри играла Ольга Лабзина, которую потом дублировала я. Очень хороша была в роли мальчишки-гаденыша Евгения Морес.
Мы, находясь в зрительном зале, больше смотрели на К.С. — как он? А он смотрел замечательно, на лице его все читалось.
Он не узнал Михаила Афанасьевича Булгакова, который «попросился», кроме помощи в режиссуре, сыграть судью и играл очет серьезно, с большим темпераментом.
Константин Сергеевич спросил шепотом Станицына: «Кто это? Кто?» — и, услышав, что это Булгаков, что-то прошептал Виктору Яковлевичу и засмеялся счастливым детским смехом. Его смех был высшей наградой для артистов. Спектакль был принят Станиславским без поправок и долго не сходил со сцены.
А Немирович-Данченко, сидя на спектакле, только улыбался. Огорченный этим Станицын решился спросить его: «Вам не понравилось, Владимир Иванович?» В ответ он услышал: «Что вы, я хохотал, как сумасшедший!»
…Меня (по распоряжению Владимира Ивановича) стали вводить в спектакль «Чудесный сплав» Киршона на роль Наташи — дублировать Титову. В составе спектакля были: Грибов — Гоша, Дорохин — Петя, Конский — Ян Двали, Яншин — Олег, Рыжов — Костя, Лабзина — Ирина.
Режиссер поэтапно показывал работу по вводам Немировичу-Данченко. Однажды перед началом репетиции Владимир Иванович очень строго спросил: «Где Рыжов?» Испуганный Иван Рыжов вышел вперед, и тут Владимир Иванович обрушил на него гневную речь. Сейчас я даже не могу вспомнить, в чем обвинялся Ваня Рыжов, — он стоял белый и неотрывно смотрел на обычно сдержанного Владимира Ивановича. Мы тоже все замерли в испуге, а он, кончив говорить, молча вышел из зрительного зала. Репетиция была отменена. Иван плакал и клялся, что не понимает, в чем виноват.
Иван Рыжов был очень одаренным артистом, хотя и без образования (он был из беспризорников). Он покорил всех на приемных экзаменах абсолютной органикой, большим темпераментом и сценической правдой. Его взяли и сразу стали давать эпизоды и даже роли — вот как в «Чудесном сплаве».
На следующий день опять была назначена репетиция «Сплава» с Немировичем-Данченко. Можно представить, как все мы были взволнованы, а уж о Рыжове и говорить нечего. Мы стояли на сцене, а за нашими спинами дрожал Иван Рыжов. Войдя и поздоровавшись, Владимир Иванович спросил: «Где Иван Иванович Рыжов?» Обмирающий Иван вышел вперед, и мы услышали: «Вчера меня ввели в заблуждение, и я был несправедлив к вам. Прошу меня простить». Ванька заплакал, теперь уже от радости, и вскоре началась репетиция.
…Я плохо помню свою «премьеру» в «Чудесном сплаве», но прекрасно помню, что после окончания спектакля Рипси Таманцева привела ко мне за кулисы отца. Я не знала, что он в театре, и задним числом испугалась, а отец смотрел на меня, что-то смущенно говорил и протирал платком очки.
Мою «премьеру» решили «отметить» мои партнеры: Дорохин, Грибов, Раевский, Конский и примкнувший к нам Вадим Шверубович. В сущности, это была обычная наша компания и в праздники, и в будни. Еще с нами часто бывал помощник режиссера Сергей Петрович Успенский. Грибов, впрочем, бывал с нами реже, он уже много снимался, играл, да и опасался выпивать. Близок к нам был и Федор Михальский. Я очень гордилась, что меня пустили к себе «в друзья» уже взрослые актеры — моим сверстником был только Гриша Конский.
Пошли мы в ресторан «Петровские линии» — теперь «Будапешт». Метрдотелем в этом ресторане был уже очень пожилой человек маленького роста со смешным круглым лицом, в безукоризненном смокинге с крахмальным пластроном. Звали его Степан Федосеевич (для нас — Федосеич). Он благоговел перед «стариками» нашего и Малого театров и, очевидно, поэтому очень ласково принимал нас, а главное Вадима Шверубовича («Сынок таких людей!»). Мне думается, что он делал нам скидку на все, а на спиртное — определенно.
В те времена редко кто из молодых имел устроенный быт. Отдельную комнату из нашей «команды» имел только Вадим Шверубович, если не считать Михальского, у которого все равно нельзя было часто собираться, так как он сам был нарасхват. В силу всех этих обстоятельств мы и ходили к Федосеичу, когда случались хоть какие-то свободные деньги.
У нас была складчина, и я, после громких протестов моих друзей, настояла на праве платить за себя. Позднее, когда мы с Колей Дорохиным тайно поженились, за меня стал платить он, а все делали вид, что ничего не изменилось.
Чудесными были эти вечера у Федосеича. В ресторане нарядно, тепло, играет музыка. Тогда все мои кавалеры еще танцевали. Закрывали поздно — в два часа ночи. У нас пьяных не было. Помню, как провожали меня всей «командой» пешком в Лялин переулок, где я жила с мамой и братом.
Как-то сидели мы у Федосеича, все убеждали его, что мы сыты, хотим «только попить кофейку», а попросту — денег было мало. Федосеич, усмехаясь, сказал: «Намеднись иностранцы заехали, тоже говорять — сыти, а я подал тартю, так были ради! Прошу покорно!» (Этот Федосеич карьеру свою начал с «мальчиков, больше для битья», как он сам говорил, и дошел до высот метрдотеля.)
В тот знаменательный вечер, опять же через Федосеича, пригласил нас к своему столу Михаил Михайлович Климов — великий артист Малого театра. Наверное, он скучал. Когда мы, смущенные такой честью (один Вадим был ему знаком), подошли к его столу, на всех было уже накрыто. Вадим представил нас.
Какой изумительный вечер провели мы подле Михаила Михайловича! Сколько рассказов, какой юмор, какое обаяние и как по старинке изысканно он ухаживал за мной. Помню его рассказы о том, как умели пить в старину гусары: «на аршин», то есть рюмки ставились на длину аршина, и «на спички»: сколько спичек в коробке — столько рюмок, выпил — переломил.
Бывали мы и у Вадима Васильевича Шверубовича. Этот дом в Брюсовском был для нас святыней. Там жили Качаловы, Москвины, Леонидовы, Подюрный, Гельцер, домашний врач Станиславских Шелогуров.
Вадим Васильевич сравнительно с нами жил роскошно — большая комната с балконом и с отдельным выходом на лестничную площадку. Обыкновенно там мы вели себя очень тихо, даже чинно. Шум поднимался, когда к Вадиму спускались сыновья Москвина — Володя и Федя. Братья были и похожими, и очень разными внешне. Как мне помнится, они больше были похожи на мать — Любовь Васильевну Гельцер. При них о жизни театра почти не говорили. Братья знали о романе отца с Аллой Константиновной и, конечно, не могли быть объективными.
С Вадимом Шверубовичем было всегда очень интересно. Очень много знал он о старом Художественном театре, о К.С., о Владимире Ивановиче и о всех «стариках». Он знал столько неизвестного нам, «крупномасштабного», как сказали бы теперь, и столько смешного, а иногда и
трогательного из жизни наших кумиров! В то время мы видели их только в театре, а «в жизни» очень мало, разве что по счастливой случайности, а Вадим был свой, близкий и очень любимый ими.
Благодаря его рассказам мы научились понимать, что знаменитые артисты не только работают над ролями, потрясая своим искусством зрителей, а вне сцены талантливо и вкусно умеют жить, веселиться, как дети, и горевать, как обыкновенные люди. В своих рассказах Вадим не обходил и родителей, подтрунивая над ними любовно, но и не боясь смешного.
У Вадима мы бывали не часто. Исключались вечера накануне спектакля у Василия Ивановича. Иногда в безденежье и в дождь, когда нельзя было сидеть во дворе театра — «в дровах», Вадим звал к себе, и мы проводили время в разговорах, чаще переходивших в споры не только о нашем театре, а и о театре вообще, о литературных героях, классических и современных, о своих и чужих пристрастиях. Порой страсти накалялись довольно сильно, но никогда не переходили черту, за которой могла быть пошлость.
Однажды, споря о жизни, и в частности о том, что такое справедливость, Вадим, очень темпераментно крикнув что-то вроде «я покажу вам справедливость», исчез в квартире родителей. Мы притихли от такого поворота событий, не зная, что за этим последует, и, кажется, Гриша Конский предложил «уходить, пока не поздно», как вдруг появился Вадим, неся красивое блюдо с телячьей ногой в желе, а из кармана виднелся сосуд. Качаловы на следующий день ждали гостей, но наш хозяин — борец за справедливость, решил, что если у нас нет денег «на Федосеича», то нога и влага к ней должны быть наши.
Мы слабо протестовали, глотая слюнки, а Вадим кинжалом уже кромсал эту прекрасную ногу, и мы, приговаривая «Ах, как стыдно, ах, как стыдно!», быстро с ней управились.
Все были возбуждены, что-то говорилось о рыцарском поступке хозяина, и, уж не помню как, Успенский стал вспоминать о настоящем гусарстве, о былых загулах, а Вадим — о приемах владения холодным оружием. И не успели мы опомниться, как он саблей срубил часть дверной притолоки. Тут мы услышали отчаянный голос Нины Николаевны: «Вадим! Что же это? Господи! Опомнись!» Мы трусливо скатились вниз, на улице было уже светло… Но такое бурное гостевание было, как мне помнится, единственным.
Вадим Васильевич — человек энциклопедических знаний, подолгу живший в Европе и Америке, владевший несколькими языками, великолепно знавший всю художественную и техническую жизнь театра, был очень уважаем и любим подчиненными, друзьями актерами и людьми самых разных профессий и рангов.
С отцом у Вадима была не только глубочайшая взаимная любовь, но и настоящая дружба на равных, и чем старше оба они становились, тем сильнее становились и эти чувства. По отношению к Нине Николаевне Вадим Васильевич, кроме сыновней любви, проявлял необыкновенную бережность из-за пережитой ею трагедии. Но все это он тщательно прятал, и большая взаимная любовь не мешала им яростно спорить во время общей работы в театре, когда взрывному темпераменту Нины Николаевны противостоял бурный нрав строптивого сына. А спустя время, успокоившись и разобравшись, кто был не прав, они весело вспоминали свои поединки, а особенно смеялся над ними Василий Иванович.
В начале лета 1935 года я впервые попала на бега. В те времена в заездах иногда участвовали и артисты нашего театра, хорошие спортсмены — Грибов, Яншин, Грибков, Кудрявцев и Купецкий.
Мы поехали большой компанией — Нора Полонская, Хмелев, Бутюгин, Малолетков, ну и вся наша обычная «команда».
Ипподром. Множество людей, пестрая нарядная толпа, возбужденные голоса: «На кого ставить?» Мне все было интересно. На поле выехали «наши» — для проездки. Первым ехал в беговой коляске на очень красивом коне Яншин, за ним так же красиво Грибов, Грибков, Купецкий и последним — Иван Кудрявцев на невзрачном, как мне показалось, коне. Мне стало жалко Кудрявцева, и я попросила мужа от меня поставить на него — сколько не помню, но, наверное, не больше 5—10 рублей. Фаворитами были Грибов и Яншин, на них много ставили.
Наконец все замерло. Дали старт — удар колокола, и «наши» понеслись. Кажется, должны были сделать три круга. Иван Кудрявцев шел последним, но постепенно его конь стал набирать силу и на каком-то круге оказался почти голова к голове с первыми. Накануне шел дождь, и все наездники были заляпаны грязью. Когда они проносились мимо трибун, слышны были некоторые их «ласковые» слова, обращенные друг к другу.
Внезапно я оказалась стоящей на скамье и орущей: «Ваня, миленький, давай! Ваня, давай!» Меня пытались стащить с лавки Дорохин и еще кто-то, но я находилась в трансе. Кругом тоже кричали и волновались. Торжеству моему не было предела — Иван Кудрявцев пришел первым!
Вся наша компания была в волнении: оказывается, на мою ставку выпала крупная выдача, так как на Кудрявцева ставили мало. Я оказалась в большом выигрыше. Когда Дорохин принес деньги (я сейчас не могу точно сказать, сколько), то друзья и муж стали меня поддразнивать, говоря что-то о мещанстве и жадности. Кончилось мое торжество у Федосеича, где «всем составом» мы проужинали выигрыш. Смеясь говорили, что нельзя мне играть — опасно. Больше я на бегах ни разу не была. Возвращаясь домой в Лялин, я в смятении представила себе, что было бы с отцом, узнай он о моих «подвигах»…
Мой муж, Николай Иванович Дорохин, родился в 1905. году. В Художественный театр был принят в 1927 году. Очень скоро он выделился в народных сценах. Например, в «Растратчиках» он пел под собственный аккомпанемент смешные куплеты, которые сам и сочинил. И Константин Сергеевич оставил этот эпизод в спектакле. Через некоторое время Владимир Иванович поручил ему центральную роль в спектакле «Наша молодость», дублерство Грибову в «Квадратуре круга» и центральную роль в «Чудесном сплаве». Дениску в «Блокаде» он дублировал Ивану Кудрявцеву. Даже в таких идеально поставленных народных сценах, как, например, в «Бронепоезде 14–69» — «На колокольне» или в «Днях Турбиных» — «Юнкера в гимназии» Дорохин и Грибков выделялись смелой характерностью: они оба не боялись быть смешными.
В письме Станиславскому от 18.06.1930 года Немирович-Данченко назвал Дорохина «талантом чистой воды»
[10].
Дорохин был очень музыкален, играл по слуху на рояле, гитаре, даже на скрипке, и особенно хорошо на «ливенке».
Ко времени, о котором я вспоминаю, у Дорохина уже была своя большая подвальная комната в доме Станкевича на улице его имени. Очень скоро ее перегородили, оставив ему меньшую часть, так как в Москву приехали его родители, старший брат и сестры.
Биография моего мужа для того времени была довольно обычной. Из родительского дома в Ельце он почти убежал в Москву — «в артисты». Было это осенью 1923 года. Подал заявление и документы одновременно на медицинский факультет и в театральное училище, которое впоследствии преобразовалось в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. На медицинский факультет был принят в силу крестьянского происхождения, а учиться пошел в театральное.
Первый учебный год ночевал на Курском вокзале и возил тачки с кирпичом на стройке Центрального телеграфа. За учение брали плату — хотя и немного, но деньги надо было заработать. В следующем году он переписывал у какого-то нэпмана приходно-расходные книги и ночевал в хозяйском чулане, а на третий год за аккуратность и хороший почерк ему разрешили жить в ванной, которой нельзя было пользоваться.
В 1927 году, пройдя очень большой конкурс, Дорохин был принят в Художественный театр. Еще раньше, в том же 1927 году, он стал обладателем подвала в доме на улице Станкевича. Вот в этот глубокий подвал — в окне видны были только ноги — иногда и набивалась наша дружная компания и просиживала долго, весело, а иногда и вкусно. Туда любил приходить Федор Михальский и забегал по секрету Паша Массальский.
Из моих подруг ближе всего к нашей компании была Нора Полонская, но там она бывала редко. Мешали сложные переплетения ее личной жизни и большая занятость. К тому времени Нора получила отдельную большую однокомнатную квартиру на Пушечной улице, в доме, где был не то банк, не то еще какое-то учреждение. Норе дали эту, по тем временам роскошную, квартиру по распоряжению Авеля Сафроновича Енукидзе. Будучи близким к Художественному театру, Авель Сафронович хорошо знал все беды наших артистов, в том числе и Полонской. Я уже говорила о его большом сердце и умении понимать чужие трудности.
Я бывала у Норы часто, особенно в перерывах между репетициями и спектаклями, да и вечерами засиживались у нее в большой компании, куда входили Владимир Львович Ершов (в то время он был уже холост), Юрий Александрович Завадский с женой Ириной Вульф и, конечно, Ардовы. Очень часто здесь бывали Яншин и некоторые артисты так называемого второго поколения. Все мужчины были неравнодушны к Норе.
Вспоминается такой курьез. Норе предстояло явиться на какой-то раут, а все ее немногочисленные вечерние туалеты были уже довольно хорошо известны. Тогда я нахально взялась сделать из двух ношеных платьев одно новое. Прямо на ней накалывала и тут же зашивала. Началась эта авантюра утром. Потом я бегала играть Ночь в «Синей птице», а бедная Полонская ждала меня в этом частично сшитом туалете. Подробности ушли из памяти, но факт, что Нора блеснула новым платьем, я помню по ее рассказу на следующий день. Мы очень веселились, вспоминая мою «работу».
Однажды Яншин сказал, что повезет нас на блины к своей двоюродной сестре. Приглашены были Полонская, Вульф, Варзер и я. От спектаклей мы были свободны, поэтому согласились. В назначенный час, кажется, днем, он пришел за нами на Пушечную. Мы даже не «припарадились» — домашние блины! Спустившись на улицу, я с удивлением увидела, что наш кавалер открывает дверцу большой черной машины иностранной марки и подталкивает туда удивленных дам. Яншин, когда хотел, умел быть императивным, и вскоре, несмотря на нерешительность, я тоже оказалась в машине. Дорогой говорил только он. Мы молчали, а тем временем машина с набережной въехала во двор английского посольства и подкатила к флигелю.
Не успели мы подъехать, как из дверей появилась горничная в наколке и нарядном переднике.
Михаил Михайлович оживленно с ней поздоровался. Мы молча прошли в переднюю, где нас встретила красивая молодая дама — двоюродная сестра, только не Яншина, а его жены, Ляли Черной. Эта красотка была замужем за вторым не то секретарем, не то советником этого посольства. Ее супруг был в отсутствии.
Через какую-то комнату мы прошли в столовую, где за красиво сервированным столом сидели четверо мужчин, которые, не вставая, оживленно загалдели по-английски. Хозяйка переводила, а Яншин был напряженно веселым. Мы молчали. Нас усадили за стол, тут же появились блины, стали разливать вина. Мужчины и хозяйка о чем-то весело говорили, а наш кавалер был явно смущен и рассержен из-за нашего молчания.
Мы посидели минут десять, не притронувшись к рюмкам. Потом, кажется, Ирина Вульф сказала, что произошла замена спектакля и мы вынуждены откланяться. Было неприятно видеть, как смутился Яншин, как была разочарована хозяйка. Наспех простившись, в этой же машине мы возвратились к Норе на Пушечную. Дорогой тоже все молчали. Зато потом Яншину крепко досталось.
У меня не было права говорить с ним так, как могли говорить Нора, Ирина и Люся, но мое положение было весьма затруднительным: мне нельзя было ездить в посольство, не посоветовавшись с отцом, — время было сложное. И я не ошиблась.
На следующий день я была у отца по его вызову. Разговор был, конечно, неприятным. Сам факт, что отцу сразу же стало известно о моем визите в посольство, уже доказывал, что я не должна была туда ездить…
Произошло это в нижнем фойе, после какой-то репетиции с Константином Сергеевичем, в те времена, когда он еще приезжал в театр.
Актеров, да и всех, кто имел право присутствовать на репетиции, было, как всегда, много. После окончания репетиции помощник режиссера Шелонский шепнул мне, чтобы я подошла к Константину Сергеевичу. Как всегда, первой мыслью было: в чем я провинилась?
Подойдя, я увидела, что его лицо спокойно, глаза пристальные. (Если лицо Владимира Ивановича всегда было непроницаемым, то у Константина Сергеевича все всегда можно было прочесть.) И вот такое знакомое — «Ну-с». Пауза. «Рассказывайте. О чем мечтаете? О какой роли?»
О чем же можно рассказывать? О каких мечтах, когда от волнения и голоса-то нет — сел. Ведь мы все, от мала до велика, его не только обожали, но и боялись очень. «Ну вот в “Синей птице”? — терпеливо помогает мне К.С., а я продолжаю тупо молчать. — Наверно, Фея или Свет?» И я вдруг, неожиданно даже для себя, сиплым голосом произношу: «Нет, Константин Сергеевич, Ночь». Пауза была длинной, потом: «Гм, гм» и еще что-то о работе над дикцией и про упражнения для голоса.
В арки нижнего фойе во время репетиций вставлялись складные ширмы с дверями, и вот из такой двери появилась фигура Рипси Таманцевой. Константин Сергеевич встал, произнес опять-таки обычное: «Ну-с, ну-с» и наклоном головы отпустил меня.
Когда я вышла, меня стали расспрашивать, что он говорил, но я замерла и молчала, понимая свою дерзость. Ночь в то время играла Фаина Васильевна Шевченко, а дублировала ей изредка Нина Васильевна Тихомирова.
Через какое-то время Вершилов стал готовить для показа Леониду Мироновичу Леонидову, который в то время курировал спектакль, предполагаемый новый состав дублеров для «Синей птицы», и мне досталась Ночь. Вот как заботились о нас, молодых, наши великие основатели театра.
Помню, что Тильтиля репетировала Марина Ладынина, но вскоре ее «похитил» Иван Пырьев и она стала кинозвездой. Пса репетировал Александр Михайлович Карев. Роль Кота репетировал с нами и замечательно играл Александр Михайлович Комиссаров. Остальные ушли из памяти.
Я старалась изо всех сил и, конечно, невольно пыталась копировать Фаину Васильевну.
Репетировали не очень долго. Спектакль я знала хорошо — смотрела несколько раз. Почему-то меня не ввели в группу «черных людей», делающих все чудеса: летающие часы, тарелки, звезды и т. п. В черных бархатных комбинезонах и в таких же шлемах и масках на фоне черного бархата они были абсолютно невидимы.
Наступил день показа третьего акта «Синей птицы» Леониду Мироновичу. — В нижнем фойе поставили станок и на нем кресло. Я облачилась в костюм Ночи. Это было сложное сооружение из легкого черного кашемира со вшитыми в рукава-крылья длинными бамбуковыми удочками, плюс очень длинный шлейф, перчатки и на ногах ботинки с котурнами. Взгромоздившись на трон, я замерла в ожидании.
Репетиция шла под рояль. Что и как я делала на этом показе, толково рассказать не берусь. «Сцена Ночи» идет 30 минут, и вот она кончилась. Молчание. Сижу на «троне» и жду приговора. Слышу голос Леонида Мироновича: «Пожалуйте все сюда». Путаясь в костюме, я сползла с трона и двинулась к грозному Леониду Мироновичу (его ведь тоже боялись, и даже очень).
Он начал говорить о сказочности и тонкости произведения Метерлинка, о том, что дети не прощают фальши. Глядя на меня своими пронзительными глазами, Леонид Миронович спросил: «Знаете, что вы сейчас сыграли?» Я, конечно, молчала. «Мармелад из моркови!» И еще грознее: «Да не дрожите вы, я вам добра желаю!» И стал выстраивать роль. Три раза занимался со мной Леонидов, и только после этих занятий начались сценические репетиции. Я научилась быстро сходить по крутой бархатной лестнице и так же быстро подниматься по ней в абсолютной темноте (только начало черных бархатных перил обозначалось малюсенькой лампочкой). Когда я осилила все эти сложности и овладела «крыльями», научилась раскрывать и складывать их точно по музыке, наступил день премьеры.
Играла я эту замечательную роль около 40 лет. Один этот акт отнимает много сил, если играть его как должно. Когда-то этот спектакль был с тремя антрактами, с участием большого оркестра и всей вокальной части (под сценой). Тогда его не играли в урезанном варианте в 10 часов утра и в 2 часа дня по праздничным дням и во время школьных каникул. Многие и многие поколения смогли его увидеть, но не в качестве одного из «дневных сеансов», а как один из шедевров Станиславского.
Однажды меня попросили играть Ночь в трехтысячном юбилейном спектакле. Роль Хлеба играл тогда Николай Озеров, Насморка — профессор Мария Иосифовна Кнебель, Соседку Берленго играла София Николаевна Гаррель, Пса — Иван Михайлович Тарханов. Был торжественный вечерний спектакль, но в сцене Ночи было светлей, чем нужно. Тончайшее музыкальное произведение Ильи Саца звучало в записи на фонограмму. Открыв заветную дверь и унося клетку с Синей птицей, дети — Тильтиль и Митиль — и вся их свита, вырвавшись из страшного царства Мрака, почему-то опять спустились туда же по черным, а теперь уже просто грязным, ступенькам и по авансцене, объясняя Фее, что они поймали птицу, ушли за кулисы. Так, очевидно, удобней, но ушла сказочность, а детям и в сказке нужна логика, нужна правда.
Встреча Нового, 1934 года вспоминается смутно. Помню только, что встречали мы его с Дорохиным врозь — наверное, поссорились.
Собрались на паях в каком-то чужом для меня доме. Все были парами, и я случайно оказалась дамой Владимира Львовича Ершова — он тоже был один. Ершов был человеком кристальной души и совести, потом мы очень с ним подружились, а тогда он был рыцарски обходительным, выполняя роль моего «кавалера», но у каждого из нас были свои сердечные заботы.
Из этого дома наша компания быстро удрала, и мы почему-то оказались у вахтанговцев — они встречали Новый год у себя в театре: музыка, танцы и веселая неразбериха.
Через дорогу от театра жил наш артист Сергей Бутюгин с семьей, там тоже встречали наши, и я туда попала после Вахтанговского театра. Радостно возбужденный хозяин случайно опрокинул на меня соус. И когда под утро меня доставили домой, гордую такой «светской» встречей Нового года, мама, взглянув на меня, вернее, на мое единственное вечернее платье, всплеснув руками, произнесла свое обычное: «Децко мое, Матка Боска!»
В начале 1935 года стало известно, что летом, во время отпуска, предполагается послать из Москвы первую актерскую шефскую бригаду для обслуживания Дальневосточной армии командарма Блюхера. Когда мне предложили участвовать в этой бригаде, я с радостью согласилась.
Я уже играла Наташу в «Чудесном сплаве», а для поездки меня начали вводить в «Квадратуру круга» Катаева на роль комсомолки Тони, а Дорохина — за Ливанова. Остальные были на своих ролях в обоих спектаклях. Еще планировался большой концерт с тем же составом.
Нас было двадцать два человека, в том числе певцы и музыканты. Были с нами Федор Николаевич Михальский и Вадим Шверубович, молодые, но уже знаменитые Алексей Грибов, Елена Елина, Ольга Лабзина, Иосиф Раевский, Николай Дорохин, Григорий Конский, Яков Лакшин, Зиновий Тобольцев, Иван Рыжов, машинист сцены Леонид Попов. В состав нашей бригады входили также солист Большого театра Петр Селиванов, композитор Ферэ, поэт Островой, гроссмейстер Григорьев, концертмейстер Лоскутова и певцы из вокальной части Художественного театра, а еще баянист Вася (фамилии не помню).
Уезжали мы в конце июня. Провожали нас пышно — парадным завтраком и речами в театре. Присутствовали все «старики». Мария Петровна Лилина прочитала письмо к нам Константина Сергеевича (это письмо почему-то не вошло в летопись). На вокзале гремел оркестр, а главное — к поезду приехал Владимир Иванович Немирович-Данченко. В конце напутственной речи он сказал: «Высоко держите знамя Художественного театра!» Потом суетливое прощание с близкими и с провожающими. Отец чуть не опоздал: мы уже были в вагоне, когда он почти бегом поравнялся с нами, и я прощалась с ним через окно. Он что-то говорил мне, но за шумом оркестра ничего не было слышно.
Ехали мы с комфортом. У нас был отдельный мягкий вагон, и даже с душем. Когда вошли в купе, на каждом месте лежал пакет: жареная курица, бутерброды и еще что-то сладкое — всё это из театра!
Скорости в те далекие времена были другие. Путешествие до Хабаровска длилось 10 суток. Ехали весело, шумно. Как сейчас вижу черные от копоти лица: поезда топились углем, жара, окна открыты, сквозняков еще не боялись. Все казалось таким интересным, ничего нельзя было пропустить. Байкал на рассвете — настоящее потрясение. Суровая красота Сибири поражала и завораживала.
Поезд был скорый, с вагоном-рестораном и с международным вагоном. Мы ходили иногда в ресторан обедать, но больше покупали всякую снедь на привокзальных базарчиках, а у нашего проводника постоянно кипел огромный самовар. С пассажирами из других вагонов общения не было. Как-то Рыжов и Зяма сообщили нам, что в международном едет пара: «она» — красавица в пижаме с золотыми драконами, а «он» очень элегантен и тоже красив. Мы так их и прозвали — «Драконы». Но о «Драконах» позже.
Очень активным во время путешествия был Раевский. Постоянно куда-то звал, тащил к окнам, что-то объяснял, попутно ухаживая за дамами, особенно за одной из наших певиц. Когда над ним подтрунивали, он не обижался, а, как бы отрубая перед собой ладонью воздух, кричал: «Да! Я джентльмен! Да!» Тогда шуткам и розыгрышам не было конца. Как-то наш Вася-баянист, проходя по вагону и взглянув на склонившегося к своей даме Раевского, сказал: «Хватает же у человека фальшивых слов!» Многие годы ходила среди нас эта фраза.
Чем ближе мы были к конечной цели, тем серьезней становились. Стали уточнять концертную программу. Основная нагрузка в концерте ложилась на певцов и музыкантов, но и мы, конечно, были заняты. Ответственным за художественное качество (как теперь говорят) поездки был Алексей Грибов, и был он очень строг.
Перед отъездом Надежда Петровна Ламанова сшила всем женщинам вечерние туалеты из крепдешина, выкрашенного в разные цвета: у Лабзиной розовый, у меня лимонный и т. д. (Все это шилось в мастерских театра за казенный счет, а по приезде мы выплачивали в рассрочку очень незначительными суммами.)
Перед Хабаровском мы еле отмылись в нашем душе, приоделись — мужчины при галстуках, мы в скромных дорожных платьях, в панамах или беретах и в перчатках.
Когда наш поезд подходил к перрону, мы решили, что встречают кого-то очень важного: раздались слова команды, загремели два оркестра, сдвинулись ряды военных. Мы думали переждать в вагоне, а оказалось, что это встречают… нас! Мы очень оробели — страх ответственности был сильным.
Во время церемонии этой встречи мы даже как-то утратили ощущение реальности: цветы, приветствия, музыка, марширующий почетный караул. В открытых машинах нас везли через весь город в Дом офицеров, где все уже было приготовлено. Велики были уважение и любовь к Художественному театру, и такой прием надо было оправдать.
Мы приступили к выполнению такой трудной, но и такой прекрасной миссии — играть для бойцов и командиров Дальнего Востока, для армии легендарного Блюхера.
Для передвижения нашей бригаде выделили одну грузовую полуторку, где размещался наш багаж: мягкие подвески, небольшой раздвижной занавес с «Чайкой», несколько складных легких конструкций для декораций, корзина с необходимым реквизитом, корзина с костюмами и наши личные вещи.
Еще к нам прикрепили легковую «эмку», но мы предпочитали не пользоваться ею, так как в ней всегда располагался наш «командир» и начальник Иван Мамошин. Я уже упоминала об этом человеке. Единственное, что омрачало нашу поездку, — это он, глупый, серый, самовлюбленный, ненаказуемый. Очень бывало за него стыдно. Он всюду рвался произносить приветственные речи. Вот образчик его красноречия: «Товарищи бойцы и командиры! Что была артистка до революции? Она была, товарищи, постельная принадлежность! А теперь эта принадлежность приехала в вашу армию». Передаю дословно. Зрители внимали ему с недоумением. Он любил пиво, причем пил много, во время своих приветствий часто срывал голос и, к нашему счастью, сипел. Вот тут-то его и уговаривали «отдохнуть». Работы он никакой не знал, обычно во время наших спектаклей спал где-нибудь в сене или на травке, но обязательно являлся к концу, когда артистов благодарили, дарили цветы, вручали грамоты и говорили сердечные слова. Во время переездов он спал как на двуспальном ложе, потому что обычно в машину совали одну из корзин, а кто-нибудь из мужчин садился с водителем, чтобы тому было не скучно ехать. Переезды у нас бывали иногда большие, мы проехали по всему Приморью — от Хабаровска до Владивостока. И, несмотря на это, предпочитали ездить в кузове нашей полуторки, а не в обществе «начальника».
В Хабаровске мне впервые довелось летать на очень небольшом самолете — гидроплане. Мы попросили военное начальство после спектакля на аэродроме «покатать» нас. Разрешили только два взлета, и эта честь досталась Лабзиной и мне. Хоть полет и был коротким — всего 5—10 минут, ощущения были очень острыми и не забылись: кабины нет, сверху только козырек.
Однажды ехали мы к озеру Ханка в какую-то особую часть, и к концу дня наш грузовик застрял в болоте, застрял основательно — усилия всей бригады были тщетны. На Дальнем Востоке темнеет рано, необыкновенных размеров комары и всякий гнус донимали сильно. Мы завязали лица чем было можно и все время курили. Были мы грязные, а ноги еле вытаскивали из вязкой почвы. В «эмке» сидела наша пианистка Лоскутова: незадолго до этого она умудрилась сломать ногу, и до колена ее загипсовали.
Было решено, что легковую машину надо послать в часть за помощью. Мамошин направился к машине, но наши мужчины, не выбирая выражений, остановили его, сказав, что поедут Грибов и я. Довольно долго мы благополучно продвигались по узкой дороге и вдруг тоже «сели». Водитель-военный, быстро обойдя машину, предложил: «Я газану, а вы толкните, может, и выскочим». Мы с Грибовым вышли в грязь, и я услышала: «Соня, деликатно мы ее не сдвинем, что услышишь — молчи, а лучше подтягивай».
И вот, навалившись сзади, мы стали толкать машину, и я услышала, как Алексей, разнообразно сочетая «русские» слова, крикнул: «Что же ты? Помогай!» Я, как умела, тоже стала что-то кричать, и с третьего раза мы ее выпихнули. Водитель, смеясь, только крутил головой: «Ну артисты — сила!»
Грязные, но довольные, мы скоро добрались до места назначения. Потом, вытащенный тягачом, прибыл наш грузовик. Отмылись мы в волшебно красивом озере, нас накормили и уложили спать. Через 2–3 часа, когда нас разбудили, оказалось, что все наши вещи выстираны и выглажены, а обувь высушена и приведена в порядок.
Мы играли спектакль в зеленой ложбине, как бы окруженной природным амфитеатром. Зрители — только военные, здесь их было очень много, и кое-где виднелись женские головки. Потом приветствия, грамота со смешно искаженными почти у всех фамилиями, парадный обед и расставание.
Машины наши были вымыты и вычищены, и мы, предоставив Мамошину ехать в «эмке» с нашей «раненой», весело покатили по благополучной дороге в другую часть.
Был с нами и такой случай. В какой-то военной части мы играли «Квадратуру круга». (Кстати, во всех сценах гостей неизменно участвовал Михальский, всегда играя на мандолине.) На этот раз мы играли в помещении даже с подобием сцены и кулис, устроенных из длинных красных полотнищ с остатками лозунгов на изнанке. Кто-то из наших обратил внимание, что на лавке первого ряда сидят два молодых военных красавца и у каждого по три «шпалы» — высокие воинские отличия. Один очень светлый блондин, а другой темноволосый, оба почти коричневые от загара. Наша дамская половина была приятно взволнована. После спектакля была, как всегда, торжественная часть, а потом ужин с тостами хозяев и нашими ответными. Удивило нас отсутствие двух красивых командиров, но нам сказали, что это были гости с погранзаставы и что они поспешили вернуться к своим обязанностям.
Наутро мы двинулись по намеченному маршруту. С нами был военный-сопровождающий, так как мы ехали в пограничную зону. На перекрестке дорог нас встретили двое военных при оружии. Сопровождающий что-то им объяснял, показывая документ, Но в результате довольно нервного разговора мы поехали по дороге, указанной этими двумя. Оказывается, нас «похитили» те красивые командиры, нарушив наш маршрут!
Мы очутились совсем близко от границы, где нас встретили, лукаво улыбаясь, хозяева этой части, шутливо жалуясь на то, что нельзя обижать их, бедных, проехав мимо. Мы дали концерт, а на другой день, позавтракав малиной, уехали по намеченному маршруту. Ехали мы в Николоуссурийск, где должны были играть в течение двух дней оба спектакля.
В дороге у меня появились признаки сильного отравления. Мне стало очень плохо. Когда мы приехали в Николоуссурийск, оказалось, что квалифицированной врачебной помощи там нет, и взволнованные хозяева стали поить меня молоком, отчего мне стало еще хуже.
Вечером, перед концертом, заменившим спектакль «Чудесный сплав», я лежала, обложенная бутылками с горячей водой. Помню появившегося у моей койки Мамошина и его слова: «Срываешь спектакль, неженка!» Вадим и Николай хотели его бить, но он быстро растворился в черноте очень душного вечера.
На следующий день мы играли там же «Квадратуру круга»? Театром стал большой сарай или склад с наглухо заделанными окнами под самой крышей (их вынули вместе с рамами). Сцена была вполне приемлемая, хотя и маленькая, но декорации стараниями Вадима, Лени Попова и наших актеров хорошо смонтировались. Зрителей было, как говорил Вадим, «внабой»: на лавках сидели только два первых ряда — командный состав, остальные стояли.
Мне было очень трудно. В кулисах несли дежурство Шверубович и Михальский со средствами скорой помощи на всякий случай. Я додержалась до конца третьего акта, но когда пошел занавес, я тоже куда-то «поехала» и очнулась, лежа на траве. Товарищи обмахивали меня кусками фанеры. Антракт продолжался 40 минут. Зрители терпеливо ждали, и мы доиграли последний акт. Во время ужина с командованием ко мне приходили пить за здоровье, а я лежала чуть живая, но гордая своей выносливостью.
Были мы и в Интернациональном полку, которым командовал полковник Берзарин, впоследствии первый комендант поверженного Берлина. Этот полк располагался далеко в сопках. Как нам сообщили, они три года не видели штатских.
Ехали мы по очень красивым местам, совершенно безлюдным — по обе стороны дороги только кустарник и разноцветные поляны, покрытые маками, ирисами и дикими анемонами. И вдруг из кустов донесся голос: «Привет дорогим гостям!» А с другой стороны дороги на нас посыпались маленькие листовки со словами привета, и опять тишина. Едем дальше и еще издали видим арку. По обе стороны — бойцы с охапками цветов, а поперек протянуто полотнище: «Слава Художественному театру». Тут уж, осыпанные цветами, даже наши мужчины стали вытирать глаза.
Въехали на плац полка, где перед строем нас приветствовал полковник Берзарин.
Мамошина оттащили, не дав ему раскрыть рта. Ответное слово держал Раевский.
Нас провели в палатки, и опять мы были растроганы до слез: у коек на брезентовых стенах были пришпилены отрезы разноцветного шелка — забота жен командиров.
Гостили мы там два дня. Давали оба спектакля и концерт, а в нашу честь были устроены стрельба на приз и конные состязания. Тут уж первым был Вадим Шверубович, ему достались главные призы, но Раевский тоже сидел на лошади, хотя и впервые в жизни, и тоже стрелял. Через два дня мы прощались с этим полком и с Берзариным как с самыми дорогими друзьями. Говорят, что в сопках цветы не пахнут. Роскошные букеты наши пахли «Красным маком» и «Москвой» — их надушили.
Во Владивостоке, в настоящем театре, мы показали оба наших спектакля и концерт и еще отдельно концерт — для гражданской публики.
Владивосток нас поразил своей красотой, особенно бухта и порт «Золотой рог». Разместили нас в комфортабельной гостинице. Вечером мы — Шверубович, Грибов, Дорохин, Раевский, Елина и я, не слушая предостережений нашего «начальства», пошли на знаменитую тогда «Миллионку» — место скопления различных людей, языков и каких-то блатных жаргонов. Лавчонки, притоны, даже с красными фонарями у входа, харчевни, чайные. Люди клубились, все это гремело, веселилось и ссорилось, довольно активно. И тут мы увидели «Драконов» из международного вагона. Она — в рваной тельняшке, он тоже одет как оборванец, оба о чем-то яростно спорили, грязно ругаясь.
Только мы направились к какой-то лавчонке с амулетами и разной мелочью, как нас остановили одетые в штатское наши военные и вернули в гостиницу, строго распекая за прогулку, которая могла быть небезопасной. Алексей Грибов все-таки умудрился приобрести палочки, какими едят на Востоке, и с гордостью показывал их нам.
Пришло время ехать домой к началу сезона.
Во Владивостоке не оказалось отдельного вагона с душем. Наше военное начальство очень смущалось невозможностью отправить нас должным образом. В Москву срочно уезжало много начальства, и все брони были аннулированы.
Несколько человек во главе с Грибовым и Шверубовичем уехали, кажется, на сутки раньше, а всех остальных распределили по всему составу. Провожали нас опять торжественно и сердечно. Среди провожающих был один из заместителей Блюхера. Произнес слова привета и Александр Александрович Фадеев, с которым мы встретились и подружились во время этой сказочной поездки. После выступления, закончив своим обычным: «А мы живем!», он сообщил, что тоже едет с нами — вот так, как есть, без вещей.
В международном вагоне нам приготовили два купе: в одном супруги Селивановы, в другом — Елина и я. Для наших женщин были места и в мягком вагоне, еще было два купированных жестких и несколько мест в общем плацкартном вагоне. Фадеев ехал в общем, наотрез отказавшись от купированного.
К нам с Елиной часто приходили в гости товарищи, а у Селивановых организовался преферанс. Ехали хорошо, дружно, питались в вагоне-ресторане. За всю поездку мы не истратили ни копейки, только во Владивостоке, в магазинах, поэтому с удовольствием «сорили» деньгами в ресторане. (Мы получили за неиспользованный отпуск двойную зарплату и суточные — это была для каждого из нас довольно солидная сумма.)
В дороге произошел такой случай. Рядом в купе ехали двое, один из них — военный — был необыкновенно мрачен, за несколько суток не произнес ни одного слова и много пил. Как-то Фадеев пришел к нам в гости. По соседству, у Селивановых, играли в преферанс, там был и мой муж, мы собирались пойти все вместе в ресторан ужинать. Я и Александр Александрович вышли из купе, где переодевалась Елина, как вдруг соседняя дверь с треском откатилась и мрачный военный с неразборчивыми выкриками пробил оба зеркальных стекла в окне коридора — очевидно, чем-то металлическим, Руки его были окровавлены. Александр Александрович, подбежав к нему, пытался его унять, что-то говорил, а тот вдруг вцепился этими страшными руками Фадееву в горло и стал его душить, грязно ругаясь. Я заорала что было силы: «Коля!» Муж выскочил и бросился оттаскивать военного, пытаясь расцепить руки. Прибежал проводник, кто-то еще, и начали бороться с этим страшным человеком, а он, как бы опомнясь, выкрикивал: «Я Германн! Тройка, семерка, туз!» Тут вышел его попутчик, ловким приемом уложил хулигана плашмя, и его унесли в служебное купе.
О ресторане не могло быть речи, у Фадеева были запачканы кровью руки и шея, Дорохин тоже был в кровавых пятнах. Когда оба привели себя в порядок, а Петр Селиванов дал им свои рубашки, к нам постучал человек, ехавший с тем сумасшедшим. Он очень вежливо, но спокойно извинился, сказав, что виновного снимут с поезда на ближайшей станции и что ужин принесут нам в купе, ясно давая понять, что огласка нежелательна.
В вагоне все двери были закрыты и стояла тишина, только мы взволнованно перебирали все детали случившегося, а Александр Александрович, похохатывая, говорил Коле: «Ну ты прочный друг». Горло он все-таки растирал, хоть и говорил, что пустяки.
Это было до Иркутска, а потом случилась беда — заболел Гриша Конский, у него начался жар и распухло горло. Какой-то медик, из пассажиров, осмотрев Гришу, сказал, что его надо немедленно снимать с поезда. Гриша заплакал и умолял не бросать его. Мы дали слово. Наступил день, когда ему стало хуже: он с большим трудом говорил, задыхался.
Николай Дорохин взял у Раевского довольно длинную клеенчатую полосу. Аккуратно оторвал половину полотенца, намочил в водке и этот странный компресс положил Грише на горло. Взяв мою чайную серебряную ложку, Дорохин стал точить ее плоскую ручку на каком-то бруске. Я спросила, для чего, но не услышала ответа.
И вот ночью мы четверо — Дорохин, Раевский, Михальский и я — сидим молча и смотрим, как мается Гриша, а на столике в стакане с водкой ручкой вниз — моя ложка. Очень страшно было. Сидели мы долго, как вдруг Гриша захрипел, стал мычать и плеваться. Лопнул, прорвался жуткий нарыв в горле.
К утру температура упала, Гриша, весь в поту, был очень слаб. Мы его обтирали водкой из стакана с источенной ложкой. Когда я спросила мужа, как бы он действовал ложкой, он ответил: «Вскрыл бы! А что ж, помирать?»
Гришу навещали, поили теплым молоком, а в ресторане для него варили жидкие каши. Фадеев, заходя, неизменно говорил: «Все парашюты пускаешь?», а счастливый Гриша, иногда еще отплевываясь, тоже шутил над собой и как страшный сон вспоминал Николая, «душившего» его компрессом (про ложку ему не сказали).
При въезде в Москву Леонид Попов одолжил Фадееву свою парадную рубашку.
Приехали мы рано утром, нас встречали из театра помощники Федора Николаевича Михальского, а за Гришей приехала медицинская машина с нашим доктором Алексеем Люциановичем Иверовым — Гриша был еще очень слаб.
Через день-два нас принимали в нижнем фойе труппа и «старики». Опять были накрыты столы, оркестр играл веселый военный марш, и мы входили парами, в первой — Грибов с Елиной, потом Дорохин с Лабзиной, в третьей паре я с Селивановым… Усталые, но счастливые, слушали мы слова привета и благодарности. Вот какой праздник устроил нам дорогой наш театр!
Через несколько дней я за чем-то зашла в магазин, который теперь называется ЦУМ. Стоя у прилавка, я обернулась и увидела в новой с иголочки форме того страшного военного, который душил Фадеева. Пристально посмотрев на меня, он поклонился, щелкнув каблуками, и быстро ушел. Мне стало не по себе, и я от страха долго не выходила из магазина.
После этой поездки наши встречи «командой» вне театра стали более редкими. У всех было много работы. Бесшабашность молодости поутихла. В это время мы с мужем еще жили раздельно — у нас не было дома. Несколько раз у меня собирались Конский, Раевский, Михальский, Дорохин и Фадеев. Засиживались долго, вспоминали поездку. Александр Александрович запевал «Рябину» чистым высоким голосом, как-то даже не вязавшимся с его крупной, очень сильной фигурой. Он учил меня петь блатные песни с «Миллионки» — смешные и страшные: «И буду в белой пене лежать на мостовой» или «Не встречать с тобою нам рассвет»… А потом Фадеев уехал, кажется, в Батум, и надолго. От него оттуда приходили письма, на мой адрес, для всех.
В середине 1935 года во всех газетах на первых полосах появилось набранное крупно сообщение, ошеломившее меня и моих близких. Написано было, что Енукидзе Авель Сафронович — враг народа, вкравшийся в доверие, у него «звериное» лицо и т. п.
Когда я пришла в театр, то заметила у многих в глазах недоумение, растерянность и печаль. Сколько он сделал добра людям театра, а особенно нашего. Вслух ничего не говорили. Не обсуждали и не осуждали.
Мы с Норой Полонской долго шептались и наконец решили ему позвонить. Для этого мы пошли на Арбатскую площадь к одному из автоматов. Я знала коммутатор Кремля и номер телефона квартиры. Когда я, очень волнуясь, назвала номер коммутатора и квартиры, последовала пауза, потом голос сообщил: «Даю». В трубке раздалось: «У телефона». Я назвалась моим уменьшительным именем — Зося, сказала, что около меня Нора и что мы не могли не позвонить. В ответ я услышала: «Девочка моя дорогая, никогда больше не звони!» И он повесил трубку. Вот и все.
Потом были только слухи, передаваемые доверительно шепотом, один страшнее другого. И только сравнительно недавно это дорогое для меня и моих близких имя появилось в печати.
Для постановки в филиале была взята пьеса молодого драматурга Корнейчука «Платон Кречет». В ней было много хороших ролей. На роль главного героя — врача Кречета был назначен Борис Георгиевич Добронравов. Владимир Иванович Немирович-Данченко собрал участников для первой беседы и сказал: «Попробуем из этой мелодрамы сделать хороший спектакль».
Судаков — он был режиссером спектакля — пытался что-то произнести в защиту пьесы, но Владимир Иванович только взглянул на него и стал говорить о том, каким видится ему спектакль, в чем его главная суть. Вся тяжесть ложилась на плечи актеров, особенно на Добронравова.
Премьера «Кречета» прошла с шумным успехом. Корнейчук пышно отпраздновал премьеру. Всем участникам, от мала до велика, преподнесли цветы. На банкет в «Старомосковскую» гостиницу (теперь этого дома нет) приглашены были все «старики» театра, некоторые драматурги и писатели. Были там и Булгаковы. Веселье длилось до света.
Корнейчук стал своим человеком в Художественном театре. Через какое-то время он принес пьесу под названием «Банкир». В ней были заняты Вера Николаевна Попова, Николай Николаевич Соснин, Виктор Яковлевич Станицын, Василий Александрович Орлов, Павел Владимирович Массальский и я. Мы долго репетировали. Выпускал спектакль Владимир Иванович Немирович-Данченко. Пьеса была многосюжетной и, по-видимому, не очень удачной. Помню, что мы с Массальским были мужем и женой и разводились, а потом опять сходились. У «старших» были те же проблемы.
После одной из публичных генеральных для «мам и пап», которая прошла с успехом, нас пригласили, как мы думали, для замечаний к Владимиру Ивановичу. А он сказал, что благодарит участников спектакля за усилия, потраченные на эту работу, но пьеса не соответствует требованиям Художественного театра, и что спектакль он снимает. Примерно так звучал приговор. А ведь в то время Корнейчук был на верху успеха как драматург и как общественный деятель. Но принцип репертуарной политики Художественного театра тогда был превыше всего.
Почти одновременно начались и репетиции пьесы Ибсена «Привидения». В спектакле должны были быть заняты Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Юрий Кольцов — артист уникального дарования, Николай Соснин, Михаил Яншин и я. Вскоре репетиции прекратились по рекомендации
свыше, так как пьесу нашли излишне пессимистичной.
К 100-летию со дня гибели Пушкина намечался спектакль «Маленькие трагедии». Мне дали роль Лауры, но радость была короткой — и эта работа, едва начавшись, была запрещена.
Затем была взята для постановки только что написанная пьеса Эрнеста Хемингуэя «Пятая колонна» — и тоже запрет.
Сколько их было, несостоявшихся у меня работ!
Начали репетировать «Бориса Годунова». Роли были распределены так: Годунов — Качалов, Пимен — Леонидов, Шуйский — Тарханов, Варлаам — Москвин, Патриарх — Грибов, Марина Мнишек — Андровская, Степанова; Самозванец — Белокуров, Кудрявцев; Царевич Федор — Кольцов, Царевна Ксения — я. Режиссеры — Сергей Эрнестович Радлов, Нина Николаевна Литовцева, руководитель постановки — Владимир Иванович Немирович-Данченко, художник Рабинович.
Из-за того, что Ольга Николаевна Андровская срочно должна была ехать в Италию к больному мужу — Николаю Петровичу Баталову, Степанова перешла на роль Пановой в «Любови Яровой», которую играла Ольга Николаевна, меня переставили в «Борисе» на Марину, а роль Ксении дали Анне Комоловой. Как известно, спектакль не пошел, но сцену «У фонтана» мы играли в концертах очень часто.
Репертуар нашего театра пополнился спектаклями «Гроза» А. Н. Островского, «Враги» М. Горького, «Любовь Яровая» К. Тренева.
В «Грозе» в роли Тихона буквально потрясал Борис Добронравов. В последнем акте он поднимал образ Тихона до высокой трагедии. Страшной в своей дремучести была Кабаниха — Шевченко. На всех прогонных репетициях, а иногда и на спектаклях, мы особенно ждали сцену свидания Варвары и Кудряша (Андровская и Ливанов). Силой фантазии и виртуозного мастерства они заслоняли драму главных героев в этом акте.
После того как Владимир Иванович Немирович-Данченко включился в работу над «Врагами», пьеса засверкала всеми красками. Это был ансамбль «стариков»: Полина — Книппер-Чехова, Бардин-старший — Качалов, генерал — Тарханов. Все они играли блестяще и не боялись быть смешными. Хмелев играл прокурора Скроботова, Тарасова — Татьяну. Очень хороша была Вера Соколова в роли Клеопатры. Василий Александрович Орлов играл младшего Бардина — мужа Татьяны, Грибов — Левшина. Каждый характер, даже в эпизодических ролях, был скульптурно вылеплен.
Владимир Иванович говорил тогда, что художник, Владимир Владимирович Дмитриев, точно выразил его замысел и глубоко раскрыл зерно пьесы.
11 февраля 1936 года состоялась наконец премьера многострадального булгаковского «Мольера».
Как я уже писала, весь долгий период репетиций был мучительным для Михаила Афанасьевича. Он боролся за свою тему в этом спектакле и принципиально не хотел уступать требованиям Станиславского. Были у них разногласия и по поводу распределения некоторых ролей. Кое-кого из назначенных Станиславским исполнителей Булгаков так и не принял и очень страдал, не находя в них того, что было заложено в пьесе.
Режиссер спектакля Николай Михайлович Горчаков не имел твердой позиции во время работы над спектаклем, одинаково боясь и не угодить Константину Сергеевичу, и обидеть автора. От этого атмосфера репетиций была тяжелой. Репетировали долго, с большими перерывами.
Художник Петр Владимирович Вильямс создал необыкновенные по пышности и блеску красочные декорации, которым не всегда соответствовали исполнители.
Премьера прошла с шумным успехом у зрителей, но критика яростно обрушилась на постановку, на пьесу, главным образом на Булгакова, обвиняя его в искажении истории и во всех смертных грехах. Спектакль сыграли несколько раз, и он был запрещен свыше.
Все это теперь подробно описано в литературе, а нам приходилось наблюдать все воочию — это трагическое непонимание друг друга двух титанов (хотя так мы тогда это не обозначали). Многие из нас очень сочувствовали Булгакову. Я поняла весь трагизм его положения — и, конечно, совсем не по вине Станиславского — лишь значительно позже, благодаря тесной дружбе с Еленой Сергеевной Булгаковой.
Самый большой актерский успех в спектакле выпал на долю Михаила Пантелеймоновича Болдумана (король Людовик) и Михаила Михайловича Яншина (Бутон).
Одно интервью Михаила Михайловича Яншина по поводу спектакля было необъективным (а по его версии — искаженным), но оно больно ранило Михаила Афанасьевича. До конца своих дней он так и не простил одного из самых любимых артистов (в «Театральном романе» он вывел Яншина под фамилией Патрикеев). История с интервью — не сплетня. Все это в подробностях я узнала позже от Елены Сергеевны Булгаковой.
Во второй половине тридцатых годов в нижнем фойе Художественного театра по понедельникам иногда устраивались вечера-встречи. Бывали на них писатели, художники, певцы, медики, музыканты, военные.
Как же радушно, ласково и изящно проводили эти встречи наши «старики»! Почти всегда бывал Владимир Иванович, хозяйками за чайным столом были Ольга Леонардовна Книппер-Чехова и Нина Николаевна Литовцева, им активно помогала Ольга Сергеевна Бокшанская. Чайный стол был накрыт элегантно, со всякими вкусностями и с самоваром, что в те времена уже было редкостью. Коньяк подавали только к чаю. На этих вечерах пить не полагалось. Это не значит, что в театре был сухой закон — бывали и очень пышные банкеты, и встречи Нового года с веселыми застольями.
На «понедельниках» гостей встречали молодые актеры, а в нижнем фойе их принимали Василий Иванович Качалов, Иван Михайлович Москвин, Леонид Миронович Леонидов и другие «старики». В фойе устанавливали несколько рядов кресел. Молодежь скромно сидела в последних рядах этого «партера».
Эти встречи охотно посещала Надежда Андреевна Обухова и подолгу пела, часто свой «неофициальный» репертуар. Охотно бывала и Антонина Васильевна Нежданова и пела под аккомпанемент Николая Семеновича Голованова, играли Гольденвейзер, Нейгауз и многие другие известные музыканты.
Замечательным рассказчиком был Алексей Николаевич Толстой. С ним шутливо полемизировал Телешев, в то время он был директором музея Художественного театра. Часто приезжала колоритная пара Кончаловских. Когда появлялся Михаил Михайлович Климов из Малого театра, то немедленно начинались настоящие словесные турниры Климова с Толстым, Москвиным. Часто выступал и Кончаловский, не уступавший им в остроумии.
Запомнилась встреча с графом Игнатьевым. Он приехал с женой. Женская половина театра с жадностью ждала ее появления, как чего-то необычайного, а вошла скромная пожилая женщина в пестреньком платье и, что нас больше всего удивило, — с рыжей лисой на плечах. Она была очень приветлива и стеснительна. Игнатьев живописно рассказывал о былом, восхищался парадами на Красной площади: «Оказывается, они взяли все лучшее из военных традиций прошлых лет!»
Однажды был приглашен Эренбург. Он приехал хмурый, если не сказать сердитый. Был не очень предупредителен с дамами, небрежно выбрит. Нас это удивило. Но главное, как он начал разговор: «Ну спрашивайте, раз позвали. Я ведь ваш театр не люблю». И еще что-то в этом роде. Очень любезно, но твердо ему парировал Владимир Иванович, и резкости прекратились. Он что-то рассказывал о Париже и Италии, но наших «стариков» этим удивить было трудно. От чаю отказался, все время курил трубку, не спросив разрешения и рассыпая пепел вокруг себя. Приехал он без жены, которую в театре хорошо знали, отсутствия ее не объяснил и довольно скоро уехал. В общем, встреча не удалась. Но это был, пожалуй, единственный такой вечер. Приглашения на наши «понедельники» были почетны, и их добивались многие знаменитости помоложе, но так уж повелось — приглашали старших.
Помню знаменитого хирурга Очкина с женой Любовью Сергеевной — сестрой Станиславского. Как-то раз был на «понедельнике» Анатолий Васильевич Луначарский с женой Н. Розенель. Среди организаторов этих вечеров всегда был Федор Михальский — фигура, неотделимая от МХАТа.
Решение ставить «Анну Каренину» созрело еще в 1935 году. Инсценировка Николая Дмитриевича Волкова не сразу удовлетворила Немировича-Данченко. Она неоднократно переделывалась. Наконец роли были распределены, и работа началась. Василий Григорьевич Сахновский, как обычно бывало, вел работу с актерами и поэтапно сдавал куски Владимиру Ивановичу. Перед началом этой бесконечно трудной работы Владимир Иванович в беседе с исполнителями сделал глубокий разбор романа и точно обосновал главную мысль инсценировки.
Анну играла Алла Тарасова, Каренина — Николай Хмелев, Вронского — Марк Прудкин, Стиву Облонского — Виктор Станицын, Бетси — Вера Соколова (в процессе репетиций эта роль перешла к Ангелине Степановой). Маленькую роль Графини Вронской, всего три французские и три русские фразы, изумительно играла Мария Петровна Лилина. Она запоминалась надолго. Я попала в состав гостей Бетси, даже со словами, но в связи с занятостью в репетициях «Банкира» премьеру «Анны Карениной» ранней весной 1937 года я смотрела из публики и только потом опять вошла в спектакль, играя свою маленькую роль в очередь с Варзер.
Оформлял спектакль главный художник МХАТа Владимир Владимирович Дмитриев. Лаконичность, строгость, глубочайшее знание времени и высокий вкус отличали все работы этого необыкновенного художника и необыкновенного человека. В 1942 г. Немирович-Данченко так говорил о нем: «Дмитриев как театральный художник — талант громадный… Да-да, громадный, не желаю преуменьшать значения этого слова».
Спектакль имел шумный успех и громкий резонанс. Не говоря уже о главных исполнителях, все маленькие и безмолвные роли игрались трепетно, и понятие «народная сцена», или, как теперь чаще говорят, «массовка», тогда к этому спектаклю было неприменимо.
Много сил отдали этой постановке Владимир Иванович Немирович-Данченко и все, кто работал с ним, в том числе и Надежда Петровна Ламанова. Все женские костюмы — это ее произведения! Дмитриев определял только цветовую гамму. Например, в «Скачках» ему был нужен «перламутр», и эта задача была решена Надеждой Петровной и работниками наших мастерских. Когда начинались сцены «Скачки» или «Опера», зрительный зал шумно выражал свой восторг.
На последнем этапе работы над спектаклем в «треугольнике» Анна — Каренин — Вронский Владимира Ивановича не совсем удовлетворял Марк Исаакович Прудкин, и хоть все происходило тайно, чтобы не ранить исполнителя, мы прознали, что в один из вечеров на квартиру в Скарятинский возили в мундире и гриме Белокурова. Владимир Иванович посмотрел, поблагодарил и оставил Прудкина.
На премьере присутствовало правительство, а через день-два в центральной прессе опубликовали указ о присвоении звания народных артистов СССР Тарасовой, Хмелеву и Добронравову.
…Задолго до этих событий в нашей группе молодых случилась беда. Арестовали Мишу Названова и Валю Цишевского — оба были тогда совсем еще мальчики. Судьба Михаила Михайловича Названова — популярного впоследствии артиста — общеизвестна, а вот Валя Цишевский пропал бесследно. А в 1937 году однажды не пришел в театр Юра Кольцов (но о нем я еще расскажу).
Здесь мне хочется, не соблюдая хронологии, рассказать немного о наших «стариках», об их воздействии на зрителей и на нас, тогда еще ничего не умевших.
Вспоминаются гастроли Художественного театра в Киеве в 1936 году в помещении театра имени Франко. Задолго до начала каждого спектакля у театра шумела взволнованная толпа, а по окончании эта же толпа — молчаливая, сосредоточенная — ожидала появления своих кумиров. Сейчас вряд ли кто-нибудь из артистов представляет себе, какая это была горячая любовь, какое поклонение! Каждый из них был национальной гордостью — и не менее. Тогда наши драгоценные «старики» были еще в полной силе, они играли много и с радостью, не берегли себя, и зрители платили им горячей любовью.
Вся старшая часть труппы жила в гостинице «Континенталь» рядом с театром Франко, а молодежь поселили в гостинице на бульваре Шевченко, но ужинать мы чаще ходили в «Континенталь». Ресторан там был во внутреннем саду, куда выходили балконы и окна некоторых номеров.
В один из вечеров мы небольшой группой подошли к входу гостиницы и увидели, как со стороны театра двигается довольно большая толпа и над ней возвышается Василий Иванович Качалов — его несли на руках, как знамя, а он — в одной руке пенсне, в другой трость, лицо растерянное — восклицал: «Друзья, прошу вас, не надо, прошу вас!» Невидимая в толпе Нина Николаевна Литовцева время от времени вскрикивала: «Боже мой, вы же его уроните, Боже мой!» Это было после спектакля «У врат царства» Гамсуна, где он играл Карено. Василия Ивановича бережно донесли до входа в отель, поставили на ноги и устроили овацию.
Других, может быть, и не носили на руках, но всегда большой восторженной толпой провожали до дверей гостиницы. В театре и на улице их забрасывали цветами, устраивали овации, старались дотронуться до одежды… Сейчас много написано об этих артистах, почти каждому посвящена отдельная книга. Но их надо было
видеть, чтобы понять, какое это было искусство!
Отчетливо помню одну репетицию «Егора Булычева» (в заглавной роли — Леонид Миронович Леонидов).
В верхнем фойе сдавали очередной «кусок» Владимиру Ивановичу — начиная со сцены Егора с Меланьей и дальше до конца акта. Обыкновенно многие незанятые актеры приходили на такую репетицию пораньше, рассаживались по стенке.
До начала прогона у Леонида Мироновича с Владимиром Ивановичем возник довольно серьезный спор по существу этой сцены. И вдруг Леонидов сказал: «Что мы спорим? Разрешите, я сделаю?» Владимир Иванович в таких случаях Всегда соглашался.
Началась сцена с Меланьей. Фаина Васильевна Шевченко, очевидно взволнованная спором, со всем своим темпераментом набросилась на Булычева. Это была схватка достойных противников! Напряжение в сцене все росло, смотрящие замерли, и когда дошло до восклицания Булычева: «Ай, ничего не вижу!», Владимир Иванович вскочил с каким-то всхлипом и тут же смущенно сел на место. Леонид Миронович остановился и, глядя пронзительно на учителя, довольно резко спросил: «Ну что?» — «Победителей не судят, правы вы», — был ответ.
К сожалению, так бывало далеко не каждый раз. Леонидову мешала болезнь.
Стало известно, что летом 1937 года Художественный театр едет в Париж на Всемирную выставку. Известие это взбудоражило актеров: какие спектакли повезут? Тогда еще надеялись, что «Бориса Годунова».
Для окончательного утверждения репертуара в один из дней, когда в театре был Сталин, Владимир Иванович прошел в ложу, и в результате было решено везти три спектакля: «Анна Каренина», «Враги» и «Любовь Яровая». Сразу же начались перестановки и замены.
Мой муж, Николай Иванович Дорохин, в это время снимался у братьев Васильевых в фильме «Волочаевские дни», съемки проходили в Ленинграде и под Лугой. Владимир Иванович срочно назначил его на роль Грекова во «Врагах» вместо актера Малеева. Братья Васильевы не очень хотели отпускать Дорохина со съемок, и незадолго до отъезда, когда надлежало заполнить еще много всяческих анкет, я несколько ночей провела в «Стреле», курсируя с анкетами туда и обратно.
В «Любови Яровой» и особенно в «Анне Карениной» было довольно много замен. Графиню Вронскую попросили играть Ольгу Леонардовну, Мария Петровна Лилина не могла ехать: Константин Сергеевич часто болел. Жену испанского посланника должна была играть Андровская, княгиню Картасову Литовцева вместо Красковской и т. д.
А со мной произошло следующее. Недели за две до отъезда я не увидела себя в составе одной из последних репетиций по «Карениной». В кабинете Сахновского между нами состоялся разговор. Я сказала — мне ясно, что я не еду, но мне очень важно знать, кто мне отказывает. Театр или извне? На что Василий Григорьевич ответил: «Это не театр».
Я поехала к отцу. В то время он был председателем специальной коллегии Верховного суда СССР. Время было очень сложное, и я волновалась не только за себя. Отец, выслушав меня, сказал, что через день он мне ответит, так ли это. И ответил: «Тебя обманывают, это решение театра». Вскоре я узнала, что это так — вместо меня ехала Варзер. Но другим повезло еще меньше: Ольге Сергеевне Бокшанской сообщили, что она не едет, за два часа до отъезда. Елизавете Феофановне Скульской, жене Тарханова, — тоже. А тогдашнего нашего партийного секретаря, приятеля Варзер, просто не пустили в вагон, и он, пьяненький, плакал на вокзале. В поездке было отказано Блинникову, Комиссарову, Конскому, Шверубовичу и еще некоторым. Ольгу Бокшанскую, личного секретаря Владимира Ивановича и секретаря дирекции, свободно владеющую тремя европейскими языками, с трудом заменила Евгения Алексеевна Хованская.
Наши «старики» ехали поездом через Негорелое, а все остальные до Ленинграда, потом морем до Гавра и оттуда спецпоездом в Париж.
В день отъезда театра муж приехал из Ленинграда, в тот же день он получил ордер и ключ от квартиры. Имущество каждого из нас умещалось в чемодане. Правда, у меня был еще портплед со спальными принадлежностями, а у него две простыни, подушка и одеяло, перетянутое ремнем. Погуляли мы по нашей пустой, но такой прекрасной квартире. Я попросила у соседей утюг, на полу погладила парадные брюки Николая Ивановича, уложила его чемодан и поехала на вокзал — провожать.
А потом мы, недопущенные (Блинников, Комиссаров, я и Вадим), довольно бодро пошли к Федосеичу.
Об этой исторической поездке Художественного театра во Францию было много рассказано и много написано. Особенно волновало наших, как примет Париж советских артистов и, главное, как поведет себя эмиграция. Но искусство нашего театра победило предвзятость части публики.
Было много и смешных рассказов на тему «наши за границей».
Когда подходили к порту Гавра, стали будить Раевского: «Иосиф, вставай! Гавр!» Заглянув спросонья в иллюминатор, он изрек: «Гавр как Гавр», — и улегся спать дальше. Часто потом его этим дразнили.
В порту Гавра, кроме Михальского и французской администрации, наших встречал Александр Александрович Фадеев с букетом для Елены Елиной (но «Елке» достался только букет, а хозяин букета — Ангелине Степановой). Тогда Фадеев и еще несколько наших замечательных писателей и летчиков возвращались домой из Испании через Париж.
В вечер открытия, уже в театре, Владимир Иванович обнаружил, что забыл Орден Ленина, срочно послал за ним в отель и вышел Перед публикой с этой высокой наградой.
На перроне вокзала, куда я приехала встречать наших, мы столкнулись с Фадеевым. После дружеских объятий он мне сказал: «А ты знаешь, я женюсь». И на мой вопросительный взгляд добавил: «На Линочке».
Встречающих было много, много цветов. Мы приехали в нашу замечательную, долгожданную квартиру, где я успела кое-что временно устроить (тогда дом наш считался по Глинищевскому переулку, теперь это улица имени нашего учителя Немировича-Данченко). И тут на меня посыпались подарки. Николай Иванович одел меня с ног до головы во все парижское, себе же купил только шоферский черный плащ и какие-то мелочи.
Был самый конец августа 1937 года. В те два-три дня, что Николай Иванович мог пробыть в Москве (его ждали на натурных съемках), у нас было веселое, праздничное настроение.
Для моего отца наш брак больше не мог быть тайным. Николая Ивановича отец знал только по театру, в жизни видел его мельком, раза два. И вот неожиданно (муж уже уехал) ко мне с поздравлениями пришли отец, Елена Густавовна и Наташа. Принесли чудесную, ручной работы скатерть с салфетками и завернутую в них бутылку шампанского. Раскупорить разрешили только в день приезда мужа.
Десятого сентября, в пятницу, отец позвонил мне вечером и весело, даже чуть смущенно сообщил, что ему назначена примерка нового костюма — первого после семнадцатого года — и что он просит меня поехать с ним. В субботу он едет в «Сосны» (тогда это был и однодневный санаторий), в понедельник — прямо на работу, а после работы мы и встретимся.
Но в понедельник звонка не было. Я решила, что отец занят. Во вторник 14 сентября утром ко мне приехала домашняя работница папиной семьи — Таня. Она обливалась слезами и на мой вопрос, что случилось, не отвечала ничего, только повторяла: «Поедем!»
Мы приехали в Дом на набережной (у отца там была четырехкомнатная квартира). Прямо из передней я увидела запечатанную дверь кабинета и тут все поняла. Я и теперь, через 50 лет, спрашиваю себя: почему я не поняла сразу? Очевидно, потому, что для меня это было противоестественно.
Какое-то время я сидела неподвижно, пытаясь прийти в себя. Появилась сразу постаревшая Елена Густавовна — ее пошатывало. Она ходила к себе на службу — сообщать. Наташа лежала в своей комнате и на мой приход никак не реагировала. Лена мне рассказала подробности — приход людей и обыск. Отец с работы домой не приехал.
Елена Густавовна Смиттен была старым членом партии, в то время она заведовала статистическим отделом в ЦК. Мне она сказала, что ее ожидает то же самое, и просила меня, чтобы Наташа осталась не у ее сестры Евгении, а у меня или у Зоей (так она называла мою мать). Я заверила ее, что Наташа будет жить там, где сама захочет.
Немного отдышавшись, я пошла к автомату звонить маме (телефон в квартире был отключен). Подошел брат, мы встретились на улице. Он уже был уволен с работы.
Я пошла к новому директору театра сообщить о случившемся. Тихонько, почти шепотом Боярский сказал мне: «Все, что я могу для вас сделать, — пишите заявление об уходе по собственному желанию». И продиктовал мне текст. Я написала и поплелась домой. Одной, в пустой квартире, мне было очень тяжело. Я все ждала, что меня вызовут в администрацию театра для официального сообщения о моем увольнении, но проходили дни, меня вызывали на репетиции, и я участвовала в спектаклях. Отношение ко мне было разное. Большинство избегало, кто-то открыто сочувствовал (но таких было мало), а кто-то — только взглядом, кивком, наспех. Я все понимала, хотя было трудно. Время шло, я все еще оставалась в театре и в первых числах октября даже получила зарплату.
Мы с братом сделали в их с мамой квартире «ревизию» и упрашивали маму сжечь некоторые снимки: родителей отца после венчанья, виды имения деда Феликса Козловского и особенно маминых знатных предков — у нее были дагерротипы и фото с портретов маслом. Мама обещала нам, что все сделает сама, и… все сохранила.
Друзья брата устроили его шофером в большой гараж, который находился тогда в здании Манежа, вначале он работал на грузовой машине, а потом на легковых.
Наконец я получила веселую телеграмму мужа о его возвращении домой. На вокзале, когда он меня увидел, сразу спросил: «Какая беда?» и тут же: «Дома расскажешь».
Мы стали жить замкнуто, перестали бывать в гостях у друзей. Я часто ездила к Лене и Наташе. Они жили в напряженном ожидании. Наташу исключили из комсомола, в классе все от нее отвернулись, и только один мальчик самоотверженно провожал ее домой, выражая сочувствие. Лена ходила в какие-то справочные. Конечно, безрезультатно. Я тоже тыкалась в разные двери. В нас теплилась надежда — Вышинского выпустили через 3 недели. Как мы были наивны!
Пыталась я пробиться на прием к Ульриху, который был всегда любезен со мной и даже отпускал какие-то комплименты, к Шейнину — он в свое время был у отца в порученцах, а теперь занимал пост следователя по особо важным делам. Никто из них меня к себе не допустил, а при случайных встречах в театре — «не узнавали».
Тогда, встречая в театре некоторых знакомых — крупных работников, я по привычке здоровалась, но не получала даже ответного кивка и все удивлялась, пока муж не приказал мне не узнавать бывших знакомых моего отца.
Так в тревоге и тоске наступил 1938 год. В доме отца пока все оставалось по-прежнему. Елена Густавовна все еще работала, Наташа заканчивала школу.
А в январе за Леной пришли. Незапечатанной оставили только комнату Наташи. Предварительно обыскав, приказали освободить квартиру в трехдневный срок.
И вот верная Таня с Наташей у нас. Николай Иванович, как мог, утешал сестру и ушел, чтобы не стеснять ее в решении — где жить. Наташа внешне была спокойна, как закаменела, у нас жить отказалась: «Я к тете Зосе и Станиславу». У мамы и брата были две комнаты, мое место оставалось свободным и теперь принадлежало Наташе. Никогда не забуду, как она сказала: «Наташе Крестинской хуже, у нее никого!»
Николай Николаевич Крестинский и его жена летом 1937 года были арестованы, и девочка осталась совсем одна, а ей не исполнилось еще и 17 лет. От нее требовали публичного отречения от родителей — она отказалась, и ее, бедную, куда-то увезли… Только во второй половине восьмидесятых годов я встретилась с Натальей Николаевной Крестинской — ни разу не предавшей своих родителей и их память, несмотря на то, что ей довелось пережить. Я рада, что у нее семья.
Имя Крестинского фигурировало на очень громком, открытом процессе так называемого правотроцкистского блока. Газеты не стеснялись в выражениях: «Волчьи глаза матерого хищника» и тому подобное. Читать это было мучительно. Крестинского расстреляли, а его жена провела многие годы в тюрьмах и лагерях.
До осени 1921 года Крестинский был наркомом финансов. Это он сделал тогда советский рубль свободно конвертируемой валютой, которая имела на международном рынке достаточно ощутимый вес (не менее чем доллар в то время).
Девочкой я слышала рассказ взрослых о том, как Федор Иванович Шаляпин провел наркома Крестинского. Он пришел к Николаю Николаевичу и стал горячо просить, чтобы ему вернули часть национализированных денег: «У меня же в каждом губернском городе семья!» И Крестинский поверил, да и как можно было не поверить гениальному артисту. Какие-то деньги ему вернули. Потом над наркомом смеялись, ругали, но официального выговора от Ленина он не получил.
Меня все еще продолжали держать в театре.
Как-то раз Рипсиме Карповна, отведя меня в конец «круглого» коридора, спросила, знаю ли я, кому обязана своим спасением. И рассказала, что, когда Константину Сергеевичу сообщили о моих обстоятельствах, он отказался визировать мое заявление и порвал его. Очевидно, меня оставили в театре, не желая спорить со Станиславским.
По возвращении с лечения Владимир Иванович Немирович-Данченко дал понять, что солидарен с Константином Сергеевичем. Об этом мне рассказала Ольга Сергеевна Бокшанская.
Внешне театр переживал период благополучия.
После окончания съемок «Волочаевских дней» муж получил значительный гонорар, и в Ленинграде мы купили мебель, которая всю жизнь простояла в нашей квартире. Дом наш строился как кооперативный, но примерно через год нам вернули какие-то деньги, которые мы тут же внесли в дачный кооператив «Чайка» в Валентиновке. Муж сказал мне полушутя: «Хочешь жить спокойно, без моей родни? Будем строить зимнюю дачу для родителей». До того они с братом и его семьей все еще гнездились в подвале на улице Станкевича.
Я всю мою жизнь в неоплатном долгу перед мужем. Сколько же ему пришлось претерпеть из-за того, что я стала дочерью «врага народа»! Первый сильный сердечный приступ, а по-теперешнему — инфаркт, случился у Николая Ивановича летом 1938 года, а было ему всего тридцать три.
На протяжении многих лет у нас часто бывал Фадеев, иногда являлся и ночью. И так уж повелось, что, услышав ночной лифт, я наспех причесывалась и надевала халат. Был у нас с мужем твердый уговор, что дверь открываю я. Увидев на пороге Фадеева, я, конечно, радовалась безмерно, а он, глядя на меня, иногда целовал, а иногда прижимал к себе, приговаривая: «Ну прости, ну прости меня!»
Как-то зимой 1938 года мы с мужем, Раевский и Армен Гулакан поздно возвращались из ВТО. Мужчины еще о чем-то договаривали, а я первая вошла в наш подъезд. Войдя, я увидела военного с винтовкой и нашего ночного сторожа, бывшего сторожа Глинищевской церкви (он все еще жил в полуразвалившейся церковной сторожке во дворе). Называли этого старика Чир — именем персонажа из «Любови Яровой». Я, как могла спокойнее, спросила: «Это на какой этаж?» И услышала: «Кажись, на седьмой» (то есть на наш!).
В этот момент появился муж, сразу подошел, крепко взяв меня под руку, а Раевский, глядя в сторону, побежал к дверям черного хода. И так бывало. А в ту ночь уводили с восьмого. Из нашего дома в то страшное время уводили не один раз.
Какими словами писать мне о создателях нашего театра — моих великих учителях, справедливых, отважно спокойных. Вся моя жизнь в долг у них. В конце 1937 года я даже получила центральную роль Маши в «Половчанских садах» Леонида Леонова.
Работа над пьесой была долгой и трудной. Репетировал с нами Василий Григорьевич Сахновский и систематически показывал наработанное Владимиру Ивановичу. На всех репетициях Немировича-Данченко всегда бывал Леонов.
Бывало, что Владимир Иванович, не останавливая действия, тихонько подходил и, стоя почти рядом, очень внимательно смотрел и слушал, иногда так же тихо отходил к своему креслу, а иногда останавливал и очень точно указывал, где неправда. Вначале мы робели от этого, а потом даже ждали, чтобы он подошел.
Был и такой случай. Во время прогона всей пьесы в фойе в нашей с Болдуманом сцене Владимир Иванович вдруг обратился к нашему замечательному суфлеру Алексею Ивановичу Касаткину: «Как написана фраза у Маши, там есть “а”?» Я замерла, а Владимир Иванович обратился ко мне: «Я остановил прогон, чтобы вы на всю жизнь запомнили, как бережно надо относиться к тексту автора, когда он окончательно установлен». И я запомнила.
К сожалению, Немирович-Данченко оказался прав в своем прогнозе (он предупреждал, что это будет рискованный спектакль). Начиная с генеральных и после премьеры пресса приняла и Леонова, и спектакль в штыки. Были люди, защищавшие автора и нас, и даже очень горячо, но их было меньшинство.
А я всегда с благодарностью буду вспоминать эту работу с Василием Григорьевичем. А что касается Владимира Ивановича, то воистину он был великим педагогом и режиссером. А как бережно относился он ко мне в моем горе!
Только переживая несчастье, человек становится взрослее и быстрее может понять и на сцене, и вне ее сложные повороты в жизни человеческого духа.
И я всегда буду благодарна моим партнерам, особенно Болдуману и Белокурову, за их дружескую поддержку.
Театр готовился к предстоящему 40-летнему юбилею в октябре 1938 года.
Для открытия юбилейной декады заново репетировали «Горе от ума» (Чацкий — Ливанов, Фамусов — Тарханов, Софья — Степанова, Лиза — Андровская, Молчалин — Массальский). В третьем акте был собран весь цвет труппы.
Внезапно тяжело заболел Борис Николаевич Ливанов. Он перенес три операции и надолго выбыл из строя. Дублировал ему Марк Исаакович Прудкин. Репетиции шли весь сезон до летнего отпуска 1938 года.
К юбилею же выпускали спектакль «Достигаев и другие» Горького. Николай Иванович Дорохин был занят там в роли революционера Рябинина. После напряженной и горькой поры с осени 1937 года врачи посоветовали мужу Кисловодск, и я уговорила его ехать, а сама поехала в наш мхатовский дом отдыха «Пестово» — замечательное место на берегу огромного водохранилища, старый барский дом со стеклянными галереями, по обе стороны которых помещались флигели…
В связи с юбилеем сбор труппы был назначен на середину августа. Николай Иванович приезжал из Кисловодска 8 августа. В Пестово ходил маленький пароходик — это была его последняя остановка — и возвращался в Москву — в Химки. Таких рейсов было два: поздним утром и вечером. Другого сообщения с Пестовом не было — запретная зона, машины только по пропускам (да тогда личных машин ни у кого и не было).
И вот мы трое — Николай Павлович Хмелев, Елена Кузьминична Елина и я — двинулись в Москву. Пароходик шел довольно долго, был жаркий день. От Химок ехали, кажется, на трамвае, тоже долго. Дома я оказалась в пятом часу, где меня встретила наша чудесная домработница Елена Григорьевна, уже хлопотавшая для завтрашней встречи Николая Ивановича. Через несколько минут я услышала по телефону какой-то чужой голос Елиной: «Случилось страшное несчастье, сейчас скончался Константин Сергеевич».
Мы с Хмелевым жили в одном доме, Елина домой попасть еще не успела, звонила с дороги — она случайно встретила кого-то из Леонтьевского.
Мы втроем и еще племянница Константина Сергеевича Людмила Штекер из нашего же дома встретились у цветочного магазина, там, где сейчас арка к улице Станиславского, собрали, сколько у кого было с собой, купили цветы и, ошеломленные, потерянные, пошли в Леонтьевский дом.
Нас обогнала легковая машина. В ней сидел Леонид Миронович Леонидов. На довольно большой скорости машина проехала мимо дома № 6. Леонид Миронович, видимо, ничего не зная, ехал куда-то по своим делам.
Во дворе, на лестнице и в парадных сенях было тихо — еще никто не знал. Нас увидела Рипсиме Карповна Таманцева и разрешила войти в кабинет. Цветы у нас забрали — сейчас нельзя.
Мы стояли в таком знакомом Его кабинете и через открытую дверь спальни видели изножие кровати, чуть приподнятое одеяло.
Из глубины комнат послышался голос Марии Петровны. Ровный мертвый голос: «Закройте форточки, форточки нельзя».
Мы стояли оглушенные. Рипси Таманцева шепотом рассказывала нам, как Константин Сергеевич спрашивал в этот день: «А кто теперь заботится о Немировиче-Данченко? Ведь он теперь… «Белеет парус одинокий». Может быть, он болен? У него нет денег?» (Перед этим Владимир Иванович потерял жену и теперь лечился во Франции.)
Постояли мы еще немного в парадных сенях и побрели. Когда уходили, видно было, что уже стало известно — люди спешили в осиротевший дом.
А ведь, казалось, еще совсем недавно так торжественно праздновалось его 75-летие! Леонтьевский переулок переименовали в улицу Станиславского, было награждение высоким орденом. Со всего света летели к нему слова любви, восторга и поклонения… А Константин Сергеевич в доверительной беседе сказал (не своим близким), что умрет в этом, 1938 году. И вот свершилось, как напророчил.
Константин Сергеевич в то лето, работая над статьей к 40-лет-нему юбилею театра, писал: «…Искусство и артисты, которые не идут вперед, тем самым пятятся назад». А тогдашнему директору театра говорил, что надо держать себя очень достойно, очень скромно и не занимать позиции людей, которые, в связи с юбилеем, домогаются чего-то…
На другой день, довольно рано утром приходил поезд из Минеральных Вод. Муж и приехавший с ним Кедров уже знали. По дороге домой расспрашивали подробности.
Пока Николай Иванович принимал душ и переодевался, все время звонил телефон — как, когда, что? Наспех позавтракав, пошли в Леонтьевский. Там было уже много наших, приехал автобус из Пестово — накануне по радио было сообщено о кончине.
…Гроб стоял в Онегинском зале: Было очень жарко — цветы вносить не разрешали. Уже произвели вскрытие и объявили диагноз — паралич сердца.
Люди все прибывали, но был еще отпускной период, и многие, узнав в последний момент, не успевали приехать к похоронам. Как отчаянно металась в Ялте Ольга Леонардовна Книппер-Чехова — она никак не могла успеть на похороны! Федор Николаевич Михальский мучительно добирался из какого-то туристического горного похода и не успел. Все, кто был ближе, добирались кто на чем — на попутных грузовиках, в товарных вагонах. И пускали, узнав — зачем.
Поразительно, что от Владимира Ивановича из Парижа пришла телеграмма, что 7 августа, до окончания лечения, он срочно выезжает в Москву. А он тогда еще ничего не знал! Телеграмма была отправлена утром. Николай Афанасьевич Подгорный поехал встречать.
…Константин Сергеевич лежал сильно похудевший, но такой прекрасный, величественный и такой умиротворенный. Его дивной красоты руки были совсем спокойны.
В первой половине дня его понесли в театр — гроб несли на руках, часто сменяясь. Несли без музыки, при абсолютной тишине. Леонтьевский переулок и переход через улицу Горького были перекрыты. До поздней ночи были мы все в театре. Марию Петровну все это время не видели.
Доступ публики был объявлен 9 августа с четырех часов. С самого утра стояли люди в очереди к театру, конец ее был за Столешниковым переулком.
С раннего утра 10 августа опять все мы были в театре, вначале только свои, а с 12 часов снова открыли доступ публике для прощания. Бесконечным потоком шли люди, и гора цветов у изножия гроба росла так, что приходилось уносить их охапками, чтобы цветы не заслоняли гроб.
Я смутно помню гражданскую панихиду, она была очень торжественной и мучительно длинной. От запаха массы венков из живых цветов, этой горы цветов у гроба кружилась голова.
И вот вынос, фанфары. Гроб ставят на задрапированную длинную машину. Перед гробом неподвижно застыли Дорохин и Раевский, каждый держит на подушке орден. Огромная толпа ждет на улице. Машина едет шагом, и за ней пешком идут все сестры, брат Владимир Сергеевич, Зинаида Сергеевна — мой педагог и много племянников, родных и двоюродных, за ними весь состав нашего театра и много, много других людей.
Я подходила к Зинаиде Сергеевне и Владимиру Сергеевичу, но они только молча кивали.
Шли мы долго — путь до Новодевичьего кладбища был длинный. На всем протяжении по троту арам стояли люди. Венки везли на грузовиках. Перед процессией двигались три мотоциклиста. Много было милиции, но порядок и тишина были абсолютные.
Когда мы подходили к зеленым воротам Новодевичьего кладбища (нового кладбища тогда еще не было), в воротах стоял Владимир Иванович Немирович-Данченко с сыном Михаилом Владимировичем и с Николаем Афанасьевичем Подгорным. Он приехал прямо с поезда — успел!
Во время похорон смутно помню взволнованную речь Владимира Ивановича с требованием клятвы честно продолжать дело Константина Сергеевича, и мы все вскрикнули: «Клянемся!» Помню хрупкую, поникшую фигуру Марии Петровны в чем-то белом, в соломенной шляпе, почти закрывавшей лицо, и рядом массивную фигуру дочери — Киры Константиновны. Они сидели прямо на земле у края вырытой могилы.
На кладбище пришла такая масса народа, что трудно было дышать. Как добрались обратно — совсем забыла. Помню жару и страшную усталость.
Очень ненадолго заехали домой, взять вещи мужа и какую-то парадную еду, приготовленную к его встрече, и пошли в театр, где ждал всех нас пестовский автобус.
Уже поздно приехали в Пестово, я пошла через галерею умываться. Иду обратно, и вдруг от окна отделяется фигура Леонида Мироновича. Цепко взяв меня за запястье, он проговорил: «Ну, теперь рассказывайте!» Оказывается, он нас видел, проезжая мимо дома Константина Сергеевича. И еще он сказал: «А я не смог, я убежал! Не смог!»
Я стала рассказывать, он слушал молча. Мы почти не видели друг друга, было совсем темно. Потом сказал: «Идите, устали». И такой он был растерянный, такой непривычно тихий, совсем не тот грозный Леонид Миронович, которого мы так боялись.
На сборе труппы во второй половине августа Владимир Иванович очень взволнованно говорил о том, что театр осиротел и что в несчастии надо быть особенно собранными и честными, целиком отдавать себя делу в память Константина Сергеевича. Говорил о предстоящем 40-летнем юбилее Художественного театра уже без Станиславского!
Грустно было в тот день в театре. А когда Владимир Иванович, не справившись с собой, заплакал (правда, очень скоро взял себя в руки), мы и совсем растерялись. Трудно было «старикам». Они очень горевали о своем, иногда таком грозном, а иногда бережно-нежном великом Учителе.
Но репетиции были уже расписаны, на сцене готовили третий акт «Горя от ума» — «Бал у Фамусова». Готовили юбилейную декаду, в нее вошли: «Царь Федор Иоаннович», «Женитьба Фигаро», «Мертвые души», «На дне», «Враги», «Анна Каренина», «Земля», «Достигаев и другие», «Горе от ума».
Не могло быть «Бронепоезда» — без Николая Петровича Баталова. Во время первого съезда колхозников для участников съезда было приказано играть спектакль «Бронепоезд». Я попала в картину «Станция», где метались беженцы. Спускаясь заранее на сцену, я увидела сидящего на диване под зеркалом Николая Петровича. Очень похудевший, с воспаленным лицом, мертвенными руками (температура была сильно повышенной), он играл свой последний спектакль — и как играл! Больше живым мы его не видели, только на панихиде и на похоронах.
Шел слух, что правительство хочет праздновать 40-летие театра очень пышно, ожидались большие награды. Мы, молодые, естественно, о наградах не думали, а вот о туалетах для сцены — волновались очень. Надо было иметь вечерний туалет, дневной — для приема делегаций и парадное закрытое длинное платье — для приема гостей во время дежурства на декаде в публике. Я тоже суетилась, чтобы быть не хуже других. Хотя, бывая на подобных дежурствах, я уже научилась не узнавать прежних знакомых моего отца.
К юбилею старый репертуар тщательно проверяли, а «Горе от ума» ежедневно репетировали, поэтому свободного времени не было совсем. Очень было тревожно за Бориса Николаевича Ливанова: человек очень эмоциональный, он страдал, что «Горе» пойдет с Прудкиным вместо него.
Почти перед самым юбилеем Немирович-Данченко попросил Качалова сыграть первые спектакли. Василий Иванович вначале отказывался, ссылаясь на возраст, но его убедили, что это необходимо.
На премьере я его не видела — была занята на бале третьего акта. Мы все только слышали гром аплодисментов в первом акте при его появлении: «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног!» Потом я смотрела этот акт с ним специально. Он стремительно, как молодой, вбегал на сцену. Чего это ему стоило, знали только близкие.
Василий Иванович, конечно, украсил спектакль, но скоро перестал играть. Второй состав «Горя от ума» был теперь таким: Чацкий — Ливанов, Лиза — Алеева, Фамусов — Станицын, Молчалин — Белокуров, Софья — я.
Несмотря на то, что я и некоторые молодые уже играли ответственные роли, от народных сцен мы не освобождались и были заняты и в «Мертвых душах», и в «На дне», и в «Фигаро», и в новом спектакле «Земля», где так блистательно играли Листрата — Добронравов, Сторожева — Хмелев и старика Фрола — Грибов. Эти выдающиеся артисты поднимали пьесу Вирты на очень большую высоту, да и весь состав спектакля был отменным.
Владимир Иванович приезжал в театр ежедневно, даже когда бывал не совсем здоров. Тогда он появлялся в клетчатой кепочке, извинившись за нарушение правил. К режиссерскому столику с лампочкой, свет которой падал только на лист бумаги, приближаться могли лишь старшие. О курении не могло быть и речи даже для «стариков».
Напряжение перед юбилеем все нарастало —
без Станиславского!
В филиале, тоже «почищенные», шли: «Турбины», «В людях», «Пиквикский клуб». Если я не ошибаюсь, «Вишневый сад» тоже перешел к тому времени в филиал, и роль Раневской вначале играла В. С. Соколова, а потом и Вера Николаевна Попова.
Юбилейная декада прошла торжественно. На всех спектаклях сидела избранная публика — приглашенные, обычных зрителей было мало.
За юбилярами театра, и не только за артистами, а за всеми, кто работал с основания (юбилярами считались все, кто начал не позднее 1902 года), по традиции ездила пара — актрисами актер. Василию Александровичу Орлову и мне выпала честь ехать за Лидией Михайловной Кореневой.
Мы в машине, с букетом, в полном параде явились к ней на квартиру. Орлова провели в гостиную, где висело много дивных эскизов Добужинского — верного рыцаря Лидии Михашщвны, а меня пустили в спальню. На голубом ковре перед фарфоровым (севрским!) трюмо на колоннах в брюссельских кружевах стояла Лидия Михайловна. Серебряная голова, жемчуга на шее и в ушах, а старая ее горничная еще что-то подшивала на длинном — до пола — роскошном туалете. Коренева была очень красива и величественна.
Лидия Михайловна Коренева — одна из первых артисток Художественного театра, в конце жизни она была совершенно забыта, никому не нужна. И теперь, когда вспоминаешь ее и когда вспоминаешь рассказы о ее ролях в пьесах Тургенева и в сценах из произведений Достоевского, кажется: то, что было полвека назад, — было лишь одним из эскизов Добужинского.
Обратно мы ехали по Камергерскому, как по коридору, среди массы людей, к актерскому подъезду во дворе театра. Все окна соседних домов были открыты, и оттуда кричали слова приветствия юбилярам и Художественному театру.
Освободившись от своих почетных обязанностей, я пошла на сцену отыскивать свое место. До начала было еще 30 минут, но со сцены уже слышались приглушенные голоса.
Одеты все были хорошо. Кто-то сострил, что после Парижа все актрисы «завернулись» в «лямэ» (очень мягкая, на тонкой основе парча всех цветов и оттенков). Моя портниха, «раздев» какую-то послицу и слупив с меня большие деньги, тоже «обернула» меня в серо-голубое «лямэ».
На сцене была та же лестница, что и на 30-летнем юбилее, и юбиляры должны были по ней спускаться. Все было так, как и десять лет назад, только Владимир Иванович Немирович-Данченко за одну-две минуты до поднятия занавеса пришел на сцену и встал внизу у лестницы, там, где стояли кресла юбиляров, а по другую сторону лестницы так же сидел весь почетный президиум.
Когда открыли занавес, первое, что мы увидели, была ложа правительства. Только два первых ряда в ней могли сидеть, остальные стояли. На виду у всех, а не как обычно в глубине, — Сталин, в ногах у него рыжая девочка — дочь Светлана. Стало понятно, почему за кулисами было так тесно от незнакомых людей.
Юбиляры спускались по лестнице, публика гремела аплодисментами стоя. После приветственных речей и ответного слова Владимира Ивановича — гимн. Опять все встали. Дочка Сталина в пионерском галстуке стояла с поднятой в салюте рукой, которую папа шутя несколько раз опускал, а она сердито вскидывала, что умиляло зрительный зал.
Кончилась официальная часть. Начались приветствия. Отчетливо помню только приветствие Большого театра. Под звуки полонеза из дверей амфитеатра появились цвет и гордость русского оперного и балетного искусства: в первой паре Гельцер со Смольцовым, за ними Нежданова с Головановым. Мужчины во фраках, дамы блистали драгоценностями и роскошными туалетами. Их было много — знаменитых, любимых всеми и любящих Художественный театр. Было много и других поздравлений, но этот полонез запомнился особо.
Торжественный вечер продолжался долго. После окончания как-то стихийно возник банкет в «Национале», где в то время жил Владимир Иванович, потому что его квартира в нашем доме была еще не совсем готова. Я уверена, что «старики» устроили эту «стихийность», чтобы Владимир Иванович не оставался в этот вечер один.
Нам с мужем была оказана честь присутствовать на банкете. Народу было не так много. Помню, на одном конце длинного стола сидел Владимир Иванович, а на другом — Алексей Николаевич Толстой, который сам определил себя быть тамадой. Он весело острил и уже в середине ужина сказал что-то по поводу слабости Владимира Ивановича к женскому полу. Владимир Иванович очень церемонно осадил его и вскоре ушел.
Когда поздно ночью мы шли домой, было невесело — и от усталости, и от того, что не было с нами Константина Сергеевича, в театре отсутствовала Мария Петровна Лилина и Владимир Иванович был не совсем таким, каким мы привыкли его знать. Это был 1938 год — один из самых страшных предвоенных годов. И я ничего не знала об отце.
Как я уже упоминала, в начале этого года после короткой болезни скончалась жена Владимира Ивановича — Екатерина Николаевна. Она была, как говорили «старики», «Маскотой» — приносящей удачу театру. Ее присутствие казалось малозаметным, но, несомненно, это был самый близкий человек и друг замкнутого и никого не подпускавшего к себе нашего учителя. Он всю оставшуюся жизнь переживал эту потерю.
Выхлопотали разрешение поставить гроб в нижнем фойе. (Находились чиновники, которые пытались протестовать — «не была работником театра».) Очень много людей пришло на прощание — почти весь состав обоих музыкальных театров, много наших актеров и друзей и почитателей Владимира Ивановича. Панихиды не было, только тихая музыка. Незадолго до выноса Федор Николаевич Михальский попросил всех удалиться. Получилось так, что я, выходя из дверей нижнего фойе, услышала знакомые быстрые шаги Владимира Ивановича и невольно заглянула в стекло. Владимир Иванович, подойдя к изножью гроба, закрыл руками лицо и простоял так несколько секунд, потом быстро прошел к себе в кабинет. С ним был только Михальский.
Когда приехали в крематорий и началась церемония прощания, я на минутку вышла наружу и вдруг увидела: Владимир Иванович сидит на корточках перед каким-то замотанным в платки малышом и тихонько спрашивает: «Ты помнишь бабу Катю, ты помнишь?» Я тут же ушла, чтобы он не заметил. Меня поразило, как он — замкнутый и гордый, так раскрылся перед этим дитенком.
А теперь несколько строк для тех, кто настойчиво и охотно говорит о вражде основателей нашего театра.
Константин Сергеевич писал Владимиру Ивановичу в связи со смертью его жены: «…В последние годы между нами было много недоразумений, запутавших наши добрые отношения.
Постигшее Вас тягчайшее горе возвращает мои мысли к прошлому, тесно связанному с дорогой покойницей. Думая о ней, я думаю о наших прежних хороших отношениях. Под впечатлением этих воспоминаний мне хочется писать Вам.
Мне хочется по-дружески сказать Вам, что я искренно и глубоко страдаю за Вас и ищу средства помочь Вам. Может быть, мой дружеский, сердечный порыв придаст Вам сил, хотя бы в самой малой степени, для перенесения посланного Вам тяжелого испытания»
[11].
И вот ответ Владимира Ивановича: «Не мог сразу ответить на Ваше ласковое письмо, не в силах был писать.
…Конечно, прежде всего люди «запутали» наши добрые отношения. Одни, потому что им это было выгодно, другие из ревности. Но мы устраивали для них благодарную почву сеять вражду. Сначала, естественно и неизбежно — рознью наших художественных приемов, а потом, очевидно, не умели еще преодолеть в себе какие-то характерные черты, ставившие нас в виноватое положение друг перед другом.
…А нашей с Вами связи пошел 41 год. И историк, этакий театральный Нестор, не лишенный юмора, скажет “вот поди ж ты! Уж как эти люди — и сами они, и окружающие их — рвали эту связь, сколько старались над этим, а история все же считает ее неразрывною”»
[12].
Нашим любимым выездным спектаклем в те годы была «Женитьба Белугина» по пьесе Островского. Борис Георгиевич Добронравов очень любил эту роль и играл ее вдохновенно.
В течение нескольких лет у меня была маленькая роль невесты Белугина, а летом 1939 года, на гастролях в Киеве, меня стали вводить на центральную роль Елены Карминой. Первый свой спектакль я играла с дублером Добронравова Иваном Кудрявцевым, а второй — с самим Добронравовым.
Видя мое исступленное волнение, Борис Георгиевич сказал мне: «Тебе будет легко. Ты только ничего не играй, а слушай, спрашивай и отвечай по правде, а я все сделаю». С Добронраво вым нельзя было играть, с ним надо было быть — такой была сила правды его героев.
В ВТО составилась группа из актеров разных театров, хорошо чувствующих юмор, и к концу года было создано несколько великолепных капустников. Сценарии писались сообща. Один, помню, был на тему «Зерно роли и физические действия». Блинников — директор, переброшенный из другой организации — читал немыслимый доклад, часто повторяя: «Зерно будет, об этом не беспокойтесь — работайте», а Василий Осипович Топорков — профессор «системы» — делал «научный» разбор, приводя наглядный пример «физических действий». В клетке метался Владимир Канделаки, он пел арию князя Игоря «О дайте, дайте мне свободу», а Василий Осипович, действуя указкой, сообщал, где действия правильные, а где есть ошибки.
Был еще «Трагический треугольник»: жена — Марецкая, муж — Абдулов, любовник — Плятт. Играли они якобы французов, изъясняясь «по-французски» на абракадабре, но абсолютно соблюдая мелодику, ритм и грассирование французской речи. Это было всерьез талантливо и от этого необыкновенно смешно. Зрители плакали от смеха.
Была сцена на любовную тему, составленная только из объявлений. Играли талантливые актеры во главе с тем же Осипом Абдуловым.
Была очень смешная пародия на первую театральную декаду из Азии — речи на «родном» языке и перевод для встречающих, их приезд в гостиницу. «Руководителем» декады был Дорохин, переводчиком — Петкер.
На одном из ночных прогонов присутствовали Шолохов и Фадеев. Они громко хохотали, вытирая глаза, а после конца номера Фадеев подошел к Дорохину и Петкеру и сказал: «Вы что, не понимаете? Это же тюрьма!» И «декаду» заменили художественным свистом в исполнении Абдулова и Канделаки — делали они это уморительно.
Готовились капустники и к 40-летию нашего театра, но внезапная кончина Константина Сергеевича отодвинула показ их к концу года.
В те далекие времена во Всероссийском театральном обществе бывали очень интересные вечера. Ведь ВТО издавна было актерским домом, и домом родным и любимым. Там состоялась торжественная встреча экипажа Чкалова после исторического перелета через Северный полюс. Прошел вечер и в честь папанинцев. Помню молодого пилота — героя Коккинаки и его очаровательную жену. На протяжении многих лет мне выпала удача встречать их у друзей, и мне кажется, в старости его облик не потускнел, а приобрел еще большую значительность. Вне профессии он был легким, остроумным, изысканно простым, а в работе — строгим, мудрым наставником.
1939 год мы встречали в ВТО. Была елка с подарками, и мне достался потешный щенок, якобы овчарка. Завернув щенка в салфетку, я держала его на коленях, и он мирно спал, полакав жидкого мороженого. Из ВТО пошли поздравлять Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову и семью Тархановых. В то время между нами еще не было той тесной связи, какой они одарили меня и мужа позднее.
Отношение к Ольге Леонардовне всегда было особым почти у всех в театре и вне его тоже. В ней поражало сочетание высокой духовности, блестящего ума, образованности, интеллекта и абсолютной простоты. Она была одинакова и с почтенными, знаменитыми, и с молодыми и неизвестными. К Ольге Леонардовне было неприменимо понятие «старость», иногда она бывала моложе молодых. Вот поэтому мы, тогда скромные актеры, соседи по дому, и могли в новогоднюю ночь вторгаться к ней с поздравлениями. Принимала она нас ласково и весело.
Ольга Леонардовна всегда встречала Новый год дома с близкими: с племянником — композитором Львом Книппером и его женой, с семьей Дмитриевых — художником Владимиром Владимировичем и красавицей Мариной и с Елизаветой Николаевной Коншиной.
Всем в доме заправляла Софья Ивановна Бакланова, в прошлом подруга старшей племянницы Ольги Леонардовны Ады Константиновны. Эта особенная женщина была многолетней почитательницей Книппер-Чеховой. Узнав, что Ольга Леонардовна, бросая свою давнюю квартиру на Гоголевском бульваре, теснимая родней, в 1938 году решила переехать в Глинищевский дом, Софья Ивановна, к тому времени разошедшаяся с мужем, сдала свою комфортабельную двухкомнатную квартиру Моссовету и поселилась в проходной комнате (всего комнат было три) в новой квартире Ольги Леонардовны, чтобы она не осталась одна.
Почти вся обстановка квартиры Ольги Леонардовны осталась в доме на Гоголевском бульваре, с ней переехали только самые любимые, привычные вещи: ночной столик, туалет, маленькое, очень старинное бюро с фарфоровыми медальонами, старинный приземистый комодик, одностворчатый, с зеркалом гардероб, кровать, расстроенной пианино и шкаф с книгами. Замечательный розовый фонарь-люстра, красного дерева старинный секретер по просьбе Ольги Леонардовны были куплены Дмитриевым в Ленинграде, так же как и вся обстановка столовой.
Комната Софьи Ивановны была обставлена ее уникальной мебелью из карельской березы еще работы крепостных, она перевезла и ценную посуду, а также старинное стекло.
В ту новогоднюю ночь мы явились к Ольге Леонардовне со щенком, уткнувшим нос в мое парадное «лямэ». Щенок был принят восторженно, а мы ласково.
Наутро давали «Синюю птицу», где я бессменно играла Ночь. Надо было возвращаться домой.
К тому времени у нас с мужем уже был пес — замечательный огромный овчар Прохор. Придя на спектакль, я стала навязывать всем бесплатно «породистого» щенка. На мое счастье, Вера Дмитриевна Бендина охотно согласилась взять его. Так и жил мой презент у Веры Дмитриевны и сторожил дом.
…Когда меня приняли в Художественный театр, Ольга Леонардовна, несмотря на возраст, была в полной творческой силе, играла много, но все прежние роли.
Раневская в «Вишневом саде» — последняя из всех ее чеховских ролей. В эту роль Ольга Леонардовна вложила все накопленное ею за предыдущие годы жизни в чеховских образах. Раневскую она не играла, она была ею, естественно, глубоко и просто. Константин Сергеевич называл это «мастерством, доведенным до шалости». Кажется, на шестисотом спектакле «Вишневого сада» Константин Сергеевич назвал ее исполнение подвигом.
Замечательными партнерами Ольги Леонардовны в мое время были Ангелина Степанова — Аня, Василий Иванович Качалов — Гаев, В. Орлов — Петя и, конечно, Борис Георгиевич Добронравов — Лопахин. И необыкновенно тонко, с глубоко спрятанной тоской, прикрытой юмором, играла Шарлотту Халютина. Никто не шел в сравнение о нею.
Ольга Леонардовна любила играть «Дядюшкин сон». Тут ее взрывной темперамент, ум, озорство давали выход еще не растраченным силам.
Я видела «Дядюшкин сон», еще будучи студийкой, с Синицыным в роли Мозглякова и с Кореневой в роли Зинаиды. Синицын был артист необыкновенного таланта, и бесконечно жаль, что его болезнь уготовила ему такой трагический конец. И Яншин играл Мозглякова великолепно, но Синицын весь был из Достоевского.
Степанова была очень хороша в роли Зинаиды, а о Хмелеве — князе — что и говорить — слов нет, и сравнивать его с последующими исполнителями — грех.
Но вершиной искусства в этом спектакле была Мария Петровна Лилина — Карпухина! Она в своей коронной сцене была только чуть «на взводе». Коварная, оскорбленная, легкая в своем мстительном порыве, она обличала зло и мещанство с убийственной силой и так тонко, не переходя черты дозволенного сценой.
Каким же огромным был ее диапазон: Снегурочка, Маша в «Чайке», Соня в «Дяде Ване», Наташа в «Трех сестрах», о которой Владимир Иванович говорил — «прелестное ядовитое насекомое», Аня в «Вишневом саде» и много еще блистательно сыгранных ролей.
Из-за обострения болезни сына Марии Петровне пришлось отказаться от премьеры «Дядюшкиного сна» и от исполнения Коробочки в «Мертвых душах». Все досталось дублершам, из которых достойной была только Зуева.
Мария Петровна была не только любящей женой, матерью, но и верной помощницей во всех свершениях своего гениального мужа. И помощь ее в создании Системы очевидна.
Вне театра Булгаковых, еще не женатых, мы с мужем увидели в доме Шиловского — первого мужа Елены Сергеевны, куда мы попали через Ольгу Бокшанскую. С 1938 года мы уже допускались в Нащокинский переулок, в скромную небольшую квартиру, с такой любовью созданную умными руками Елены Сергеевны.
Бывая там среди замечательных людей театра тех лет — актеров, художников, писателей и музыкантов, — мы, скромные молодые актеры, учились понимать, ценить и на всю жизнь глубоко полюбили этого необыкновенного писателя, драматурга, человека. Полюбили его юмор, всегда без улыбки, его бескомпромиссность в суждениях, его строгий вкус и душевную деликатность.
Как-то встретились мы в ВТО, и Булгаковы пригласили нас к себе «досиживать» вечер. Еще когда ехали в трамвае, Михаил Афанасьевич начал рассказывать о случае, происшедшем с ним в Киеве в пору его студенчества. Дядя поручил ему нанять в Киеве небольшой особняк с садом. Поручение было выполнено, но что-то смущало Булгакова — уж очень мрачен был старик сторож с заплатой на коленке (в глубине сада была сторожка). Переезд благополучно состоялся, и когда семья дяди мирно сидела за вечерним чаем, тетя, случайно взглянув в окно, вдруг издала вопль и упала в обморок. Михаил Афанасьевич успел увидеть ноги с заплатой на коленке, а над ними — скелет. Затем была погоня за скелетом, которая привела к сторожке. Булгаков рванул дверь — и пар, пар, а в клубах пара — Екатерина! Молодой Булгаков рухнул без чувств. Оказывается, в сторожке был притон фальшивомонетчиков, тут они печатали купюры, которые в то время назывались «екатеринками».
Жалею, что сразу не записала в подробностях этот экспромт. Михаил Афанасьевич был поразительный рассказчик, и только по окончании истории я поняла, что это шалость гениального фантазера.
Когда Булгаков бывал в хорошем настроении, он иногда пародировал сцену покаяния Мадлены в Соборе из «Кабалы святош». Надев для этого ночную сорочку Елены Сергеевны, он выходил из спальни, пятясь задом, с подвыванием вскрикивая текст Мадлены. Было это зло, но очень похоже и от этого необыкновенно смешно. Потом, по рассказам Елены Сергеевны, повторяя этот «номер», он каждый раз варьировал, добавляя новые подробности.
Однажды нас и Раевского с женой Булгаковы пригласили слушать «Записки покойника» («Театральный роман»). Мы пришли к назначенному времени и застали только чем-то взволнованную Елену Сергеевну. Мы уже решили уходить, когда Михаил Афанасьевич, ведя сына Елены Сергеевны, Сережу, рука которого была в гипсе, вошел со словами: «С этим ребенком не соскучишься, на этот раз он для разнообразия сломал руку». Когда гордого своей травмой Сережу увели в его комнату, чтение состоялось. Читал Михаил Афанасьевич главу «Предбанник».
Это было поразительно! Так интересно было узнавать всех от мала до велика, скрытых под смешными псевдонимами. Мы плакали от смеха, буквально падая со стульев, так это было похоже, остро, а иногда и беспощадно; но это не было просто злым высмеиванием, это было о своем, о дорогом, близком. Хотя часто «Театральный роман» воспринимается чуть ли не как злой памфлет на МХАТ.
«Записки покойника» не были предназначены для публикации. Но обстановка второй половины пятидесятых — начала шестидесятых годов вынудила Елену Сергеевну хлопотать о напечатании именно «Театрального романа» — это было наиболее приемлемым началом. За ним последовало написанное ранее, а главное — многолетний труд «Мастер и Маргарита».
Именно Елене Булгаковой, посвятившей 30 лет после кончины мужа служению его могучему таланту, мы обязаны тем, что он предстал перед нами во всем величии своего дара Писателя, Драматурга, Человека.
Помню Булгаковых перед отъездом в Батуми. Это было в период подготовки к работе над принятой театром пьесой Михаила Афанасьевича о юности Сталина, где Хмелев должен был играть молодого вождя.
Михаил Афанасьевич был возбужден, весел, даже помолодел, так был увлечен предстоящим трудным делом. И казалось, что впереди его ждут большие свершения и наконец большое признание. Но все произошло иначе. И уже не было встреч, а были лишь известия о том, как его вернули с дороги, как принял он этот приказ, как слег, чтобы больше не встать.
Умирал он мучительно, зная все о своей болезни. До последней возможности, до того как сознание оставило его, он диктовал жене правку «Мастера и Маргариты», и она поклялась ему, что этот его главный труд будет напечатан, и сдержала слово. В эти последние дни в доме, чередуясь, дежурили В. В. Дмитриев, Ю. С. Эрдман и С. А. Ермолинский. Приходил Михальский, и все время рядом с Еленой Сергеевной находился ее старший сын Женя.
Мы с мужем ночью были в Союзе писателей на Поварской, где он лежал в гробу, на панихиде в театре, в крематории и потом на захоронении его праха на Новодевичьем кладбище.
В начале зимы 1939 года пришла открытка от Елены Густавовны Смиттен из тюремного лагеря под Карагандой. Ей разрешили переписку — одно письмо в месяц, и получение посылок, кажется, один раз в три месяца.
После бесплодных попыток получить для Наташи разрешение на свидание с матерью мы решили пойти на риск. Собрав посылку с продуктами и теплыми вещами и довольно большую сумму денег, стали готовить Наташу в дорогу. Но отпускать ее одну было нельзя, и я стала уговаривать сестру Елены Густавовны Евгению ехать на свидание вместе с Наташей. Вначале она отказалась довольно решительно и не очень деликатно («Я не гувернантка вашей сестры»), но потом согласилась, и они уехали.
Там, далеко от Москвы, начальство было человечней: после долгого стояния под какой-то дверью сестре и дочери разрешили свидание — и какое! Им выделили отдельную избу, куда привели заключенную Елену Смиттен, и оставили их на целых трое суток одних, причем их никто не контролировал. Они могли вволю наплакаться и наговориться.
Елена Густавовна рассказала, каким был «суд» над ней. Я не буду писать об этом — очень страшно! С ней поступили жестоко, потому что она отказалась подписать показания, что мой отец «работал на три разведки» (по числу знания языков).
О судьбе отца никаких сведений по-прежнему не было. «Десять лет без права переписки» — и все. Только потом я узнала, что стояло за этими словами.
А тогда Елена Густавовна на многих страницах описала все, что с ней происходило с момента ареста, и было это письмо адресовано на имя Берии. Во второй раз скажу — как же мы были наивны!
Наташа привезла это длинное послание, и я сама ходила опускать его в специальный ящик для писем у ворот Кутафьи-башни Кремля.
В сезоне 1939 года возобновилась работа над «Горем от ума» с Ливановым и одновременно вводился второй состав, о котором я уже писала. Я была счастлива, получив такую роль, но робела быть партнершей Бориса Николаевича.
Начинали репетировать, как всегда, с Василием Григорьевичем Сахновским и отдельными сценами или актами сдавали Владимиру Ивановичу.
Помню, Владимир Иванович был очень доволен Ливановым. После болезни Борис Николаевич был мягок, прост в общении и, точно следуя советам Немировича-Данченко, тонко выстраивал характер своего героя, постепенно нагнетая силу протеста, выливавшегося в последнем акте в гневное обличение. И еще его Чацкий очень любил Софью. В третьем акте перед балом он был таким убедительно простым и нежным, что было трудно уходить — «Щипцы простудим». После болезни он сильно похудел и был стройным.
Замечательно репетировал Молчалина Белокуров — плебей, выбивающийся в свет.
Роль Софьи была мне трудна: не давалась эта девическая надуманная, опоэтизированная влюбленность в Молчалина. И с Чацким все не давалась та мера, где самым главным должно быть это «чуть-чуть». Только в четвертом акте было немного легче.
Первый спектакль в этом составе стал событием из-за Ливанова. Успех у Бориса Николаевича был очень большой. В последующих спектаклях у Ливанова — Чацкого, к сожалению, ускользала искренняя простота, больше появлялось геройства.
Потом составы были перемешаны. Мне было трудно привыкать к Чацкому — Прудкину, и я очень боялась помешать Ольге Николаевне Андровской, блестяще игравшей Лизу.
Играла я Софью довольно долго. Владимир Иванович Немирович-Данченко очень точно проанализировал мою работу. В письме Василию Григорьевичу Сахновскому он писал очень осторожно: «Я бы посоветовал не играть». Вот как необыкновенно бережно наши великие учителя воспитывали нас. Конечно, было обидно, но ведь справедливо, и я не играла до эвакуации. Там пришлось.
Созрело окончательное решение ставить «Три сестры». Владимир Иванович давно готовил себя к этим вторым «Трем сестрам».
Роли были распределены так: Маша — Тарасова, Ольга — Еланская, Ирина — Степанова, Вершинин — Качалов (дублер — Ершов), Прозоров — Станицын, Наташа — Георгиевская, Кулыгин — Орлов, Чебутыкин — Грибов, Тузенбах — Хмелев, Соленый — Ливанов, Родэ — Белокуров, Федотик — Дорохин, Ферапонт — Подгорный, Няня — Соколовская.
На первой беседе Владимира Ивановича с участвующими (а присутствовали почти все актеры, свободные от других репетиций) он говорил о большой сложности этой работы, о невозможности повторения первых «Сестер», о том, что спектакль должен звучать современно. «Мечта о лучшей жизни» — так Владимир Иванович определял суть пьесы.
Вторым режиссером была Нина Николаевна Литовцева (ошибочно Иосиф Раевский называл вторым режиссером себя — в то время он только присутствовал на репетициях, он стал выполнять эту функцию гораздо позднее, когда «стариков» уже не было). Нина Николаевна в первые дни работы сказала мне, что Владимир Иванович хочет дать мне попробовать дублерство Ирины и чтобы я подумала над этим. В те далекие времена не надо было просить, доказывать. Наши учителя заботились о нас, они растили артистов, радуясь их успехам и жалея об их неудачах.
Я заволновалась. Дома с мужем мы всячески рассматривали эту перспективу и пришли к решению, что я не смогу быть Ириной, что это не в моих возможностях. Я чистосердечно рассказала Нине Николаевне о нашем решений, и она поняла меня, а главное, понял Владимир Иванович. Так и не случилось мне тогда попасть в Чехова!
Работа над спектаклем была очень кропотливой, Владимир Иванович с необыкновенным терпением (это качество режиссера он считал обязательным), но не идя ни на какие уступки актерам, добивался великолепной простоты при глубине мысли Чехова и его поэтичности. Репетировали долго и очень интенсивно. Но что-то не согласовывалось у Василия Ивановича Качалова с Немировичем-Данченко, что-то шло не совсем гладко. Чаще стал репетировать Владимир Львович Ершов, но и он не совсем удовлетворял Владимира Ивановича.
И вот незадолго до выпуска Владимир Иванович снимает Качалова с роли Вершинина и отдает первое исполнение Михаилу Пантелеймоновичу Болдуману, а Ершова переводит в дублеры. В театре это произвело сенсацию, но обсуждать и высказываться вслух было не принято. Василий Иванович тяжело переживал свою отставку, но ни единым словом ни он сам, ни Нина Николаевна на эту тему не обмолвились. Наверное, у Владимира Ивановича были веские основания поступить так. Ведь Качалов был одним из любимых его артистов.
Болдуман играл очень хорошо, но многие из нас «болели» за Качалова.
Этот спектакль вышел в 1940 году и стал крупным событием не только для Художественного театра, но и для советского театра вообще. Немирович-Данченко доказал еще раз, что его могучий талант режиссера может быть молодым и современным. Прекрасным было оформление Владимира Владимировича Дмитриева.
На следующий день после премьеры в «Правде» на первой полосе были напечатаны небольшие круглые портреты всех участников спектакля. Актерский ансамбль был необыкновенным, а атмосфера спектакля покоряющей, а уж последний акт! Уход Хмелева, Грибов с газетой, молчаливое прощание и уход Ливанова — Соленого. Монолог Кулыгина — об этом невозможно рассказать.
Кто и как только не играл потом в этом спектакле, а все же до конца не могут расшатать стальной каркас постановки, выкованный Владимиром Ивановичем и его учениками.
Для Николая Ивановича Дорохина 1940 год был счастливым. К тому времени он снялся в нескольких кинофильмах: впервые в центральной роли в фильме Райзмана «Последняя ночь» по сценарию Габриловича, потом были «Волочаевские дни» у братьев Васильевых, «Ошибка инженера Кочина», где он был партнером Любови Орловой.
В большой группе деятелей кино, награжденных Сталинскими премиями, оказался и он. В ту пору это была высокая честь. Председателем комитета по Сталинским премиям тогда был Владимир Иванович Немирович-Данченко. Вручая мужу медаль и диплом, он тихонько сказал несколько слов. Корреспонденты все допытывались, о чем шептал Немирович-Данченко, но так и не узнали, а сказано было вот что: «Помните, что театр — это жена, а кинематограф — любовница». Владимир Иванович очень хорошо относился к Николаю Ивановичу.
Мы очень радовались этой награде. И кроме гордости за мужа как актера, я могла немножко меньше волноваться за него. Несмотря на то, что он очень мало был знаком с моим отцом, Николаю Ивановичу досталось много тяжелого из-за меня — дочери «врага народа».
…Постановка «Кремлевских курантов» в Художественном театре. Впервые на сцене МХАТа появится образ Ленина.
Распределены роли были так: Ленин — Грибов, Забелин — Тарханов, жена Забелина — Книппер-Чехова, Рыбаков — Боголюбов, Часовщик — Петкер, Сталин — Геловани, Дзержинский — В. Марков, Маша — я. Режиссер-постановщик — Леонид Миронович Леонидов, ассистент режиссера — Мария Осиповна Кнебель. Художник — Владимир Владимирович Дмитриев.
Мне рассказывал некоторое время спустя Василий Григорьевич Сахновский, что при распределении ролей Леонид Миронович не сразу согласился с моей кандидатурой на роль Маши. Но в процессе репетиций он был абсолютно одинаков со всеми и, даже если был не согласен в чем-то, очень терпеливо переубеждал, никогда не прибегая к показу. Постепенно я перестала испытывать страх перед грозным Леонидом Мироновичем.
Очень неохотно репетировала Ольга Леонардовна и однажды открыто сказала на репетиции, что не понимает характера жены Забелина, и еще что-то. И через некоторое время Забелину стала репетировать Елизавета Феофановна Скульская — жена Михаила Михайловича Тарханова, которая бывала на всех репетициях.
В работе над спектаклем роль ассистента режиссера Марии Осиповны Кнебель была скромной, хотя с ее стороны и очень активной, а написанные ею воспоминания
[13] о репетициях с Ольгой Леонардовной, мягко выражаясь, преувеличены.
После рабочей сдачи спектакля произошел разговор Немировича-Данченко с Леонидовым. О чем, никто не знал, но в результате Леонидов отказался от режиссуры, и Владимир Иванович поменял исполнителей нескольких ролей. Так, роль Забелина перешла от Тарханова к Хмелеву. Забелину стала репетировать Соколова, а Скульская ей дублировала. Вскоре роль Рыбакова была отдана Борису Николаевичу Ливанову, а Боголюбов перешел в дублеры.
Все последующие репетиции с Немировичем-Данченко и с такими артистами, как Хмелев и Ливанов, были для меня большой школой и большим праздником. Почти на всех репетициях с Владимиром Ивановичем присутствовал Николай Федорович Погодин, сидя скромно в стороне. Немирович-Данченко требовал от Погодина значительных переделок текста, отказа от целой картины. Дмитриев заново перестроил интерьер кабинета Забелина и внес еще некоторые незначительные поправки. Возобновленные в конце пятидесятых годов «Кремлевские куранты», уже со Смирновым — Лениным и Ливановым — Забелиным (режиссура Кнебель и Раевского), очень сильно отличались от первого варианта даже в построении некоторых картин.
В ходе репетиций первых «Курантов» произошел курьез с Погодиным. Он все не приносил нужной Владимиру Ивановичу картины, завершающей развитие отношений Рыбакова и Маши. На одной из репетиций Немирович-Данченко обратился к Ливанову и ко мне примерно с такими словами: «Вы теперь знаете много о себе и о событиях, в которых живете, прошу сыграть этюд на тему “Последнее свидание”».
Нам дали 10–15 минут. Ливанов, конечно, со своей смелой фантазией стал набрасывать «план», я тоже посильно участвовала. Мы наметили следующее: Рыбаков едет на фронт, последние сборы. Маша прибегает к нему рассказать о происшедшем с отцом в Кремле. На вопросы Маши, почему уложены его вещи, ответа она не получает. «Вы будете меня ждать?» — «Да!» Потом прощание, она остается одна.
Все это мы сыграли перед Владимиром Ивановичем и теми, кто был на репетиции. Конечно, оба волновались. Борис Ливанов, хотя был тогда очень популярным, даже знаменитым, всегда волновался на репетициях и перед выходом на сцену.
После окончания мы услышали знакомое «Ха!» Владимира Ивановича — не то смех, не то кашель — и слова о том, что эскиз есть. А на следующий день, после того как мы повторили это в присутствии автора, Владимир Иванович вдруг попросил помощника режиссера Глебова пригласить старшего буфетчика Алексея Алексеевича Прокофьева. Тот сразу явился (он замечательно точно описан у Булгакова в «Театральном романе»), и мы услышали: «Прошу вас в кабинете у ложи приготовить закуску вроде легкого обеда и бутылку сухого вина. Николай Федорович там будет работать, потому что мы его запрем». Погодин хотел что-то возразить, но только, улыбаясь, «зачертил» по привычке головой, и Глебов повел его «в заточение».
Еще не была окончена репетиция другой картины, как Николай Федорович принес прелестно написанную сцену — она кончалась уходом Рыбакова, телефонным звонком и ответом Маши: «Комиссар Рыбаков? Уехал!»
…Для меня Алексей Николаевич Грибов был всегда лучшим из всех, кого я видела в сложнейшей роли Ленина. Он играл без грима, только несколько штрихов нашего замечательного художника-гримера Фалеева — и достигалось портретное сходство.
Я всегда оставалась в декорации забелинского кабинета и слушала сцену Ленина с Часовщиком, которого очень достоверно и трогательно играл Борис Яковлевич Петкер, а потом — приход Забелина. Два крупнейших художника — Грибов и Хмелев. Какими же они были живыми, настоящими!
Сцена «Кабинет Забелина». К Хмелеву было страшно приблизиться, заговорить. Помню страшные его глаза. А потом, после встречи с Лениным, — смятение, глаза вопрошающие, он весь устремлен в мечту Ленина вывести Россию из мглы. Он говорил мне: «Сегодня в Кремле я видел гениального человека». Какая сила, какая вера была в этих его словах и как просто он их говорил.
Ливанов — Рыбаков — могучий, сильный, отважный и такой чистый, ясный, прячущий свою любовь к Маше иногда даже за резкостью. Веселый, широкий, надежный русский матрос.
Вспоминаю их всех сейчас и благодарю судьбу за то, что мне пришлось играть с ними.
Летом Художественный театр почти каждый год ездил на малые гастроли в Ленинград на коммерческих условиях. Обязательно везли «Турбиных» и один из чеховских спектаклей.
Тем летом показывали «Турбиных» и «Вишневый сад», где еще играли Книппер-Чехова, Качалов, Москвин и Халютина. Состав «Турбиных» был основной, из дублеров — только Василий Осипович Топорков. Жили обыкновенно в «Астории» и в «Европейской», а молодежь — в «Октябрьской» гостиницах.
Это лето было для меня знаменательным. Я получила вызов с «Ленфильма» от Козинцева и Трауберга для пробы на роль Женни Маркс. По сценарию постановщиков предполагались три серии, уже были утверждены Штраух — на роль Маркса и Черкасов — на роль Энгельса.
После телефонных переговоров я поехала. Встретили меня очень любезно, поместили в хорошем номере «Астории», предупредив, что торопиться не будут.
В первую встречу я только познакомилась с режиссерами и оператором Москвиным. Во второй раз меня пригласил к себе для беседы Козинцев, и я познакомилась с его прелестной женой Софьей Магарилл.
Начались поиски грима и фотопробы. Сложность была в том, что в фильме герои проживали с 18–20 лет до смерти Маркса. Моя восемнадцатилетняя героиня постепенно взрослела и старилась. Все это было очень сложно и ответственно. Грим молоденькой Женни, поработав над моей физиономией, сделал замечательный гример Анджан. А вот сделать щестидесятилетнюю из двадцатидевятилетней женщины было сложнее. Над этим трудились не один день. Грим — фото, грим — фото. А потом наступили и экранные пробы. Парнеров у меня не было. Максим Максимович Штраух находился в санатории «Барвиха» под Москвой, чтобы похудеть и стать молодым Марксом.
Прожила я в Ленинграде больше трех недель. В свободное от кинопроб время я, конечно, виделась с нашими. Как-то, приехав вечером в гостиницу, встретила в вестибюле Ольгу Леонардовну, Яншина с женой (актрисой театра «Ромэн» Лялей Черной), Николая Свободина, других наших. Они шли ужинать и пригласили меня. Конечно, я обрадовалась. Каждое общение с Ольгой Леонардовной было для меня подарком, да и с остальными мне было хорошо. После довольно длинного и вкусного ужина Ольга Леонардовна пригласила к себе на кофе.
Было уже поздно, когда кто-то предложил ехать на Острова, и наша дорогая «герцогиня», как называл ее Павел Марков, с радостью согласилась. А я отправилась к себе в номер: утром надо было быть на студии. И Ольга Леонардовна, прощаясь, сказала: «Да, да, вам нельзя, спокойной ночи» (тогда она еще называла меня на «вы»).
Когда в 10 часов утра я спустилась в вестибюль, ожидая, когда за мной приедут, я увидела нашу «герцогиню» — свежую, элегантную, она покупала газеты, весело разговаривая с киоскершей. Вот такой она была — без возраста.
Кончились мои пробы, я уехала домой, и вскоре мне сообщили, что кандидатура моя утверждена.
Подготовительный период был долгим и сложным, так же сложно проходил и сценарий. Кажется, очень критиковали за символику и романтизм. Требовали переделок. А сценарий был талантливым, не формальным, роли великолепные.
Пока это продолжалось, наступила осень, зима, а потом страшное лето сорок первого. Конечно, стало не до картины. Все поломала война.
Этой несыгранной роли мне было очень жаль. Но, видно, уж «судьба моя такая», как говорит Маша в «Трех сестрах».
Осенью 1940 Года во время репетиции «Кремлевских курантов» я почувствовала себя плохо — приступ аппендицита. Это было уже не в первый раз, но тогда обошлось.
Леонид Миронович, посмотрев на меня пронзительно, сказал помощнику режиссера Глебову, чтобы пригласил нашего врача Алексея Люциановича Иверова (его точный портрет запечатлен в «Театральном романе» Булгакова). Явившемуся Иверову Леонидов приказал: «Забирайте ее и кладите на операцию, и чтобы я ее не видел».
Привезли меня домой, и на следующий день приехал профессор Александр Александрович Вишневский. Мы были знакомы с этим замечательным хирургом и человеком. Осмотрев меня, Александр Александрович сказал мужу: «Привози ее четвертого ноября к девяти утра, а до этого чтобы лежала».
Мы приехали, как и было приказано, и Александр Александрович, кидая мужу на руки мою шубу, деловито сказал: «А ты иди, делать тут тебе нечего». Нянечка повела меня в приемный покой переодеваться в пижамные штаны, больше похожие на подвернутые кальсоны, и в мужскую нижнюю рубаху. В таком виде, выходя из лифта, я наткнулась на профессора. Увидев меня, он, громко вскрикнув «ой», закричал на нянечку: «Сейчас же прикрой ее генеральским халатом!»
4 ноября вечером, уже «прикрытая» голубым байковым халатом с красными обшлагами, я нахально постучала в кабинет и стала уговаривать Александра Александровича, чтобы он оперировал меня сразу, на следующий день, не дожидаясь всех анализов. С трудом, но мне это удалось.
Назавтра в 9 часов меня погрузили на каталку, привезли в операционную и стали готовить. Оперировал Вишневский меня довольно долго, под местным наркозом. Когда меня после операции привезли в палату, где я лежала с женой известного тогда хирурга, то я «трещала», не закрывая рта, пока не начал отходить наркоз, тут уж я стала затихать. Вечером заходил Александр Александрович, он всегда навещал больных в день операции, иногда даже ночью.
Наступило 7 ноября. С улицы слышны были веселье и музыка. Моя кровать стояла против двери, и вот в дверях показался муж — лицо испуганное, постоял, посмотрел и исчез. Вслед за ним появился Федор Михальский, покивал мне, послал воздушный поцелуй — и тоже исчез, а на смену ему явился Иосиф Раевский и стал проделывать какие-то пассы руками. Все трое молчали. Это было очень смешно, но смеяться было очень больно.
Через две недели муж приехал за мной утром. Я заметила, что лицо у него смущенное и вроде заспанное. Дома, войдя в столовую, я увидела на обеденном столе на клеенке остатки еды, банку с маринованными грибами, полупустой графин, еще что-то. Только я начала монолог о «непристойности» стола, как открылась дверь спальни и появился наш дорогой Саша Фадеев. Он был в моем халате, еле доходившем ему до колен, рукава по локоть, вид — немыслимый. «Дорогая, с приездом! Да, да, да! А мы тебя славили, да, да, да». — «Это они не велели накрывать как надо», — указывая на Александра Александровича пальцем, оправдывалась Елена Григорьевна. По инициативе нашего дорогого друга я «с приездом» выпила рюмку коньяка и закусила маринованным грибом. И ничего, не повредило!
Новый, 1941 год мы с мужем встречали в ВТО с Раевским. В глубине ресторана во всю стену был накрыт огромный стол, за которым Владимир Иванович устроил своим ученикам из Музыкального театра встречу Нового года.
За соседними «маленькими» столами сидели известные артисты, писатели, летчики. Было шумно и весело. Мы ходили поздравлять Владимира Ивановича, и он был приветлив, даже ласков.
Было уже поздно, когда мы, как обычно, пришли поздравлять Ольгу Леонардовну. Когда мы пришли, у нее уже была часть гостей Тархановых во главе с самим Михаилом Михайловичем.
Никто из нас и не подозревал, каким страшным окажется этот год…
Часть IV
1941–1945 годы
С 17 июня 1941 года начинались малые гастроли МХАТа в Минске. В репертуаре гастролей были: «Турбины», «На дне», «Школа злословия», «Тартюф». Артисты, не занятые в этих спектаклях, играли на основной сцене в Москве. Декорации, как всегда, были
отправлены заранее. Постановочной частью руководил Вадим Васильевич Шверубович, административной — Федор Николаевич Михальский со своим помощником Снетковым, художественное руководство было поручено Ивану Михайловичу Москвину.
Как известно, 22 июня Молотов объявил о вероломном нападении Германии без объявления войны и о жестоких бомбежках наших городов в ночь на 22 июня. Мы с ужасом услышали о том, что бомбили Минск.
Распоряжением нашего тогдашнего директора Калишьяна приказано было продолжать гастроли. Известно, что Алла Константиновна Тарасова категорически протестовала против такого приказа и стала хлопотать в правительстве о его отмене.
Телефонная связь с Минском была прервана. О судьбе ста человек — актеров, вокальной и постановочной групп ничего известно не было.
В театре сразу создали несколько бригад для шефских концертов, главным образом, на призывных пунктах и на вокзалах перед отправкой воинских частей на фронт.
Мы продолжали репетировать «Куранты», а после окончания спектаклей дежурили в конторе Ф. Н. Михальского у телефонов по два человека до 8 часов утра на случай важных приказов и в ожидании вестей из Минска.
Моя мама в эти страшные дни гостила в Кратове, в поселке старых большевиков, у друзей по Красноярску Клоповых. А брат 23 июня, на второй день войны, должен был явиться на сборный пункт. Я приехала к нему, проводила его до соседней улицы (дальше он меня не пустил), а Наташа поехала за мамой в Кратово.
У нас, москвичей, был дом, и мы еще не знали воздушных налетов, а наши товарищи в Минске подвергались смертельной опасности. Оказывается, в первую же бомбежку было много разрушений и человеческих жертв, но наши решили, что спектакли должны идти. Из нашей группы физически никто не пострадал.
Минск продолжали бомбить, и 24 июня фашистская бомба попала в здание театра, сгорели декорации гастрольных спектаклей. Гастроли оборвались. Все жались в гостинице, пока уцелевшей, ожидая распоряжений от местного руководства, а их не было. Наконец появились люди и предложили Ивану Михайловичу Москвину уехать в Москву в легковой машине.
Елизавета Феофановна Скульская, жена Михаила Михайловича Тарханова (он с сыном в это же время был в Выборге, на премьере своих студентов), в те дни была все время с Москвиным. Она рассказывала мне, что в такой ярости видеть Москвина ей никогда не доводилось. Не выбирая выражений, он гнал этих людей и требовал хотя бы один грузовик.
Все-таки удалось добиться грузовой полуторки, в которую были помещены женщины и дети. Остальные пошли пешком. Город горел. Машина отвозила людей на несколько километров и возвращалась за теми, кто шел пешком. Так они и передвигались — ехали и шли, собирали топливо для машины и прятались от бомбежек. Бросили все, остались кто в чем был. (У Ивана Михайловича сгорели ордена вместе с парадным костюмом, оставшимся в гостинице. Впоследствии, когда было необходимо, он надевал ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, которыми к тому времени был награжден театр.)
Кажется, это было в ночь на 27 июня. Софья Николаевна Гаррель и я дежурили в конторе Михальского. Раздался телефонный звонок, и голос произнес: «Примите телеграмму». Мы замерли. Я слушала, Соня записывала: «Двумя группами вышли Минска направлении Борисова все живы». Каким чудом дошла эта телеграмма?
В продолжение всей ночи мы по телефонной книжке Михальского обзванивали родных и близких наших товарищей.
Как выяснилось потом, они разделились: группа рабочих сцены во главе с Вадимом Шверубовичем и Леонидом Поповым пошла самостоятельно, все остальные — с Москвиным и Михальским. Конечно, если бы не Иван Михайлович, все могло бы быть гораздо трагичнее.
28 июня, придя утром на репетицию, я увидела в комнате младшего администратора, у нашего служебного гардероба Михаила Михайловича Тарханова. Был он серый, заросший, измученный, в грязном костюме и тихонько плакал. Рядом стоял сын Ваня, тогда подросток. Они вернулись из Выборга, где их застала война. Тархановы пришли прямо в театр после мучительного возвращения. Они пережили много страшного по дороге в Москву. Им уже сказали, что есть вести от «минчан».
А 29 июня ранним утром помощник директора Игорь Нежный поехал в Вязьму — конечный путь электрички. И только там Иван Михайлович Москвин согласился сесть в легковую машину, усадив с собой Лидию Михайловну Кореневу. Остальные ехали поездом, и их встречали в Москве. Иван Михайлович появился дома, держа в руке обломки удочки — единственное спасенное им «имущество».
Наш театр — обе его сцены — работал с большой нагрузкой, концерты и выступления для армии шли ежедневно.
В первые месяцы войны моральное состояние было очень тяжелым, даже не чувствовалось усталости, а только черная тоска.) Моя сестра Наташа и мама остались вдвоем. В конце июня Наташа поступила на курсы медсестер.
Разные предприятия и наркоматы готовили к эвакуации. Москва пустела. Ночные дежурства в театре продолжались. У подъездов и ворот некоторых домов появились надписи «Бомбоубежище» и стрелка, указывающая вход.
Начали эвакуироваться в глубокий тыл семьи писателей, артистов, кинематографистов… Уехала с матерью и маленьким Шурой Ангелина Степанова. Отправил семью в Свердловск Добронравов, туда же уехали жена и дети Ливанова. Петкер куда-то увез жену и сразу же вернулся. Многие семьи были разделены.
Как-то в самом начале июля, поздно вечером, к нам пришел Фадеев. Наверное, часу во втором ночи раздался телефонный звонок. Я подошла. «Это квартира Дорохина? Говорят из ЦК. Товарищ Фадеев у вас?» Я позвала. Он коротко отвечал: «Да, да». И еще что-то. Потом сказал мне: «Дай зубную щетку», пошел в ванную, почистил зубы, умылся и уехал. Мы с мужем просили, чтобы он позвонил потом. Часов в 5–6 утра Александр Александрович позвонил и сказал только: «Пока спите спокойно».
А вечером была первая воздушная тревога — ложная, но все думали, что она настоящая. Жильцы нашего большого дома 5/7 по нынешней улице Немировича-Данченко стали спускаться в подвалы, в котельную и прачечную. Многие были с собаками, мы тоже пошли с нашим Прохором. И вот ведь, злейшие враги — боксеры и овчарки, всегда кидавшиеся друг на друга, тут вели себя сдержанно, прижимаясь к ногам хозяев, и только иногда сильно дрожали. Это был единственный раз, когда мы с мужем были в нашем бомбоубежище. Елену Григорьевну нашу дети увезли под Каширу — на родину.
Через день-два стало известно, что наш «золотой фонд», наших старейшин, а их в Москве был много — художников, музыкантов, певцов, артистов академических театров — отправляли с семьями в Нальчик — беспрекословно.
6 июля в санатории «Сосны» внезапно скончался Леонид Миронович Леонидов. Была короткая гражданская панихида и кремация, все очень спешно. Помню растерянные лица Анны Васильевны и Ани Леонидовых. Юра был уже в армии, но его отпустили на похороны и проводить мать и сестру в Нальчик со всеми.
22 июля мы поехали на дачу в Валентиновку, где постоянно жили родители мужа. Хотели вернуться засветло, но задержались. Когда электричка подошла к перрону в Москве, она не остановилась, а повезла нас дальше. Нас выпустили из вагонов и приказали идти в тоннель. Никакие протесты людей на милиционеров не действовали. Большая толпа оказалась в тоннеле на рельсах. Раздался приказ: «Всем на корточки или сесть!» Доносился какой-то гул.
У мужа начался сердечный приступ — очень было душно и тесно. Я, не слушая окриков, пошла к старшему милиционеру и попросила разрешения пройти дальше по тоннелю, где было меньше людей. Сказала, что муж болен, и назвала фамилию. К актерам кино отношение тогда было особое. Милиционер даже помог нам пройти метров сто. Там можно было на что-то сесть. Но я стояла, слушала зловещий гул, иногда очень резкий, короткий.
Наконец дали отбой, и мы пошли по путям к станции «Комсомольская площадь». В залах метро стояло много раскладушек, и было много женщин с детьми.
Выйдя на волю, мы поняли, что это была не ложная тревога, видны были разрушения. Пешком, очень медленно, часто останавливаясь, дошли мы до дома — цел!
Было уже совсем светло, когда мы вошли в квартиру и увидели нашего пса. Он стоял, сильно дрожа, в ванне, где с начала войны всегда была налита вода. Так он, бедный, спасался в одиночестве.
Я позвонила маме, она была спокойна, зная, что мы на даче. Наташа была на дежурстве и тоже уже звонила. О нашем путешествии я ничего не рассказала. На следующий день рано утром муж повез Прохора на дачу.
Так мы пережили первый налет фашистов. Больше по своей воле я в бомбоубежище не спускалась. А многие ходили к 8 часам вечера ежедневно. Из наших театральных это были в основном те, кто пережил минские гастроли.
Отъезд наших «стариков» в Нальчик был назначен на 9 июля. Уезжали все во главе с Немировичем-Данченко.
Нина Николаевна и Василий Иванович Качаловы до этого, кажется, были устроены в Пестово — нашем подмосковном доме отдыха. Вадим Шверубович был уже на фронте — он сразу добровольно ушел в ополчение. Федор Михальский тоже ушел, но его, по распоряжению Ивана Михайловича Москвина, через два-три дня вернули в театр. Качаловым надо было провести перед отъездом одну ночь в Москве.
С 8 на 9 июля было опять наше с Гаррель дежурство, теперь уже в качестве доморощенных медсестер. У каждой из нас была большая сумка с медикаментами, бинтами, ватой, йодом и большой винной бутылкой с валерьянкой, приготовленной доктором Иверовым.
Придя днем в театр, мы с Соней рассказали нашему замечательному заведующему бутафорией Горюнову, что хотим устроить Качаловых особо в нашем бомбоубежище (оно было в подвале под Школой-студией). Василий Иванович Горюнов принес маленький диванчик, кресло и ширму. Таким образом был устроен отдельный уголок.
Позвонили Ольге Леонардовне, приглашая к нам в подвал, но она, поблагодарив, сказала, что лучше сидеть в передней — «безопасно».
К 8 часам вечера стали собираться в чайном буфете театра. Пришли Качаловы, Нина Николаевна — постаревшая, молчаливая, а у Василия Ивановича глаза грустные — вопрошающие. Он все благодарил и иногда спрашивал, когда и куда надо идти. Около половины девятого мы проводили их.
Помню, что Фаина Васильевна Шевченко с мужем Георгием Александровичем Хмарой и дочерью Фленой выбрала производственный корпус — в обоих наших подвалах народу было много.
Аккуратные фашисты не заставили себя ждать, ровно в 9 часов загудели моторы. Некоторые наши «специалисты» якобы различали звук и наших моторов.
В этот вечер муж дежурил на крыше нашего дома, мама была у себя, а я в подвале театра. Бомбили сильно. Привыкнуть к вою летящей бомбы было трудно, но я после каждого грозного звука от ее падения все старалась выбраться во двор, откуда была видна башня нашего дома — цел ли?
Иногда к нам врывался Ваня Рыжов и кричал: «Пять зажигалок скинули!» Он с несколькими храбрецами оберегал крышу театра.
Валерьянку нашу пили очень часто, и все больше мужчины. В минуту затишья я пошла навещать производственный корпус и, когда уже почти подошла к двери, опять услышала этот вой. Меня толкнуло о дверь довольно сильно, но даже валерьянка не пострадала. Оказывается, бомба упала перед зданием Моссовета, а по прямой это близко. Когда я проникла внутрь, валерьянку выпили всю. В этом не слишком приспособленном убежище была отчетливо слышна страшная музыка налета, но, слава Богу, обошлось, все остались живы.
А днем наши старейшие уехали. В театре стало одиноко.
…Репетировали каждый день. Спектакли начинали днем, чтобы закончить до налетов. Странно, но на спектаклях народ был. Когда мы бывали свободны от дежурств, то во время налетов никуда не ходили. Правда, светомаскировку соблюдали — спускали на окна черные бумажные жалюзи.
Как-то вечером, во время налета, вдруг появился мой брат. Сказал, что на сутки, с каким-то поручением. Я стала его кормить, а он засыпал сидя. Потом я уложила его в маленькой комнате, и он сразу заснул, даже не сняв сапоги.
Ночью нас навестил Фадеев. Я что-то собрала на этот поздний ужин. Разбудили брата, он умылся и пришел знакомиться.
Мы сидели до рассвета. Мне было приятно услышать от Александра Александровича: «Понравился мне твой брат».
Маму брат так и не увидел — пришел домой, а ее не было, и он сразу пошел к нам. От нас ушел около 6 утра, не сказав куда.
Наташа ежедневно дежурила в госпиталях или в родильных домах. Во время налетов она выводила и выносила раненых и рожениц. Маму мы уговорили переехать на дачу — так было нам спокойнее: Наташа была уже на казарменном положении, только иногда забегала.
…С самого начала войны были запрещены переписка и посылки в лагеря. Бедная Лена осталась без поддержки и известий.
Наступил август. Неожиданно в Москву вернулись Москвин и Тарасова. Он решил быть с театром, а с Иваном Михайловичем не поспоришь. Семья Тарасовой — мать и сын с женой — осталась в Нальчике.
Как-то в свободный от дежурств день мы решили поехать на дачу — выспаться. Пригласили Раевского. Приехали и сразу на веранде стали готовить еду. Зашел Добронравов — его дача была близко. Он все подгонял меня: «Истинный Бог, ты шевелись, а то не успеем “приложиться”».
Стол по тем временам получился даже роскошным: водка, вина, коньяки.
Борис Георгиевич довольно быстро ушел к себе, а муж и Раевский попросились «немножко» отдохнуть тут же на веранде на двух раскладушках. Раевский, аккуратно сложив, повесил брюки на стул и в ту же минуту захрапел, потом заснул и муж.
В положенное время загудели моторы — фашисты летели бомбить Москву. На обратном пути они старались бомбить военные заводы, а один из них был на соседней станции. Тревогу в Валентиновке объявляли ударом о железный лист чем-то тяжелым.
Мой свекор, Иван Кириллович, человек с золотым сердцем и с золотыми руками, вырыл за домом «щель», по всем правилам — глубокую, с двумя выходами, со скамейками…
Старики, дети, соседи, Чебан с женой (у него всегда на поясе была саперная лопатка) — все укрылись в «щель». Я стала будить Раевского, но скоро поняла, что это бесполезно — он не просыпался, а муж, доказывая мне, что оставлять гостя неприлично, опять заснул.
Все время бомбежки я сидела на ступеньках веранды в обнимку с верным Прошей, он дрожал, но не убежал прятаться, а я курила в кулак — так нас учили.
Объявили отбой, все разбрелись спать. Где-то что-то звякнуло, и вдруг Раевский, бодро вскочив, произнес: «Готов дам проводить в щель!» — «Больше ты у меня на даче не будешь», — зашипела я, а муж хохотал до слез. Потом помирились. Мне все-таки было страшно сидеть, какие-то осколки стучали по крыше…
Наступил сентябрь. Ночи стали длиннее, и фашисты начинали налеты раньше и бомбили дольше.
В один из дней на имя мужа пришла повестка из военкомата. Я растерялась — с его-то больным сердцем! К этому времени очень многие из нашего театра ушли на фронт — кто по призыву, а довольно много замечательных людей из всех цехов — добровольно в ополчение.
Мы с Николаем Ивановичем пошли в Мосторг покупать рюкзак и еще что-то нужное. В проезде Художественного театра рядом с нами вдруг остановилась машина, и мы увидели Фадеева. «Куда это вы? Подвезу». Я рассказала. Александр Александрович стал оглядываться, увидел будку автомата и быстро пошел к ней. Он что-то говорил довольно резко, потом, подойдя к нам, сказал: «Вот путаники, а кто же будет играть для фронта? Идите, никакого «сидора» вам не надо. Ну я поехал». Вот такой был Фадеев. На следующий день мужу выдали бронь.
…«Куранты» готовились к прогонам на сцене. Я была очень занята.
Уходя из дому, каждый из нас брал гримировальный чемоданчик или просто сверток со сменой белья и самым необходимым — деньги, документы, на всякий случай.
Я поехала в военизированное учреждение, начальствующее над медкурсами, где училась Наташа, не без труда нашла какого-то начальника, молодого военного. Мне надо было узнать, что ожидает этих девочек, когда они закончат курс обучения.
Этот военный заверил меня, что все вновь обученные останутся для работы в «третьем поясе», то есть в Москве — там же, где они работают сейчас. Я надеялась устроить Наташу в Институт Вишневского — на любую работу, чтобы быть вместе.
…В те трудные дни мы очень сдружились с Николаем Павловичем Хмелевым. Он остался один — жена его уже уехала со своим театром. Квартира Хмелева была в другом подъезде нашего дома. Во время бомбежек он часто бывал у нас, так же как и Раевский, потому что Лиза, жена Иосифа, всегда уходила перед бомбежкой в метро, после пережитого в Минске.
Наши ужины стали очень скромными, вернее, их почти не было — одни беседы, Мы строили догадки, что нас ожидает. Когда давали отбой, Хмелев и Раевский уходили к себе спать.
Однажды, когда кончился налет и Хмелев быстро ушел, вдруг без объявления началась страшная бомбежка (потом это бывало часто, но тогда — впервые). Впечатление было сильным. Зазвонил телефон, и плачущий голос Хмелева произнес: «Я же один! Я! Я!..» Он что-то хотел сказать, но голос сорвался. У него и в личной жизни были причины для волнения. «Приходите! Прошу! У меня коньяк!» Тут уж Раевский и Дорохин приободрились и решили, что «надо войти в положение». И мы втроем, по стенке, побежали.
Хмелев услышал наши шаги (лифты не действовали) и стоял в дверях квартиры с бутылкой в руках. Едва мы успели войти в комнату, как Николай Павлович, что-то восклицая, стал выбивать пробку приемом, каким бывалые люди открывают водку. Бутылка — вдребезги, общий крик. Я тут же закричала: «Коля, руки?!», а Раевский: «Не умеешь, не берись! Что же нам, ковер лизать?» Дорохин тоже очень активно горевал. Хозяин показал нам невредимые руки, а лицо у него было растерянно-виноватое. Пока суетились, кончилась бомбежка, и мы пошли по домам досыпать.
Сентябрь того года, как мне помнится, был сухим и теплым. Мы иногда ездили в Валентиновку с ночевкой — надо было привезти продукты.
Как-то оказались мы в той же Валентиновке на даче у общих театральных знакомых, где был и Борис Николаевич Ливанов. Темнело рано, и время налета застало нас там. Из Москвы к нам доносился гул взрывов, и когда раздался особенно сильный, Ливанов сказал: «Ковры выбивают». Это его определение потом долго повторяли.
Во второй половине сентября опять внезапно появился мой брат. Меня поразила его голова: у нас в семье рано седели, и в свои 33 года Станислав уже был с сильной проседью, а теперь стал почти совсем седой. Он сказал, что свободен до следующего утра. На мое счастье, в «Курантах» была назначена монтировка и я была свободна. Николай Иванович решил, что мы пойдем в кафе «Националы» — там по старым знакомствам еще чем-то кормили, — а потом поедем на дачу к маме.
Брат по-прежнему ничего не говорил о причине своего приезда в Москву, был спокоен, расспрашивал о маме и Наташе, а выглядел как минимум на сорок пять.
В Валентиновке была великая радость мамы. Когда брат, здороваясь с ней, снял фуражку, она тихонько сказала свое обычное: «Матка Боска!», но ни о чем не спросила.
День прошел быстро. Рано утром мы стали собираться в Москву. Мама ехала с нами. Муж настоял, чтобы Станислав надел под гимнастерку его теплый свитер. В Москве брат, простившись с нами, поехал с мамой домой, а мы, забежав к себе и наспех приведя себя в порядок, пошли в театр. Мама на дачу больше не поехала.
Все пошло как обычно: репетиции, шефские концерты, бомбежки, дежурства и после отбоя телефонный перезвон, что живы. Если в мирное время могли играть нервы по пустякам, то теперь все были сдержанными, суровыми и немногословными.
«Кремлевские куранты» готовились к прогонам на сцене.
Анастасия Платоновна Зуева и мой муж сделали очень смешной концертный номер, выстроенный из комедии Островского, который принимался любой аудиторией очень горячо.
В конце сентября уже к вечеру прибежала Наташа показать аттестат об окончании курсов. Во время налета она крепко спала. Она похудела, бедная, стала совсем взрослой.
На следующее утро на мамин адрес, где была прописана Наташа, пришла из военкомата повестка — 30 сентября явиться с вещами на сборный пункт. Соврал мне молодой начальник — это была отправка на фронт.
Я кинулась в Институт Вишневского, но Александр Александрович был на фронте (к тому времени он уже был главным хирургом Западного фронта), а Александр Васильевич, его отец, был болен. Мне сочувствовали, но помочь ничем не могли.
Мы с Наташей стали перезваниваться с мамами ее подруг, все они тоже были в растерянности. Советовались, что собирать. Упаковали теплые вещи: шерстяные носки, рейтузы, две смены белья, маленькую думку-подушечку, теплую шаль, и все это закатали в кусок толстого сукна. Хоть Наташа и протестовала, но одели мы ее тепло. В сумке — томик стихов, документы, фото родителей, деньги и много открыток с надписанными адресами мамы и нашим. Буквально всучили ей какой-то еды и даже термос с чаем.
Наташа простилась с мамой спокойно, обещала часто писать. Я поехала с ней на сборный пункт. Он был далеко от центра, после конечной остановки трамвая.
На каком-то пустыре, у фронтового маленького автобуса, уже собрались девочки, их было двенадцать. Растерянные лица родных. У некоторых девочек был громоздкий багаж. Один в военном, другой в штатском отдали приказ сократить поклажу. Матери судорожно перебирали вещи, не зная, что оставить. Отчаянным голосом одна крикнула: «Вязанку чесноку на всех я оставлю». Суетились довольно долго. Мы отошли в сторону.
Наташин багаж пропустили. Она сказала мне тихонько, крепко прижавшись: «Знаешь, мне вдруг стало страшно. Глупо, конечно, но страшно». Мне самой было жутко, но я говорила ей что-то бодрое, даже боясь обнять ее, чтобы не выдать себя. Я ей твердила, чтобы писала подробней и чтобы прислала свой адрес — полевую почту. На мгновение мелькнула мысль — увезти ее.
Тот, кто был в штатском, громко сказал: «Ну, девчата, ехайте, ехайте, пора, время!» Стали прощаться, и он сказал военкому: «А ты по-умному, чтобы порядок!» Девочки, стараясь быть бодро-веселыми, пошли к автобусу, военный сел с водителем, и они тронулись. Кто-то из матерей зарыдал в голос, кто-то крикнул: «Ведь дети еще!» Наташа была самой старшей.
Человек в штатском, отмахнувшись от нас рукой, почти побежал в какой-то обшарпанный домик неподалеку.
Провожающие обменялись телефонами, утешая друг друга как умели, и мы расстались.
Я поехала прямо в театр, там уже началась репетиция сцены «Кабинет Забелина», но мне простили опоздание. В перерыве Елина спросила меня: «Ну как, проводила?» И я, что-то почувствовав, сказала ей, что уверена — больше не увижу… Елена Кузьминична очень резко почти крикнула: «Ну, это истерика!» И отойдя от меня, вдруг заплакала.
Прошло больше недели, и мы получили открытку от Наташи: «Едем хорошо, даже весело, но медленно. Не тревожьтесь, скоро прибудем на место, и я сразу напишу. Всех обнимаю, целую, ваша Наташа».
С начала октября положение на фронте стало еще сложнее. Часто говорили о Вязьме. По другим направлениям немцы подошли к Москве еще ближе.
Большой театр эвакуировали в Куйбышев. Моя подружка, наша актриса Ольга Лабзина, уехала туда с мужем Селивановым, годовалым сынишкой и мамой (мы называли ее «мама, бобровы брови»), Клавдия Николаевна Еланская уехала в эвакуацию с Малым театром, куда к этому времени перешел ее муж Судаков. Дипкорпус тоже был отправлен в Куйбышев. Многие театры уже эвакуировали, а мы все еще играли спектакли и готовили «Куранты» к генеральным репетициям.
13 октября, в понедельник утром, муж был свободен и поехал на дачу навестить родителей, отвезти им кое-что из продуктов и Проше костей. (Рядом с театром была пельменная, и там нашлась поклонница Дорохина, которая иногда одаривала нас костями.) Муж сказал, что переночует на даче. Уже был вечер, когда позвонил Александр Михайлович Комиссаров, дежуривший в театре у телефонов, и сообщил, что мне и мужу нужно срочно явиться в дирекцию театра. Я обмерла и потом побежала.
В театре было довольно много актеров. В кабинете Калишьяна сидели Василий Григорьевич Сахновский и Сергей Иванович Калинин — актер, который был уже несколько лет партийным секретарем театра, после того как был изгнан Мамошин. (Тот до войны заведовал не то складом, не то столовой — проворовался и был посажен в тюрьму.) Калишьян коротко сообщил мне, что к 11 часам вечера мы должны быть в театре. «Только по одному иждивенцу и по одному чемодану. Театр едет в Ташкент».
Я вышла, не помня себя, из кабинета и, увидев Павла Массальского, кинулась к нему и буквально завыла. Скоро налет. Мама у себя. Коля на даче.
Стала звонить маме — молчанье, мог отказать телефон, и я побежала на Покровку. Перед бомбежкой трамваи остановили. Прибегаю — закрыто. Схватив кусок штукатурки, пишу на входной двери: «Срочно к нам с вещами. Зося».
Когда я бежала обратно, уже начался налет. Меня загоняли в убежище, но я как-то вырывалась и, иногда забегая в подъезды, бежала дальше. Не было страха, был ужас — где мама? И муж там, в Валентиновке! Вскарабкалась на наш 7-й этаж, открыла дверь и увидела маму и мужа в передней. Тут мне стало плохо, и я свалилась в обморок.
Оказывается, с мамой я разминулась. Пока я бегала к ней, она сидела у нас в доме, там, где раньше были лифтерши, и ждала, а мужа на даче встретил наш заведующий осветительным цехом Иван Иванович Гудков (его дача была близко) и сказал, что в театре неспокойно. Николай Иванович сразу поехал в театр, там ему рассказали, как я металась, и теперь они с мамой в тревоге ожидали моего возвращения. Пока меня не было, из театра сообщили, что являться надо от часа до двух ночи.
Налет кончился, фашисты улетели спать. Муж попросил живущую в нашем доме женщину, дав ей какие-то деньги, чтобы она пошла с мамой за вещами и помогла принести их. Я очень просила маму брать только самое необходимое, она заверила меня, что все будет сделано как надо и что к часу ночи она будет у нас.
Мы с мужем присели и постарались спокойно решить, что надо укладывать. В первую очередь я отложила два своих концертных платья и парадный костюм мужа. В два чемодана были уложены две смены постельного белья, две камчатных дорогих скатерти, старинное покрывало, папин подарок — скатерть, еще что-то… Всего я, конечно, не вспомню, укладывали много летних вещей (ведь в Ташкент!), но теплое тоже хватали. Взяли один купальный халат на двоих, все ванные принадлежности, обувь, все мыло, какое было в доме, конечно, лекарства, несколько смен белья, три столовых прибора. Два чемодана заполнились. А одеяла, а подушки? Я решила, что возьму еще портплед и об этом сказала мужу, а он ответил, что посчитает, сколько мест будет у Калишьяна.
В рюкзак стала укладывать продукты. Собрала весь чай и кофе, сахар, еще что-то, оставив какую-то еду на ужин — последний в нашем доме.
Пока я возилась, муж, аккуратно обертывая салфетками, укладывал в плетеный ящик бутылки: коньяк, водку, итальянский вермут (почему-то его было много в Москве), бутылку шампанского, еще какие-то бутылки. Когда я закричала, что это сумасшествие и кто это будет носить, он гордо ответил: «Я!» А остальные вещи как? Ответ был: «Потихоньку».
Мама пришла даже раньше, чем обещала. У нее был один небольшой чемодан в чехле, откуда выглядывал плед, она была в двух пальто — в осеннем и зимнем.
К этому времени пришла к нам Прасковья Артемовна — моя свекровь с дочерью Софьей Ивановной. Сели ужинать, но никому кусок не шел в горло, только пили чай. Уложены были три кружки. Какие-то куски этого ужина свекровь, завязав в салфетку, отдала маме — пригодится.
Муж проверил сумки — на месте ли паспорта, театральный пропуск, деньги. Обошли квартиру, прощаясь с ней, и стали одеваться. Мне на плечи надели рюкзак с продуктами, Софья Ивановна тащила два чемодана, портплед — я, мама свой чемодан, а муж — драгоценную плетенку. Присели, простились с Прасковьей Артемовной — они с Иваном Кирилловичем решили остаться на даче и навещать квартиру, если удастся. Муж сказал матери: «Продавайте, что хотите, но сохраните Прохора».
Стали спускаться по лестнице, не оглядываясь, да я и не могла из-за рюкзака, а за закрывшейся дверью в голос заплакала свекровь.
Очень медленно, отдыхая, дошли до улицы Горького и увидели Хмелева. Он с трудом тащил большой чемодан, а немного впереди шли Елизавета Телешева со своей няней и вдвоем, на толстой трости, несли чемодан и по мешку каждая. Пустой город освещала полная луна — видно было хорошо. У театра простились с Софьей Ивановной, и она пошла в теперь уже бывшую нашу квартиру.
В театре было много людей, и не только отъезжающих, но и тех, кто не попал в эту первую группу. Предполагалось, что вторая партия выедет днями позже. Весь багаж «адъютанты» Михальского складывали к стене «круглого» коридора у дверей, ведущих к правительственной ложе, а на багаже — «иждивенцы».
И тут мы узнали, что отправляют не в Ташкент, а в Саратов. Выход из театра в 6 часов утра, на трамвае до Павелецкого вокзала, а там — куда укажут. Для тяжелых вещей будет грузовая машина.
Через какое-то время я подошла к маме, она сидела на наших чемоданах в двух пальто, по совершенно белому лицу ее катились слезы. Я стала успокаивать, а она шепотом: «Стась, Наташа!» В последний раз я видела ее плачущей.
В 6 часов утра мы вышли из театра, прошли через расступившуюся толпу остающихся. Нам было совестно смотреть в их растерянные, тоскливые глаза. В трамвае молчали. У вокзала какие-то полувоенные люди отводили нас небольшими группами, чтобы не привлекать внимания (все вокзалы были забиты народом), на запасные пути, где стояли два общих, жестких вагона. Откуда-то сбоку подъехала машина с багажом. У подножки, на которой стояла дюжая проводница, Михальский по списку (билетов не было) впускал в вагон. Когда мы грузились, я спросила мужа, где его драгоценный багаж, он указал на Ершова и еще на кого-то, с величайшей бережностью несущих его поклажу.
Когда вещи были разобраны и люди устроены, оказалось, что в нашем отделении на двух полках было по три человека — одна верхняя полка, чтобы спать по очереди, а на остальных — крупные вещи. В нашем отделении ехали Хмелев, Михальский, Ливанов с домработницей немкой (она ехала в Энгельс) и мы трое. Вот так, по тем временам, хорошо был устроен наш отъезд.
Мой муж был прав: еще до того, как мы сели в поезд, в одном из вагонов, в купе проводника, уже тихонько сидела жена Калишьяна с огромным количеством крупного и мелкого багажа.
Вскоре оба вагона были укомплектованы и двери закрыли. По списку Михальского было нас всех, включая детей, жен и родителей, 92 человека. Кедровых, Топорковых, Блинниковых и Сахновских с нами не было. Иван Михайлович Москвин с Аллой Константиновной Тарасовой ехали в нашем вагоне. Вдруг мы услышали голос Ивана Михайловича: «Федя, почему у нас просторно?» Оказывается, Москвин требовал у Михальского, чтобы их уплотнили.
Было уже часа два или около этого, а мы все еще стояли на запасных путях, запертые наглухо. Мы были сильно взволнованы появлением у вагонов родственников. В их числе была мать мужа Прасковья Артемовна с дочерьми Соней и Анной. Но ни в вагон, ни из вагона не пускали. Мы, отъезжающие, толпились на площадке и даже пытались пролезть на буфера, чтобы поговорить, но проводница прогоняла. Кому-то особенно настойчивому она сказала: «Артист — пляс отпал!»
Так продолжалось еще часа два. Наконец вагоны дернулись и мы тихонько покатили в неведомое. Не обошлось без слез. Тем, кто оставался, конечно, тоже было несладко.
Особенно тоскливой оказалась первая ночь, в вагоне почти не спали. Ехали довольно благополучно, прямых налетов не было, подолгу стояли. Если мне не изменяет память, наше путешествие кончилось на четвертые сутки.
Где-то на середине дороги поезд остановился на какой-то маленькой станции. Подъезжая к ней, мы увидели базарчик, где продавали жареных кур и еще что-то. Хмелев шепнул мне: «Бери деньги и пошли за курами». Зажав в кулак какие-то деньги и ничего не сказав маме (муж был где-то в другом конце вагона), я отправилась «за курами». Мы с Колей спросили у проводницы — долгая ли будет стоянка? «Дак час простоим, не мене». Мы побежали на базар. С нами был еще один актер. Не успели мы дойти до базарчика, как поезд тронулся. Наш спутник стремглав побежал, мы с Хмелевым тоже, но я уже тогда была не мастер бегать — задыхалась.
Если бы не Хмелев, я бы пропала — отстать в то время от поезда без документов было равносильно гибели. Коля бежал, но останавливался и ждал меня, кричал что-то ободряющее. Наш попутчик уже был в вагоне, когда мы на ходу, с помощью товарищей вскочили, но не в свой вагон, а в соседний. Я была в панике, хоть меня и уверяли, что из нашего вагона видели, что мы успели. Ехали так довольно долго — тамбуры были закрыты. Когда наконец поезд остановился, Хмелев и я побежали к своему вагону, проводница приоткрыла дверь, Хмелев подсадил меня — без платформы было очень высоко.
Муж стоял в тамбуре. Молча взяв меня крепко выше локтя, провел почти через весь вагон, сунул в угол у окна и только тогда произнес: «Будешь так сидеть до места». Мама молчала, глаза закрыты. Хмелев стал объяснять, что это он меня соблазнил, но муж молчал, а я не смела оправдываться. Деньги я потеряла, когда хваталась за поручни. Только через какое-то время напряжение прошло, и тогда уж можно было обсуждать наше происшествие. Мама и муж благодарили Николая Павловича. Он действительно вел себя геройски. «Вот уж подлинно — курочка из Художественного театра», — резюмировал Ливанов.
Когда-то в шефской поездке Блинников разыграл Павла Массальского. Выйдя из грязного, набитого людьми станционного буфета, он, увидев Массальского, стал с довольным лицом орудовать зубочисткой. Массальский сразу попался. «Что ел?» — «Курочку». — «В этом буфете?». — «Да! Только надо тихонько сказать: «Из Художественного театра» — дадут!»
Массальский, подойдя к стойке, где в немытые стаканы и кружки разливали чай и продавали что-то малосъедобное, стал шептать буфетчику про курочку. Сперва тот его не понял, а когда разобрался, на Массальского обрушился поток таких «русских слов» в разнообразном сочетании, что он с позором сбежал. С тех пор и пошло это — «Курочка из Художественного театра».
На четвертые сутки ночью мы подъезжали к перрону саратовского вокзала. Было очень жутко и тоскливо. Наш вагон за эти дни стал как бы нашим домом, и не хотелось выгружаться в темноту на чужую землю.
На большом расстоянии тускло горели два фонаря. Крупный багаж растянулся по платформе. На вещах старики и дети — «иждивенцы». Ясно помню Сергея Ярова с двумя малышами на руках. Мы, актеры, окружали Ивана Михайловича Москвина.
Дежурный по вокзалу повел его в особое помещение, мы большой группой пошли за ним. Дежурный соединил Москвина с кем-то из начальства. Мы услышали: «С вами говорит народный артист Советского Союза, депутат Москвин. Художественный театр прибыл в Саратов». Уже в самом начале этой короткой речи голос Ивана Михайловича прервался, и закончил он почти шепотом. Стояла мертвая тишина, Москвин слушал, молча кивал. Положил трубку и хрипло сказал: «Их даже не предупредили… Просили ждать».
Ждали мы недолго. Зазвонили телефоны, на платформе появились военные, чтобы охранять наш багаж. А примерно через час приехали хозяева города — штатские и военные — на двух легковых машинах и с ними два грузовика. Замечательные эти люди заверили, что в скором времени сделают все, что в их возможности, а нам пока придется ночевать в городском театре (кажется, он носил имя Карла Маркса).
Одна легковая машина тут же стала курсировать между вокзалом и театром, перевозя женщин с детьми и стариков. Багаж грузили военные, мы — несколько человек, тоже поместились в грузовой и подъехали к театру. Там все уже было освещено, суетились люди. Мы принимали багаж и помогали переносить в большое фойе-буфет, где в подсобном помещении уже растапливали титан для кипятка.
Как сейчас вижу Анастасию Платоновну Зуеву — она, туго обвязавшись платком и засунув сумку за пазуху, с неожиданной силой и сноровкой стала таскать с крыльца вещи в буфет, тяжелые волоком, а что-то — на спине. Поведение этой необыкновенной женщины и актрисы как бы стряхнуло с нас оцепенение. Еще не рассвело, когда все и всё было доставлено в театр. Ни одна мелочь не пропала. Разместились так: тем, у кого были дети, предоставляли ложи амфитеатра. Москвина и Тарасову поместили в ложу дирекции. Остальные — человек семьдесят — в большом буфете. Четко помню, что у буфетной стойки мы соорудили из шести связанных ремнями от портпледа стульев двуспальное «ложе». Раевские также устроились на шести стульях. На полу, на зашитых в парусину качаловских шубах — Федор Михальский и моя мама. Виктор Яковлевич Станицын (к тому времени он развелся с Софьей Николаевной Гаррель) лежал на чем-то, головой под наши стулья. Некоторые расположились даже на сдвинутых буфетных столиках. Табор наш устраивался деловито, ни споров, ни громких разговоров. Все были предупредительны друг с другом.
Что-то пожевали, попили кипятку. Все еще была ночь. Михальский потушил свет, оставив синюю дежурную лампочку, и все затихли. Помню, что лежали мы лицом к стойке, на правом боку (на левом мужу было нельзя). Я задремала… Проснулась я от шороха на буфетной стойке: прямо надо мной сидела большая крыса. Вытянувшись, она принюхивалась.
Замерев, я в ужасе смотрела на нее, понимая, что кричать нельзя. Так прошло несколько секунд, затем крыса спокойно удалилась в конец стойки, и я опять услышала шорох ее движения. Никогда не забуду эти мгновения: как я лежала в холодном поту без сна и увиденное казалось мне символом всего тоскливо-мучительного, что ожидало впереди…
Когда стало уже совсем светло, зашевелился табор. Федор Михальский сообщил, что после «завтрака» Иван Михайлович просит всех работников театра собраться около зрительного зала. Помню тусклый свет осеннего утра, землистые лица товарищей. Москвин говорил о том, как замечательно к нам отнеслись и что ответом на это должна быть абсолютная дисциплина и корректность поведения. Он с Михальским идет по вызову властей, а мы должны составить график дежурств для уборки помещений, обеспечить порядок и распределить обязанности.
В составе нашей группы был театральный работник по снабжению Лифшиц. Иван Михайлович взял его с собой, а в помощь ему — жену Карева Людмилу Константиновну, тогда молодую, очень деловую и энергичную. Они ушли, а мы продолжали собрание: составили список дежурств по уборке — на каждый ближайший день по три человека, организовали комиссию по распределению будущих продуктов, дабы делить их на 92 части строго поровну.
Когда собрание кончилось и наше «жилище» было приведено в порядок, мой муж и еще несколько человек собрались на рынок — «в разведку».
Раисе Николаевне Молчановой, тогда жене Прудкина, и мне пришлось первыми распределять продукты. Через два-три часа приехали Лифшиц с помощницей и привезли хлеб, огромную копченую рыбину и даже маленький бидон молока для детей, а в придачу два больших острых ножа. И мы — «комиссия» — стали действовать. В тот день нам досталось. Самым сложным было разделить поровну рыбу, с хлебом было проще, а молоко отдали мамам. Наши хозяйственники где-то раздобыли стопку писчей бумаги, на которой мы укладывали порции — пайки. Все обошлось благополучно, без суеты и недоразумений. В таких сложных обстоятельствах даже самые нервные, а иногда и капризные, вели себя очень корректно. От первого дня нашей с Раисой Молчановой деятельности на руках остались волдыри.
Вернулись мужчины с рынка. Рассказывали, что как только в городе узнали о нашем приезде, цены на рынке сразу сильно подскочили. Мой хозяйственный муж приобрел таз, примус, кастрюлю, сковородку, какой-то сосуд для воды и несколько тарелок. Все это богатство помогли дотащить товарищи. Удивительно, с какой готовностью и даже радостно тогда почти все, за очень редким исключением, помогали друг другу. Среди мужчин было организовано дежурство для заготовки топлива, чтобы всегда кипел титан. Наши премьеры Андровская, Тарасова, Хмелев, Ливанов, Станицын, Прудкин трудились на равных со всеми.
К концу дня явились измученные Москвин и Михальский с сообщением, что для нас освобождают гостиницу «Европа» (переселяют военный госпиталь, расположенный там), это потребует какого-то времени, и до тех пор мы будем жить здесь, а местный театр будет на это время закрыт. «Ребяты, вникните, раненых переселяют из-за нас. Надо быть достойными!» Я точно запомнила эту фразу Москвина. Алла Константиновна увела его кормить, а мы стали кормить Михальского.
Случилось так, что к Раевским и к нам как-то прибились Хмелев, Ливанов и Петкер — они были без жен и совсем беспомощны в хозяйственных делах, особенно Николай Павлович Хмелев и Борис Николаевич Ливанов. Ершов был с матерью и поэтому только «приходил в гости». «Бесценная плетенка» Николая Ивановича пока была неприкосновенна и содержалась в укрытии. С нами был и наш доктор Иверов с женой. В первый же день в одной из лож амфитеатра у него начался прием больных.
Прожили мы в этом прибежище девять суток, на десятые состоялся переезд. С ним совпало прибытие из Москвы новой группы актеров: Кедрова с женой и маленькой дочкой двух лет, Топорковых, Блинниковых с сыном, Соколовской с сестрой и дочерью и других. Эта вторая партия ехала из Москвы почти две недели.
В гостиницу с утра стали перевозить на каком-то маленьком грузовичке по нескольку человек со скарбом. Перевозка и размещение в гостинице заняли весь день. Ливанов, Сухарев и я — дежурные по уборке, задержались в театре, чтобы все убрать и проветрить помещение. Оно должно было остаться после нас чистым.
Когда мы подъехали к «Европе», одновременно с нами выгружали Нину Александровну Соколовскую с семьей и еще кого-то. В этот момент из репродуктора над входом раздался голос: «Граждане, воздушная тревога!» Услышав это, Нина Александровна покачнулась, ей стало дурно, ее подхватили, а Борис Ливанов, корчась от смеха, говорил: «И тут ковры трясут!» Это оказалась ложная — учебная — тревога.
Первоначально нас устроили почти роскошно — на каждую семью отдельный номер. Гостиница была трехэтажная. На первом этаже — большая душевая. В день приезда ее топили с утра до ночи, и впервые после приезда все могли помыться (в строгой очередности). Вскоре всех уплотнили, и нам с Раевскими достался один номер на втором этаже — первый, где мы и — прожили дружно девять месяцев. Второй — очень маленький номер — достался Телешевой с ее няней, а третий, чуть побольше, узкий, как пенал, — Ливанову и Петкеру.
Еще до приезда третьей, самой большой группы наших
актеров с семьями (среди них был и наш главный художник Владимир Владимирович Дмитриев с женой, двумя дочками и тещей) стало известно, что нам дают помещение ТЮЗа. Почти всех вновь прибывших пришлось расселять в фойе и подсобных помещениях этого маленького театра. Но пока были только люди. Не было декораций, костюмов, необходимых аксессуаров — всего того, без чего не может состояться спектакль.
С приездом второй группы мы узнали поразившее нас известие: арестован Василий Григорьевич Сахновский, Долго гадали — за что? Оказалось, что его жена — Зинаида Клавдиевна, валялась у него в ногах и, воя, не соглашалась ехать без сына Анатолия, который был в команде Театра Красной Армии. Боясь за сына, требуя взять его с собой, она чуть не погубила мужа, потому что, как нам позже стало известно, одна сволочь донесла, что Сахновский якобы остался ждать немцев!
На режиссерском заседании, которое вел Москвин, было решено открыть театр спектаклем из отдельных актов: «Царь Федор» — четвертая картина «Я царь или не царь», акт из «Школы злословия», второй акт из «Горя от ума» и сцена из «Последней жертвы». Играть будем в сукнах и в концертных костюмах. Так как ни одной царицы Ирины с нами не было, стали вводить меня. Состав был такой: Федор — Хмелев, Годунов — Ершов, Шуйский — Орлов, Луп Клешнин — Блинников. Из-за отсутствия Ангелины Степановой мне же пришлось быть Софьей в «Горе от ума».
Приблизительно в это время стало известно, что мимо Саратова пройдет пароход, на котором эвакуируется театр «Ромэн». Наша администрация пошла его встречать, надеясь увидеть Яншина. Действительно, он был с ними, но отказался наотрез присоединиться к нашей труппе и уплыл.
Таким образом, Станицыну — постановщику «Школы злословия», пришлось срочно вводиться на роль сэра Питера, а в остальном состав был премьерным: Андровская, Соколова, Зуева, Массальский, Кторов, Попов.
С третьей нашей группой из Москвы прибыли большие корзины с мягкими подвесками-сукнами. Начались интенсивные, каждодневные репетиции с Телешевой по «Федору» и по «Горю» и со Станицыным по «Школе злословия». А в это время в фойе театра под руководством Владимира Владимировича Дмитриева мамы и бабушки — «иждивенцы» шили нам мхатовский занавес с «Чайкой».
Работа над ролью Ирины была для меня ответственной и очень напряженной. Когда «Федора» не мог почему-либо репетировать Хмелев, за него читал наш замечательный суфлер Алексей Касаткин. Он в молодости был актером в провинции и теперь с наслаждением лил слезы в монологах, а безумно смешливый Василий Орлов, мучительно сдерживаясь, просился покурить, и Блинников тоже. Но такие репетиции были редкими.
Если не ошибаюсь, наш занавес открылся для публики во второй половине ноября. Эти спектакли проходили с большим успехом. А параллельно мы готовили премьеру «Кремлевских курантов». Декорации строили сами актеры — все, кто умел держать молоток и рубанок. Расписывал декорации Владимир Владимирович Дмитриев, ему помогали артисты Василий Петрович Марков и Николай Павлович Ларин.
Ежедневно проходили шефские концерты в госпиталях и воинских частях. Все работали безотказно, а существование наше было, как и у всех, довольно трудным. Но, видно, правду говорят, что в беде человек (если он человек) становится лучше и сильнее.
К этому времени из Москвы стал поступать театральный багаж: корзины с костюмами, обувью, реквизитом. Для разборки этого багажа создавались «тройки» — двое разбирали, а третий записывал. Как правило, это происходило поздним вечером, после спектаклей. Я была в «тройке» со Станицыным и женой Карева.
Нашим комендантом был актер Сергей Бутюгин. Душ топили по субботам, с утра — женщины, потом — мужчины. Кроме одного душа на каждом этаже находилось по две уборных (теперь почему-то называющихся «туалетами») и при них по две раковины. Около этих раковин ночью, также по расписанию, по двое, стирали белье, грея воду на керосинках. Два корыта были общественными.
Однажды на облупленной сырой стене мужского умывальника появилась записка: «Вчера я забыл здесь старую мыльницу с маленьким кусочком мыла — надо бы вернуть. Иван Москвин». Уж не знаю, вернули ли, но записка эта сейчас в музее театра. Ее туда отдал мой муж.
Было еще и подобие буфета. Там трудились Ольга Сергеевна Бокшанская с Раисой Николаевной Молчановой — они иногда выдавали (не продавали!) какое-то подобие бутербродов или просто по куску хлеба. Но это полагалось только сотрудникам театра, «иждивенцы» в этом случае в расчет не брались.
Примерно в это время произошел факт, о котором я не могу не рассказать.
Как бы там ни было, а жизнь есть жизнь, — у нас было, как у всех: и собирались, и говорили по душам, и пели под гитару.
Пела и я, чаще дуэтом с Кудрявцевым, иногда с Ливановым, а то и одна. Хорошо играл на гитаре и Дорохин.
Эти «посиделки» почти всегда бывали в номере у Ливанова и Петкера, и почти всегда там бывал Владимир Владимирович Дмитриев. Для таких «сидений» с пением нужно было «подогреться», наши кавалеры ходили «на охоту». Из драгоценных запасов Дорохина мы с Лизочкой Раевской вплоть до Нового, 1942 года не раз перепрятывали и шампанское, и водку и итальянский вермут, и мужья наши, как ни старались, обнаружить ничего не смогли.
Однажды Ливанов, Петкер и мой муж отправились на очередную «охоту» и почему-то попали на товарную железнодорожную станцию Саратов-2.
На дальних путях из теплушек выгружали заключенных. Было их много, а охраны — только двое красноармейцев. И вдруг наши узнали в этой толпе Николая Робертовича Эрдмана и поэта Михаила Вольпина. Были они оборваны, Эрдман сильно хромал, а Миша его поддерживал. И получилось так, что наши незаметно их увели. Когда добрались до гостиницы, их укрыли в душевой. Выпросив у Бутюгина дров и разрешения согреть воду, их долго мыли, все, что на них было, сожгли в этой же топке, а мы с Лизой в это время собирали одежду. Дело осложнялось тем, что у Эрдмана на ноге было сильное нагноение, ему, как могли, перевязали ногу и привели растерянных «гостей» в наш номер. Мы постарались их накормить чем Бог послал, а Ливанов, Дорохин и Петкер пошли к Москвину и рассказали ему всю правду.
Иван Михайлович Москвин — этот уникальный человек — решил так: он пойдет к командующему Саратовским военным соединением, расскажет правду и попросит помощи и врачебной консультации для Эрдмана. Москвин не испугался, не рассердился и тут же отправился на это рискованное по тем временам дело, а наши гости, все еще растерянные, ожидали решения своей участи. Мы пока никому ничего не рассказывали, узнал только Дмитриев, пришедший, как всегда, в перерыве между работой.
Ждали мы долго, наконец Иван Михайлович явился. Он приехал в военной машине и, передав мужу какой-то документ, сказал: «Вези его в госпиталь и сразу обратно». Как Ивану Михайловичу удалось совершить это чудо, он не рассказал, а приказал готовить грандиозный концерт. Все, что только можно.
Уже к концу дня муж привез Эрдмана, ему прочистили рану, сделали перевязку, дали пару костылей и инструкции на первые дни. Потом его не раз возили к врачам.
Решено было так: Вольпина забирает к себе Дмитриев. Эрдман ночевать будет «валетом» на одной кровати с Ливановым, а кормиться у нас. Таким образом, во время еды больная нога Эрдмана покоилась на моем табурете.
Скоро история эта без подробностей стала известна. Концерт для военного начальства был действительно грандиозным — сделали все, что могли. Потом состоялся банкет с обильной едой и питьем. Уж не помню, были ли на нем наши «гости».
Конечно, каждый вечер все взрослые обитатели «Европы» собирались в коридоре у черной тарелки радио слушать сводку. Помню, как ликовали, услышав о том, что фашистское наступление на Москву провалилось. Кто-то плакал, кто-то обнимался, но все это тихонько, чтобы не помешать другим слушать.
Одно было горько: нас не любили (и это мягко сказано) жители окрестных сел и кое-кто из саратовцев. Однажды я стояла на рынке в очереди за картошкой (стоила она 50–60 рублей за килограмм). И когда я, в резиновых коротких ботиках, замерзшая, наконец подошла к возу, торговка сказала мне: «Проходи». Я стала спрашивать: почему? «Я сказала — проходи, курчава шуба!» (На мне была шуба из мерлушки.) И никто не вступился: все боялись, что она и им откажет. Зато некоторые, особенно профессура, относились к нам очень тепло, приглашали к себе.
Цены на рынке были чудовищные, а наша зарплата оставалась прежней. Я понесла в комиссионный одну из дорогих скатертей, и ее сразу схватила какая-то тетка. Не помню цены, но обед на другой день был приличный.
Заведовать хозяйством в основном приходилось мне, так как Лизочка работала и в репертуарной конторе после начала спектакля, и днем в билетной кассе — ее рабочий день начинался рано утром и кончался поздно вечером. Моя мама носила ей «обед» в кассу — Лизочку надо было поддержать, она была тяжело больна. Раевского сделали директором эвакуированного в Саратов ГИТИСа, а Дорохин с Петкером ставили в оперном театре «Пиковую даму». Все это кроме актерских обязанностей в нашем театре. Моя мама не была опытной хозяйкой, она помогала, как могла, дома. Таким образом, хозяйство и добывание продуктов падало на меня.
Хозяйство наше было «оборудовано» образцово: у нас были керосинка, мясорубка, таз и ведро. В нашей комнате был небольшой «загон», якобы альков, где стояла полутораспальная кровать, а в ногах — подобие диванчика из чемоданов, узкий ящик служил ночным столиком. За деревянной перегородкой — такая же кровать Раевских. Маме отгородили угол диваном с высокой спинкой-полкой. Было у нас и подобие передней, где размещалось все хозяйство и даже можно было помыть руки — из рукомойника на стене. В простенке между окон стояло тусклое трюмо с подзеркальником. Торцом к стене — гостиничный письменный стол (его покрыли скатертью, и он стал обеденным), четыре стула и три табурета.
С самого утра дверь у нас почти не закрывалась: приходили то командированные за билетами, то из ГИТИСа, то из оперы, то просто соседи за чем-нибудь.
Не помню, как мы отоваривали карточки, но помню, как я ходила за лауреатским пайком мужа. Паек этот выдавался раз в месяц. Однажды вместо продуктов мне выдали две голубые футболки. В другой раз я принесла кусок хозяйственного мыла — это был праздник.
Наша коммуна кое-как кормилась, доедая привезенные из Москвы остатки круп и еще чего-то, а вот мужчинам, особенно одиноким Ливанову и Петкеру, было просто голодно, несмотря на ливановский лауреатский паек. Как-то Борис Николаевич принес к нам мороженую синюю курицу (она оказалась пожилым петухом) и сказал: «Вот купил, но что с ней делать?» Долго я, потом мама, варили этого петуха, даже чем-то засыпали бульон, и когда я отнесла им кастрюлю, то была встречена восторгом и благодарностью. В третий номер из женщин допускалась только я, для уборки, ну и для посиделок тоже.
При гостинице для сотрудников нашего театра работала закрытая столовая, но варили там только суп-«рассольник», меню никогда не менялось. Этот «рассольник» без обработки есть было почти невозможно, и мы старались его чем-то заправить, чтобы было съедобно.
В середине декабря в Саратов приехали Тарханов и Фаина Васильевна Шевченко с семьей. Для них освободили лучшие номера в главной гостинице города.
В нашей «Европе» жили приехавшие в первой группе Николай Афанасьевич Подгорный с Марией Романовной Рейзен. Будучи очень богатыми, они жили впроголодь, ничего не умея ни купить, ни приготовить. Я, когда выпадало свободное время, жарила им какие-то оладьи, Бог знает из чего и на чем, а они ели и благодарили.
В самом начале зимы в нашу гостиницу прибрели две супружеские пары, изможденные, с распухшими ногами. Это были старший бутафор Василий Иванович Горюнов с женой и заведующий бутафорским цехом Герман Григорьевич Лопатин с женой. Они не могли не быть со своим театром и пришли из Москвы пешком! Это были уже пожилые люди, но, проделав такой путь, причем почти не отдыхая, они сразу включились в работу. Золотые работники, но как люди — дороже золота. В «Трех сестрах» пили чай Горюнова — он из Москвы принес для себя эту пачку на спине. Вот как служили в старину своему театру!
К концу 1941 года в ТЮЗе, а иногда и в оперном театре уже шли «Три сестры», «Анна Каренина», целиком «Школа злословия», «Царь Федор» и еще что-то.
Помню, что парики для «Карениной» причесывали мы с Софьей Николаевной Гаррель прямо на головах — иначе у нас не получалось. Наших парикмахеров с нами еще не было, а местный плохо справлялся. Уже много позднее приехали наши большие мастера. С приездом Тархановых и Шевченко пошло «Горячее сердце», где впервые Москвину дублировал Хлынова Алексей Грибов, а с Шевченко стала возможна полная постановка «Царя Федора».
Близился Новый, 1942 год. Мы с Лизочкой на тайном совете решили организовать его встречу.
Единственное, что было в свободной продаже в магазинах по государственным ценам, — это цветы, их никто не покупал. Мы приобрели корзину с высоким кустом белой сирени, кто-то из молодых в театре добыл нам маленькую сосенку (елок в Саратове не было), в церкви я купила свечек. И еще была у нас драгоценная покупка — в обыкновенном писчебумажном магазине, где почти ничего не продавали, оказались большие литографии с портрета Константина Сергеевича Станиславского. Представьте: над столом портрет Станиславского, под портретом белая сирень, на подзеркальнике трюмо сосенка, а на столе парадная скатерть — даже красиво! Был у нас неприкосновенный запас муки для жареных пирожков, заветная банка консервов и наш тайный запас бутылок.
И вот настал канун Нового года. Сосенку мы украсили клипсами, красивыми пуговицами, своими побрякушками, мама аккуратно прикрутила к веткам тонкой проволокой разрезанные свечи. Пирожки удались.
Приглашены были Тархановы, Подгорные, Петкер, Ливанов и, конечно, Эрдман — уже на обеих ногах.
Появление Подгорных — он в смокинге, она в черном длинном панбархате и в бриллиантах, на фоне «елки» со свечами и торжественного стола с шампанским, вермутом, московской водкой и нашими «яствами» — усилило эффект. Было тесно, но как-то устроились. И первый тост, конечно, за Победу в Новом году!
Через какое-то время наш номер был набит до отказа. Пришли Михальский и Орлов, Дмитриев с женой и Вольпиным, Хмелев и еще многие наши. Вина было очень мало, так как решили, что в такой вечер нельзя пить «автоконьяк» (так называлось то, что иногда приносили наши «охотники»). Приглашенным нашим гостям, чтобы чокнуться, вполне хватило благородных напитков, а приходящие приносили с собой что было. Помню, что много-пели старинных романсов, песен — и хором, и дуэтом, и соло. Жаль, что Москвина и Тарасовой не было с нами, их куда-то пригласили.
Была уже поздняя ночь, когда в дверь постучали. Вошел военный и громко спросил: «Эрдман и Вольпин здесь?» Наступила мертвая тишина. Они ответили: «Да. Это мы». И военный, видя наши лица, так же громко сказал: «Да вы не пугайтесь, их приглашают в ансамбль НКВД как авторов».
Тут уж все кинулись обнимать этого военного. Мужчины побежали за своим «горючим» и стали поить посланца и чем-то кормить. На всех гитарах был сыгран туш и даже кричали «ура», а наши герои были радостно возбуждены — начиналась их законная жизнь. Вот такие сюрпризы преподносила тогда судьба. Уезжали они через несколько дней.
22 января 1942 года состоялась премьера «Кремлевских курантов». Это стало возможным благодаря заботе и любви к Художественному театру хозяев города и самоотверженному труду всех, кто составлял в то время коллектив театра.
Необычен был зал на премьере в Саратове — кроме почетных гостей города, почти сплошь военные. Летные комбинезоны, гимнастерки с нашивками всех родов войск — погонов еще не было. Уже много было раненых, виднелись белые повязки. Все это мы увидели на поклонах после спектакля. Зал аплодировал стоя, слышались слова благодарности и привета Художественному театру и актерам. В тот вечер мы были счастливы. Вскоре вышли рецензии, две или три. В одной меня ругали, за что — не помню, но что ругали — помню точно.
Во время нашего пребывания в Саратове «Куранты» шли аншлагами «в набой», даже на полу сидели. Фронт был сравнительно близко, а военным отказа быть не могло.
Через короткое время стало известно, что Грибову, Ливанову, Хмелеву и, конечно, Немировичу-Данченко присвоена Сталинская премия. От Владимира Ивановича Грибов получил телеграмму: «Испытываю полное удовлетворение, что увенчалась полным успехом Ваша великолепная артистическая настойчивость охватить роль синтезом высоких идей и тончайших сценических приемов. Вл. И. Н.-Данченко».
[14] По своей скромности Алексей Грибов редко делился этой высокой похвалой своего учителя.
…Однажды Иван Михайлович Москвин сообщил, что в Саратов прибывает военная делегация поляков и что его просили принять их в театре как можно торжественнее. В день их прибытия шли «Три сестры». Москвин распорядился, чтобы при нем «хозяйкой» была я. Николай Иванович и я, узнав об этом, впали в смятение, а моя наивная мама в восторг. Я пошла к Ивану Михайловичу просить, чтобы он меня «отменил», а он в ответ: «Надо — и будешь».
И вот меня стали готовить. У меня было закрытое вечернее платье. Лизочка надела мне на палец свое дорогое старинное кольцо. Москвин был в черном костюме, при орденах.
Часа за полтора до начала спектакля все боковые помещения были заперты и на дверях крест-накрест государственные флаги — наши и польские, а за этими дверями — изолированные «иждивенцы» (им был приказ: «Ни звука!»). В буфете накрыли стол с несколькими приборами, грудами толстых бутербродов, бутылками и бокалами.
Примерно за час до начала спектакля с улицы донесся шум. Москвин и я встали у дверей для встречи: около Ивана Михайловича был еще Калужский. Оркестр играл «Еще Польска не сгинэла» и наш гимн. Почетных гостей было двое: пожилой человек в военной форме крупного чина и высокий красавец, весь в коже — полувоенный костюм без знаков различия. Сопровождали их (к моему ужасу) Вышинский и Эренбург, а за ними шло очень много военных поляков, они шаркали, звеня шпорами.
У открытых дверей в буфет Иван Михайлович сказал несколько приветственных слов и представил меня: «Наша артистка Софья Станиславовна Пилявская». Высокие гости изысканно поздоровались, приложившись к руке. Я попросила к столу. Польские офицеры мгновенно стали вдоль стен. Евгений Васильевич Калужский тоже стоял. Мы поздоровались с Эренбургом, а когда ко мне подошел Вышинский со словами: «Мы, кажется, знакомы?» — я ничего не ответила, не могла.
Польским гостям я сказала, что язык понимаю, но плохо говорю по-польски, они закивали и сообщили, что и они также понимают русский, но им легче говорить на родном языке. Началась «светская» беседа о «Трех сестрах», где участвует цвет Художественного театра, о красивом Саратове и чуть ли не о погоде. Толстых бутербродов высокие гости не тронули, а вино из бокалов прихлебывали.
По третьему звонку их повели в зрительный зал, а мы остались ждать антракта. Опять та же «светская беседа»: они по-польски восхищались игрой артистов, а я по-русски что-то им отвечала.
Иван Михайлович разговаривал «для всех», но больше с Эренбургом и Вышинским. И так до конца спектакля, когда мы с ними простились и они пошли к машинам, а мы — за кулисы.
Флаги сняли, двери открыли, и мамы с детьми и горшками продолжали свою привычную жизнь. Несколько дней после этого приема встречавшиеся со мной на улице польские офицеры становились навытяжку, щелкая каблуками, отдавали честь.
Высокими польскими гостями были генерал Сикорский и бригадный генерал Андерс. Много позднее стало известно, что Сикорский погиб в авиакатастрофе, якобы умышленной, а Андерс «продавал Польшу» в Англии.
А в тот день нас расспрашивали за кулисами, шутили, и мы довольно весело, держась друг за друга (в Саратове уже ввели затемнение) пошли к себе. На первом этаже кто-то протянул мне фронтовое письмо-треугольник, переправленное из Москвы. Я прочла: «Товарищ артистка, пишет вам… сообщить, что ваш брат Станислав погиб 24 октября, я сам видел. Я тоже чуть не погиб. С приветом». И подпись. Я осела на ноги, и меня потащили в большую комнату, где было что-то вроде общежития. Сквозь тоску и ужас я поняла, что от мамы надо скрыть известие, и тут же кто-то из товарищей побежал предупредить. Я знала, что мама ждет моего рассказа о встрече поляков. Немного отдышавшись и напудрив лицо, я пошла к себе, попросила, чтобы Раевских и мужа не было. Я начала подробно рассказывать о встрече, переодеваясь в нашем закутке. Затем села на диван рядом с ней, продолжая говорить, а наши иногда заглядывали в дверь. Ссылаясь на усталость, велела ей ложиться, а я на минутку в третий номер. И мама, счастливая и гордая мной, согласилась, так и не заподозрив беды.
Когда я вышла в коридор, у меня опять отказали ноги, но тут был муж и Раевские.
Друзья из третьего номера ко мне были очень внимательны, заставили что-то глотнуть. Не утешали, кто-то сказал: «Ну, а теперь поплачьте». Но я была словно ушибленная. Сидели мы долго, пока мама не заснула — Лизочка зашла и сказала, что она спит. Можно было брести к себе. Ночь была трудной — мужу было плохо, но он крепился, а я очень боялась утра, боялась выдать себя маме.
Вечером шла «Каренина», я играла жену испанского посланника, гримировалась в единственной отдельной гримерной вместе с Тарасовой. Алла Константиновна все говорила мне: «Зосечка, как вы смогли? Я бы не смогла!» И она бы смогла. Если очень нужно, то можешь все.
Довольно долго я боялась, что кто-нибудь скажет маме. Были такие, которым было бы любопытно, были даже попытки: «Давайте вместе, вам будет легче». Но с такими «беседовали» наши мужчины. Много времени спустя мама сказала мне, что часто вспоминает, как особенно ласковы и предупредительны были к ней. «Ты помнишь? Так было приятно!» Если бы она тогда узнала, то не выжила бы. До самой Своей смерти она его ждала.
С приходом весны стало голодней, и бывали дни, когда нечем было заправить «рассольник».
Как-то, уже весной, вернувшись вечером после «Курантов», я увидела в нашей комнате за накрытым столом человека в военной форме это был Шейнин, тогда следователь По особо важным делам. Он очень смутился. Мою мать он не знал и, наверно, не знал, что находится и в моем доме. Пришел он, как я узнала потом, к Раевским. Муж, помогая мне снять пальто, шепнул что-то о том, что «не время и не место», а тот, стоя, ждал и, когда я подошла к столу, вдруг поднял стопку и сказал, что хочет выпить со мной за моего отца — «замечательного человека и коммуниста». Я увидела побледневшее лицо мамы и сказала: «Пить с вами я не хочу и не буду. Это сейчас вы стали таким добрым», — и вышла из комнаты. Деваться мне было некуда, и я пошла в коридор третьего этажа, где меня и нашел муж. Он рассказал, что после неловкого молчания мама ушла к себе за диван, а Шейнин пошел, кажется, к Петкеру вместе с Раевским.
К этому времени в третьем номере жили Петкер с приехавшей к нему женой и Ольга Лабзина. У нее, бедной, умер сынишка, и она приехала в свой театр, бросив в Куйбышеве мужа и мать. Ливанов, уже с семьей, жил на третьем этаже. Шейнин еще не один раз бывал в нашей «Европе», и как-то мы с ним встретились в коридоре. Задержав меня, он стал говорить, что я несправедлива к нему и еще что-то в этом роде, но разговора не получилось.
…Наступило лето 1942 года. От Наташи вестей все не было. Я чаще обычного стала таскать в комиссионный вещи, свои и Раевских.
Кажется, из газет мы узнали, что разрешены продуктовые посылки в лагеря заключенным, и решили собрать хоть маленькую посылочку Елене Густавовне. И вот, когда я уже зашивала посылку в какую-то тряпку, мне принесли открытку от незнакомой нам женщины — Лениной соседки по нарам. Она сообщала, что Лена, случайно поранив палец, умерла от заражения крови в начале декабря 1941 года. Наверное, она умерла от истощения и от страха за Наташу.
Кажется, в середине лета Саратов начали бомбить зажигалками. В городе было много деревянных домов. И теперь окрестные колхозники стали чуть добрее, но за продукты драли еще дороже. Был такой знаменитый пасечник Головатый, он в Саратове на базаре торговал с воза медом. Помогали ему снохи — жены сыновей, а цена этому меду была — 1200 рублей кило. Я покупала для Лизочки Раевской по 100–200 граммов — на большее мы права не имели, а этот «герой» подарил армии самолет, о чем с умилением писала пресса.
Однажды мы на нашем «совете» решили, что надо на базаре «сделать крупную коммерцию». Для продажи приготовили две голубые пайковые футболки, что-то из Лизочкиного гардероба, черное, из дорогого фая платье работы Александры Сергеевны Ляминой — я надевала его раза два-три. Мы сообща решили, что «хорошо пойдут» новые калоши Раевского на красной подкладке. Еще что-то, сейчас не помню.
Нас было несколько «торговок». Ольга Лабзина держала на руке длинное розовое в оборках концертное платье: «А вот, а вот вечернее!» Нина Михайловская торговала «в разнос» безопасными бритвенными лезвиями (успешно). А мы с Лидой Петкер встали за прилавок. Ко мне, сокрушая все преграды, подбежала пышная девица, но увидев футболки, сплюнула и произнесла: «Будь ты неладна, я думала, лазорево платье!» Потом подошел согнутый, замшелый дед и, колупая калошу Раевского, не глядя на меня, спросил: «Сколько дать?» Я, как мы дома решили, сказала: «Триста рублей». В ответ я услышала: «А по харе тебе этой калошей не дать?» И дед пошел дальше. На меня напал смех. Но тут появилась тетка с русским маслом в двух бидонах. На вопрос о цене она ответила: «Меняю на колун». Кто-то принес топор, но она уточнила: «Колун, который на шею — дочка замуж выходит». Еще одной такой тетке подошло ляминское платье: «Не больно модно — пуговиц мало, но сойдет. У мине их пять кобылиц — дочек, какой-нито сойдет!» Так кончилась моя торговля. Уж не помню, что я принесла домой. Слушая мой рассказ, все смеялись, я тоже, а ночью тихонько ревела от обиды, и платья жалко было.
Лето 1942 года было очень жаркое, от зажигалок часто возникали пожары. Поговаривали, что долго в Саратове нас не продержат: фронт приближался к Сталинграду. Бомбежки стали регулярными. По тревоге уходили в душевую мамы с детьми (и то не все) да несколько старух, остальные пытались не реагировать.
В один из таких вечеров в нашу дверь постучали и вошел пожилой человек — пронзительные голубые глаза, в пыльной выгоревшей гимнастерке, голова тоже в пыли. Это был Довженко. Он спросил: «Николай Дорохин здесь?» Мы с Лизой пригласили его в комнату, я побежала искать наших — они были где-то в гостинице. Николай Иванович быстро пришел, а Лизочка уже сливала на руки Александру Петровичу. Вымыв руки и ополоснув лицо, он еще раз поздоровался, и глаза стали чуть мягче. Точно слова его не помню, но что-то вроде: «Я из ада!» Слово «ад» было. Чем-то мы его кормили, что-то он пил и все время рассказывал. Как страшно было слушать! Александр Петрович приехал на военной машине прямо с действующего фронта, за ним должны были заехать под утро.
Постепенно его напряжение спадало, и он становился мягче, как бы домашнее. Мы предложили постирать его гимнастерку, и он с легкостью согласился. Помню, сушили ее над керосинкой, а Александр Петрович сидел в накинутой пижамной куртке. Сам предложил прочесть один из своих рассказов, быль, как два старых «ди́да»-украинца вызвались показать дорогу и переправить в лодке фашистов, утопили их и утонули сами. Они пошли на смерть. Он восхищался их подвигом, и их горделивым спокойствием.
В книге о Борисе Ливанове Евгения Казимировна Ливанова написала, что Довженко был у них, но я что-то не помню, чтобы он уходил. Он был физически так измучен, и дело не в том, что его отношение к мужу было особое. Просто знакомое имя. В ту ночь к нам заходили многие, и Ливанов тоже. Наша комната была на ходу.
Отдохнуть Довженко отказался. Он все говорил о виденном, о людях войны. Его уход, когда за ним приехали, плохо выглаженная гимнастерка, еще сырая, прощание с нами — все это было не главным для него. Он был устремлен в самое важное для себя, а это было там — впереди. Впечатление от этой встречи осталось надолго.
Еще до этих событий, кажется, ранней весной 1942 года, Ольга Сергеевна Бокшанская стала аккуратно писать Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко уже в Тбилиси, куда переехали к тому времени из Нальчика наши «старики», и получала ответные письма. В одном из них было написано, что Василий Григорьевич Сахновский находится в ссылке с правом переписки, и сообщался его адрес.
Я написала Василию Григорьевичу и, как сумела, благодарила его за все хорошее, что получила от него в работе, и желала скорого возвращения в театр и, конечно, передавала приветы. Довольно скоро пришел ответ, ласковый, но такой грустный! Василий Григорьевич писал, что ждет к себе жену — Зинаиду Клавдиевну. Помню слова: «Жду-Зину, так жду!»
Кажется, той же весной к Алле Константиновне Тарасовой приехали ее сестра с дочерью Галиной Ивановной Калиновской. Галина Ивановна вскоре была принята в нашу труппу.
В начале августа Художественный театр стал формировать бригаду на фронт. В ее состав вошли Тарасова, Зуева, Георгиевская, Калиновская, Ершов, Сухарев, наш штатный гитарист Алексей Кузнецов, певцы вокальной части театра. Бригадиром этой группы, как и всех последующих, был Дорохин.
Эта первая фронтовая бригада уехала в Москву, куда уже вернулись из Тбилиси Владимир Иванович Немирович-Данченко и все «старики». Провожали мы бригаду, завидуя, что они едут в Москву, и, конечно, с тревогой.
Для точности я позволю себе привести отрывок из книги мужа «По дорогам войны».
«Владимир Иванович Немирович-Данченко принял нас у себя дома, чтобы повидаться перед нашим отъездом. Сидя за круглым столом, наш учитель задумался, глядя куда-то через нас. Мы боялись нарушить ход его мыслей, и в кабинете было напряженное молчание.
Вдруг где-то далеко ударили зенитки, мы переглянулись: сейчас, вероятно, объявят тревогу… Владимир Иванович то ли не услышал, то ли сделал вид, что не слышал, и все так же продолжал сосредоточенно о чем-то думать. Воздушной тревоги не последовало.
Владимир Иванович начал разговор: «Вы едете туда, где решается судьба нашего народа, нашей культуры, судьба нашего государства. Там сейчас самый требовательный зритель, он будет особенно внимателен к нашему искусству, это всегда нужно помнить и высоко держать знамя Художественного театра», — закончил он, строго взглянув на нас.
«Завтра вы поедете к историческому зрителю», — продолжал Немирович-Данченко и что-то отеческое было в том, как он смотрел на каждого из нас, смотрел хорошо знакомым «Владимиро-ивановическим» взглядом.
Он говорил о необычных условиях, в которых будут проходить наши выступления, и о том, что в любых условиях мы должны донести наше искусство фронтовому зрителю во всей его чистоте и правде.
Он напомнил нам, что мы будем общаться со зрителем не только на концерте, но и до и после выступлений, что в минуты опасности мы должны быть мужественны и помнить о том доверии, которое оказал нам театр».
[15]
Программу бригады составили отрывки из произведений Горького — «На дне», «Мать», сцены из пьесы Чехова «Три сестры», отрывки из романа «Анна Каренина» Льва Толстого, из произведений Островского, стихи Маяковского, Твардовского и, конечно, Пушкина. Музыкальная часть была представлена произведениями Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского и русскими народными песнями.
Специально для бригады был сшит маленький занавес с «Чайкой», который служил до конца войны.
Программа была составлена из двух отделений. Предвидя различные условия для концерта, разработали варианты выступлений продолжительностью от сорока минут до двух часов. Было решено, что, помимо театральных, у всех должны быть и парадные костюмы — вечерние платья у женщин, а у мужчин черные костюмы и крахмальные сорочки, как для Колонного зала в Москве.
После возвращения наши «фронтовики», впервые побывавшие в разных обстоятельствах, с гордостью рассказывали об отзывах командования, где говорилось, что по исполнению и по репертуару такой бригады еще не было. Мы жадно слушали рассказы о Москве, о доме, о наших драгоценных «стариках». Ольга Леонардовна тоже уже была в Москве. Здания нашего театра и филиала целы — счастье!
А нам было приказано собираться в путь. Нас отправляли пароходом по Волге и Каме до Перми, а оттуда поездом в Свердловск.
И вот настал день отплытия. Не помню, как звали капитана и как назывался пароход. Он целиком был предоставлен театру и от трюмов и доверху забит декорациями, театральным имуществом, личным багажом и массой людей: артистов, служащих и «иждивенцев» всех возрастов — от годовалых детей и до больных стариков. А над всем этим на палубе стояли зенитные орудия.
Отходил этот «Ковчег» не от главной пристани, а где-то в стороне, откуда поднималась в гору немощеная дорога в город. По этой дороге с рассвета на пароход везли все театральные грузы, потом личный багаж, а за ним пешим ходом люди.
Было трогательное прощание с немногочисленным персоналом нашей «Европы». В дорогу запаслись какой-то едой, мужчины добыли «горючее», и к моменту погрузки кое-кто уже «подогрелся». Москвин был в гневе.
Иван Михайлович стоял на палубе и лично проверял «емкости». Рядом находился Блинников и еще кто-то из «храбрых». Вот на дороге появился наш служащий по прозвищу Неровный с огромным чайником. Увидев Москвина, он на секунду замер и, повернувшись, побежал обратно. «Вернись!» — скомандовал Москвин, и Неровный обреченно зашагал к мосткам. Тут Блинников со словами: «Что вы, Иван Михайлович, это ж вода», — взял у того чайник и довольно долго лил себе в рот, потом утерся, говоря: «А ты уж испугался, дурачок!» — и пошел куда-то подальше от грозного директора. Вот это был розыгрыш — так Москвина провести!
Разместились очень плотно, кают не хватало. Волга была пустынной, только иногда навстречу нам шли военные транспорты.
Через какое-то время мы подошли к Куйбышеву. На пристани было много встречающих из Большого театра и еще откуда-то. Мы увидели Шестаковича, Баратова, Вильямсов, Петра Селиванова (он встречал жену, Лабзину, она осталась с ним в Куйбышеве). Мы пообнимались с Ольгой, прокричали встречавшим нас слова привета и одновременно прощания (Москвин не разрешил сходить с парохода) и поплыли дальше.
Наш пароход шел долго. Мы любовались необыкновенной природой вдоль камских берегов, на коротких остановках подкармливались: здесь к пристаням выносили довольно много еды и не так немилосердно драли, как саратовцы, а менять нам было уже нечего.
Плохо помню, как мы дошли до Перми и как нас переправляли к поезду, но ясно помню вокзальный перрон. Для нас, кажется, приготовили целый специальный состав. Была большая суета: Лиза, моя мама и я оказались в мягком купе, так как муж уступил свое место маме, а Раевский — Лизочке. Еще с нами была жена художника Дмитриева Марина с матерью и полуторагодовалой Аней — будущей знаменитой теннисисткой и телекомментатором.
Когда наш поезд подошел к перрону свердловского вокзала, мы услышали, как военный оркестр заиграл бодрый марш. Под этот аккомпанемент стали выносить детей и выводить под руки стариков — «иждивенцев». Было и смешно, и грустно. На перроне состоялся митинг с приветствиями и благодарными словами в ответ. Там же встретил нас новый директор театра — Месхетели, а прежнего мы больше не видели.
Город жил сытой невоенной жизнью, без светомаскировки. Повезли нас в лучшую гостиницу Свердловска «Урал». Почти вся труппа была размещена в отдельные номера. Нам достался номер с двумя кроватями и диваном — роскошная жизнь! Сразу выдали какую-то еду и талоны в магазин, где продавали кофе — это просто сон!
В оперном театре шли гастроли балета, кажется, Большого театра. Я пристала к Михальскому, и он достал мне одно место — уж очень захотелось красоты! Но случилось так, что в антракте я ушла: было непереносимо видеть тыловую, шикарно одетую публику. Там было много сытых роскошных дам из сферы «сервиса», кавалеров было меньше, но зато таких, которые вполне могли находиться на фронте. И я ушла. На вопросы мужа и матери выдала истерику: конечно, это был результат усталости и нервного напряжения.
На следующий день начались репетиции. В срочном порядке Хмелев (а не Станицын) ставил «Фронт» Корнейчука, все наши спектакли надо было «подогнать» под большую сцену Свердловского оперного театра. Работы всем хватало с избытком — с утра и до позднего вечера. Через несколько дней мы должны были открыться «Курантами».
Как-то в перерыве между репетициями мы пошли с талонами за кофе и за белыми булками. С нами, немного впереди, шла Фаина Васильевна Шевченко с мужем, на ее костюме был орден Ленина. На трамвайной линии работало несколько женщин, и одна из них громко воскликнула: «А энтой за что?» Другая ответила так же громко: «За что, за что — за вид!»
В гостинице нам выдавали какие-то пайки и даже работала столовая, опять же по талонам. Но это было вначале, потом стало скромнее, однако черный и белый хлеб и даже сдоба были всегда.
Однажды случилась беда: «скорая помощь» увезла с репетиции «Школы злословия» Веру Сергеевну Соколову в больницу — сильнейший сердечный приступ, по-нынешнему — инфаркт. Лечили ее в местной «Кремлевке» лучшие врачи, состояние было угрожающим. Начался срочный ввод Скульской в «Куранты», а Дурасову вводили в «Школу злословия» (Снируэл).
Открылись шумно, с успехом, подробности ушли из памяти. Все спектакли шли аншлагами, но того саратовского зрительного зала не было. Конечно, бывало довольно много военных, но это был глубокий тыл.
…Как-то придя с репетиции, я услышала от Грибова (его номер был рядом), что утром приходил военный. Он очень торопился на поезд и спрашивал меня. Этот человек сказал, что был у партизан под Смоленском, но уже давно. Там была медсестра-боец Наташа. Ее звали «сестричка с пятнышком». (У моей сестры на лбу было красное родимое пятно — небольшое.) Она ему сказала: «Будете на Большой земле в Художественном театре — там у меня сестра-актриса». Вот и весь рассказ. Этот человек, узнав, что МХАТ в Свердловске, на всякий случай забежал в контору к Михальскому, узнать, нет ли совпадения, и тот послал его ко мне, а у нас никого не оказалось. Больше о судьбе и гибели сестры я ничего не знаю.
Москвин — золотой человек — спасал меня и маму. Наши паспорта с прописки не вернули, приказали явиться лично. Иван Михайлович поехал туда сам. Что он там говорил, мы не узнали, а наши прописанные паспорта привез.
У Москвина числился без вести пропавшим младший сын-летчик, он не вернулся с задания. Иван Михайлович велел, чтобы я дала ему все сведения и заявление о розыске моих брата и сестры: «У меня будет вернее, я тоже ищу!» Он много хлопотал, но так и не получил ответа ни о сыне, ни о моих.
…Как-то к нам постучали и вошла Нора Полонская с двумя мальчиками примерно лет шести-семи. Это были ее сын Володя и сын Фивейского — Федя. Я обомлела — Нора, блистательная Нора, в чем-то очень поношенном и в летних старых босоножках, надетых на шерстяные штопаные носки (было уже довольно холодно)!
Хорошо, что у нас был хлеб — белые булки, на которые дети смотрели как на чудо. Я поила их чаем, поговорить толком не удалось, все наспех, они были проездом — с поезда на поезд. Но Нора — замечательная, умная Нора, вела себя так же, как в былые дни ее расцвета. Так же просто и с таким же достоинством. Они быстро уехали на вокзал, а я даже тихонько поревела, думая о судьбе Полонской.
Примерно в ту же пору Свердловск посетил Джавахарлал Неру с дочерью — юной красавицей Индирой Ганди. В их честь в театре был не то торжественный вечер, а не то все те же «Три сестры», как почти всегда бывало в торжественных случаях, связанных с иностранными гостями. Живописные фигуры в национальных одеждах на фоне мрачного Свердловска в те хмурые дни были необычны и прекрасны своей грацией и горделивой простотой.
…На окраине Свердловска была барахолка. Пришлось мне туда путешествовать. Муж привез из Москвы свой костюм и еще что-то для продажи. Зарплаты нашей не хватало даже на продукты.
Утром накрапывал дождик, и я пошла с зонтиком. Добравшись до барахолки, перекинула через одну руку пиджак, через другую — брюки. Ко мне подошел молодой, довольно нахальный тип и стал дергать брюки, что-то приговаривая. Я испугалась, поняв, что тут не Саратовский базар, и вдруг рядом со мной оказался интеллигентного вида человек и сказал: «Что же, кроме вас некому продавать?» — он узнал меня по театру.
Взяв вещи, он довольно долго торговался с покупателями и продал костюм за хорошую цену. Вывел меня из толкучки, а на мои слова, что я ему очень благодарна и что сама бы так не сумела, сказал: «Конечно, это не ваше дело, сюда вам ходить нельзя». Домой я принесла большие деньги — вещи ценились очень дорого.
Работа над спектаклем «Фронт» шла интенсивно. В очень короткий срок спектакль был готов, и состоялась премьера. К тому времени в труппу вернулся Яншин — он был тоже занят в спектакле. Одну из главных ролей играл Иван Михайлович Москвин.
Стало известно, что наше руководство и Владимир Иванович в Москве просят у правительства разрешения привезти на 25-летний юбилей Октября «Куранты» и «Фронт». Разрешение было дано, и вскоре стало известно, что в Москву едут только занятые в этих спектаклях, а оставшиеся будут играть в Свердловске, ожидая нашего возвращения.
Перед отъездом я пошла в больницу навестить Веру Сергеевну Соколову и Анну Монахову, у которой тоже было больное сердце.
Войдя в отдельную палату Веры Сергеевны, я была потрясена увиденным. Она лежала с отечным лицом, ноги были такими, что я подумала — на них подушки. Она не сразу узнала меня, задыхалась так, что слова выговаривала по слогам. Слова были ласковые и даже с юмором, но от этого было еще страшней. А потом начался бред, о котором она предупредила: «Вот сейчас начнется, не пугайся, “малый”», — так она меня иногда называла. Потом опять в сознании: «Ты иди, иди». Мучилась она долго…
Я уехала в Москву одна, муж и мама остались.
Два наших спектакля «ухватились» за Москву и не поехали в Свердловск, а вскоре и весь состав театра вернулся домой, но, по приказу сверху, из Свердловска не разрешили выехать «иждивенцам» и тем, кто уже не играл. Вот они-то и похоронили нашу необыкновенную артистку Веру Соколову.
Еще немного из свердловских воспоминаний.
Номер из двух маленьких комнат, клубы махорочного дыма. В этом дыму в
соседней комнате без дверей спят дочки Дмитриева — маленькая Аня и старшая, от первого брака, — Таня. В первой же комнате знаменитый Татлин колдует над кружевной конструкцией макета. Дмитриев заканчивает эскиз. Тут же на плитке варится каша для детей, снует Марина, стараясь успеть переделать все дела. А эти два уникальных художника говорят о чем-то своем, и кажется, что им все удобно и привычно. На них влюбленно смотрит Гриша Конский.
Я часто к ним забегала. Моя мама из чего-то соорудила для полуторагодовалой Ани рубашонку и трусики, и та в столовой, гордо подняв платьишко, восклицала: «Таны!» (штаны), на что Владимир Владимирович говорил Марине: «Научите вашу дочь вести себя прилично».
Вот, пожалуй, и все о Свердловске той поры. Невзлюбила я этот город.
Чем ближе наш поезд подъезжал к Москве, тем сильнее было волнение. Прилипли к окнам и жадно смотрели на знакомые места. Город ежедневно бомбили. Было много разрушений, но кое-где уже очистили. До сих пор встречаются маленькие скверы на месте разрушенных домов.
Приехали вечером, после бомбежки, в Москве была светомаскировка.
Наш дом не пострадал. Но войдя в квартиру, я не ощутила дома. Было как-то непривычно, хотя вся мебель и на месте. У нас иногда жили родители мужа, вот и сейчас они были здесь — встретили ласково. Начались рассказы. Наша не совсем достроенная дача сохранилась, но верный пес Прохор погиб. Когда его спрашивали: «Где Коля? А где Зося?», он переставал есть. А однажды ушел и не вернулся.
На следующее утро начались репетиции «Курантов» на родной сцене, где все так привычно. Но очень страшно было держать экзамен перед нашими «стариками», перед Немировичем-Данченко, перед Москвой. Волновались до жути, до дрожи в ногах.
Спектакль был принят горячо и зрителями, и прессой., Я смутно помню зрительный зал на этой второй премьере. Помню только, что он был парадным и в ложе правительства были гости.
Когда бывало правительство, меня проверяли перед выходом в кулисе «штатские» люди — проводили руками по бокам, нет ли оружия. Я же была дочерью «врага народа»! Ужасно было это; терпеть. У Ливанова долго осматривали деревянный наган, вынув его из кобуры. В декорациях было тесно от чужих — «штатских».
За первые четыре дня мы играли «Куранты» пять раз. Самой большой наградой нам было признание спектакля Владимиром Ивановичем. Обруганная рецензенткой в Саратове, я была счастлива похвалой моего-великого Учителя.
Через некоторое время в газете появилась коллективная рецензия каких-то уцелевших старух, якобы «старых большевичек», в которой они нападали на Грибова, упрекая его в недостоверности образа Ленина. Но истинная причина была в другом: в «Курантах» роль Сталина — эпизодическая (его в то время играл у нас грузинский артист Геловани, приглашаемый во все театры и в кинофильмы — он был очень похож). Нападки на Грибова были несправедливыми, а цель меркантильной.
Премьера «Фронта» тоже прошла с большим успехом. Состав был очень сильный: Москвин, Ливанов, Яншин, Чебан и много других хороших артистов.
Во время моего одиночного житья в Москве произошло событие огромного для меня значения. Владимир Владимирович Дмитриев, всегда относившийся ко мне внимательно и дружески, а во время эвакуации особенно, повел меня к Ольге Леонардовне. Не с визитом, не официально, а ввел меня в дом. И меня приняли. Постепенно я стала «своей» для Ольги Леонардовны и для Софьи Ивановны (о ней я уже писала). И так продолжалось долго — до конца жизни этой необыкновенной женщины, артистки, а потом и Софы, в 1967 году.
Володя Дмитриев был очень дружен с Ольгой Леонардовной, подолгу живал у нее в доме в Москве и в Гурзуфе вместе с женой Мариной. Дружба их была на равных, несмотря на огромную разницу в возрасте. Они могли отчаянно спорить о театре, о живописи, о литературе, вскипая одинаково темпераментно даже по пустякам. Но как же они оба глубоко и нежно любили друг друга! Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что у Дмитриева не было человека ближе, перед кем бы он был так открыт, кому бы он так доверял. А был он, по природе своей, и замкнут, и очень сдержан.
Во время налетов ужинали у Ольги Леонардовны в передней, где заранее элегантно накрывался маленький столик, придвинутый к сундуку, — только маленькие тарелки и графинчик, когда бывала «влага».
В свободные вечера я с радостью бывала в этом необыкновенном доме, почти всегда — до бомбежки. Ольга Леонардовна и Дмитриев оригинально развлекались — они вслух читали поваренную книгу Елены Молоховец и со всей серьезностью обсуждали меню обедов и ужинов, горячо споря, а потом шли в переднюю и с аппетитом ели вареную, иногда и печеную картошку или еще что-нибудь совсем не «по Молоховцу».
Ольга Леонардовна никогда не жаловалась на неудобства или на скудость продуктов по карточкам, а если кто и ныл иногда, в ответ получал обычное: «Глупости какие, не капризничайте!»
К середине ноября 1942 года весь коллектив театра вернулся из Свердловска. Бесконечно много за время эвакуации сделали Москвин, Хмелев, им во всем помогал Михальский.
И вот началась наша трудная военная жизнь в Москве. С выездами на фронт, с болезнями, с личными тяжелыми потерями. Но мы были дома, и Художественный театр работал в полную силу. Готовились к репетициям «Русские люди» К. Симонова. Было очень много шефских концертов в госпиталях и воинских частях.
Война была в разгаре, но настроение стало лучше, появилась уверенность, что самое страшное позади.
…Муж приехал из Свердловска не совсем здоровым — сердце давало себя знать, а работы было много.
У Ольги Леонардовны мы теперь иногда бывали вместе, и она была очень ласкова с Николаем Ивановичем, а у Софьи Ивановны с ним сразу завязалась крепкая дружба.
Во время налетов, когда ужинали в передней, Николай иногда забегал с дежурства по дому, ему наливали рюмку и давали закусить. «Как дворнику в праздник», — кланяясь, говорил муж.
Иногда, в редкие свободные вечера, к нам заходили Дмитриев, Михальский, Хмелев и, конечно, Раевский. Очень радушно к нам относились Тархановы, особенно после того, как Елизавета Феофановна стала играть Забелину — мать моей героини в «Курантах». Мы крепко дружили с Ольгой Сергеевной Бокшанской и с ее мужем, Евгением Васильевичем Калужским.
В то суровое время мы находили возможность встречаться с друзьями, почти всегда это было после вечерних спектаклей, и на столе было то, что было, специально не готовились, а иногда что-нибудь приносили с собой гости.
В театре очень деятельным был помощник директора Игорь Нежный. Благодаря его усилиям появился ОРС.
[16] Заведовал этим ОРСом человек, которого мы все звали «Борода», он же знаменитый Арчибальд Арчибальдович, или Флибустьер, из ресторана Грибоедова («Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова).
Приближался 1943 год. Встречали его у Ольги Леонардовны. Были: племянник Лев Книппер с женой Марией, Качаловы, Дмитриев с Мариной, старая художница Елизавета Николаевна Коншина, Федор Михальский и мы.
Было очень скромно, но уютно и красиво, и немножко грустно. У всех на то были свои причины: у Качаловых Вадим числился пропавшим без вести, у Дмитриева вместо паспорта была какая-то справка (его всегда держали на подозрении из-за первой жены, погибшей в середине тридцатых годов). У меня тоже не было повода особенно веселиться.
Часа через полтора пришли Тархановы со своими гостями. Решено было идти к Владимиру Ивановичу с поздравлением. Немирович-Данченко жил в нашем доме в так называемой «башне» на третьем этаже, Ольга Леонардовна — на четвертом, а квартира Тархановых была на пятом. Как теперь помнится, «старики» остались у Ольги Леонардовны, а пошли Ливановы, Михальский, Дмитриев, Лев Книппер и мы с мужем.
У Владимира Ивановича были Калужские, его племянница — сотрудница нашего музея и домоправительница Евпраксия Васильевна с мужем — родственником покойной Екатерины Николаевны.
Приняли нас очень любезно, пригласили в кабинет (столовая была маленькой) и стали угощать шампанским. Я взлетела на седьмое небо от того, что Владимир Иванович указал мне место рядом с собой. Когда разносили бокалы, не всем сразу хватило, и Владимир Иванович протянул мне свой со словами: «Выпейте из моего — узнаете мысли». Тут уж я от гордости и смущения чуть не забыла поблагодарить. Пробыли мы там недолго. С нами к Ольге Леонардовне пошли Бокшанская и Калужский.
…В январе 1943 года разрешено было вернуть всех наших близких из Свердловска.
В конце 1942 года в Свердловске скончалась наша дорогая Вера Сергеевна Соколова. В Москве, в театре, прошла как бы заочная гражданская панихида. О Вере Сергеевне говорили замечательные слова, но лучше всех сказал Павел Александрович Марков — крупно, справедливо, сильно.
В тяжелом состоянии привезли из Свердловска Анну Монахову и сразу поместили в Институт Склифосовского, где она вскоре и скончалась. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в вишневом саду.
Мама вернулась, как мне показалось, сильно постаревшей, все спрашивала, нет ли извещений. Мы от нее скрывали, что на все запросы ответ был — без вести пропавшие.
Мама рассказывала, что жила она вместе с Халютиной и вместе они встречали Новый год и пили шампанское. Оказывается, свердловское начальство выдало всем «иждивенцам» роскошные праздничные пайки, куда входила одна бутылка шампанского на двоих и бутылка водки каждому, кроме какой-то еды.
И тут последовал рассказ о том, как мама решила пуститься в коммерцию и пошла на барахолку продавать водку — «она очень дорогая там». К ней подошел какой-то тип, спросил цену, уж не помню какую, и сказал: «Небось разбавленная?» На что моя мама стала горячо возражать. «Дай!» Взяв бутылку, он выбил пробку и вылил содержимое себе в пасть. «На!» Отдал бутылку и удалился. И мама с пустой бутылкой прошагала три километра и вернулась в «Урал».
Слушая рассказ, муж хохотал до слез, я тоже ему вторила: «Не умеешь, не берись». А она все сокрушалась о непорядочности некоторых людей. Рассказ этот в театре имел большой успех.
Была у нас и неожиданная радость. Как-то возвратившись вечером из театра, мы увидели у лифта нашу дорогую Елену Григорьевну, она вернулась «из-под Кашири», от детей. И когда мы стали расспрашивать, как ей это удалось (для въезда в Москву нужен был пропуск), она ответила: «А в сортири! Милиционеру сто — и тама». Жить нам стало легче. Наладилось какое-то хозяйство, и дом всегда был в порядке — она была необыкновенной, эта наша «Личарда». Как-то я спешила от очередной бомбежки и, войдя в квартиру, увидела, что Елена Григорьевна спокойно моет на кухне пол. Я стала ей выговаривать, что нельзя так рисковать, а она ответила, указав на икону: «Вон Она, Царица Небесная, Она, матушка, знает, где моя пуля». И мытье пола продолжилось.
В театре опять возобновились репетиции «Последних дней» Булгакова. Хмелев начал работу над «Последней жертвой». Эта замечательная пьеса Островского была взята, главным образом, для Тарасовой (Тугина) и Москвина (Прибытков). В остальных ролях были заняты Шевченко, Станицын, Прудкин, Топорков, Лабзина. В портфеле театра были пьесы: «Победители», «Дни и ночи», «Офицер флота».
В феврале Художественный театр послал две бригады, одну на Карельский фронт (ее бригадиром был Дорохин) и другую, почти одновременно, — на Западный фронт, но на более короткий срок, в нее входили Тарасова, Ершов, Добронравов, Раевский и несколько других артистов. Бригадиром был Раевский.
Работа над «Последними днями» Булгакова шла к завершению. Готовили показ этой работы на сцене Владимиру Ивановичу в декорациях Вильямса. Режиссерами были Станицын (он же Жуковский) и Топорков (он же Битков). Николай I — Ершов, Натали — Кира Иванова, Александрина — Лебедева, Воронцова — Морес, Долгорукий — Кторов, Дантес — Массальский.
Дня за три до сдачи Владимиру Ивановичу генеральной меня вызвал Виктор Яковлевич Станицын для срочного ввода на роль Воронцовой. Роль в двух картинах, главная сцена — бал у Воронцовых. Страху я набралась! Все наспех, только одна репетиция отдельно и два прогона до показа. Как прошел весь прогон — сказать не могу, так как тряслась за себя.
Вечером мы с мужем были у Раевских. Пришел туда Владимир Владимирович Дмитриев и поздравил меня с ролью. Я поблагодарила, думая, что он имеет в виду Воронцову.
Но оказалось, что Владимир Иванович сделал большие перестановки. Станицын, Топорков, Массальский, Ершов остались на своих местах, очень многих он перевел во второй состав, а кого-то и вовсе заменил. Помню, что Дубельта стал репетировать Хмелев, Никиту — Василий Орлов. На роль Натали назначил Степанову, переведя Киру Иванову во второй состав, Лебедеву снял и роль Александрины отдал мне, на роль Воронцовой назначил Ольгу Андровскую.
На весь этот огромный ввод в почти готовый спектакль давалось очень ограниченное время. Режиссеры устали: центральные роли и одновременно режиссура — дело трудное. Мы с Ангелиной были в тревоге: к нам не предъявляли больших требований, а время сдачи спектакля Владимиру Ивановичу приближалось, и ощущения даже относительной готовности роли не было. Мы пошли за советом к Ольге Сергеевне Бокшанской. «Девочки, я постараюсь вам помочь», — сказала она. И действительно, очень скоро сообщила, что нас примет Владимир Иванович и, конечно, поможет. Встреча была назначена у него на квартире.
И вдруг заболел корью сынишка Ангелины Иосифовны — маленький Шура, а внуку Немировича-Данченко — Васе было два года. Все рухнуло из-за опасения заразы! Я была в отчаянии.
В день несостоявшейся, как мне казалось, встречи позвонила Ольга Сергеевна, и я услышала: «Ну, Зуля, вы готовы?» — «Как? Ведь Ангелина…» — «Владимир Иванович ждет вас к двум часам».
Не буду писать о моем смятении. Теперь мне стал казаться дерзостью наш план встретиться с Учителем потихоньку от режиссеров, и я все готовила какие-то слова оправдания, но ничего путного в голову не шло. Уж очень велика была в то время дистанция даже между старшим поколением и основателями театра.
Без двух минут два я стояла у входной двери в квартиру, глядя на циферблат (предварительно муж проверил мои часы). Открыла мне Евпраксия Васильевна и указала на дверь кабинета, а в дверях появился Владимир Иванович и сказал: «Здравствуйте, Софья Станиславовна». Тут я снова обмерла: по имени и отчеству Владимир Иванович называл старших, маститых, а всех нас — по фамилии. И дальше я услышала: «Не беспокойтесь, наша встреча не будет известна режиссерам».
В кабинете перед небольшим диваном стоял круглый стол, на нем текст пьесы, перед столом кресло. Подойдя к дивану, Владимир Иванович указал мне на кресло, и стоя ожидал, когда я сяду. Я не сразу сообразила, что это его попутный урок безукоризненного воспитания, — в общем, мы сели одновременно. После короткого молчания Владимир Иванович спросил: «Что говорили вам об атмосфере дома Пушкина в первой сцене спектакля?» Во время первых репетиций оба режиссера говорили про уют, горящий камин, про вьюгу за окном, про то, как Александрина погружена в стихи Пушкина, как напевает «Буря мглою…», аккомпанируя себе на клавесине, как заслушался Битков.
Я старалась точно передать слова режиссеров. Владимир Иванович слушал внимательно и вдруг остановил меня движением руки. «Какой уют? Огромная тревога! Она же видит, какой он в эти последние дни». Владимир Иванович начал говорить о пьесе, об атмосфере в доме. Выстроил абсолютную логику чувств и действий Александрины. Великолепный знаток женской логики, он рассказал мне, о чем думает Александрина.
В течение трех часов этот великий педагог и режиссер раскрывал мне всю глубину мучений Пушкина: атмосферу в свете и безвыходность положения человека чести, каким был Пушкин. Меня он предостерегал от «игранья», требовал мужественной
простоты. Он не только рассказывал, он и показывал, а его показы всегда поражали: Владимир Иванович вдруг начинал говорить от лица Натали, и я уже не видела престарелого нашего Учителя, а слушала, как молодая женщина, думая о чем-то своем, капризно и грациозно парировала доводы сестры и как она «пылала» на бале под взглядом императора.
Этот чудо-урок продолжался три часа без перерыва, иногда в дверь заглядывала Евпраксия Васильевна, но Владимир Иванович отмахивал рукой, и она покорно закрывала дверь. Иногда он замолкал и пристально смотрел, наверное, проверяя — понимаю ли я. Я молчала, боясь пропустить хоть одно слово. Спрашивать было не о чем, так ясно все было раскрыто. Но надо было все запомнить, не перепутать и постараться через два дня воплотить в спектакле. У меня даже пропал страх, так велико было впечатление.
Около пяти часов Владимир Иванович сказал: «Наверно, я вас утомил!» Подумать только: Он — меня!!! Я решилась спросить: как быть? Кто-то настаивает на том, что у Александрины был роман с Пушкиным, а кто-то отрицает. И тут Владимир Иванович сказал: «А вы сыграйте так, чтобы для тех, кому хочется романа, он был, а кому не хочется — не было. Это вы, женщины, должны уметь».
Привстав, дал понять, что репетиция закончена. Не подавая руки, наклонил голову. Я стала говорить слова благодарности, но Владимир Иванович прервал меня, сказав, чтобы дома я все продумала, не суетясь все взвесила, и еще раз наклонил голову.
Придя домой, я не чувствовала усталости, а была в каком-то сильном напряжении. Муж сказал: «Целых три часа! Ну ты счастливая!»
Вечером позвонила Ольга Сергеевна Бокшанская и передала слова Владимира Ивановича: «Кажется, я заморочил ей голову. Посмотрим!» И еще она рассказала, что в то утро Владимир Иванович звонил Нежному узнать мое имя и отчество, а тот сказал: «Зося, ее все так называют». Владимир Иванович сказал что-то вроде: «Я — не все».
Через день была генеральная для Немировича-Данченко, а на следующий день в нижнем фойе — замечания и репетиция с ним под стенограмму. Тогда я очень гордилась тем, что Владимир Иванович снова назвал меня по имени и отчеству и что замечаний мне не было. А теперь, когда я читаю в книге об этой репетиции и знаю, что в стенограмме обо мне ничего нет, как-то обидно. Наверно, это очень по-актерски.
У этого спектакля был трудный путь, как и у всех тогда пьес Михаила Афанасьевича Булгакова. Кому-то очень хотелось не пропустить: война, не та тема и еще масса других доводов, но Владимир Иванович сказал, где надо: «А я горжусь этим спектаклем Художественного театра». И спектакль пошел и много лет не сходил со сцены.
Премьера прошла успешно. Великолепен был Вильямс: зеркало сцены было затянуто тюлем — это давало большие световые возможности, особенно в сцене «На Мойке» (ее очень хвалили). Метель и вьюгу делали живыми голосами — участвовала вся вокальная часть и многие молодые актеры.
Шла весна 1943 года.
Через какое-то время готовилась сдача «Последней жертвы» — режиссерской работы Николая Павловича Хмелева. Прогон должен был состояться в так называемом «новорепетиционном» помещении в ширмах.
Мне очень хотелось послушать прогон, а главное, замечания Владимира Ивановича, и я задолго до начала решила пробраться и сесть за ширмы. Пройдя по коридору бельэтажа, затянутому солдатским сукном, я хотела повернуть к двери на лестницу, ведущую на площадку, как вдруг услышала тихий голос Ивана Михайловича Москвина. Взглянув в щелку, я увидела, как Москвин трясущейся рукой подносил ко рту папиросу, приговаривая: «Помирать пора, а все экзамены сдаешь, а иначе нельзя». Он говорил сам себе — огромный артист и человек, единственный, кто был с Владимиром Ивановичем на «ты». «Ты, Владимир Иванович» и «Ты, Ваня или Ванюша». Я тихонько уползла Обратно. До конца своих дней не боялись быть учениками наши уникальные «старики»!
После прогона и замечаний Владимир Иванович должен был начинать репетиции для перехода спектакля на сцену в замечательных декорациях Владимира Владимировича Дмитриева.
В то время Владимир Иванович был очень занят созданием Школы-студии при Художественном театре. В правительство уже был подан подробный документ о необходимости такой школы, состоящей из двух факультетов — актерского и постановочного. Для составления учебной программы были привлечены для актерского факультета: Иван Михайлович Москвин, Владимир Григорьевич Сахновский, вернувшийся в театр из ссылки (благодаря Немировичу-Данченко), Николай Павлович Хмелев, Василий Александрович Орлов, частично Иосиф Моисеевич Раевский; для постановочного — Павел Александрович Марков, Владимир Владимирович Дмитриев, Иван Яковлевич Гремиславский и многие крупнейшие ученые — историки, философы, театроведы. Если не ошибаюсь, Виталий Яковлевич Виленкин был тогда ученым секретарем этого так называемого инициативного содружества, а возглавлял все — Немирович-Данченко.
Как же был велик авторитет Художественного театра и Владимира Ивановича, если, несмотря на то, что шла война и до Победы было далеко, правительство одобрило проект и в декабре 1943 года Школа-студия приняла первых абитуриентов актерского факультета. Но Владимир Иванович не дожил до этого. Школе осталось только его имя.
Был канун Пасхи. В театре знали, что Немирович-Данченко любит балет и, когда позволяет время, ездит на какой-нибудь акт.
Особенно любил он «Лебединое озеро». Место его всегда было в директорской ложе.
В один из ближайших вечеров, когда он был на своем любимом «Лебедином», за ним приехали, сообщив, что в театре гости. Он поспешил в свой театр, быстро вышел из машины и, почти взбегая по ступенькам, споткнулся и чуть не упал, но, казалось, все обошлось. В театре Владимир Иванович встретился с гостями — с кем-то из правительства, а потом уехал домой.
Больше он в театр не вошел. Ночью случился сердечный приступ. Сын его, Михаил Владимирович, вызвал кремлевскую «скорую». Нести себя Владимир Иванович не позволил, узнав, что врач — женщина. С помощью сына оделся, только без галстука, в лифте сидел на стуле.
Когда в театре узнали, что Владимир Иванович в больнице, как мне кажется, не придали особого значения, так не вязалось с ним понятие старости. Часто бывал болен Константин Сергеевич, все это знали, а Владимира Ивановича меньше берегли, что ли. Казалось, что он здоров. Ну иногда простуда — когда он в кепочке, но это даже и не очень волновало — пройдет. И проходило.
Наш Учитель был очень волевым, и в свой внутренний мир он никого не допускал, как мне кажется, даже сына — очень хорошего, скромного, мягкого человека. В сущности, Владимир Иванович был очень одинок, особенно после смерти жены.
Была пасхальная Страстная суббота. У нас дома разговлялись Тархановы, Раевские, Михальский. Была уже ночь, когда Михаил Михайлович, пошептавшись с Федором Михальским, сообщил, что они будут петь «Комнату Лизы» из «Пиковой дамы», и они «пели»: Михальский — Лиза в покрывале с моей кровати, а Михаил Михайлович — в треуголке из диванной подушки. Хохотали мы до слез. Вдруг громко постучали в дверь. Вошел белый Владимир Канделаки со словами: «Прекратите, сейчас скончался Владимир Иванович».
Федор Михальский, сорвав с себя покрывало, молча убежал, Тарханов сказал, указывая на жену: «Проводите ее», — и тоже ушел. Мы были как потерянные. Муж и Раевские повели домой Елизавету Феофановну, а когда Николай Иванович вернулся, мы пошли в Шереметьевский переулок (улица Грановского), где находилась Центральная «кремлевка». Потоптались у проходной, нас вежливо попросили уйти. Приплелись мы домой, и я стала убирать со стола — спать не хотелось, хотя было уже утро. Когда, спустя время, пошли в театр, там было уже много народа — как-то сразу все узнали. Помню бледную, с суровым лицом, молчаливую Ольгу Леонардовну. Я не посмела к ней подойти. С каким-то закаменелым выражением — Иван Михайлович Москвин, а Хмелев в красных пятнах с трясущимися руками (Николай Павлович был гипертоником).
Растерянные, осиротевшие, казалось, только теперь мы осознали, чем был для всех нас и для театра Владимир Иванович Немирович-Данченко.
Наступил день прощания. Зрительный зал был в трауре. Очень много венков и цветов. Много людей — весь состав Музыкального театра. Но шла война, и были еще иногда бомбежки.
Я сейчас не могу утвердительно сказать, был ли доступ с улицы. Хорошо помню, что Ольга Бокшанская не входила в зал, стояла в коридоре. Она сказала мне: «Не хочу видеть его мертвым». Была торжественная панихида, много речей, много замечательной музыки, за занавесом на сцене стояли все наши вокалисты и весь Музыкальный театр, они замечательно пели «Аве Мария». Был кто-то из правительства с речью, но помнится все это смутно. Отчетливо помню: когда я, что-то поправляя, оказалась за изголовьем гроба, то увидела на затылке мудрой этой головы большой, подковообразный, небрежно зашитый шов. Помню и трагическое звучание фанфар при выносе.
В крематорий гроб везли поздно вечером, на грузовике. И так случилось, что Яншин и Раевский держали крышку у головы, а мы с мужем — у ног. Очень трясло, и мы, всем телом навалившись, удерживали крышку гроба. По дороге грузовик два раза останавливался, его чинили, в третий раз он остановился в воротах крематория, как бы протестуя. Казалось, что это наш Учитель не хочет покидать нас.
Через несколько дней было захоронение урны на Новодевичьем кладбище в могилу жены, Екатерины Николаевны, — скромная плита из черного лабрадора у подножия памятника. Так завещал Владимир Иванович.
А совсем недавно он был здоров, и казалось, что он полон сил для больших свершений — ведь шли репетиции «Гамлета»! Совсем недавно, выйдя как-то из булочной на улице Горького у дома № 6, я чуть не налетела на Владимира Ивановича. Он приостановился и вдруг сказал: «Не хотите ли пройтись с элегантным мужчиной?» Я пыталась спрятать за спину полученный по карточкам злосчастный батон, а Владимир Иванович продолжал: «Хлебца купили?» Я что-то лепетала в ответ, проклиная и карточки, и батон, и то, что он не завернут.
На Владимира Ивановича оглядывались, а он говорил о том, что захотелось пройтись, был действительно элегантен, и слово «старик» никак не шло к нему. Когда дошли до нашего подъезда, я наконец отважилась и спросила: «Можно вас проводить?» (квартира Владимира Ивановича была под аркой) — «Буду рад». Когда прошли эти несколько шагов, он, наклонив голову, сказал: «До свиданья». Как же мы тогда были далеки от мысли о близком его конце!
После смерти Владимира Ивановича театр официально возглавил Иван Михайлович Москвин. С этого дня он появлялся в театре неизменно в черном костюме и крахмальной сорочке.
С Василием Григорьевичем Сахновским и Николаем Хмелевым у Ивана Михайловича был полный контакт. С огромным сожалением прекратили работу над «Гамлетом» — без Немировича-Данченко это было невыполнимо.
Как мне кажется, в трагической роли Гамлета полно проявился бы талант Ливанова и Офелия Гошевой была бы лучшей ее работой в нашем театре.
…Еще в 1941 году стало известно, что Мария Петровна Лилина болеет, но она еще была на ногах и продолжала очень интенсивно заниматься со своими учениками из студии Константина Сергеевича. Тогда еще не знали ее страшного диагноза — саркома.
В начале 1943 года ей ампутировали ногу. Мне довелось сопровождать Ольгу Леонардовну в Кремлевскую больницу к Марии Петровне. Она была спокойна, обрадовалась Ольге Леонардовне, Визит был коротким. Врачи говорили, что они поражаются силе ее духа и тому, как она терпит такие боли. Мария Петровна отказалась от болеутоляющих лекарств.
В начале лета, когда Мария Петровна была уже дома, Ольга Леонардовна, Софья Ивановна и я вместе ехали откуда-то. Ольга Леонардовна попросила шофера проехать Брюсовским переулком. Остановились у дома «стариков» и вышли из машины на противоположной стороне.
Вдруг в доме открылось окно, и мы увидели Марию Петровну на костылях. Она звонко крикнула: «Шер Ольга!» — а потом по-русски: «Как я рада, Олечка»… и еще что-то. Ольга Леонардовна молча махала ей рукой, боясь выдать слезы. Потом, справясь с собой, тоже что-то прокричала по-французски. Так, постояв несколько минут, мы уехали. Марии Петровне послали букет ландышей, и в тот же вечер было получено от нее письмо (привожу полностью).
О. Л. Книппер-Чеховой
7
июня 1943 года
Олечка, дорогая, товарищ дорогой, я сейчас рассчитала, что мы с Вами товарищи уже 45 лет, а отношения наши не изменились. И когда я увидела Вас под окном, легкие радостные слезы навернулись на глаза и весело стало; я подскочила на одну свою ногу и приняла и поняла Ваш поклон. 45 лет между Вами и мной не было ни зависти, ни ревности, ни единственной ссоры. Я думаю, что это редкость в истории театра.
Спасибо за чудесные весенние ландыши.
Ваша Машенька»
А через какое-то время — опять больница и ампутация руки. Больше она не поднялась. Когда сообщили о ее кончине, я сопровождала Ольгу Леонардовну на улицу имени великого Станиславского, мужа Марии Петровны, в дом, где нынче музей. Там в столовой было отпевание по православному обряду, а на следующий день гроб поставили в нижнее фойе театра. Мария Петровна была «только» народная артистка РСФСР, поэтому не в зрительном зале. Смешно и горько — уникальная артистка, гордость Художественного театра, жена Станиславского. Но протокол есть протокол!
Я увидела у окна Ливанова с блокнотом, он тихонько сказал: «Поразительное лицо, такими святых пишут». И действительно, лицо было необыкновенно тонкое, спокойное, и седые волосы светились вокруг, как нимб.
Вспомнилось, как Мария Петровна так еще недавно — осенью 1942 года — рассказывала про то, как ее награждали орденом Трудового Красного Знамени вместе с большой группой военных. Они отвечали «Служу Советскому Союзу», и она спросила, можно ли ей так сказать. И сказала. Все зааплодировали, и ей было приятно.
А сейчас перед нами в гробу лежала узенькая фигурка Этой изумительной артистки, приумножившей славу Художественного театра. «Ее образ, незабвенный для всего Художественного театра, в особенности же для нас, «стариков», сохранится во всей своей нетленной чистоте, поэтичности и обаянии», — это слова Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой.
Вот так печально закончилось для нашего театра лето 1943 года.
Я продолжала писать в разные инстанции с просьбой сообщить о судьбе отца и дать право переписки с ним.
Одну из просьб направила в Прокуратуру СССР. До войны формальные ответы — 10 лет без права переписки — обычно приходили через три-четыре месяца. В этот раз довольно скоро — недели через две, я получила повестку, где было написано, что мне надлежит явиться к трем часам на такой-то этаж, в такой-то кабинет, при паспорте. Маме я ничего не сказала, знал муж.
В проходной мне выдали пропуск и указали, куда идти. Найдя нужный кабинет, я постучала и услышала: «Да, войдите». В узком кабинете странной формы, под углом к двери, за небольшим столом сидел офицер НКВД (чин от волнения я не разобрала). Он указал мне на стул против себя и какое-то время молчал. Потом сказал, не то спрашивая, не то утверждая: «Вы артистка». Я промолчала. «Вы все пишете… Вам же ответили, и не один раз — десять лет без права переписки». Я возразила, что мера наказания не соответствует служебному положению отца. Десять лет дают женам и родственникам. Он еще что-то говорил о моей напрасной настойчивости, а я смотрела на серую папку на его столе — на ней было написано:
«Дело С. С. Пилявского».
Мне вдруг поверилось, что я узнаю хоть что-нибудь. Человек этот встал со словами: «Я сейчас, подождите». Я тоже встала, чтобы идти к стулу у дверей. «Сидите здесь». — «Нет, разрешите, я тут». И села у двери, довольно далеко от его стола. Он вышел, замок щелкнул, и я осталась одна в кабинете. Я неподвижно сидела, не глядя на стол, где лежала папка. Очень хотелось курить, но я не решилась. Сидела очень долго. Мне было страшно — и за себя, и за маму, и за мужа. Казалось, что меня проверяют, или забыли, или уже забрали.
Наконец опять щелкнул замок, офицер вошел и молча опять указал на стул против себя. Какое-то время он молчал, а потом очень тихо сказал: «Я ничего не знаю, вот». Открыл папку — в ней было пусто. «Вы логично рассуждаете, я постараюсь узнать, если смогу». И очень тихо, написав свою фамилию и телефон: «Позвоните мне». Я так же тихо спросила: «Месяца через три?» — «Через месяц». И громко, начальственным голосом: «Ваш пропуск? Идите».
Когда я приплелась домой, муж уже ушел на спектакль. Слава Богу, в тот вечер я была свободна.
Через месяц я позвонила по тому номеру. На мою просьбу попросить такого-то резко ответили: «Не работает». Записку с номером я уничтожила. Мне было тоскливо и жутко.
…Осенью перед самыми ноябрьскими праздниками театр отправлял на фронт большую группу артистов для обслуживания частей ВВС Западного фронта. В состав бригады входили: Андровская, Тарасова, Молчанова, Калиновская и я; из мужчин — Станицын, Прудкин, Боголюбов, Дорохин, наш вокальный дуэт, скрипичный квартет, гитарист Кузнецов. Мы должны были лететь под Смоленск — его только за три-четыре дня до этого отбили у фашистов, — там дать большой парадный концерт и на следующий день разделиться на две бригады для разных маршрутов. Мы улетали с небольшого военного аэродрома, почти в черте города. Утром спецавтобусом приехали прямо на летное поле. Вышли, сложили свои вещи и театральный микробагаж и стали ждать. Сопровождающий нас военный ушел в домик на этом же поле. Довольно близко стоял не очень большой самолет. Из домика вышли два богатырски сложенных летчика в накинутых на плечи кожаных регланах. По мере их приближения послышался легкий перезвон — это звенели их ордена и медали.
Подошли, поздоровались с нами, взглянули на багаж, и между ними начался такой диалог: «Сёма, как думаешь — взлетим?» — «Так надо взлететь». — «А ну, пересчитай их?» Сёма нас пересчитал. И тут другой — не Сёма — скомандовал: «А ну, на посадку, товарищи артисты!» И мы, подхватив свои чемоданчики (а провожающий военный — театральный багаж), пошли к самолету. Поднялись по крутой лестнице — нам галантно помогали хозяева — и оказались внутри. Тут обнаружилось, что, кроме нас, в самолете (это был грузовой ИЛ) летят четверо военных. Около них были сложены какие-то агрегаты, стволы которых уходили в открытые в потолке отверстия. Мы стали устраиваться вдоль стенок на железных скамьях. Кто-то из наших дам спросил что-то вроде: «А это зачем?», — указывая на агрегаты. «А это так, для чистого воздуха», — хохотнул Сёма. Это были зенитные орудия.
Летели мы около двух часов вполне благополучно, хотя зенитчики все время поворачивали свои орудия, просматривая небо. Были уже сумерки, когда мы прилетели на место. Странно, но во время полета не было страшно — так сильна была уверенность в наших летчиках и вообще в военных.
Когда мы приземлились и нас встретили, нам показалось, что встречающие немного нервничают, а летчик и штурман, которых мы пригласили на концерт, сказали: «Нам обратно». И еще встречающим что-то вроде: «Вы их скорей отсюда». Нас, действительно, вежливо поторопили сесть во фронтовой автобус, мы и осмотреться толком не успели.
Довольно скоро нас довезли до окраины Смоленска. Вокруг все было разрушено. Остановились у дома без одной стены, так что была видна часть внутренних помещений. Недалеко стоял целый двухэтажный дом, правда, почти без стекол. В нем нам и предстояло давать концерт. К нашему приезду в трехстенном доме было приготовлено два помещения для женщин и мужчин. Выйдя из автобуса, мы увидели вдоль дорожек по обеим сторонам протянутую проволоку и на ней плакатики с одним словом — «мины». Нас предупредили, что ходить надо очень осторожно, не отклоняясь в сторону.
Мы начали готовиться к концерту. Было уже почти темно, когда нас повели к «концертному зданию». Все оно было каким-то зыбким, особенно расшатанной была широкая деревянная лестница, ведущая в «зрительный зал». Там уже плотно сидели и стояли солдаты и офицеры. Один угол был отгорожен двумя плащ-палатками, туда нас и провели под приветственные аплодисменты зрителей. Еще до этого нас предупредили: в случае налета не разбегаться, соблюдать спокойствие, нас проведут в укрытие.
Концерт начался и благополучно дошел до середины. Объявили Андровскую и Станицына, они должны были играть сцену из «Волков и овец» Островского — обольщение Глафирой Лыняева. Как только Ольга Николаевна произнесла первую фразу: «Я хочу выйти замуж», потух свет и в темноте раздался голос: «Воздух, все по местам».
Мой муж заранее предупредил меня: «Если что, я буду с Андровской — она в первый раз, Зуева храбрая, а ты будь рядом». Мы все, сбившись в кучу, задержались в темноте, чтобы не попасть в спешащую толпу военных. Дом ходил ходуном. Успели переобуться. В одной руке подол концертного платья и туфли, а другой мы с Ольгой Николаевной ухватились за Дорохина, и он повел нас, освещая пол маленьким фонариком, но никто за нами не пришел. Когда мы выбрались из этого дома, вокруг стало светло — немец повесил «люстры», то есть светящиеся ракеты. С земли стреляло все, даже наганы. Стоял сильный гул и от моторов, и от стрельбы. Кто-то из военных крикнул нам: «Скорее в щель, прямо по этой дорожке». Мы побежали. Опять стало темно, стрельба и гул не прекращались. Дорожка привела нас к какой-то яме, в ней были ступеньки, и мы, задрав еще выше свои подолы, стали спускаться в эту щель. Там уже были Прудкин, Молчанова и Станицын, остальных мы не видели. Я ударилась ногой обо что-то твердое, и мы
с Андровской на это твердое сели — спина к спине. Снаружи отбивали второй заход фашистов. Сидели довольно долго, пока не смолкли стрельба и взрывы. Когда осветили фонариком наше убежище, выяснилось, что мы «спасались», сидя на невзорвавшейся бомбе, правда, «начинка» была вынута.
Выйдя из укрытия, мы увидели довольно жуткую картину: кого-то уносили, кто-то оставался лежать, кого-то вели под руки — это были наши зрители. Озираясь, мы увидели в целости «концертный зал» и наш трехстенный дом, и откуда-то стали сходиться наши. Все, слава Богу, были живы, даже без царапин. Оказывается, Тарасова и Калиновская во время двух налетов стояли под стеной разрушенного по соседству дома, держа над головами сумки — это от осколков. Чудо, что они остались целы!
Наш начальник куда-то сгинул, и мы по собственной инициативе решили продолжить концерт, тем более что зрители уже были на месте, но им было немного просторней…
Окончилась наша программа на этот раз благополучно, был и большой успех, и слова благодарности. Нас проводили в «резиденцию» и, когда мы переоделись, по таким же дорожкам повели к каменному, не совсем целому сараю или складу, где был накрыт роскошный стол.
Первый тост за Победу и… опять начался налет. Хозяева стола решили — уходить не нужно, тут надежнее, а кому положено — отобьют налет. Я сидела рядом с летчиком. На груди его было много боевых наград. Мне показалось, что он болен, я спросила, что с ним, и услышала в ответ: «Вы наивные, доверчивые люди! Я предпочитаю в такой ситуации быть в воздухе».
Нашего руководителя, как нам объяснили, держали на связи со штабом Громова. Там очень беспокоились о нас. Оказывается, на этот «пятачок», как его называли, где мы выступали, было три захода, по «девятке» каждый.
А ночью в «дамской половине» трехстенного дома на нас с грохотом упала из окна фанера, заменяющая стекло. Вот уж тут был дружный крик — сказалось пережитое напряжение.
В штабе Громова тогда служил полковник Пронин, впоследствии генерал, муж Аллы Тарасовой. Во время нашего первого концерта он сорвал себе голос, добиваясь точных сведений, все ли из нашей бригады живы. От высшего командования был строгий приказ не пускать нас в опасные зоны.
Рано утром нас разделили на две бригады, и мы, простившись, разъезжались в разные стороны в штабных автобусах.
В нашей бригаде были: Андровская, Зуева, Станицын, Боголюбов, Дорохин, я, певческий дуэт и струнное трио. Автобус наш шел по дороге с поперечным бревенчатым настилом. Надо сказать, что такая дорога была трудным испытанием. Говорить нельзя — можно прикусить язык или сломать зубы. Тряска такая, что все время надо держаться руками за сиденье, но приказ есть приказ — так безопаснее.
Ехали довольно долго, нас уже ждали. Концерт проходил в большом сарае, и, несмотря на ноябрь, мы были в вечерних туалетах и в концертной обуви. И ничего, никто не простудился.
В одной из частей, где командующим был генерал, после концерта, обоюдных приветствий и парадного обеда решено было перебросить нас в один из засекреченных полков «воздухом», в несколько рейсов.
Получилась целая «эскадрилья» из У-2. Возглавлял ее сам генерал, с ним летела Андровская, Зуева летела тоже с высоким чином, а ко мне подошел совсем молодой человек в летном комбинезоне и шлеме и, сказав: «Прошу», повел меня к самолету, отличающемуся от остальных. Когда он помог мне взобраться на штурманское место и стал учить, чтобы я не хваталась за управление (самолетик был открытым — только козырек), я услышала голос генерала: «Бандура, приказываю — без штук!» — «Есть без штук, товарищ генерал!» Бандура спросил: «Будем привязываться, или доверяете?» Я, замирая, прошелестела: «Доверяю, конечно». Я сидела на штурманском месте в истребителе…
По протоколу раньше начальства, а тем более генерала, прилетать на место не полагалось. После того как две «уточки» поднялись и плавно полетели, наш «ястребок» взмыл почти вертикально, я оцепенела, вцепившись в борта. Как мне казалось, деревья были не внизу, а где-то сбоку. Потом машина пошла прямо, но с большой скоростью. Бандура, полуобернувшись, прокричал: «Молодец, так держать, сделаем облет, есть время!» И он повел самолет к какому-то полю.
Я не сразу поняла, хоть летели низко, что это было место страшной битвы за освобождение Смоленска. Среди порушенной военной техники виднелись небольшие холмы. «Фрицы!» — прокричал Бандура. Это были вражеские трупы. Наших погибших воинов уже погребли, а фашистов еще не успели и сложили так.
После этого облета капитан Бандура чинно посадил свой «ястребок» после начальства. «Вы прилетели в особый полк», — сказал нам генерал, и самолеты ушли за остальными нашими.
Устроили нас в землянке. Познакомившись с хозяевами, мы сразу начали готовиться к концерту. Этот полковой аэродром был тщательно замаскирован, и боевые вылеты на тяжелых машинах производились главным образом, по ночам.
Но вот бригада в сборе, генерал улетел, пожелав нам удачи, и концерт начался, тоже в большой землянке. Зрителей было не очень много, но они сидели, стояли и почти висели где-то под верхним накатом земляного потолка — здесь был весь состав, кроме дозорных и тех, кто был на задании.
Перед концертом Дорохин произнес
слова привета от Москвы и от Художественного театра, поздравил с праздником Ноября. Концерт прошел хорошо, принимали очень сердечно, а после концерта нас пригласили в землянку полковника Хомутова, где был накрыт стол, трогательно украшенный сосновой хвоей. Электродвижок давал мало света, и на столе стояли высокие снарядные стаканы с горящими фитилями, как бронзовые большие свечи.
Не помню, что мы ели, помню — что-то вкусное. Это было делом рук вестового по фамилии Шаляпин, о чем полковник с гордостью нам рассказал. Были и сто «ворошиловских» грамм, и чудесная беседа, как будто мы давно знали друг друга.
Засиделись за полночь. Мы заметили, что хозяева, поглядывая друг на друга и незаметно на часы, явно проявляли беспокойство, и решили прощаться. Но они говорили о том, какой это для них праздник — наш прилет, и мы остались.
Наконец послышался гул самолетов, и нам все стало понятно. Майор Касимов, извинившись, вышел. Шум моторов постепенно затихал — приземлялись. Касимов вернулся, сказал что-то полковнику, тот молча кивнул, лицо закаменело. Мы поняли — что-то случилось. Прошло, наверное, еще около часа, и мы снова увидели, как напряглись лица наших хозяев, вслушивавшихся в отдаленный гул мотора, который приближался. Полковник и майор встали, приказав остальным оставаться на местах, и выбежали наружу. Какие же счастливые лица у них были, когда они возвратились. С задания вернулись все, а это бывало не так часто. «А теперь им спать — завтра они будут вашими зрителями!»
Назавтра днем мы дали еще один концерт для тех, кто накануне вечером был на задании, а нас уже ожидал капитан Бандура на каком-то другом самолете, где была кабина на 6 мест и одно штурманское место, рядом с пилотом. Оно по знакомству досталось мне. Нас перебрасывали в два рейса.
Было трогательное прощание с этим секретным полком и его командиром, мы обменялись адресами. По возвращении в Москву Станицын получил от Касимова «треугольник», но это было только одно письмо. А нам хотелось, чтобы они летали до Победы!
В течение всей нашей поездки нас «возил» капитан Бандура. Мы очень подружились, и однажды я даже держала руки на штурманском штурвале: взять на себя — вниз, ровно держать — прямо. Конечно, он страховал, но я была безмерно горда. Бандура тоже обещал писать и не написал…
Часть, в которую мы прибыли, была большой. Там мы дали один концерт, на котором было много летчиков и других военных. За ужином запомнился такой эпизод. Один летчик рассказал, что ему дают десятисуточный отпуск (он скромно промолчал, за какие заслуги) — у него родилась дочь. Я его спросила: «Вы полетите?» В ответ было: «Нет, что вы. Я поеду!» И я пожелала ему благополучной встречи и благополучного возвращения в часть, и за это все выпили. Реакция его нас поразила: он покраснел, побелел, сорвал с себя цейсовский бинокль на ремне и надел мне на шею со словами: «Сохранишь — буду жив, с фрица снял — трофейный!» Бинокль этот и сейчас у меня…
Как-то само собой получилось, что возглавлял бригаду всегда Дорохин, хоть был он тогда и ниже по рангу, и моложе своих маститых товарищей. Увидев его впервые в этой роли, я, помню, удивилась его спокойной уверенности, умению контактировать с военным начальством. Подчиняясь приказам, он умел деликатно, но твердо настоять на своем, заботясь о «подопечных» артистах. Его выступления, читал ли он «Василия Теркина», играл ли сцену из Островского с Анастасией Платоновной Зуевой, рассказывал ли бойцам о Художественном театре, неизменно тепло принимались фронтовой аудиторией. Дорохин был для бойцбв свой, близкий, понятный, чем-то и сам немного похожий на Теркина. В моменты острые, опасные, а это часто случалось на фронте, он всегда сохранял спокойствие, был собран, но императивен, и не оттого, что был каким-то особенно храбрым, а, мне думается, от чувства большой ответственности за порученное ему дело. И конечно, чувство юмора, присущее настоящим артистам, помогало ему в трудные минуты.
Когда нас перебрасывали по воздуху, обычно двумя-тремя рейсами, я почему-то никогда не оказывалась рядом с мужем, хотя мне казалось естественным в такой ситуации быть вместе. На мои упреки, почему он так поступает, я услышала: «Наивный дамский вопрос. У тебя мать, у меня двое стариков — ясно?»
Помню наш приезд в женский летный полк имени Расковой. Невозможно было поверить, что все эти девочки (а иначе их назвать нельзя, самой старшей было 20 лет), летали на грозных бомбардировщиках, которые фашисты называли «черной смертью», а самих летчиц «ведьмами в ночном небе». Летали каждую ночь бомбить вражеские города, делая по нескольку боевых вылетов.
Вокруг нас собрались восторженные, счастливые, глазеющие на Колю Боголюбова как на чудо (он особенно был популярен в то время, сыграв в «Великом гражданине»).
Мы будто попали в гости к веселым девчонкам, которые говорили сразу все вместе. Перебивая друг друга, они рассказывали нам, что у них случилась одновременно и радость, и беда. Одной из девочек на днях присвоили звание Героя Советского Союза, они на радостях стали ее качать, уронили, и теперь она лежит в землянке с ушибами и со сломанной ногой и плачет. После концерта, который принимался восторженно, нас повели в землянку, где лежала заплаканная героиня. Мы и сами едва сдержали слезы. Это была не обычная землянка — у коек тумбочки, полочки, на них вышитые салфеточки, игрушечные зайцы и цыплята, на подушках — думочки, накидочки. Казалось, что это спальня школьниц.
Героиня — белокурая, стеснительная и счастливая — что-то радостно лепетала, а увидев наших киногероев, только ахнула.
Мы, женщины, стали спрашивать потихоньку у юных летчиц, что же все-таки самое трудное в фронтовой их службе? Девочки серьезно, шепотом же отвечали, что самое ужасное — летные комбинезоны: «Они ведь мужские, и нам приходится их совсем снимать — понимаете?! И еще ручку в этих огромных машинах перед вылетом приходится выжимать вдвоем — одной не справиться».
Но вот настало время возвращаться домой. Обратно нас отправляли штабным автобусом. Кажется, через трое суток мы добрались до Москвы. Помню, что ночевали в Юхнове, в разбитой школе. Было уже морозно, мы спали на столах и скамьях и мерзли даже в тех самых меховых комбинезонах, подаренных нам летчицами, а наши пальто и шубы были упакованы, и не было сил и охоты их доставать.
Не знаю, как называлось это место, но хорошо запомнилось: крутая дорога в гору, забитая военной техникой и машинами, и среди этого скопления наш маленький штабной автобус. Был сильный гололед, темно, ехали без фар, вся эта махина поднималась с надсадным скрежетом и тут же скользила вниз. Вот тут было действительно страшно, что раздавят. Но наш замечательный водитель как-то уворачивался. Мы все молчали, а он — в разнообразных сочетаниях — хрипло матерился, и вся дорога отвечала ему тем же. Так продолжалось довольно долго, пока постепенно расстояние между машинами не стало увеличиваться, наконец мы преодолели подъем. На ровной дороге надрывались охрипшие регулировщицы. Наш водитель, сказав, кого везет, попросил разрешения отъехать в сторону. Отъехав, остановился и сказал: «Мне надо поспать минут тридцать, а вам выходить нельзя». Фронтовые водители — те же герои, они по двое-трое суток не смыкали глаз, и кто-то всегда садился рядом, чтобы все время с Ним разговаривать, а то бывали случаи, когда за баранкой засыпали.
В Москву мы приехали вечерам, прямо во двор театра. Нас встретили, распаковали наши шубы и пальто, и так, неся их на руках, в комбинезонах, мы пошли по домам. Мы были закопченными и, вероятно, выглядели измученными. Встречу и отчет о поездке назначили на следующий день.
А дома было тревожно. Мама лежала на моей кровати и бредила, быстро-быстро говоря что-то по-польски. Верная наша Елена Григорьевна говорила: «Ивер приходил, обещался, что пройдет». «Ивер» — на языке нашей Елены Григорьевны означало доктор Иверов. Он находил у мамы что-то вроде горячки. Меня она не узнала. Мы были в состоянии только вымыть лицо и руки, и то не добела, и рухнули. Николай Иванович лег у себя на диване, а я на месте Елены Григорьевны («А я тута, возля́ их, если что, покличу».) Утром мама пришла в себя, очевидно, кризис прошел. Она была очень слаба и все повторяла: «Как вы долго…»
Началась обычная жизнь. Спектакли, репетиции, шефские концерты. Мы обслуживали войска Московского гарнизона и госпитали. За 1943 год Художественный театр высылал на разные фронты четыре бригады, и в трех из них участвовал Дорохин. В этом же году выпустили спектакль «Русские люди» К. Симонова.
Забегая в редкие часы к Ольге Леонардовне, я как-то оттаивала душой и безмерно радовалась тому, что становлюсь нужной в этом самом скромном актерском доме, какой только мне известен, — в доме Книппер-Чеховой.
Ольга Леонардовна очень мучилась, не имея сведений о Марии Павловне Чеховой — сестре Антона Павловича. Известно было только, что она осталась в Ялте охранять дом, а Крым был под немцем.
Часто у Барыни, как я стала называть Ольгу Леонардовну (она вначале сердилась, а потом привыкла и, смеясь, откликалась), бывала Нина Николаевна Литовцева — жена Василия Ивановича Качалова и мать Вадима Шверубовича. О Вадиме вестей с фронта не было — он числился без вести пропавшим. У Ольги Леонардовны ей было не так тяжело, уж очень умела наша Барыня отвлечь, утешить — без сантимента, даже сурово, но внушить веру в благополучный исход. Она еще играла «Воскресение», «Враги», а иногда читала на концертах чеховские рассказы — «Рассказ госпожи NN» и «Шуточку». Изредка давали «Вишневый сад» в старом составе: Ольга Леонардовна, Москвин, Качалов, Добронравов, Тарханов.
…Подходил к концу 1943 год. Во второй половине декабря меня вызвал Евгений Васильевич Калужский. Он начал издалека: понятно, что мы оба — муж и я — устали, что Николай не совсем здоров, но… надо, очень надо поехать на фронт, на этот раз в наземные войска. Без Дорохицд никак нельзя, да и без меня тоже нежелательно. «Коля не откажется, я уверен». И Коля не отказался.
Отъезд бригады назначили так, чтобы в воинскую часть успеть к встрече Нового, 1944 года. Направление на Волоколамск. Состав бригады почти постоянный — конечно, Зуева, Яков Лакшин, Боголюбов, мы с мужем, вокальный дуэт, гитарист Кузнецов, а главное, настояла на своем участии Лидия Михайловна Коренева, несмотря на преклонный возраст и нездоровье (большой фурункул на лбу, который давал температуру).
На этот раз еще в театре нас всех одели в белые полушубки и такие же ушанки, только Лидия Михайловна не пожелала переодеваться — казенным полушубком она прикрывала ноги. Алексей Люцианович Иверов дал мне целую коробку со всем, что необходимо для перевязок, и наставления, как их делать.
И вот мы опять во фронтовом автобусе. Сопровождающий нас капитан расспрашивает о театре, а на наши расспросы, куда мы едем, отвечает уклончиво. Оставили Москву уже в сумерках, в темноте проезжали разрушенную Истру. Тоскливо было смотреть — одни обгорелые печные трубы и тьма.
Миновали контрольно-пропускной пункт под Ржевом. Дальше дорога шла лесом. И вот, вдруг подпрыгнув, наш автобус заурчал, потарахтел и остановился. Водитель и капитан начали копаться в моторе. Недалеко от нас виднелась будка регулировщика, там светилось окошко. Николай Иванович предложил Лидии Михайловне пойти погреться.
Из дверей будки вышла девушка-боец при оружии, проверила документы, и мы вошли в эту будку-избушку. Печка-времянка, маленький стол, табурет и штабной телефон в ящике, а на столе книга, освещенная коптилкой. Девочка предложила Кореневой табурет, а сама стояла по стойке смирно.
Мы четверо еле помещались; в этой будке. «Что вы читаете?» — спросила Лидия Михайловна. «“Дворянское гнездо”, Тургенев», — отрапортовала «боец». «Боже мой, Боже мой», — прошептала Коренева. Могла ли она подумать, что здесь, на фронтовой дороге, она встретится с автором «Месяца в деревне», вспомнит Добужинского и какой она была, когда блистала в роли Верочки, а Добужинский был ее верным рыцарем…
Нас позвали к машине. Лидия Михайловна поцеловала девушку в лоб: «Христос с вами»… А в ответ прозвучало: «Есть!»
Но вот, кажется, и место нашего назначения. Полуразрушенная деревня. И какое-то довольно большое здание. К нам навстречу выбежали военные, нас провели внутрь. Передали просьбу начальства поторопиться — скоро 12 часов.
Мы переоделись в концертные платья, мужчины — в крахмал и черные костюмы. Коренева была в черной панбархатной до полу юбке и в серебряном жакете, седая голова, белая повязка на лбу и жемчуга…
Когда мы вошли в помещение, где был накрыт большой стол буквой Т, все встали. В глазах рябило от золота погон, медалей и орденов. Старший по званию подошел к нам, щелкнул каблуками, низко склонился перед Лидией Михайловной и поцеловал ей руку. Коротко и дружно все крикнули: «С приездом, спасибо, ура!»
Нас усадили на почетные места. Шумно и весело было за этим праздничным столом. Но вот по радио звон курантов. Бокалы, стаканы, чашки, кружки наполнены. Наступил 1944 год, третий год войны. Тосты за Победу, конечно, за Сталина, потом за хозяев, друг за друга и за тех, кто в бою. Мы предложили показать фрагменты из нашей программы, но генерал приказал отдыхать, а завтра — два концерта.
Поздно ночью, когда мы уже переоделись, нас привели в избу. Горит коптилка, а где-то рядом плачет малыш, тоненько, как зайчик. Хозяйка сказала, что горячая вода, как приказали, готова и лавки для нас поставлены.
Ребенок все надрывался, и мы спросили, здоров ли он. Равнодушный ответ: «Да он всегда так». Где-то у печки лежал этот живой сверток, мокрый, в грязных тряпках, немытый, наверно, со дня рождения.
Мы только молча переглянулись между собой, и тут же пришло решение. Зуева сурово, даже грубо бросила хозяйке: «Давай корыто или таз!» Та засуетилась. Появилось корыто, мы вылили в него почти всю горячую воду, разбавили, размотали грязные тряпки и опустили пищащего мальчонку в теплую воду. Писк сразу прекратился. Вымыли его хорошим мылом, облили чистой, теплой водой и осторожно вытерли мягким полотенцем. Но во что запеленать? Голос Лидии Михайловны: «Господа, подождите», и она достала кусок батиста, которым в чемодане были прикрыты вещи. Опять: «Подождите», и появился тальк французской фирмы «Коти». Тут уж на нас всех напал смех. Присыпав чистого младенца «Коти», запеленав в батист и еще во что-то теплое, Зуева приказала: «Теперь корми, мать!» Та подчинилась, что-то бормоча в свое оправдание, и скоро мы услышали довольное чмоканье и кряхтенье. Как же было приятно!
На следующий день было два концерта. Первый — в длинном сарае, где «сцена» была отделена от «зрительного зала» двумя длинными, узкими плакатами, подвешенными вместо кулис. Когда мы пришли, «зал» был почти пустым, только несколько солдат. «А где же переодеваться?» — спросила меня Лидия Михайловна. «А прямо здесь!» «Боже мой, Боже мой!» — запричитала она и, подняв юбку, стала снимать теплые рейтузы.
Кореневу объявили первой. Когда она выходила, зал всегда вставал, Читала Лидия Михайловна Симонова — «Жди меня», еще что-то, но само ее появление, весь ее вид поражали военных. Так же стоя они провожали ее долгими аплодисментами. И весь наш концерт принимали очень хорошо, а Зуеву и Дорохина долго не отпускали и хохотали до слез.
Один раз нам пришлось играть на полковой кухонной плите, в которую были вделаны два больших котла с крышками, еще теплыми — они служили нам мебелью.
Как-то нас, женщин, поместили в избу, где на печи за занавеской, совсем как в картине «Изба» из «Курантов», виднелось несколько черных пяток — маленьких и побольше, а на руках у молодой опрятной хозяйки сидел прелестный, розовый, голубоглазый, в пшеничных завитках малыш. Мы им залюбовались, а я попросила подержать его. Он сразу пошел ко мне, гукая и повизгивая. От сахара отказался, но тянулся за картошкой — вкуса сахара он не знал. Вечером после концерта, как всегда, был ужин, и мы собрали всякой еды для хозяйки и ее детей.
В этой деревне мы ночевали две ночи. Когда пришли в избу, стали кормить детишек, и малыш опять сидел у меня на руках. Ночью мы лежали одетыми на лавках, вдоль окон, прикрываясь своими тулупчиками. Мне не спалось. Я увидела, как с печи сполз дед и стал пить из ковша. Вода была в большом чугуне. К нему тихонько подошла Лидия Михайловна и стала жестами просить его слить ей. Дед закивал, а она, повязавшись полотенцем, как поясом, оказалась обнаженной (надо сказать, что Лидия Михайловна отличалась идеальной фигурой, и даже сейчас — пожилая, она была хороша). Наша «надменная», как ее иногда называли, молча указывающая, куда лить, и этот дед, осторожно ливший из ковша над лоханью, — эта картина и сейчас у меня перед глазами.
Кончилось тайное мытье, Лидия Михайловна оделась и что-то стала шептать деду на ухо. Он закивал и опять полез на печь. А с ее лавки раздалось обычное: «Боже мой, Боже мой…»
Эта поездка была трудной, разъезды большие, часто по поперечному бревенчатому настилу — военные называли его «ксилофон».
Однажды ехали мы, казалось, голой степью, покрытой кое-где каким-то грязным снегом, и только мелькали столбики с названиями сожженных деревень, да местами виднелись черные печные трубы. И вдруг видим: зашевелилась какая-то кочка или холмик и из-под него появилась фигура. Мы остановились и пошли к этой фигуре — что-то черное, в отрепьях, возраст не определить, а на руках худенький мальчонка лет трех, тоже оборванный, и правой ручки нет по локоток.
Пока мужчины бегали к машине за всем, что можно было отдать из вещей и еды, женщина рассказывала: ей 23 года, муж воюет, всю деревню сожгли немцы, многих угнали, а кого и убили. Она с сынишкой спряталась, а потом, когда опять немцы проходили, один из них ел, а ребенок-то голодный, не понимает, что это не человек, ручку протянул, а тот и отсек…
Страшный этот рассказ и две фигурки — не забыть. Ехать с нами она отказалась: «Может, кто наши живые остались, вернутся, надо тут быть — тут наш дом». Долго мы ехали молча.
К концу поездки мы все очень устали, и только сознание, что мы нужны, поддерживало нас. Но когда вернулись домой, отдохнуть нам не удалось: спектакли, шефские концерты.
В шефской работе мне доставалось. Я бывала партнершей и Добронравова, и Белокурова. Один раз давали концерт даже в Большом театре — вот было страшно! А сцены из «Кремлевских курантов» мы с Ливановым играли, начиная со школ, родильных домов и домоуправлений и кончая правительственными концертами.
Бывали и выездные концерты (например, в Вологде). Дважды нас возил популярный тогда антрепренер. Увозили в субботу вечером — на воскресенье и понедельник. Эти концерты проходили как творческие вечера Тарасовой и Хмелева (Массальский и я — партнеры). В репертуаре: «Анна Каренина», сцена из «Царя Федора», из «Кремлевских курантов» и из «Врагов», а когда бывал и Кудрявцев, играли еще и сцену «У фонтана». Программа состояла из двух отделений, чистого времени — два часа. Давали два концерта в воскресенье и один в понедельник. Для военного времени, да и для мирного тоже, условия были «царские»: международный вагон и отдельная квартира. В воскресенье, после вечернего концерта, прием у первого секретаря райкома или горкома. Перед отъездом каждому, кроме крупной денежной суммы, — посылка (вологодское масло, клюква и что-то еще).
Шла вторая половина сезона 1943/1944 года, когда муж получил повестку явиться в одно из отделений НКВД (оно находилось на углу Петровки и переулка с нашим филиалом). Явка к двум часам. В тот же день вечером у Николая Ивановича были «Три сестры», у меня концерт.
Мы вышли из дому около часа дня и пошли на Петровский бульвар. Муж стал давать мне советы и распоряжения на случай… «Если меня оставят, найди Сашу, только к нему — он не отвернется».
Точно в два часа мы вошли. За низкой перегородкой в помещении сидели с виду милые женщины, их было трое, и что-то писали. Муж подошел к одной из них и протянул повестку. Бегло прочтя, она откинула крючок в перегородке, одновременно нажав кнопку: «Вам — туда». «А вы что? — это мне. — Запрещено». Я села на лавку у входной двери. Ждать пришлось долго. Появлялись какие-то люди и, на ходу перекинувшись словом с этими «дамами», проходили за барьер, там было две двери.
Прошло уже много времени. Я решилась спросить у той, которая взяла повестку, сколько может продолжаться вызов. «Сколько нужно! Не мешайте работать». Я вышла на улицу и стала топтаться около входной двери. Время шло, меня стала колотить дрожь от холода и от страха.
Приближался час, когда муж обычно начинал собираться в театр, на спектакль, и я решилась опять подойти к этой — за перегородкой. Быстро, чтобы она сразу не прогнала, стала говорить, что муж не совсем здоров, что у него спектакль и что уже время идти в театр. Она даже с любопытством, как мне показалось, посмотрела на меня и сказала: «Ну и что? Я сказала — не мешайте работать», — и застыла. Я поплелась на улицу и встала на углу, чтобы видеть ворота этого учреждения.
Был уже седьмой час, когда из дверей вышел муж. Он был серого цвета. «Расскажу после». Постояли молча. Надо было торопиться в театр, а идти быстро Николай Иванович не мог. Я пошла проводить его до театра и еле успела на концерт. Вид у меня был тоже больной, меня быстро пропустили, и я пошла встречать мужа. Домой шли очень медленно. Муж рассказал мне, что его вынуждали к «сотрудничеству». Сперва вежливо, потом все настойчивей, с намеками — «не выпустим». Физически его не трогали, но к концу «беседы», когда поняли, что он не согласится, не выбирая выражений, срываясь на крик, смешивая матерные слова с угрозами, стуча кулаками по столу, выгнали.
Ночью у мужа случился сердечный приступ, но, слава Богу, обошлось. Сколько же мы натерпелись унижений и страхов! А ведь Николай Иванович и знаком-то был с моим отцом очень мало. И надежды на защиту, на помощь у нас не было, разве только Александр Александрович Фадеев.
Через некоторое время, на генеральной репетиции, Николай Иванович, отведя меня в сторону, тихо сказал: «Посмотри осторожно, кто разговаривает с Нежным — тот самый». Это был он, предлагавший «сотрудничество».
А в театре тем временем приняли к постановке пьесу «Офицер флота» Крона. Заняты были Москвин, Болдуман, Боголюбов, Дмитрий Орлов, Соснин, Дорохин, Пушкарева, Молчанова и я. Ставили Горчаков и Раевский, выпускал Хмелев. Роли у мужа и у меня были хорошие.
Весной 1944 года освободили Ялту, но никаких известий от Марии Павловны Чеховой не было, и Ольга Леонардовна сильно беспокоилась.
Как-то вечером, когда я вернулась из театра, дома мне передали, что меня ждут у Ольги Леонардовны — очень нужно. К тому времени наша Барыня часто болела, иногда тяжело — пневмонией. Я побежала. Не успела войти, как Ольга Леонардовна и Софа, перебивая друг друга, радостно сообщили: «Мапа жива, дом цел!» (Мапой называли Марию Павловну.) Оказывается, позвонил какой-то военный и сказал, что сам с ней говорил и, как только можно будет, из Ялты позвонят. Это была огромная радость, ведь больше трех лет — ничего, а Марии Павловне перевалило за восемьдесят.
В тот вечер я ушла от них поздно. В честь радостного известия чокнулись чем-то, и начались рассказы о ялтинском доме, о его хозяйке… Решили, что надо ехать, как только пустят, ведь Ольга Леонардовна каждое лето жила сперва в Ялте, а потом у себя в Гурзуфе.
Через несколько дней был звонок из Ялты, и Ольга Леонардовна говорила с Марией Павловной. Мне потом рассказывала Софа, что у Ольги Леонардовны тряслись руки и она все повторяла: «Машенька, дорогая, какая радость! Пиши, если звонить сложно. Мы приедем, как только разрешат». А Марии Павловне было трудно говорить от слез, и она все повторяла: «Дом цел, а я старая и больная».
Вскоре после этого в театре, не помню, по какому поводу, был большой концерт. Я дежурила за кулисами: принимала гостей — участников концерта. Всех сейчас не назову, а вот одного — высокого, худого, стройного, с какой-то своеобразной грацией, рыжего молодого человека — я помню очень хорошо. Я стояла в кулисе, когда он сел за рояль. И с этой минуты и до сегодняшнего дня этот великий музыкант и необыкновенный человек, обладающий еще многими талантами, покорил меня на всю жизнь.
Позднее у Ольги Леонардовны мы познакомились со Святославом Теофиловичем Рихтером и с его женой Ниной Львовной Дорлиак, замечательной лирической камерной певицей, и мне довелось много раз бывать на их совместных выступлениях, всегда глубоких по сути и таких тонких, отличающихся совершенным вкусом и такой же техникой.
Ольга Леонардовна, тогда еще в силе, старалась не пропускать этих концертов и, конечно, сольных выступлений Святослава Теофиловича. Она понимала и очень любила музыку.
Кажется, ранней весной меня опять вызвал Калужский и попросил поехать с Белокуровым, только на одно выступление, в танковый корпус. Правда, довольно далеко, туда, где корпус стоял на коротком отдыхе.
И вот мы с Володей едем в штабной машине. Полуторка, обшитая фанерой, внутри диван, стол, полевой телефон и кресло или стул, крошечные окошечки; кабину водителя отделяет тонкое стекло.
Ехали мы долго и все недоумевали, как я перед этими танкистами буду произносить пушкинский текст «Веди полки скорее на Москву, очисти Кремль, садись на трон Московский».
[17] Пушкин, конечно, гений, но ситуация… Однако все оказалось проще: Белокуров недавно снялся в кино в роли Чкалова и был очень похож на него, поэтому его и попросили прислать.
Совсем стемнело, когда наш «кабинет» подъехал к двухэтажному, зданию. Из открытых окон слышались духовая музыка и беспорядочный веселый гул. Нас радушно встретили. Меня провели в комнату нижнего этажа переодеться, а потом, по внутренней деревянной лестнице, в помещение, где за большим столом сидело много военных — комсостав. Белокуров уже сидел рядом с генералом (имени его я не знаю), они чокались, оживленно беседуя. Меня встретили галантно и шумно. Белокуров что-то провозглашал, и я поняла, что в данной «ситуации» мне не придется читать бессмертные стихи Пушкина — отдых был в разгаре…
Во всех бригадных поездках нам приходилось изощряться, чтобы не всегда пить до дна, и, надо сказать, мы достаточно наловчились. Иначе хороши бы мы были — ведь угощали нас щедро, от души.
Была уже глубокая ночь, и я поняла, что партнера надо увозить. Ехать домой долго, а утром репетиция. На мои просьбы Володя согласно кивал, а генерал говорил любезности, но было ясно, что расставаться они не намерены.
Подробности ушли из памяти — кажется, довольно решительно я заявила, что время ехать, и пошла переодеваться. Внизу оркестранты укладывали инструменты. Я была уже одета, «штабная» стояла у крыльца. По узкой деревянной лестнице в тесных объятиях спускались генерал и Белокуров. Они уже были на «ты» и «горевали» перед разлукой. Генерал, увидев оркестрантов, вдруг громко приказал: «Слушай мою команду! Играть мне похоронный марш!» Музыканты судорожно выдергивали трубы, и оркестр грянул во всю силу. Это продолжалось очень недолго. Генерал приказал: «Отставить!» Со мной галантно простились. Володя что-то лепетал, и я попросила уложить его на «штабной» диван — его туда «закатили», и он мирно заснул.
Подсаживая меня в машину, кто-то говорил: «Вы уж нас простите». Да и как же можно было не простить этих людей, лишь на несколько дней вырвавшихся из ада войны.
В начале июня 1944 года в Доме актера состоялся вечер памяти Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
Вступительное слово произнес Василий Григорьевич Сахновский. Благодаря стараниям Владимира Ивановича он не только вернулся из ссылки, но и приступил к своим обязанностям в театре. Возможно, кто-нибудь сейчас и помнит этот необыкновенный вечер. Сахновский говорил вдохновенно, взволнованно и очень сильно.
Первой объявили сцену из «Карамазовых»: Алла Константиновна Тарасова и Лидия Михайловна Коренева — Грушенька и Екатерина Ивановна. Потом сцена из первого акта «Иванова» в исполнении Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой — Сарры и Василия Александровича Орлова — доктора. Всю свою благодарную любовь к Учителю вложила Ольга Леонардовна в уста Сарры в «Иванове». Павел Марков, видевший Ольгу Леонардовну еще когда она играла в спектакле, сказал о ней: «В этот вечер страданья ее Сарры, наверное, обрели еще большую глубину и силу». После окончания сцены зал какое-то время молчал, а потом встал и стоя долго аплодировал.
Объявили Василия Ивановича Качалова — разговор Ивана с чертом из «Карамазовых». Больше двадцати минут продолжался этот монолог, и тишина стояла какая-то жуткая, нерушимая. И опять все молча встали, и только потом обрушились аплодисменты. А он стоял бледный и даже не кланялся — наверное, мысли были далеко в прошлом. Василий Иванович ушел со сцены и больше на вызовы не появлялся.
Когда в заключение объявили Москвина — тоже сцены из «Карамазовых» с Алешей — Иваном Кудрявцевым, даже стало как-то страшно за Ивана «Михайловича: как же ему должно быть тяжело завершать этот вечер памяти Учителя и друга. Не преувеличивая, скажу — это было потрясение. Какая же огромная затрата всех душевных и физических сил! И жалок он был, и потом страшен в своем неистовом гневе поруганного человеческого достоинства. Зал долго стоял молча, а потом бушевали аплодисменты и возгласы благодарности. Старая гвардия Художественного театра в тот вечер в последний раз вместе сплела этот венок в память своего великого Учителя.
После окончания был накрыт стол, где-то на верхнем этаже. Я пошла за кулисы к Ольге Леонардовне. Оказалось, что Василий Иванович уже уехал. Она сидела усталая, ждала машину. Когда я предложила ее проводить, Ольга Леонардовна сказала, что сегодня ей лучше побыть одной…
Проводив ее до машины, я поднялась наверх, куда приглашал Нежный — инициатор этого ужина. Там было довольно много народу. Москвин сидел мрачный и односложно и нехотя благодарил, когда ему выражали восторги. Федор Михальский шепнул нам, что Иван Михайлович просил Тарасову не уходить сразу, а остаться на его выступлении, но она уехала.
Сидели довольно долго, и разговор за столом как-то ушел в сторону от темы вечера. Незаметно исчез Михальский. Мы с Раевским вышли на улицу — уже кончалась короткая летняя ночь. Мы увидели выходящего Ивана Михайловича и услышали: «Ребяты, не бросайте меня, я нынче именинник». После секундной паузы Раевский распорядился: «Вы, Иван Михайлович, идите с Николаем потихоньку, а мы побежали!»
Бегать мы тогда еще кое-как умели. Иосиф — за какой-то заветной бутылкой, а я — домой, чтобы хоть как-то организовать стол. Очень скоро явился Иосиф. Я приготовила, что Бог послал, и как раз пришли Москвин с Николаем. «Ребяты, я ведь гость ранний» — значит, до утра.
Иван Михайлович никогда-то много не пил — так, две-три рюмки водки, а потом потягивал сухое вино. А в этот вечер он только отхлебнул, когда мы чокались, поздравляя его с днем Ангела. Коля позвонил Михальскому, и тот скоро прибежал. А потом Иван Михайлович захотел петь. Не помню, с чего началось, но пели много, и все вместе, и дуэтом: Иван Михайлович — первый голос, а я — второй. Он еще раньше учил меня вторить. Пели все его любимое: «Мы вышли в сад», «Дремлют плакучие ивы», «Я тебе ничего не скажу» и самое любимое — «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило…» Время для Москвина было трудным: он расстался с Аллой Тарасовой, которую горячо любил. И в ту ночь эти грустные романсы он пел вдохновенно, прощаясь с чем-то своим, тайным. Без певческого голоса, но как же он умел взволновать нас своим исполнением.
Когда Иосиф и Федор пошли его провожать, было утро, и даже не совсем «раннее».
С какой благодарностью я вспоминаю эти часы!
В сезоне 1944 года вышла премьера спектакля «Последняя жертва». Ставил Хмелев. После кончины Владимира Ивановича он стал главным режиссером, а Иван Михайлович Москвин — руководителем театра.
Юлия Тугина стала одной из лучших ролей Аллы Константиновны Тарасовой, а Флор Федулыч Прибытков — последней ролью Москвина. Остальные исполнители были тоже очень хороши, но эти двое достигли особенной глубины и абсолютной сценической правды. По-человечески Ивану Михайловичу было очень трудно играть его героя в силу тех обстоятельств, о которых я уже говорила. Тем строже и сильнее был его Прибытков.
Николая Ивановича Дорохина снова попросили участвовать в военно-шефской бригаде.
На этот раз произошел такой случай. Дав концерт в одной части, бригада должна была на машинах ехать в соседнюю, поблизости. Но тут прилетел на У-2 посланный от командира летного полка, расположенного довольно далеко. После короткого разговора с командирами было решено, что Дорохин полетит в этот полк и на месте выяснит возможность «непланового» концерта. Лететь надо было минут десять — пятнадцать. «Уточка» оторвалась от земли и поднялась в небо. И вдруг на горизонте возникла черная точка — «мессершмитт». Черная машина стремительно надвигалась на У-2. Началась охота. Только виртуозное мастерство нашего пилота и разные скорости не дали фашисту расстрелять наш самолет. И после нескольких заходов «мессершмитту» пришлось повернуть обратно.
Страшными были эти минуты, но все кончилось благополучно.
Из полка позвонили, что Дорохин прибыл, но обратно ему лететь не разрешили, а участников бригады в штабной машине по «ксилофону» повезли на «незапланированный» концерт. Состоялся он уже поздно вечером.
Когда бригада вернулась в Москву, Николай Иванович мне об этом случае не рассказал. Рассказали его товарищи. На мои упреки он ответил: «А зачем? Все же обошлось! Конечно, было страшно». Каждый раз, когда муж уезжал на фронт с бригадой, а я оставалась в Москве, бывало очень тревожно. Ведь связи с бригадой не могло быть, а случалось всякое.
…В этом Сезоне театром была принята к постановке трагедия Алексея Николаевича Толстого «Трудные годы» (о Иване Грозном), главным образом, для Николая Павловича Хмелева.
Вспоминая те далекие дни, удивляюсь, как могла я пропустить событие, так взволновавшее всех нас в 1943 году, — внезапную женитьбу Хмелева на Ляле Черной.
Она сообщила об этом бывшему своему мужу Яншину в присутствии Николая Павловича Хмелева, будучи в гостях у Раевских. Нам с мужем довелось при этом быть. Одно могу сказать — свидетелям, как и главным действующим лицам, было трудно.
Ляля Черная — известная тогда артистка театра «Ромэн» — была очень красива, имела божественную фигуру, прекрасно танцевала и пела. Она пользовалась огромным успехом.
В самом начале ноября того же года Ляля родила Хмелеву сына. Николай Павлович был самым счастливым человеком. Нас пригласили в квартирку на улице Воровского. — две маленькие комнатки, в одной из которых лежал на кровати человечек в черных баках и с таким же пухом на головке, а в другой — кого только не было: наши актеры, друзья Хмелева, грузины и среди них знаменитый Хорава, в которого поголовно были влюблены все дамы (в Москве тогда гастролировал грузинский театр, Хорава играл Отелло), артисты из театра «Ромэн» с виртуозом-гитаристом Владимиром Поляковым.
В этой шумной тесноте, где говорились тосты и пелись заздравные песни, Лялю упросили танцевать, сгрудившись для этого, как в трамвае. Как же она танцевала! А сын Хмелева Алеша, нескольких дней от роду, спокойно спал под этот веселый пир в его честь. Его знаменитая красавица-мама, оказывается, ушла с ним из родильного дома на следующий день после родов.
Каким же непродолжительным было счастье мужа и отца. Бедный Николай Хмелев!
Кончился 1944 год. Новый, 1945-й встречали у Ольги Леонардовны. За столом — все те же и, как обычно, приходили от Тархановых Калужские и с ними, впервые за много лет, — Иван Михайлович Москвин. Когда он был с Тарасовой, домами не встречались.
В последние годы наши драгоценные «старики» как-то жались друг к другу, были очень ласковы, но без тени сантиментов.
В феврале 1945 года в театре случилась беда — скоропостижно скончался Василий Григорьевич Сахновский. С осени 1941 года ему выпало пережить очень много тяжелого, трагического. Владимир Иванович отвоевал его у «бдительных стражей правопорядка». По возвращении в театр Сахновский очень много работал. Я уже писала, что, несмотря на большую занятость и трудный быт, мы довольно часто собирались друг у друга. Василий Григорьевич с женой Зинаидой Клавдиевной тоже бывали у нас. Он сильно постарел, но даже о самом страшном говорил, не жалуясь, а с горьким юмором. Я очень горевала о Василии Григорьевиче, мне в театре от него было много доброго.
…Шли репетиции трагедии Толстого «Трудные годы». Ставил Алексей Дмитриевич Попов, помогала ему Мария Иосифовна Кнебель. Хмелев был завален работой — спектакли, где он участвовал как актер, режиссерские работы, выпуск новых спектаклей. Роль Грозного требовала больших затрат, почти ежедневных репетиций.
Как-то я зашла к Ольге Сергеевне Бокшанской в ее «предбанник», а рядом в кабинете репетировал Алексей Дмитриевич Попов. Слышны были голоса актеров. Дверь открылась, и вышел Николай Павлович. На что-то стал тихонько жаловаться. Я спросила, интересно ли работать с Поповым. Николай Павлович как-то отмахнулся и сказал тихо: «Не по-нашему». И стал рассказывать, какой необыкновенный сын Алешка и что только с ним ему очень хорошо. Но такое настроение было у Хмелева поначалу. Уже через какое-то время он глубоко погрузился в эту сложнейшую роль.
…У Ольги Леонардовны редко собирались по нескольку человек. Во время войны она жила замкнуто. У многих из нас, близко знавших Ольгу Леонардовну, было впечатление, что наши верховные власти относятся к Книппер-Чеховой сухо, если не предвзято. Ее перестали приглашать на правительственные приемы, которые хотя и реже, чем до войны, но бывали, особенно в 1944 году. Очень редкими были концерты с ее участием и совсем не было приглашений на радио. Ее это угнетало, ранило самолюбие. Но Ольга Леонардовна, человек сильной воли, прятала все глубоко в себе. Вот только когда к ней обращались с просьбами о помощи, она отказывала. Люди обижались, а она говорила: «Я же только помешаю».
Помню, собрались как-то у Барыни Лев Книппер, Василий Орлов, Федор Михальский, Рихтер с Ниной Дорлиак и я (муж был на фронте). Ольга Леонардовна сказала что-то вроде: «Если бы мое пианино не было бы в таком плачевном состоянии, я бы попросила вас, Слава…» Рихтер тут же сел к инструменту и с присущей ему деликатностью стал доказывать, что, мол, все хорошо. Что он тогда стал играть, не помню, но когда дошло до форте — с грохотом выпали педали. Рихтер сидел смущенный, даже испуганный. Ольга Леонардовна говорила, что пианино такое же старое и разбитое, как и она. Лева Книппер стал прилаживать педали, и вскоре все было готово. Святослав Теофилович снова начал играть, но очень скоро педали опять обрушились. Тут уж на всех напал смех, а уникальный пианист смущенно говорил, что он совсем не сильно нажимал на педали. Музицирование пришлось прекратить.
Детская непосредственность, необыкновенная скромность и какое-то жадное восприятие всего, что было ему интересно, простота поведения, отличающая людей, подлинно воспитанных, и необыкновенная доброжелательность — вот что покоряло в общении с Рихтером, кроме редчайшего дара проникновения в самую глубину произведения и виртуозности исполнения.
Ольга Леонардовна очень горячо и нежно относилась к обоим Рихтерам.
…По-прежнему бывал у нас Александр Александрович Фадеев. Он заметно изменился — голова стала совсем серебряной.
Кроме частых поездок на фронт, он был очень занят своим первым — правдивым — вариантом «Молодой гвардии», рассказывал о том, как собирал материал и что довелось ему узнать о трагической судьбе отважных молодогвардейцев. Иногда с грустью говорил о своем любимом «Последнем из Удэгэ»: «Наверно, так и не допишу…» Был он грустен, что-то очень угнетало его.
…Примерно в это же время Бокшанская по секрету сообщила мне, что на «Курантах» был Поскребышев и благосклонно отзывался обо мне, и посоветовала послать на его имя просьбу об отце и даже помогла мне составить текст.
Прошло совсем мало времени, и моя мама «приняла телефонограмму» (так ей сказали): в такой-то день и час мне надлежит явиться за пропуском в прокуратуру.
Когда я пришла и сообщила текст этой телефонограммы, на меня изумленно посмотрели и строго спросили: «Вы соображаете, к кому просите пропуск?» Я ответила, что ничего не знаю — так было продиктовано.
Стали туда звонить, мне приказано было ждать. Через какое-то время пришел военный, у меня взяли паспорт, взамен дали пропуск и повели. Это было в здании Прокуратуры Союза.
Наконец привели в кабинет, где сидела весьма надменная дама, и меня сдали ей. Мой «конвоир» ушел. Она мне приказала: «Ждите». Сесть не предложила и удалилась за обитую кожей дверь. Вернувшись, молча указала на эту дверь, не закрывая ее. За ней оказалась другая дверь. И я вошла.
Большой кабинет, обшитый деревянными панелями. Далеко от двери — роскошный письменный стол, а в кресле человек в генеральском мундире. Ни кивка, ни слова. Я остановилась у двери. Пауза, потом я услышала презрительный, надменный голос: «Ты долго будешь писать?» Я обомлела, но все-таки севшим голосом сказала: «Пока не узнаю, жив ли мой отец!» — «Конечно, жив. Все!
Вон!»
Больше он не дал мне рта раскрыть, и я вернулась к надменной даме. Она сказала что-то в трубку, я стоя дождалась появления «конвоира». В обмен на пропуск мне вернули паспорт — и то хорошо.
Я плохо помню, как шла домой. Я поняла, что дальше мне некуда. Лицо этого генерала я хорошо запомнила, а вот фамилию не помню. Тогда много было таких. Больше до 1955 года я никуда не обращалась.
Приближалась победная весна. В Москве гремели салюты.
Я помню, как по Садовому кольцу (я стояла на углу против теперешнего зала Чайковского) шла колонна пленных. В первом ряду Паулюс, а за ним много генералов. Бесконечен был этот «парад» позора побежденных, а за ними поливальные машины смывали и самый их след.
Москвичи стояли плотной толпой на тротуарах, и было какое-то величавое и грозное молчание — даже не плакали осиротевшие. Наверное, от этого было еще страшнее этим жалким обшарпанным подобиям бывших завоевателей…
… Анастасия Платоновна Зуева и Николай Иванович Дорохин в апреле 1945 года, после премьеры «Офицеров флота», отправились в свою одиннадцатую поездку с фронтовой бригадой. Она была сборной: певцы и музыканты, артисты балета Большого театра, лучшие солисты филармонии. Ехали они поездом через границу до Германии, поездка была длительной.
Через какое-то время Ольге Леонардовне позвонил военный и сказал, что привез из Берлина
письмо на ее имя с резолюцией Берзарина отдать в руки. Ольга Леонардовна и Софа решили, что это письмо от Николая ко мне, для верности — на имя Книппер-Чеховой. Все как будто совпадало, с Берзариным мы были знакомы. За письмом надо было ехать куда-то в район Бутырок. Я нашла дом и квартиру, но хозяина не оказалось. Открыла мне женщина, предложила подождать, но в квартиру не пригласила. Я ждала на улице. Через какое-то время показался военный, и я спросила его фамилию. Он попросил у меня документ. Я показала свой пропуск в театр с моим фото, и тогда он вынес мне большой плотный конверт, где крупным,
чужим почерком было написано: «Ольге Книппер-Чеховой».
Не заходя домой, я понесла письмо к Ольге Леонардовне. Вскрыв конверт, она брезгливо отбросила его со словами: «Это не мне». Тут уж мы с Софой взялись за письмо. Оно начиналось так: «Дорогая мамочка, ты так внезапно уехала…» и всякие вопросы — не нужно ли выслать что-то из гардероба, какие-то домашние новости. Письмо было написано карандашом на нескольких листках. А в конце приписка: «Если увидишь тетю Олю, поцелуй ее». Когда чтение кончилось, Барыня сердито сказала: «Я всегда знала, что она авантюристка».
Письмо было адресовано ее родной племяннице — Ольге Книппер-Чеховой, уехавшей из Москвы в Германию в 1922 году с маленькой дочкой после развода с Михаилом Александровичем Чеховым (Михаил Чехов был родным племянником Антона Павловича). Ольга Константиновна Книппер-Чехова была женщина редкой красоты. В Германии она стала знаменитой звездой кино, вращалась в самых верхах и была хорошо знакома с Гитлером.
Ольга Леонардовна была оскорблена и очень встревожена, а главное, не знала, что делать с письмом. Мы решили позвать Игоря Нежного и с глазу на глаз отдать ему это письмо в руки, объяснив, как оно было получено. И действительно, на следующий день Барыня рассказала, что Нежный ее успокоил и взял письмо.
Через короткое время к Ольге Леонардовне опять стали благосклонны, и в честь Победы на особо торжественный прием от театра были приглашены Книппер-Чехова и Хмелев.
Поездка последней фронтовой бригады была напряженной, но радостной. Концерты давали во многих городах Германии, где были наши военные гарнизоны. Направление их было «На Берлин», как произносили фронтовики.
Часть V
1945–1953 годы
Второе мая, 11 часов вечера. По радио объявили о взятии нашими войсками Берлина. А девятого мая поздно, почти ночью, голос Левитана сообщил о безоговорочной капитуляции Германии и о конце войны.
Случилось так, что я была одна и, конечно, не обошлось без слез, когда из открытых освещенных окон понеслись радостные крики и улицы мгновенно заполнились ликующими москвичами. Зазвонил телефон, и голос Хмелева, смеясь и плача, говорил мне прекрасные слова. Верный друг, он в эту минуту вспомнил, что я одна, утешал меня и поздравлял. Как же я была благодарна! Потом я стала звонить маме, она все повторяла: «Наконец-то». Но я чувствовала, что ей очень трудно. А тут еще отчаянный крик и рыдания матери Надежды Кемарской (ее квартира была под нашей) — брат ее был убит второго мая.
Наши вернулись уже после Парада Победы. Сколько было рассказов о Берлине, о встрече с Берзариным — первым комендантом Берлина, нашим другом еще по Дальнему Востоку, о том, как в пути узнали о конце войны. Побывали они и в рейхстаге, где муж вывернул сохранившуюся в кабинете Гитлера электрическую лампочку для того, чтобы ввинтить ее в уборной нашей квартиры (она, проклятая, не перегорала чуть ли не 20 лет). Были они и в ставке маршала Жукова, и Анастасия Платоновна даже плясала с Георгием Константиновичем «барыню».
В театре военно-шефская работа после Победы была еще более напряженной. Теперь в ней участвовала почти вся труппа, так как концерты давались в Москве.
В начале лета, кажется, в день своего Ангела, нас с мужем пригласил к себе Иван Михайлович Москвин. Я не знаю, кто бывал в его доме раньше. В этот вечер были Калужские, Израйлевский без жены, Раевский с женой, Иван Семенович Козловский, Святослав Кнушевицкий с женой Наталией Шпиллер, Давид Ойстрах, Лев Оборин, мы и, конечно, Федор Михальский.
Я в этот вечер была занята в спектакле и не попала к назначенному часу, а эти прекрасные музыканты играли трио Чайковского «Памяти великого артиста». Конец этого гениального концерта я слущала за дверью на лестничной площадке.
В большой комнате — старинная мебель красного дерева, рояль, несколько картин — подлинных, но, кажется, ни одного портрета хозяина, красиво сервированный стол, цветы. Я помню, что меня поразили изысканность и строгость обстановки. После вкусного ужина за столом сидели долго. Иван Михайлович был радушно ласков, часто возвращался к только что услышанной музыке, говорил о силе ее воздействия на него.
Случился в тот вечер и курьез. Борис Львович Израйлевский сказал хозяину, что должен торопиться домой к больной жене (жил он где-то поблизости) и ушел. Через короткое время он буквально влетел обратно с криком: «Ваня! Она умерла, она не открывает!» Иван Михайлович, пряча улыбку, обратился к Раевскому и к Николаю: «Ребяты, проводите его, может, не так страшно». Прошло совсем немного времени, и наши мужчины вернулись, рассказав, что дверь жена открыла сразу, а до этого крепко спала — не слыхала. Посмеялись.
Было уже поздно. Остались самые стойкие. Шпиллер увела Кнушевицкого и Ойстраха, ушла Лизочка, был уведен Ольгой Бокшанской ее муж — Калужский, а хозяин только начинал входить во вкус, ему хотелось продолжать вечер.
Уж не помню, какими словами он заманил Ивана Семеновича Козловского петь Заутреню. Оборину было велено «делать колокола», а мне сказано: «Ты мычи на вторе, слов-то ведь не знаешь путем!»
И из окон квартиры Москвина понеслось: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…» И дальше, и все сильней. А Оборин не только руками, а и локтями, «делал» колокольный звон. И когда по знаку Ивана Михайловича закончили, было видно, что он доволен. Потом солировал Козловский, а Иван Михайлович так деликатно ему: «Ты только не кричи голосом».
Довольно долго слушали украинские песни — очень хорошо их пел Иван Семенович Козловский. И тут совсем неожиданно: «А теперь послушай ты». Коля взял гитару, Иван Михайлович пошептал что-то Оборину, и тихонько зазвучало его любимое — «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило…»
Я очень старалась не испортить втору, не огорчить Ивана Михайловича. Всю свою тоску он вложил в этот дуэт, и мы знали, о ком.
Иван Семенович слушал со слезой и просил спеть еще раз. Спели. Было уже утро, и мы стали прощаться. Этот вечер был как драгоценный подарок от уникального артиста и человека, тогда уже несчастного и больного.
…11 июня был объявлен большой концерт. Мы с Боголюбовым должны были быть в первом отделении, но нас попросила Гошева уступить ей очередь, и поэтому мы ехали на американском «виллисе» последним рейсом. С нами был еще артист Курочкин.
Еще на Гоголевском бульваре мне показалось, что машина сильно превышает скорость, я попросила ехать медленней. В ответ начались шутки о моей трусости, особенно усердствовал сопровождающий нас молоденький военный. Машина была открытой, Николай Курочкин сидел с водителем, а мы с Боголюбовым и сопровождающий — сзади. Когда приближались к Крымской площади, я сказала Боголюбову, чтобы он держал меня или пусть остановят машину. Коля смеялся, обхватив меня поперек живота своей могучей ручищей (Ливанов называл его «кусок рельсы»). Мы продолжали мчаться. Я сидела, закрыв глаза. На какие-то секунды машина остановилась и опять рванула вперед. Я услышала дружный вопль толпы, и… мы с Боголюбовым взлетели. Он спас мне жизнь, не выпустив из своей могучей правой, а левой самортизировал о борт. И мы полетели не прямо в лоб трамвая, а направо, через груженую полуторку.
Когда я оказалась на асфальте, боли не было, и чтобы встать, решила опереться на машину, но оглянувшись, увидела, что она очень далеко, а Боголюбов в метрах десяти от меня пытается подняться. Курочкина нигде не было. Тут я наконец увидела свои ноги: из правой бил довольно высокий красный фонтанчик, а левая нога была очень сильно ободрана, и никакого намека на чулки и туфли.
Мы были, как на большой арене, окружены толпой, гудевшей на разные голоса. Любопытно — Боголюбов, кумир кино, и вдруг такая ситуация! А «кумир» испуганно кричал кому-то: «Туфли отдайте — стыдно!» И мои концертные туфли поставили на «арену». Я увидела, что моя сумка, в которой было много нужных мелочей, — пуста, и тоже постаралась сказать громко: «Портсигар брата, он деревянный!» Портсигар тоже положили. Кто-то из толпы попытался остановить какую-нибудь машину, но все ехали мимо. Боголюбов, с трудом передвигаясь, приблизился ко мне и, увидев мои ноги, что-то тихонько «проскулил», и ему стало дурно.
В это время, раздвинув толпу, к нам подошел офицер-лейтенант и, поднимая меня на руки, сказал: «Я отвезу». И Коле: «До машины дойдете?» Машина оказалась трофейная, красная, очень нарядная внутри. Я слабо запротестовала, что испачкаю. «Глупости, молчите». И стал класть меня на сиденье. Туфли и портсигар кто-то услужливо положил на колени Боголюбову. «А где наш Курочкин?» Оказывается, его и водителя увезла «скорая», а мы и не видели, к нам даже не подошли.
Наш спаситель что-то строго сказал, толпа расступилась, и мы поехали. Я продолжала орошать кровью салон нарядной машины.
Привез он нас в Теплый переулок к стоматологическому институту. Стал звонить, вышла санитарка и отрезала: «Тут не “Скорая”», — пытаясь закрыть дверь. Тут наш спаситель заговорил такими словами и так громко требовал начальство, что оно немедленно появилось. Узнали Боголюбова, увидели, в каком я виде. В это время, узнав у Коли телефон дирекции нашего театра, летчик кратко проинформировал кого-то и, сказав нам: «Поправляйтесь», — исчез. Мы даже не узнали его фамилии.
В приемном покое, кроме нас, никого не было — одна сердитая санитарка. Кровь из моей правой ноги стекала помаленьку на пол, и что-то сердито ворча, она поставила таз, но сочувствия не проявила. Около меня сидел Боголюбов и опасливо смотрел на свою левую руку, она распухала на глазах.
Санитарка куда-то вышла, но вскоре снова появилась и обратилась ко мне: «Вставай, тебе в операционную». Боголюбов, цыкнув на нее, поднял меня одной правой, а я уцепилась за его шею, и он, сильно хромая, пошел, а у дверей заорал: «Показывай, куда нести!» Тут уж и она струхнула.
Грязные (перед «полетом» шел дождь), вымазанные кровью, мы явились в стерильную операционную. Врачи стали что-то говорить Коле, а он им: «Никуда я не уйду». И мне: «На, покури». И сунул свою папиросу мне в рот. Все это время он непрерывно курил.
О моих ногах лучше не рассказывать. В правую, которую надо было зашивать, стали что-то колоть, потом, сказав: «А теперь надо потерпеть», — облили левую, ободранную, йодом. Я стала корчиться и на какие-то минуты потеряла сознание, хотя до того воспринимала все очень ясно. Что и сколько времени они делали с моей ногой, я не поняла — очень было больно. Верный друг Боголюбов прижимал меня к столу, заслоняя собой, чтобы я не видела, что делают врачи. Они так и не смогли от него избавиться. Потом ему перевязали руку и осмотрели колени — он их сильно расшиб.
Назад в приемный покой меня везли на каталке, под охраной Боголюбова. У меня были забинтованы ноги, плечо и рука до локтя. Каким чудом мы не переломали кости — не понять.
В приемном покое нас встретили директор театра Месхетели и Михальский. Они были растеряны — уж очень вид у нас был плачевный. Порванные и перепачканные кровью костюмы. Я думала, что у меня что-то с затылком, а оказалось, что моя шляпа из рисовой соломки сбилась в колючий комок и давила (шляпы тогда носили на резинках, под прическу).
Врачи вышли провожать. Это было воскресенье, и пациентов не было, только дежурный персонал. Месхетели и Михальский о чем-то их тихонько спрашивали, и я услышала: «Чудеса! Пройдет, Только нога посерьезней. Все время лед». Они даже любезно предложили меня оставить, но тут уж я запротестовала — домой!
В машине Месхетели сидел с водителем, а я лежала на коленях у Михальского и Боголюбова. Его отвезли первым, а потом меня.
Подъезжая к дому, я увидела спину моей мамы. Был уже вечер, и она, ничего не зная, уходила к себе. Мы сидели в машине, пока она не скрылась за углом. У подъезда стояли муж и Раевский. Дорохин сказал что-то резкое директору, тот молчал. Меня осторожно стали вынимать из машины — уже накатывала боль. Дома платье пришлось разрезать, очень болело плечо. Устроив меня в подушках на диване около телефона, Михальский и муж ушли добывать лед — холодильников тогда не было.
По телефону у меня справились, верно ли, что Пилявская с лицевым ранением в тяжелом состоянии в больнице. Это звонила Екатерина Ивановна, будущая жена Прудкина. Когда я заверила ее, что жива и не так все страшно, то услышала много добрых слов.
Пропуская подробности, скажу, что лежать мне пришлось долго. Ногу мою распарывали, чистили и опять зашивали.
Бедного водителя «виллиса» через 4 месяца судили. В этой катастрофе он был очень тяжело ранен, и я, взяв грех на душу, сказала на суде, что он был абсолютно трезв. А молоденький «храбрец», наш сопровождающий, даже и не был судим, на суде отсутствовал, хотя причиной беды был именно он, изрядно выпивший.
Курочкин пролежал в больнице полгода.
… В том году летом в «Пестово» театр предоставлял комнаты, но без питания. Нам с мужем дали комнату Ивана Михайловича Москвина (по его распоряжению), так как он в то лето жил со старшим сыном где-то под Москвой. Это была замечательная комната на втором этаже старого барского дома. С нами была наша Елена Григорьевна с примусом и продуктами.
Друзья настояли на праздновании моего «второго» дня рождения и десятилетия нашего брака (с опозданием на год). Пароходом из Москвы прибыли Михальский, Конский и Раевский, перевязанные полотенцами, со съедобными дарами. Стол накрыли в общей гостиной. Были Грибовы, Калужские, суфлер Алексей Иванович Поляков с супругой, бывшей каскадной из провинциальной оперетты, очень представительной полной дамой.
Поляков, помогая мужу откупоривать бутылки, напробовался, а у него в подогретом состоянии была слабость к частушкам рискованного содержания, и он запел. Наши мужчины кисли от смеха, а его супруга, всплескивая пухлыми ручками, умоляла: «Алексей Иванович, войдите в себя, вы в обществе!» Но он «в себя не вошел», и за стол сели без них. В тот вечер было особенно дружно и весело.
Приезжал как-то в «Пестово» и Николай Павлович Хмелев с Лялей. Он зашел к нам, а Ляля сразу пошла к маме и сестре Яншина.
Как-то Алексей Николаевич Грибов попросил у меня фронтовой бинокль — зачем-то он ему был нужен. После обеда пришел со словами: «Соня, я его потерял!» Сердиться было невозможно, такой растерянный и огорченный был у него вид. Мы стали спрашивать, где он мог его забыть, наверно, на рыбалке. Они с мужем и еще несколько наших пошли искать — я была еще не ходок. Искали долго и нашли. Оказывается, он его старательно укрыл лопухами от ребятишек и, увлеченный рыбалкой, забыл и пришел каяться. «Жив твой летчик!» — еще издали кричали они хором.
…В «Пестово» жили Дмитриевы всей семьей. Маленькая Анька уже тогда училась Играть в теннис у Всеволода Вербицкого — он до войны был «первой ракеткой» Москвы. И вот — парад пестовских теннисистов и последней вышагивает Аня с детской ракеткой на плече.
Как-то в дождливый день сидели на верхнем крытом балконе, кто с книгой, кто с рукоделием. Пришел Владимир Владимирович Дмитриев, он тогда готовил эскизы к «Борису Годунову» и в этот день собирался писать сцену «У фонтана». Он привык и даже любил работать на людях, а мы стали делать ему шуточные заказы, что хотелось бы каждому увидеть на эскизе.
Мы были изумлены, когда увидели результат: на эскизе было все из нашей болтовни, но в какой гармонии, с какой глубиной и любовью к природе, как красив был этот парк с фонтаном и видневшимся вдалеке дворцом Мнишков!
…В осень 1945 года особенно часто принимали нас у себя необыкновенно радушные, хлебосольные Тархановы.
У них теперь всегда бывал Иван Михайлович Москвин, бывали Калужские, Ливановы, Василий Орлов, чаще без жены — Марии Николаевны Овчинниковой, и мы.
Михаил Михайлович, сидя во главе стола, всегда сам оделял всех каким-нибудь уникальным для тех дней блюдом. Он вел стол по-московски широко, ласково и весело. Добрее Елизаветы Феофановны трудно было найти человека, но ее привычка одаривать гостей заставляла опасаться, как бы она не разорила дом. В такие вечера сына Ваню — ныне маститого профессора Школы-студии МХАТа и моего коллегу — отправляли на дачу.
Сколько интересного о прошлом провинциальных театров, сколько невероятных историй было рассказано, и какими мастерами! Бывало — пели. Знаменитый трактирно-шуточный хор под управлением Москвина — этого словами не расскажешь.
…В ту осень я была много занята в спектаклях. И случилось так, что на сцене мне не довелось видеть рабочие репетиции «Грозного» («Трудные годы») и как Хмелев строил свою роль. Я могла только догадываться. В ту пору мы встречались с ним редко, уж очень он был занят.
Наверное, это было в октябре. Я встретила Николая Павловича на улице. Он шел из театра, а я — на какой-то концерт. Мне показалось, что у него воспаленное лицо, хотя было довольно прохладно, и я спросила его о самочувствии. Иногда у него бывал по-детски обиженный тон: «А чего ты хочешь? У меня — двести давление». Тогда я не очень в этом разбиралась, но поняла, что высокое, а он продолжал: «Вот врачи велят не курить, не есть мясные супы, советуют лежать! А спектакль?» И почти со слезой и сердито: «Попробуй не курить, когда прогоны скоро!» Смысл я передаю точно. Еще что-то он сказал о своих руках, на что-то пожаловался, но я боюсь быть неточной. Что греха таить, — все мы, друзья (а о других и говорить нечего), посмеивались над ним из-за его иногда капризного тона и жалоб по пустякам. Он был обидчив. О серьезности его болезни по-настоящему не задумывались.
Во время той роковой «адовой» репетиции я в театре не была. Муж плохо себя чувствовал. Позвонила Ольга Бокшанская, и я поняла, что она «не в себе». Ничего не подозревая, я спросила, что с ней. «Коле Хмелеву плохо». Я стала спрашивать, а в ответ: «Дело идет о спасении жизни». Муж все понял по моему лицу, и мы тут же пошли в театр.
Из кабинета у директорской ложи (оттуда был ход в бутафорскую) уже вынесли вещи, освободив место для кровати из какого-то спектакля. На кровати лежал Николай Хмелев, еще теплый, не остывший, а на столике рядом — чашка с черной кровью. Когда мы вошли, там был только Прудкин, он стоял в ногах кровати.
Марк Исаакович стал рассказывать, как Николай Павлович перешагнул через рампу и как бы оступился, его подхватили и посадили в кресло первого ряда у среднего прохода. Был он в сознании, говорил, что встанет и пойдет на сцену — он был в тяжелом костюме и в гриме. По каким-то признакам поняли: речь стала затрудненной. Тревогу старались прятать, чтобы не испугать его. Иверов, только взглянув, быстро вышел, потом вернулся с каким-то питьем, а в «кремлевку» уже сообщили о трагических симптомах.
Когда Николай Павлович пил лекарство, часть пролилась — рот «повело». К этому времени рядом был Прудкин, на испуганные вопросы больного отвечал спокойно, приводил примеры, звал в свидетели Вадима Шверубовича. Шверубович вернулся в начале октября 1945 года. После того как Германия была разделена на советский и американский секторы, Василий Иванович долго разыскивал сына, обращаясь в высшие инстанции. Ему помогал Иван Михайлович Москвин, и вот, к общей радости, Вадим нашелся. Он был в плену и, как все пленные, проходил «профилактику».
Вскоре я встретила Нину Николаевну, помню ее сияющие глаза и впервые за все эти годы звонкий голос: «И ваши вернутся, вы только верьте, верьте!» Но увы!
Когда я увидела в театре худого, постаревшего Вадима, мы с ним долго обнимались, стоя на лестнице, не обошлось у обоих без слез.
Роковой день генеральной «Грозного» был первым днем, когда Вадим официально приступил к работе в театре. Стали уговаривать Николая Павловича лечь на кушетку, ее принесли из кабинета и поставили в проходе. Он долго не соглашался, но у него уже немела левая сторона. Наконец он согласился лечь. А вскоре Шверубович, Готих, Леонид Попов, Фалеев — главный гример, и портной Трунков перенесли Хмелева в кабинет и положили на приготовленную кровать.
Доктор Иверов вскрыл локтевую вену и, не дожидаясь консилиума, выпустил стакан крови. Но сознание уже оставило Хмелева. До этого он еще слабо протестовал, когда Фалеев снимал усы и бороду, а Илья Алексеевич Трунков стаскивал бархатные сапоги. Николай Павлович с трудом спросил, почему не сняли сапог с левой ноги, а она уже была парализована. Еще он сказал Прудкину: «Я умру». Скорее утвердительно, а не вопросом. Нашли Лялю, она прибежала и все трясла его, «будила»: «Николка, вставай!» Ее увели, и до панихиды мы Лялю не видели.
Приехали из «Кремлевки». Профессура констатировала — спасти нельзя.
Приближалось время вечернего спектакля. Шли «Мертвые души». Публика громко и весело стала наполнять театр, а за кулисами и здесь говорили шепотом. Было решено скрыть от зрителей катастрофу. Участники спектакля уже все знали, скрыли только от Лидии Михайловны Кореневой.
Уже шел спектакль, когда из дома Хмелева прибежали Катуся — жена брата Ляли, и работница Нюша, обожавшая Николая Павловича. Мне пришлось затыкать ей рот полотенцем, чтобы не услышали из публики.
Со сцены звучала веселая музыка «вечеринки», а сюда, в этот маленький кабинет с окном во двор театра, приходили потихоньку плакать актеры.
Когда загремела музыка «на бале у губернатора», стало совсем невыносимо. В зале смеялись, а на сцене, танцуя «галопад», плакали, и Лидия Михайловна все недоумевала — о чем? После конца ее картины ей сказали, и она все шептала: «А мне не сказали, пожалели».
Увозили его после того, как разошлась публика. Выносили через запасный ход во двор, где толпой стояли все из обоих наших театров, прощаясь с нашим молодым руководителем — ведь ему было 44 года.
Когда совсем поздно шли большой группой домой, услышали из окон дома, где теперь его мемориальная доска, трагическое пение цыган — они его очень почитали. А второго ноября, на следующий день, сыну его Алеше исполнилось два года.
Панихида, похороны сливаются в один тоскливо-безысходный длинный день, когда возникал суеверный страх, потому что Москвин был в больнице.
На девятый день Ляля позвала на поминки. Из наших были Калужские, Дмитриевы, Раевские, наш директор Месхетели и мы с мужем. Из театра «Ромэн» — два-три человека.
Ляля была тихой и все куталась в пуховый платок. Двухлетний Алеша уже лепетал, и часто слышалось: «Папа, папа». От этого было еще тоскливее.
Когда мы с Ольгой Бокшанской стали говорить Ляле какие-то слова утешения, она, сверкнув своими прекрасными глазами, вдруг сказала мне: «Вот когда умрет ваш муж, тогда поймете!» Хорошо, что нас не слышали остальные. Мне стало жутко.
…Вскоре после войны мы ездили с нашей концертной группой в Горький. Как-то раз, когда я была одна в номере гостиницы, постучав, вошел пожилой человек. И от одного взгляда на него меня охватила паника — это был пожилой Николай Хмелев! (Хотя я знала, что отец Николая Павловича умер.)
Сдерживая волнение, он сказал, что пришел ко мне за рассказом о последних днях и часах Хмелева. Этот человек ничего не говорил о себе, но его внешность, походка, руки, манера говорить, его фигура поражали сходством, а его волнение по мере моего рассказа все увеличивалось. Он бледнел, и руки его дрожали точно так же, как бывало у Хмелева.
Пробыл он около часа, уходя, говорил слова благодарности, и я поняла, что о его посещении не следует рассказывать. Я уверена, именно этот человек был настоящим отцом Коли Хмелева. Поделилась я только с мужем.
Летом 1945 года Ольга Леонардовна и Софья Ивановна поехали в Ялту к Марии Павловне в чеховский дом. Я занималась укладкой, главным образом, продуктов — всяких, какие только удалось раздобыть в нашем ОРСе с помощью Игоря Владимировича Нежного: в Ялте было еще голодно после воины.
Багаж обеих дам был довольно солидным. Провожали Михальский с «адъютантом», Владимир Владимирович Дмитриев, Лев Книппер и мы с мужем.
Жить в то лето Ольга Леонардовна могла только в Ялте, так как в ее любимом Гурзуфе все в домике было разорено, только в комнате Ольги Леонардовны осталась старая мебель, очевидно, за ненадобностью. Верные ее слуги (так они себя называли) — Капитолина Николаевна и Роман Корнеевич — каким-то образом сумели убедить «этих мадьяр» не трогать мебель, но вещи из других двух комнат были «реквизированы», а также вся посуда, постельное и столовое белье, подушки, одеяла и т. п. В этот обжитой, аккуратно прибранный домик с накрытым на террасе столом Ольга Леонардовна каждое лето приезжала в отпуск. Теперь же там было так же чисто, но пусто.
По приказу ялтинского начальства для гурзуфского домика выделили три больничных кровати с подушками, два или три стола разных габаритов, одну тумбочку к кроватям, стулья — деревянные и летние плетеные, и даже два таких же кресла, а также парусину для террасы, чтобы отделить кухню от жилой части. Всем занималась Софа. Ей, бедной, пришлось приобретать и какую-нибудь посуду для кухни и столовой — все унесли.
Поэтому в 1945 году Ольге Леонардовне не пришлось жить в ее любимом Гурзуфе, «за синей калиткой», да и нельзя было оставить Марию Павловну после такой долгой разлуки. В старости они любили друг друга нежно, за время войны настрадались от неизвестности и страхов друг за друга, и если Мария Павловна по старшинству, как она говорила, иногда жаловалась на болезни, одиночество и огромное количество дел и ответственности за них, то Ольга Леонардовна всегда делала вид, что здорова. Все сложности, выпадавшие на ее долю еще в молодости в театре, она прятала глубоко в себя и никогда не унижала своего достоинства выяснением — почему?
А ведь несколько раз в жизни она была смертельно больна! И в то время, когда я стала «своей» в ее доме, как тяжело болела воспалением легких. Но тогда золотая моя Барыня еще умела крепиться, а с конца сороковых и начала пятидесятых это удавалось ей все меньше, хоть она и старалась очень.
Встреча Марии Павловны и Ольги Леонардовны в 1945 году летом, по рассказам «музейных» и Софы, была такой: как завиднелась у ограды группа людей и тщедушная фигурка с огромным букетом впереди, Ольга Леонардовна попросила остановить машину и почти побежала. Мария Павловна тоже старалась спешить навстречу. Букет упал, а они стояли обнявшись. О чем они смеялись, о чем плакали, шепча друг другу, неизвестно — никто не посмел приблизиться, не посмел им мешать.
Потом были приветствия всего музейного персонала, объятия с Софой и все то, что бывало каждое лето на встрече Ольги Леонардовны. Пишу так, потому что с 1946 года много раз бывала свидетельницей этому. К сожалению, не сохранилось письмо Ольги Леонардовны ко мне о ее приезде в то лето в Ялту.
А в театре с осени начались интенсивные репетиции «Идеального мужа». Ольга Леонардовна, по возвращении из Ялты, почти ежедневно была занята в этих репетициях в роли леди Маргби. Как легко в первом действии она спускалась с высокой лестницы, не глядя под ноги, как непередаваемо прелестно вела диалог с Андровской, Степановой и Ершовым!
Хороший был спектакль, изящный, остроумный. Зрители полюбили его: после мучительных, трудных лет войны всем хотелось хоть на короткое время отвлечься от горестей и забот.
…Помню, как осенью этого же года вернулся после разгрома японцев на Дальнем Востоке наш друг — хирург Александр Александрович Вишневский. Ведь его сразу из Германии направили на этот фронт.
Он пришел к нам, мы сидели за ужином и слушали его рассказы о пережитом. Я часто выходила за чем-нибудь из-за стола, и вдруг, прервав свой рассказ, Александр Александрович совсем другим тоном обратился ко мне: «Встаньте, пройдите, сядьте, встаньте…» Я послушно все исполняла (а надо сказать, что через три-четыре месяца после нашего «полета» я, вставая, не сразу могла идти нормально, а чуть прихрамывала — ощущалась боль в бедре). Наш друг внимательно осмотрел меня, а потом на высоких нотах обратился к мужу: «Ты что, хочешь, чтобы она у тебя совсем охромела? Что тут у вас происходит?» Мы ему рассказали.
В результате я оказалась в Институте Вишневского, где в течение шести недель мне делали несколько раз блокаду, мазевые компрессы и гипсовали ногу до бедра. Раз в неделю меня приводили в нормальный вид и привозили в театр — играть «Последние дни», а потом снова «на стол и в койку». Летом мне было рекомендовано прогревать бедро на южном солнце.
До самого своего конца Вишневский опекал меня, лечил мои легкие, ногу. Великая ему благодарность. Он лечил не только нас, но и очень многих деятелей культуры — артистов, писателей, ученых, следил за их здоровьем годами. Он как будто берег их, хотя никто ему этого не приказывал. Очевидно, таковы были его убеждения, а мы можем только поклониться ему до земли.
Новый, 1946 год встречали у Ольги Леонардовны все в том же составе. Кажется, были и Рихтеры. Так же спускались гости от Тархановых, только Качаловы встречали у себя с сыном и его женой Лелей Дмитраш. А мы ходили поздравлять Елизавету Феофановну и всех, кто оставался на пятом этаже. Вот только на третий этаж уже не к кому было спускаться…
Пришел и Иван Михайлович Москвин, постаревший, видимо, преодолевающий болезнь. Человек огромной силы воли и духа, он до последней возможности был на ногах, не бросал театр. Теперь, после гибели Хмелева и смерти Василия Григорьевича Сахновского всей своей тяжестью театр лежал на его плечах. Но очень скоро Иван Михайлович опять попал в больницу. Сообщения врачей были неутешительны, болезнь прогрессировала — ведь Ивану Михайловичу много лет тому назад сделали тяжелую операцию.
На труппу, да и на весь театр навалилась тоска: за один год мы теряли третьего «ведущего»: Хмелев. Сахновский, и вот теперь уходил Москвин. Но внешне все было как всегда: репетировались новые спектакли; шли уже давно любимые зрителями «Турбины», «На дне», «Школа злословия»… Вместо сгоревших в Минске декораций этих спектаклей использовали выездной вариант. Костюмы шились новые, под руководством Александры Сергеевны Ляминой — ученицы знаменитой Надежды Петровны Ламановой. Из «стариков» еще сильны были Василий Иванович Качалов, Ольга Леонардовна (она еще играла в «Воскресении» и во «Врагах»), Михаил Михайлович Тарханов. Он играл много, вот только «Горячее сердце» перешло к Грибову и Яншину. В полной силе была и Фаина Васильевна Шевченко (хотя мне кажется, что эта уникальная артистка не была достаточно востребована).
… В феврале 1946 года Иван Михайлович Москвин скончался. Умирал в сознании. Говорили, что перед концом просил священника, но, пока «Кремлевка» согласовывала с «верхом», — не дождался, умер.
Настал день прощания. На Ольгу Леонардовну, Качаловых, Тархановых смотреть было тяжело, все они держались, но чего это стоило!
Перед началом панихиды я видела, как через контору Федора Михальского прошла Алла Тарасова с братом Юрием Константиновичем. Они поднялись в бельэтаж, она очень горько плакала.
Панихида была торжественной и длинной. Фанфары, потом Новодевичье.
Я горевала о человеке, который сделал мне очень много добра, и понимала, что в дальнейшем мне будет в театре трудно. И не ошиблась.
После смерти Хмелева и Москвина в жизни нашего театра начался период, о котором не любили и не любят вспоминать старые актеры и те, кто знал театр в прежние годы.
…Теперь мы встречались реже. Калужские развелись, у Тархановых траур. Николай много репетировал — готовились к постановке спектакля «Победители» Чирского. А в конце сезона была принята пьеса Асанова «Алмазы», где была занята и я. Одновременно начали работу над пьесой Симонова «Дни и ночи», в которой одна из ролей досталась Дорохину. Театр эти спектакли должен был выпустить к 30-летней годовщине Октября.
…Летом меня ожидало событие необыкновенное — я ехала в отпуск с Ольгой Леонардовной и Софьей Ивановной в Ялту, в чеховский дом к Марии Павловне, а потом мы должны были жить в Гурзуфе, «за синей калиткой»..
Сборы в Крым были «великие». Багажа оказалось даже больше, чем в предыдущем, 1945 году. Я тоже запаслась, чем могла. Еще была одна сложность — Барыня и Софа решили взять с собой кота Тришку — родного брата нашего Никиты. Это были роскошные коты, еще из дома Владимира Ивановича Немировича-Данченко, избалованные, капризные и надменные.
Провожали нас все те же друзья и Дорохин. Были забронированы два международных купе, чтобы Ольге Леонардовне было не так душно. На перроне на всю нашу группу смотрели с любопытством, кого-то узнавали, а у меня на руках извивался от страха пушистый зверь, привлекая общее внимание.
Тришке досталось великое испытание: машина, вокзал, поезд и опять длинная дорога на машине до Ялты. В начале пути он яростно сопротивлялся, а потом, смирившись, забился в угол моей верхней полки и шипел, если его трогали.
Ехали мы в Ялту двумя машинами довольно долго, с остановками. И вот показалась ограда сада, перед калиткой группа музейных и впереди Мария Павловна с букетом. Встреча — как и год назад. Входили в дом с нижней террасы, из сада, откуда сразу попали в нижнюю столовую — проходную. Из нее дверь в комнату Ольги Леонардовны — окнами в сад, и еще одна комната — гостевая, куда поместили меня. Почему-то она называлась китайской.
В эту белую дачу можно было входить через три двери: через парадную дверь — в переднюю с телефоном, через вторую террасу из сада — в Шаляпинскую комнату (в ней долго стояли какие-то вещи Федора Ивановича), и через дверь во внутренний коридор и во двор, где кухня и всякие хозяйственные постройки. Перед деревянной внутренней лестницей несколько приступок, площадок и ступенек — пол в первом этаже дома был на разных уровнях. После радостной встречи Ольги Леонардовны и Софьи Ивановны с Марией Павловной и всем персоналом Дома-музея я была представлена Марии Павловне. Она была чем-то похожа на Антона Павловича, судя по портретам, но не такая красивая, с очень пристальным взглядом. Когда Ольга Леонардовна сказала: «Это Зося, Мапочка», в ответ было: «Буду называть вас Зёзя».
Первые дни я робела перед хозяйкой чеховского дома. В свите Марии Павловны состояла гречанка Елена Филипповна Янова, секретарь, старший экскурсовод и доверенное лицо хозяйки. (Елену Филипповну и ее старшую сестру — настоятельницу женского монастыря в Ялте — Мария Павловна спасла от выселения из Крыма, где они прожили всю жизнь.) Елена Филипповна — величественная внешне, всегда в повязке, напоминающей чалму, необыкновенно добрая, с юмором, беззаветно преданная Марии Павловне, выхаживала ее во все время оккупации, оберегала и поставила на ноги после тяжелой болезни. Еще две необыкновенные женщины запомнились мне — это Пелагея Павловна и Ольга Павловна, сестры, с давних пор живущие в чеховском доме. Пелагея Павловна — Полинька, почти ровесница хозяйки, была приглашена сиделкой-няней еще при мамаше Чеховой, сразу после кончины Антона Павловича.
Я очень полюбила сидеть на приступке у деревянной лестницы, где на площадке стоял столик с чайной посудой, над которым колдовала Пелагея Павловна. Она своим плавным говорком поведала мне столько интересного о Бунине, Куприне, Горьком, Шаляпине! «Иван-то Алексеевич, господин Бунин, были бедными, и извозчику за привоз завсегда платили вперед, когда они отбывали». Или о Куприне: «Очень им нравилась наша Мария Павловна, но где уж, они такие неприступные — наша хозяйка». Эта Пелагея Павловна не отходила от Марии Павловны во все время оккупации. И на базар, менять вещи на продукты, чаще ходила она. Жаль, что я не записывала все ее рассказы, в которых она бывала и пристрастна, как, например, к Горькому: «Уж не знаю, говорят, что Антон-то Палыч уж как уважали его. А за что? Что писал-то? Так ведь все о себе».
Называла она меня «сударыня», очевидно, от трудного для нее моего отчества, и когда я просила называть меня просто по имени, ответом было: «Ну как это можно, помилуйте». Сестра ее, Ольга Павловна, была совершенно бессловесна, только кланялась. В молодости она была прачкой высокого класса и два раза ходила на каких-то кораблях вокруг света. Теперь же стала совершенно бестелесной, робкой и приветливой. И хотя она была старше сестры, та относилась к ней строго-покровительственно. «Как же, доверю тебе господские чашки мыть, чего захотела!» Ольга Леонардовна как-то попросила старую Оленьку: «Расскажи нам, как ты вокруг света плавала два раза». —
«Я, сударыня, кители гладила для господ офицеров». Большего от нее не узнали. Были обе сестры старыми девами, но Полинька — с большим достоинством, а старшая — как малый ребенок, и умерла раньше.
У Марии Павловны был особый режим: в шесть часов утра к ней поднималась Полинька, на маленькой кафельной печке варила кофе или готовила чай и подавала хозяйке, потом был отчет о вчерашнем дне, совершение туалета, и Мария Павловна приступала к своим многочисленным обязанностям. На покой Мария Павловна уходила часов в 9 вечера, очень редко задерживалась позднее.
Режим Ольги Леонардовны был совсем другим. Ложились мы поздно, ужинали на нижней террасе тоже поздно, когда дом засыпал. Это были замечательные вечера. Иногда с нами оставалась Елена Филипповна. Говорить и смеяться громко опасались, Ольга Леонардовна полусерьезно говорила: «Мапу разбудим — рассердится».
Но вернусь к первым дням нашего приезда.
Когда мы в первую очередь распаковали продукты, Мария Павловна острила по поводу «царской жизни» в Москве. Состоялся не то обед, не то ужин, и довольно скоро хозяйка удалилась в свою «светелку» — очень большую и светлую комнату с великолепным балконом, откуда были видны часть Ялты и море. «Светелка» занимала весь третий этаж. А на втором этаже были столовая с застекленным балконом, кабинет и спальня Антона Павловича — музей. Комната его матери тоже на втором этаже; но с отдельным входом.
Лето в тот год было очень жарким, ночи душные, из сада никакой прохлады — одни москиты. В первую ночь мне не спалось от волнения, от услышанного о жизни этого дома раньше и об уникальных людях, бывавших здесь, от сознания того, как много дала мне близость с замечательной Ольгой Леонардовной, а теперь вот и знакомство с сестрой Антона Павловича.
На следующий день, свободный от посещения экскурсий, Мария Павловна сказала, что сама покажет мне дом и сад. И опять я виновата, что не записала ее рассказ — все откладывала на потом. А говорилось обо всем очень подробно: кто бывал, где кто сидел, как часто мешали «Антоше», но он терпел, стеснялся, боялся обидеть.
Когда подошли к камину, над которым висели левитановские «Стога при луне», она вдруг стала мне говорить, как в Мелихове Левитан делал ей предложение руки и сердца, очень смешно его изображая. Мария Павловна была замечательной рассказчицей, и юмор у нее был без улыбки — чеховский. Она любила рассказывать, даже иногда повторялась, но всегда очень интересно.
Обошли весь сад, тогда очень тенистый, с массой фруктовых деревьев, с розами, с вьющейся по стенам магнолией; со старой корявой грушей у входа на нижнюю террасу, посаженной еще мамашей. Я узнала историю каждого дерева, каждой скамейки. В конце сада, где за изгородью был тогда пустырь, стояла простая скамья. «Это горьковская, он тут часто сидел, так и назвали». Тогда при доме был хороший садовник, все было ухожено, дорожки посыпаны гравием, всюду проведена вода для полива. По углам дома в саду стояли две гигантские греческие вазы-кувшины — так копили дождевую воду, когда еще не было водопровода и когда Антон Павлович трудился, создавая на голом месте этот замечательный сад.
Меня поразила толщина стволов каких-то особенных тополей, посаженных вдоль всей ограды перед гладкой большой площадкой у парадного входа. Мария Павловна рассказала, как она сама их сажала молоденькими деревцами и что это особый сорт быстрорастущих тополей — им было не более 50 лет.
Сразу после приезда началась паника с Тришкой: кот совсем обезумел, попав в зеленый рай. Рожденный в городе, он не знал земли, деревьев и такого простора. Мы с Софой гонялись за ним по саду, умильными голосами призывали: «Тришенька, Тришенька, иди кушать», но Тришка где-то шуршал гравием и не желал ничего, кроме свободы. На террасе разложили в его плошках разные лакомства и стали ждать. Поздно вечером он появился — мы боялись дышать.
От самого дома в Москве он голодал и теперь, озираясь, крался на запах еды. Тут мы его и пленили, засунув в комнату Ольги Леонардовны вместе с его «ужином». А потом Тришка привык — подолгу путешествовал, но в обед и ужин возникал на террасе.
Обыкновенно во время нашего завтрака заходила, вернее, забегала, легкая на ноги Мария Павловна и обязательно острила по поводу позднего вставанья и московской лени своей любимой «невестушки». Обедали все вместе на нижней террасе. Готовила приглашенная на сезон повариха, подавала Пелагея Павловна, а верховное руководство хозяйством на лето взяла на себя Софа.
Иногда к обеду бывали гости. Стол всегда «вела» Мария Павловна, могла озадачить фразой: «Что же вы картошку не кушаете? Знаете, она очень дорогая, но вкусная». И все серьезно, только глаза смеялись, а потом и сама смеялась очень заразительно.
Ольга Леонардовна всегда отходила в тень, предоставляя Марии Павловне быть главной — первой владетельной хозяйкой. Когда бывали с визитом начальники города, желая приветствовать Ольгу Леонардовну («из Москвы!»), наша Барыня покорно подчинялась и вела светскую беседу, но почести просила отдавать Марии Павловне. Когда визитеры отбывали, она поддразнивала Many, называя «губернаторшей». Да пожалуй, к сестре Чехова так и относились в Ялте.
Однажды я услышала от Марии Павловны такую фразу: «Мы ведь с Оленькой три пуда соли съели, а теперь у меня нет человека дороже». И действительно, они были очень нежны и ласковы друг с другом без излишней сентиментальности.
Ольга Леонардовна в ту пору еще много ходила, подолгу бывала в саду. Я заметила, что часто ей хотелось гулять одной. Как-то я спросила Барыню, почему она никогда не заходит на второй этаж, и она очень просто объяснила: «Зачем же я туда пойду, там сейчас все не так. Сейчас свет — электричество, тепло, а тогда печки дымили, лампы, свечи. Ты же видела — ванна железная, в нее ведрами воду носили, колонка мало
нагревала. Теперь порядок, чистота — музей». Еще говорила мне доверительно о странности воспитания в семье, о том, что Мария Павловна никогда не входила к брату, если он был одет по-домашнему, и никогда не предлагала помочь поставить компресс или «шпанскую мушку». Антону Павловичу приходилось все делать самому. А для Ольги Леонардовны это было естественным, и она, когда приезжала в Ялту, просто и ловко все сама делала.
Позднее я узнала, как резко изменилось отношение Марии Павловны к Ольге Леонардовне после венчания. Пока продолжительная связь не была узаконена церковью, все было хорошо и отношение к Ольге Леонардовне было самое дружеское и родственное. Но в те далекие времена положение Книппер было весьма двусмысленно, и это не могло не волновать ее родных. Очень обидно читать и слушать некоторые категорические высказывания о том, что Книппер добивалась венчания, заставила Антона Павловича жениться. Эти умозаключения в первую очередь унижают Чехова — не таким он был человеком, чтобы можно было навязать ему чью-то волю. В этих писаньях, пьесах, кинолентах о его «единственной» любви к Мизиновой Ольга Леонардовна да и Мария Павловна выведены в искаженном и унизительном виде. Но это же всего лишь плод воображения. Слова, ставшие названием пьесы «Насмешливое мое счастье», вырваны из контекста письма Чехова к Суворину, написанного по дороге на Сахалин, когда повозка Антона Павловича перевернулась и провалилась в воду, следствием оказалось открывшееся кровохарканье.
Впрочем, взаимоотношения Чехова с женщинами — тема вообще не до конца понятая. Сколько же было этих «единственных», которым так и не удалось женить на себе Чехова?
Мария Павловна рассказывала о Мелихове и его гостях, говорила о том, как она привезла «Ликочку» (они вместе учились в школе живописи) в Мелихово. Из довольно длинного рассказа Марии Павловны мне запомнилось, что «Лика была влюблена и была активна», и как уже после кончины Чехова «пришла Лика в трауре, молча стояла у окна, молча ушла, как-то не просто».
Ольга Леонардовна никогда сама не начинала этой темы. Когда кое-кто задавал ей бестактные вопросы, отвечала односложно, что мало знала Мизинову, что, кажется, она пыталась стать актрисой, но не стала. А когда в присутствии Ольги Леонардовны осторожно, намеками, говорили о женских сердцах, навечно отданных Чехову, она уверенно и просто говорила, что в Антона Павловича трудно было не влюбиться. Я никогда не слышала, чтобы Ольга Леонардовна говорила: «Мой муж», «Я жена». Всегда называла Чехова по имени и отчеству: «Когда я была с Антоном Павловичем…»
Эта необыкновенная артистка и человек большой культуры, ума и интеллекта не терпела, пошлости и мещанства, даже завуалированных и внешне почти незаметных.
Вот отрывок из письма Ольги Леонардовны к племяннице Аде Константиновне Книппер: «Ты пишешь о наших отношениях с Антоном Павловичем. Да эти шесть лет, что я его знала, были мучительны, полны надрыва из-за сложившейся так жизни. И все же эти годы были полны такого интереса, такого значения, такой насыщенности, что казались красотой жизни. Ведь я не девочкой шла за него — я поражена была им как необыкновенным человеком, всей его личностью, его внутренним миром. Ох, трудно писать все это… Теперь уже жизнь к концу и эти мучительные шесть лет остались для меня светом и правдой и красотой жизни».
[18]
В день кончины Антона Павловича, 15 июля по новому стилю, с раннего утра вся площадка перед парадным крыльцом и за оградой была заполнена людьми. В определенный час на крыльцо выходили Мария Павловна и Ольга Леонардовна. После приветствий и слов благодарности хозяйкам дома — за память, за любовь к Антону Павловичу — люди не расходились. Кто-то читал стихи, посвященные любимому писателю, кто-то выкрикивал пожелания всего самого светлого. Горячее солнце, горячие сердца и сияющие лица почитателей великого писателя и, конечно, автографы. Мария Павловна и Ольга Леонардовна держались, сколько хватало сил. Кому-то из начальства приходилось деликатно прекращать этот поток народной любви, дам уводили с крыльца, а вокруг еще долго стоял оживленный гул.
В этот торжественный день был парадный обед на нижней террасе, приходили Треневы, Павленки, а иногда и кто-то из москвичей, отдыхающих в Ялте, бывали и наши актеры. Мария Павловна восседала во главе стола — веселая, неутомимая, остроумная.
В течение лета в Ялте, а иногда и в Гурзуфе отмечались еще два торжественных дня: 24 июля — именины Ольги Леонардовны, и 28 августа — день Ангела Марии Павловны. Конечно, парадных выходов на крыльцо не было, но гости набегали, и довольно много. Специально никого не приглашали, но готовились принять радушно. Бывало и весело, и уютно. Но я опять забежала вперед.
Тогда, летом 1946 года. Мария Павловна, по словам Барыни, была еще слабенькая после пережитого в войну.
Она часто и подробно рассказывала про оккупацию. Обычно это происходило на балконе во время послеобеденного чая. Вот отрывки из ее рассказов.
Ей предлагали эвакуироваться, но она осталась охранять дом: Когда отступали из города наши войска, а с ними и часть жителей Ялты, путь их проходил мимо чеховского дома, в горы. И Мария Павловна со своими помощницами прощалась с ними, стоя на этом самом балконе. Прошли последние группы людей, проехали повозки — уводили лошадей, мычали коровы, лаяли собаки, потом все стихло. А через короткое время в город вошли фашисты. Вечером того же дня раздался телефонный звонок, и Мария Павловна от страха ножницами перерезала шнур.
Наутро в дом пришли «завоеватели» и сообщили, что для какого-то чина конфискуют музейные комнаты второго этажа, то есть чеховские. Мария Павловна, назвав себя, сказала, что это им удастся только в случае, если они ее убьют. Очевидно, сказано было убедительно. Немцы согласились на нижний этаж и верхнюю столовую. Кабинет и спальня Антона Павловича были закрыты наглухо. Все, что можно было заранее убрать, было спрятано.
Эта старенькая, больная женщина, видимо, поразила их еще и тем, что отказалась от каких-либо льгот на питание. Они заявили, что ее комнату не тронут.
За все время оккупации Мария Павловна не выходила из дому. Очень она печалилась, рассказывая, как уже в последний год немецкого «правления» заболела брюшным тифом, не чаяла выжить, как мысленно прощалась с «Оленькой». Болела долго, не один месяц. Как-то раз, ближе к весне, она еще лежала в постели — ходить не могла, пришли из комендатуры «чистые арийцы» с вопросом: почему она отказывается от льгот? А привел их бургомистр — русский. «И так мне было противно на него смотреть!» — говорила Мария Павловна. А перед уходом он тихонько сказал ей: «Потерпите, голубушка». Когда оккупанты поспешно покидали Ялту, они повесили этого бургомистра. Какая-то сволочь выдала его — он был подпольщиком. Мария Павловна даже плакала, рассказывая, не могла себе простить брезгливость к нему.
…Довольно быстро я освоилась в доме. На внутреннем дворе, где под навесом был запас дров, стояла будка огромного старого лохматого беспородного пса. Он был суров и грозно рычал, главным образом, на экскурсантов, когда те пытались приблизиться. Но двигался он уже мало. У меня с ним быстро наладились отношения. Софа и я во время обеда по секрету от хозяйки (она не любила «баловства») собирали для него лакомые кусочки.
В период нашего пребывания в Ялте Софья Ивановна несколько раз ездила в Гурзуф, готовить дом. Ольге Леонардовне очень хотелось в «свой райский уголок» — так она его называла. Но каждый раз, как только заходил разговор об отъезде, Мария Павловна обижалась, плакала, и переезд откладывали.
Дату забыла, но отъезд все же был назначен. Сборы тоже были грандиозные: продукты, что-то из посуды, чемоданы и, главное, Тришка: ему предстояло знакомство с морем.
На большой казенной машине мы быстро добрались до Гурзуфа. В центре городка была базарная площадь, аптека, почта и маленькие лавчонки, почти пустые. От этой площади к домику за синей калиткой в белой стене надо было пройти довольно узкой дорожкой вдоль берега моря.
Я не знаю, как это произошло, очевидно, Софья Ивановна сообщила о времени приезда Капитолине Николаевне и Роману Корнеевичу (рыбацкой семье, смолоду ведущей хозяйство у Ольги Леонардовны), но на площади, кроме них, стояла большая группа людей, пришедших для встречи Ольги Леонардовны, кто с цветами, кто с помидорами, кто с фруктами. Ее хорошо знали, и наша Барыня, здороваясь со всеми и благодаря, многих называла по имени. Скоро вереница людей с нашими вещами в руках потянулась к домику. За ними Ольга Леонардовна, Софья Ивановна и я — опять в обнимку с агрессивно шипящим Тришкой.
Этот небольшой кусок земли с маленьким татарским домом был куплен Антоном Павловичем в подарок Ольге Леонардовне.
Сейчас там филиал Ялтинского музея, но сообщения о том, что Чехов писал там, — преувеличены. Он приезжал туда только для оформления покупки. Я знаю это со слов Марии Павловны и Ольги Леонардовны.
Этот необыкновенный уголок расположен у Пушкинских скал, вблизи Адоларов. Небольшой садик с огромной круглой клумбой из роз, маленькая беседка у белой стены, заплетенная виноградом, у калитки — высокой зеленой свечой величественный кипарис, возле самой терраски — остатки миндального дерева. А в глубине этого маленького рая, над обрывом, обнесенным кирпичной низкой стенкой, — чайный стол, скамейка и два плетеных кресла. По всему саду, особенно у терраски, в огромных кадках дивные олеандры, а над самым обрывом — старая шелковица.
Домик состоял из трех комнат. С террасы ход в проходную, с большим окном в сад, комнату — Софину резиденцию. За очёнь большим гардеробом скрывалась спальня Софы. Комната Ольги Леонардовны — с камином, с одним окошком, затененным старым деревом инжира. Во время прибоя окно бывало в соленых брызгах — в комнате всегда было прохладно.
Из верхнего садика кирпичные ступени вели в маленькую бухточку с каменным пляжиком и даже с пещеркой. С огороженного пляжа другая лестница вела на верхний участок с развалившимся домиком Льва Книппера.
С террасы был вход в комнату для гостей с двумя кроватями — подарок больницы. На террасе стоял круглый стол, буфет с посудой, одно кресло, плетеные стулья и табуретки.
Еще задолго до революции Гурзуф был одним из крымских любимых курортов. Здесь было множество частных владений, красивых дач с поэтическими названиями, например, «Вилла роз», великолепные пляжи, старинное имение генерала Раевского, замечательные виноградники, щедрые базары и много частных хозяйств, снабжавших всем необходимым в летние сезоны.
Ольга Леонардовна рассказывала, как замечательные гурзуфские прачки разносили на вытянутых руках крахмальные и плоеные щипцами шуршащие нижние юбки своих клиенток, а сложенное стопками белье носили на головах. Старые обитатели Гурзуфа, оставшиеся после выселения из Крыма татар и греков, очень почитали Ольгу Леонардовну. Иные старушки просто кидались с приветом к щедрой Барыне.
В 1946 году все побережье Гурзуфской бухты принадлежало санаториям для военных. Имение Раевского было приспособлено для высокого начальства. По соседству с домиком Ольги Леонардовны была Коровинская дача — Дом отдыха художников.
Капитолина Николаевна внешне была настоящая Старуха Изергиль, муж ее, огромный старик, почти никогда не вступал в разговоры. Эти двое содержали домик и сад в идеальном порядке и были при этом почти невидимы. Никаких «удобств» в этом татарском жилище не было. Водопроводный кран — в виноградной беседке, там же шланг для полива, и в самом конце сада, у стены, — «зеленый домик».
Хозяйство в то лето было у нас скромным и больших хлопот не составляло. Иногда сын Капитолины и Романа, тоже рыбак, приносил ставриду или камбалу. Роскошные «сиреневые» помидоры, различные фрукты были украшением нашего стола, а к воскресенью Софья Ивановна всегда пекла пирог или ватрушку. Сказочная жизнь!
Ольга Леонардовна в короткое время окрепла, посвежела. Ежедневно спускалась на свой пляж и принимала морские ванны (огорченно, но покорно выполняя предписание врачей — ей запретили плавать). Я каждый день лежала в пещерке, выставив на солнце только больное бедро. Софа иногда заплывала до самых Адоларов, повергая меня в панику. Но Барыня меня успокаивала, говоря: «Морская душа!»
Ежевечерне мы с Софой по очереди ходили вокруг розовой клумбы с длинной веревкой в руках, на конце веревки была привязана бумажка, чтобы заманить Тришку домой. Этот коварный зверь подолгу заставлял нас кружить вокруг клумбы.
На ночь Софа запирала его у себя в комнате, а на рассвете выпускала через окно на волю. Странно, но за стены сада он ни разу не убегал. На море он смотрел, изогнув спину, — оно его пугало, тогда как гурзуфские худые, голенастые коты, заслышав лодочный мотор, вереницей направлялись к рыбацкому причалу и чинно сидели в ожидании рыбной мелочи.
В этом раю для меня была одна беда — москиты. Ольгу Леонардовну тоже грызли, но не так, как меня. Я была вся в расчесах, а физиономию мою перекосило от укусов. Мы даже носили на шее бинты, смоченные керосином, но и это не пугало почти невидимых кровососов.
Как-то ночью мне не спалось, я вышла в сад. Но подойдя к калитке, очень испугалась, увидев огромную фигуру, лежащую на овчинной шкуре. Оказалось, что это Роман Корнеевич. «Что вы, зачем вы здесь?» И услышала спокойный ответ: «Барский сон берегу». Это было не рабство, а беззаветная преданность и уважение к Ольге Леонардовне. Она была тоже очень привязана к этой паре, и круглый год они получали от нее хорошее содержание.
Вот образчик письма Капитолины Николаевны в Москву зимой: «Дорогие вы мои госпожи, припадаю к Вам и хочу сообщить, что в домике все хорошо. Олеандры внесли в кухню, море очень холодное. У меня была на морде рожа, но лупнуть невочто, не в Барское же зеркало. Все хорошо одна только презренная старость гнетет, дорогие мои госпожи. Припадаю к ноженькам, целую рученьки. Слуга Капитолина». Никогда она рук не целовала и к ногам не припадала, но таков стиль письма, дословно.
К сожалению, мне пришлось уехать раньше, чтобы успеть к сезону. Дамы еще оставались в Гурзуфе, а спустя время снова переехали в Ялту и жили там до осени, до спектаклей Ольги Леонардовны (ее репертуар всегда ставили позднее). Позже, когда она уже перестала выходить на сцену, они с Софой возвращались с наступлением зимы, и мы ездили их встречать с шубами, а дома их ждал накрытый стол и Тришка — больше его в Крым не брали.
…На следующее лето муж снимался, кажется, в роли первопечатника Федорова, а я поехала в Крым позднее, и прямо в Гурзуф. В Симферополе меня встретил водитель Тренева на красной спортивной машине и очень быстро домчал до базарной площади Гурзуфа.
В то лето Ольга Леонардовна еще довольно много гуляла, ходили мы на древнее татарское кладбище, ездили по приглашению в Артек, на торжественную линейку. Ольге Леонардовне что-то рапортовали пионеры, и уже в темноте нас подвезли к дому Роман Корнеевич ожидал на дорожке с маленьким фонариком — «для спокойствия».
Капитолина всегда ходила в черной одежде и в черном платке на голове, в любую жару. Как-то ни свет ни заря вынесло меня из «гостевой» в сад, и еще с террасы я увидела Капитолину Николаевну в нижней юбке и без платка на седых волосах. Она стояла под кипарисом и шепотом звала: «Васькя, Федькя, обедать!» Два худых крымских кота появились из зеленых недр кипариса и стали есть из миски. Я замерла, чтобы не помешать. «Обед» кончился быстро, была дана команда: «Домой», и котов снова скрыл кипарис. Я сообщила дамам про кошачий «обед», и Ольга Леонардовна, нисколько не удивившись, сказала, что Капитолину слушают и боятся в Гурзуфе все — и люди, и звери.
Как-то Капитолина Николаевна сообщила, что на площади «дают» водку, привезенную в бочках. Решили, что такой случай нельзя упустить. Капитолина Николаевна никогда не входила на террасу, только на две ступеньки. Она двигалась с какой-то особой легкостью и грацией. Взяв деньги и бутылку у Софы, с полупоклоном отступила и легко, как птица, понеслась по довольно крутой дорожке. Барыня говорила про нее: «Капитолина — загадка».
Мы с Софой, по такому «случаю», решили накрыть ужин. «Капитолина-загадка» явилась скоро, отдала бутылку и так же грациозно, с поклоном, удалилась.
Софа, наливая рюмку, сообщила, что эту отраву пить нельзя — живой керосин, а Ольга Леонардовна, понюхав, возразила, что ничего страшного, время трудное, не надо капризничать. Выпили по рюмке — действительно, не «Экстра».
…В то лето Мария Павловна надумала спрятаться на время своих именин в Гурзуфе. Мы почти каждый день ходили на почту говорить с Ялтой по телефону. Мария Павловна решила прожить в Гурзуфе дня три-четыре. Приготовления к приезду велись весьма тщательно. Ольга Леонардовна на время визита уступала свою комнату и переходила на Софину кровать, а Софа — на раскладушку.
Пеклись пироги, делались салаты, всюду расставлялись букеты. В назначенное время мы втроем пошли на площадь встречать машину. Мария Павловна в сопровождении Елены Филипповны, которую жестоко укачало, появилась по-старинному: с шифоном на шляпе и лице, в специальном полотняном пыльнике по фасону давних лет. Довольно объемный саквояж нес шофер, а когда я хотела взять из рук Марии Павловны лубяную шляпную коробку, она сказала: «Осторожно, здесь горшок».
Старые жители Гурзуфа, хорошо знавшие Марию Павловну, радушно здоровались с ней, называя по имени и отчеству.
Немного отдохнув, Елена Филипповна вернулась в
Ялту, а Мария Павловна с помощью Ольги Леонардовны стала раскладываться. Рано, после ужина, как привыкла Мария Павловна, все затихло. Мы втроем тихонько сидели в саду.
На следующий день были поздравления и какие-то подарочки. Был парадный обед, послеобеденный чай в саду, над морем, и ранний ужин — по режиму Марии Павловны.
Она уже удалилась в комнату, когда в калитку постучали. Я пошла посмотреть, и от неожиданности и испуга буквально онемела: в калитке стоял Дорохин, рядом — большой чемодан. Я стала шептать, что у нас Мария Павловна. «А что, выгонят?» — спросил муж. Тут появились мои дамы и, ничуть не удивляясь, стали целоваться и звать в дом.
На террасе из чемодана были извлечены всякие деликатесы, какие-то сувениры, хороший коньяк и шампанское. Ольга Леонардовна пошла к Марии Павловне, а нам приказала накрывать стол: «Будем праздновать именины Мапы». По совести, я очень заробела, как будет принят этот внезапный приезд. Ведь это нарушение режима.
Николай шепотом объяснял Софе и мне, что свободен от съемок целых четыре дня — один уже использовал на дорогу — и что не приехать не мог, так как слышал столько прекрасного о Гурзуфе и Барынином рае.
Пришла Ольга Леонардовна и сказала, что Мария Павловна сейчас выйдет.
Я не могу не описать выход Марии Павловны. Она появилась в чепчике, плоеный высокий ворот ночной сорочки и такие же манжеты виднелись из-под длинного шлафрока. В руке малюсенькая рюмочка, наверное, ликерная.
Со всей элегантностью, на какую был способен, и с величайшим почтением Николай, приложившись к руке Марии Павловны, стал просить прощения за внезапность своего появления. К моей радости и облегчению, Мария Павловна очень ласково приняла его, расспрашивая о Москве. С некоторым кокетством она извинилась за домашний вид и разрешила налить в свой «микробокал» шампанского, и даже не один раз.
Именинница стала вспоминать, как в старину справляли именины. И здесь мы услышали о таких людях, которые были известны нам только из книг. Ольга Леонардовна тоже начала вспоминать с грустным юмором о давних днях. И вдруг Мария Павловна как-то озорно, очевидно, даже микроскопические дозы спиртного на нее подействовали, стала задирать Ольгу Леонардовну: «А помнишь, невестушка, как Владимир Иванович Немирович-Данченко на паперти Большого Вознесенья, стоя на коленях, предлагал тебе руку и сердце? При живом-то муже!» Ольга Леонардовна чуть порозовела: «Глупости какие!» И через паузу: «А о романе с Куприным тебе не хочется рассказать?» И началась у них веселая пикировка. Муж мне все ноги отдавил. Ну почему я не записывала? А может быть, и хорошо — лишь на мгновение приподнялась завеса над чем-то заветным, прошедшим, больше нам, наверное, и не следовало знать.
Разошлись поздно. Мы с Николаем еще долго шептались. Он был поражен и очарованием самого этого места, и тем, как просто, сердечно его приняли, и, конечно, всем услышанным и личностью Марии Павловны.
Наутро, узнав, что Дорохин не был в ялтинском доме, Мария Павловна приказала звонить, чтобы после экскурсий Елена Филипповна провела его по всему дому и саду. По дороге в Гурзуф Николай Иванович познакомился с каким-то морским начальством, знавшим Марию Павловну, или, вернее, чеховский дом, и поэтому появилась возможность арендовать глиссер для поездки в Ялту. В эти три дня мы тратили деньги много и вкусно. После осмотра дома и сада поехали на ялтинский рынок за фруктами и всем, что необходимо для шашлыков. К концу дня вернулись в Гурзуф.
Поднося Марии Павловне розы, муж сказал, что в музее есть одна неточность — кожаное пальто Антона Павловича в витрине застегнуто по-дамски, справа налево, а надо наоборот. Мария Павловна сказала: «Вот вы и перестегните, как нужно». И на следующий день мы на том же глиссере помчались «перестегивать» пальто. Руки у мужа дрожали, когда он прикасался к длинному черному кожаному пальто великого Чехова.
Вечером в гурзуфском домике накрыли прощальный ужин. Дамы были очень ласковы с Николаем, а Мария Павловна сказала, что записывает его своим рыцарем. Утром мы с Софой проводили его до базарной площади, оттуда он на попутной машине добрался до Ялты и в аэропорт.
Это было, пожалуй, последнее лето, когда он мог позволить себе такое путешествие. Много раз потом мы вспоминали эти короткие счастливые дни…
Вскоре и мне надо было уезжать — предстоял выпуск спектаклей «Алмазы» Асанова в филиале и «Победители» Чирскова на большой сцене к 30-летию Октября.
Ольга Леонардовна и Софа вскоре переехали в Ялту и только в начале октября вернулись в Москву. Мы встречали их с шубами, а стол был накрыт к позднему обеду (или раннему ужину). К тому времени у нас уже жила Соня, на смену нашей Елене Григорьевне, которую дети увезли на родину, под Каширу. Прощание прошло не без слез с обеих сторон.
Соня — от старания — для встречи Барыни испекла «пирожки» огромных размеров и в ответ на мои упреки заявила: «Если малые, скажут, что вы жадная». Ольга Леонардовна, конечно из деликатности, была на стороне Сони, но смеялась.
Юбилейные спектакли прошли очень хорошо. В «Победителях» было много актерских удач, в их числе шофер Минутка — Дорохин. Я играла одну из центральных ролей в «Алмазах». Но спектакль этот мне не запомнился. Помню только, что были у нас с Павлом Массальским какие-то семейные драмы.
К 30-летию Октября было много награждений званиями и орденами. Во время спектакля, в кулисе, мне вдруг шепнула Аня Комолова: «Зося, вам дали заслуженную». Я впопыхах даже не сразу осознала: как, мне — дочери «врага народа»? Но бывали и такие парадоксы в то трудное время! Думаю, что это еще был след от заботы дорогого Ивана Михайловича Москвина. Муж получил звание народного артиста РСФСР. Я не помню, чтобы мы как-то особенно праздновали эти два события.
…В 1947 году, с осени и почти всю зиму, болела Ольга Леонардовна. С тревогой говорили о состоянии Василия Ивановича Качалова. Он довольно часто бывал в кремлевской больнице. Вадим был очень мрачен.
По-прежнему мы нашей «командой» встречались друг у друга, но не так мажорно, как прежде.
Новый, юбилейный для Художественного театра 1948 год встречали, как всегда, у Ольги Леонардовны. Были Качаловы, Дмитриевы, Рихтеры и мы.
Осенью предстоял 50-летний юбилей театра, и с начала года к нему шла активная подготовка. Намечались короткие летние, перед отпуском, гастроли в Риге параллельно с работой двух московских сцен и отдельные концертные ансамбли — в отпускное время.
На большой сцене театра готовили «Лес» Островского. Предполагалось, что Несчастливцева будет играть Качалов. Он даже начал репетировать, но очень недолго, и роль перешла к Ершову. Гурмыжскую репетировала Фаина Васильевна Шевченко.
Состав был очень сильный: Ершов, Шевченко, Зуева, Топорков, Блинников, Чебан, Комиссаров и молодые — Головко и Чернов.
Весной начались потери — невосполнимые.
6 мая рано утром сообщили, что ночью внезапно скончался Владимир Владимирович Дмитриев. Мы сразу пошли к Марине (жили они тогда в доме рядом с филиалом).
За полгода до этого так же внезапно скончался Петр Вильямс. Стоя рядом со мной на панихиде в фойе Большого театра, Володя Дмитриев сказал: «Теперь я знаю, как будут хоронить меня». Все последнее время он был очень печален, ни на что не жаловался, но было ясно, его что-то гнетет, и очень сильно. Еще на встрече Нового года у Барыни он вдруг шепнул мне о своих дочках: «Я так их люблю, что хочу умереть». Я ему сказала про абсурдность такой мысли, а он попросил никому ничего не говорить.
Тогда же в мае, в один из дней мне позвонила Поля, домработница Ольги Бокшанской, и сказала, чтобы я немедленно шла к ним. Жила Ольга Сергеевна в доме № 6 на улице Горького, в так называемом корпусе «Б».
Когда я прибежала, там уже была «скорая». Оказывается, Ольга во время генеральной репетиции «Леса» вышла что-то купить и упала. Как только я увидела положение ее правой ступни, сразу поняла — перелом шейки бедра.
Елена Сергеевна Булгакова сидела на генеральной и ничего не знала, Ольга запретила ее вызывать. Я поехала с ней на «скорой» в Склифосовского. Когда в приемном покое ее спросили о возрасте, я, пораженная, услышала: «Пятьдесят восемь» — медсестра, взглянув на нее, сказала сердито: «Не шутите». Ольга была в летнем платье, на босу ногу, волосы натуральные, очень красивые, короткая стрижка. Она спокойно ответила: «Мне не до шуток». Мы простились, и я повезла к ней домой ее кольца — она носила несколько очень красивых старинных колец.
Елена Сергеевна, встретив меня, подробно обо всем расспросила и тут же поехала в институт.
Больше я Ольгу Сергеевну не видела, только в нижнем фойе — на панихиде. Она умерла на девятый день от тромба — мгновенно.
Бокшанская была секретарем сталинского комитета по лауреатству, а председателем после Владимира Ивановича Немировича-Данченко стал Александр Александрович Фадеев. В связи со смертью Бокшанской мне поручили отвезти бумаги на подпись Фадееву в Барвиху, где в то время были и наши — Ольга Леонардовна и Василий Иванович. Мы поехали с Софой. Идя по длинной светлой галерее, вдруг в конце ее увидели Качалова. Бодрый, как будто совсем здоровый, какой-то стремительный, прекрасный, шел он навстречу. «Царь людей», — невольно вырвалось у меня.
Когда мы здоровались, Софа повторила мои слова. На долю секунды изменились его глаза, стали прежними, ласковыми, чуть насмешливыми, и Василий Иванович сказал: «Нельзя сострить злее». И еще что-то: то ли «я зайду», то ли «я догоню».
Тогда Василий Иванович помог Ольге Леонардовне встать на ноги. Она очень тяжело переживала смерть Дмитриева. Даже казалось, что ее состояние тяжелей, чем у Качалова.
Поздоровавшись с Ольгой Леонардовной, я пошла к Фадееву. Он расспросил меня про Ольгу Сергеевну, очень ее жалел: «Талантливо работала». Подписал бумаги, спросил про здоровье Коли, сказал, что он обязательно зайдет к Ольге Леонардовне. Но чувствовалось, что он очень занят и заметно озабочен. Я простилась.
Почти одновременно со мной к Барыне явился Василий Иванович со словами: «Ну вот, чтец-декламатор пришел». В руках его был томик Есенина. Что читал, не вспомню. Был очень нежен с Ольгой Леонардовной, но и очень тверд, даже императивен.
Когда нам пришла пора уезжать, он буквально заставил ее встать с кресла, помог одеться и бережно повел. Они проводили нас с Софой до крыльца. Когда мы шли к машине, я обернулась. Помню их на скамье, освещенных солнцем. Василий Иванович в синей вельветовой пижаме в белую звездочку, на Ольге Леонардовне темная длинная пелерина. Какие они оба были красивые!
Василий Иванович встал, снял берет и взмахнул им. И все внезапно изменилось: пижама показалась старинным костюмом и сам он стал другим — незабываемый «старый» Гамлет.
…После Барвихи была Николина Гора. Там в гостях у Качаловых проводили лето Ольга Леонардовна и Софья Ивановна. Помню празднично накрытый большой круглый стол на террасе, Нину Николаевну, Вадима, его жену Лелю Дмитраш, Ольгу Леонардовну, Софу. Теперь они с Качаловым как бы поменялись ролями. Ольга Леонардовна вся подобралась, казалась спокойной, только глаза были строгие.
Вошел Василий Иванович. Он был почти такой же — приветливый, радушный, волшебно обаятельный. Все было так, как всегда бывало в этом замечательном доме, — весело, шумно, много смеялись.
Василию Ивановичу был запрещен сахар. Иногда он протягивал руку за чем-нибудь запретным и на восклицание Нины Николаевны: «Василий Иванович!!», — говорил: «Ну-ну» или: «Я для Люка». И смеялся.
Люк — большой белый королевский пудель, совсем еще молоденький пес, был по-щенячьи бурно темпераментным, казалось, он ни секунды не мог находиться в спокойном состоянии. Но вот что поразительно: когда Василий Иванович медленно ходил по дорожкам сада, Люк тихонько шел рядом. Остановится Василий Иванович — и пес садится. А когда Василий Иванович садился на скамейку отдохнуть, Люк ложился у его ног плашмя, как умеют только пудели — «ковриком». «Мой адъютант», — называл его Качалов. «Одно утешение — Люк», — последняя запись в его дневнике.
В тот день был такой момент. После застолья, когда еще не все было убрано со стола, я случайно осталась одна на террасе. Из столовой появился Василий Иванович, рядом — Люк. Василий Иванович быстро подошел к столу, взял из сахарницы несколько кусков сахару, увидев меня, подмигнул, улыбнулся, приложил палец к губам и, сопровождаемый Люком, довольно быстро спустился с террасы в сад. И непонятно было, для кого же это сахар.
…Примерно за месяц до отпуска часть труппы уехала в Ригу. Муж поехал с «Тремя сестрами», а я осталась в Москве — была занята в репертуаре.
Вскоре после открытия гастролей мне вдруг позвонила Вера Николаевна Попова и стала спрашивать о состоянии здоровья мужа. Я поняла, что от меня что-то скрывают. В театре сказали, что Дорохин временно в больнице и что он просил мне не говорить об этом. Меня заменили в спектаклях, и я вылетела в Ригу.
Встретил меня, кажется, один из «адъютантов» Михальского, от которого я ничего не смогла добиться. Мы подъехали к гостинице, когда актеры собирались на утренний спектакль. Михальский на мои вопросы смущенно ответил, что из-за массы дел не смог съездить в больницу. Оказалось, что никто не смог. Мне дали адрес, и я поехала.
Больница была довольно далеко. Врач-рижанин был нелюбезен и сказал мне, что визит нежелателен из-за тяжелого состояния больного. Наверное, от испуга, я заговорила очень резко, и он, что-то сказав сестре или няне по-латышски, ушел.
Меня повели по длинному коридору, и через стекло в двери я увидела двухместную палату и Николая, лежащего на грязной, в застарелых кровавых пятнах постели на одной плоской и такой же грязной подушке. На другой кровати сидел человек.
Я стукнула в стекло, и муж увидел меня, поманил рукой. Войдя, я поздоровалась как можно спокойнее и стала расспрашивать, почему же такая грязь: столик у кровати был весь в пыли, в каких-то засохших лужах, с грязной посудой. Сидевший на кровати человек сказал, что тут не очень любят русских.
Я начала вытирать столик, потом мыть стакан и вытирать его своим носовым платком. Муж был очень слаб и какой-то сонный, но я видела, что он очень обрадовался. Пробыла я в этой жуткой палате недолго и, сказав, что приеду еще, ушла, чтобы скорее добраться до театра. Второй больной пошел меня проводить и рассказал, что, очевидно, мужу дают сильные лекарства, он галлюцинировал, пытался вставать, а это в его состоянии опасно. Этот милый человек помогал и успокаивал его.
В театре у меня состоялся резкий разговор с Михальским. Я рассказала о том, что увидела в больнице, и тут все засуетились, стали доставать какие-то соки, кефир, у кого-то одолжили творог. Раевский, попавшийся мне на пути, тоже получил от меня по заслугам. Оправданий я не слушала.
И опять возник Фадеев, по каким-то делам оказавшийся в Риге (а может, просто приехал к жене). Мы столкнулись в вестибюле. Он выслушал меня, посмотрел на банки и бутылки, завернутые в гримировальные полотенца, и, не утешая, по-деловому сказал: «Я дам тебе мою машину. А машина произведет впечатление. Передавай привет».
Правительственная машина действительно произвела впечатление. Со мной были предупредительны, извинялись за «недоразумение». Теперь Николай лежал на чистом белье, на двух подушках и в хорошей, свежей пижаме. На столике, тщательно убранном, — минеральная вода, какие-то лекарства, чистый стакан. И у его соседа тоже все было чисто. «Любезный» врач сказал мне, вызвав в коридор: «Мадам, привыкайте: ваш муж инвалид». И еще добавил, что продержит Николая Ивановича в больнице недели три, а потом санаторий (кажется, он назвал «Дзинтари»).
Договорились мы с мужем так: я займу служащего нашего театра Снеткова на все время, пока Николай будет в больнице, и для переезда в санаторий. Театра в Риге уже не будет, а сама я в начале отпуска должна была ехать в коммерческую концертную поездку. Снеткову на дополнительное питание для мужа нужны деньги, и большие. Решили, что ехать мне нужно и что я буду звонить Снеткову ежедневно, чтобы знать, как идут дела.
На другой день мне пришлось возвращаться в Москву — на спектакль. Когда утром я приехала в больницу (уже своим ходом), мне любезно сообщили, что был консилиум — положение удовлетворительное, нужен только покой и уход, что они и обещают обеспечить. Думаю, что все-таки не обошлось без фадеевского звонка.
Уезжать мне было, конечно, страшно, но мы оба довольно удачно изображали спокойствие.
Со Снетковым был уговор: он ежедневно навещает Николая Ивановича, покупает что-нибудь из продуктов, а в определенные часы по вечерам должен быть у телефона.
Ко времени моего возвращения в Москву из гастрольной поездки я могла уже звонить в санаторий. А еще через два-три дня мужу разрешили самому находиться у телефона. И тут у нас возник спор. Он хотел, чтобы я приехала к нему в санаторий для отдыха и лечения, а я категорически настаивала на его приезде в Пестово (не заезжая домой). Мы спорили не один день, и все-таки я настояла на своем.
Примерно через неделю, получив от театра машину, загрузила ее багажом, нужным для Пестова. Доктор Иверов дал мне целую аптечку, и вот прямо с вокзала мы поехали в наше чудесное Пестово. Хоть и без европейского комфорта и с готовкой на керосинке, но зато — дома.
И как же я оказалась права, что настояла на Пестове! 8 августа в санатории «Дзинтари» скоропостижно скончался Михаил Михайлович Тарханов, живший через стенку от Николая. Известие это привез в Пестово директор Месхетели. На мужа эта смерть произвела тяжелое впечатление. Мне он сказал: «Ну ты шишига!» (то есть ведьма).
Я ездила на панихиду и на похороны, а в ночь моего возвращения в Пестово у мужа начался приступ. Настоящего врача у нас не было — только молоденькая медичка из пионерского лагеря. Николая Ивановича мучили сердечные боли, он задыхался. Я стала разбирать иверовскую аптечку и нашла конвертик с надписью: «В крайнем случае». В конвертике были две большие бомбочки, скатанные из папиросной бумаги. Я поняла, что это сильное снотворное. Было очень страшно, но я решилась и дала ему одну. Через некоторое время муж затих, и я в страхе прислушивалась к его дыханию. Мне казалось, что оно вот-вот прервется. Но к утру дыхание стало ровным — он спал.
Днем приехал Иверов, я ему все рассказала и в ответ услышала: «Молодец, сон — это все». Иверов успокоил мужа, объяснил ему, что это была естественная реакция ослабленного организма на такое горькое известие, просил дня два полежать, а потом все будет хорошо. До конца отпуска мы прожили без тревог.
Начало сезона было очень напряженным. Выпускались почти одновременно три спектакля, а до 50-летнего юбилея театра оставалось совсем мало времени.
В сентябре нужно было отвезти на Николину Гору, на подпись Ольге Леонардовне и Василию Ивановичу, бумаги, связанные с юбилеем. Поручили это мне, и я с радостью поехала. Добралась я туда уже ближе к вечеру. Помню, что сидели не на террасе, а в столовой. Все были в сборе. Очень ласково и оживленно встретили, и сразу же посыпались вопросы о театре. Я сказала, с чем приехала, отдала бумаги. Вадим прочитал их вслух, старики подписали.
Потом меня кормили, поили чаем. Я что-то рассказывала, стараясь вспоминать смешное из предъюбилейной суеты театра. Ольга Леонардовна задала какой-то посторонний вопрос, и Василий Иванович нетерпеливо сказал: «Подожди, Ольга!» Как же ему нужно было знать обо всем, что касалось театра. Разговор перешел на «Воскресение», которое шло с его дублером — Судаковым. И вдруг Василий Иванович произнес: «Вечером он вышел на крыльцо и прокрался к окну девичьей…» и дальше. Сначала негромко, а потом в полную силу. Господи, как же он читал! Все замерли, а он так же неожиданно замолчал, и кончилось чудо…
Я начала собираться. Меня уговаривали ночевать, но была суббота, а утром в воскресенье — «Синяя птица», и я от волнения вдруг забыла, свободна ли я от спектакля. Василий Иванович особенно настойчиво говорил мне о том, как хорошо меня устроят, и про прекрасное утро на даче. Но я все-таки пошла на последний автобус. Провожал меня Вадим. По дороге, кажется, говорили больше о «Синей птице».
Я в последний раз видела Качалова. От утреннего спектакля я была свободна. Никогда не прощу себе, что уехала тогда, лишила себя радости — еще немного побыть рядом. Но кто же знал!
В юбилей театра Василий Иванович собирался играть Бардина во «Врагах», и мы все верили, что это будет. А он не сыграл. 30 октября его не стало…
На всю жизнь сохранится в памяти все то прекрасное, что связано с его именем. Да, мы счастливые — мы знали его.
Готовились юбилейная декада спектаклей и парадный вечер, составленный из отдельных актов. Ждали приезда иностранных делегаций и деятелей театра. Почти все актеры были разбиты на пары для встреч в аэропорту и на вокзалах.
Из «стариков» первого поколения осталась одна Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ее уговорили сыграть третий
акт «Вишневого сада». Состав был такой: Раневская — Книппер-Чехова, Лопахин — Добронравов, Гаев — Ершов, Епиходов — Топорков, Аня — Степанова, Варя — Коренева, Трофимов — Василий Орлов, Фирс — Грибов, Пищик — Кедров.
Ольга Леонардовна играла без грима. На генеральной почти все свободные актеры заполнили зрительный зал. Было ясно, что Книппер — Раневская прощается не только с «Вишневым садом», но и с театром, и со всей своей артистической жизнью. А как Добронравов говорил ей: «Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная несчастливая жизнь!»
Кончился акт, а в зале долго было тихо, потом уж все кинулись на сцену к Ольге Леонардовне — зареванные. Она стояла взволнованная и на слова благодарности ответила так: «Желаю вам прожить в театре такую счастливую жизнь, какую прожила я, и любить театр так, как люблю его я». Борис Добронравов стоял в стороне и пристально смотрел на Ольгу Леонардовну.
Был и юбилейный вечер с приветствиями — вся труппа на сцене, но уже без лестницы. Как всегда, замечательно поздравлял Большой театр. Козловский и Лемешев пели дуэтом: «Мы вас любим, Ольга». На фоне светлых парадных туалетов выделялась скорбная фигура Нины Николаевны Литовцевой в черном панбархате.
Правительственная ложа была полна. В глубине даже стояли.
По окончании вечера собирались где-то «отмечать», мы тоже записались, но я увидела лицо мужа и поняла, что нужно домой. Скорее снять парадный костюм и уложить. Обошлось без приступа — заснул. А я, сидя на кухне в вечернем платье, жевала какие-то остатки обеда. Было грустно. Не так собирались отметить 50-летие театра.
На следующее утро в газетах был отчет о юбилее и сообщение о щедром награждении высокими званиями и орденами. Николая и меня удостоили ордена Трудового Красного Знамени.
Вспоминается, что награждение праздновалось не очень пышно. Время было тяжелое, много дорогих потерь. После смерти Ольги Бокшанской мы все стали реже встречаться, иногда через большие промежутки. Я не часто виделась с Еленой Сергеевной Булгаковой: она уезжала к матери в Ригу и оставалась там подолгу. Урну с прахом Ольги Сергеевны увезла туда.
Новый, 1949 год встречали, как всегда, у Ольги Леонардовны. Первая половина этого года не запала в память. Помню, что часто провожала Нину Николаевну Литовцеву от Ольги Леонардовны в Брюсовский, Ходить ей было все труднее — мучили сильные боли в ноге. После смерти Качалова ей было одиноко в семье — так мне казалось, и Ольга Леонардовна, ее любовь и дружба помогали Нине Николаевне преодолевать тяжесть потери.
Летом мне не пришлось сопровождать Барыню в Крым, так как неожиданно меня вызвали на пробы к кинорежиссеру Калатозову для картины «Заговор обреченных» по пьесе Вирты и утвердили на роль Христины Падэры.
Началась трудная, но очень интересная подготовительная работа. Я встретилась с Александром Николаевичем Вертинским, Максимом Максимовичем Штраухом, Людмилой Скопиной и еще многими хорошими артистами. Оператором картины был Магидсон — великолепный, талантливый мастер.
При первых встречах еще на пробах я робела в присутствии Александра Николаевича Вертинского. Во время войны он вернулся на Родину через Дальний Восток с молоденькой красавицей женой Лилей, с тещей и грудной дочкой Марианной (она же Бибка). Популярность Александра Николаевича по возвращении была необыкновенной. Концерты проходили при сверханшлагах и восторженном приеме публики.
К моменту нашего знакомства родилась уже вторая дочка — Настя, тогда совсем малышка, а ныне очень известная, талантливая, народная артистка РСФСР.
Когда я ближе познакомилась с Александром Николаевичем, он оказался необыкновенно простым в общении, никакой «звездности», а когда рассказывал о «доченьках», то лицо у него светилось нежностью и гордостью отцовства.
Однажды я встретила его на улице Горького — он нес авоську, из которой высовывались ноги, головы и крылья кур, а вокруг него плотной стайкой клубились поклонники обоего
пола. На мой упрек, что ему — знаменитому Вертинскому — не по чину ходить с курами, он даже сердито возразил мне, что никому не может доверить питание своих дочек.
В ту пору мы часто снимались ночами и, как бывает в кино, иногда подолгу приходилось ждать: это была одна из первых тогда цветных лент, и свет был трудным и устанавливался подолгу. Вот в эти паузы мы и слушали рассказы Вертинского — а рассказчик он был замечательный. О своей жизни в эмиграции говорил очень откровенно, ничего не приукрашивая, с какой-то необыкновенной открытостью и непосредственностью.
Однажды мне довелось лететь из Ужгорода через Львов и Киев домой с натурных съемок в обществе Александра Николаевича, Олега Жакова, Дружникова и Кадочникова.
Тогда летали не так, как теперь. В Киеве нас задержали из-за непогоды, и всю ночь мы просидели в ресторане, где из почтения к моим знаменитым партнерам нам оставили столик, и мы до утра слушали рассказы Александра Николаевича.
Помню, один рассказ был о том, как парижская эмиграция решила устроить обструкцию хору Пятницкого, как запаслись трещотками, свистульками и еще какими-то атрибутами. «Но как только эти бабы раскрыли рты, в зале начались слезы, а потом и рыданья», — и у самого катились градом слезы в этом месте рассказа.
Как-то мы ехали на съемку, и Александр Николаевич сообщил мне, что Марианну вчера принимали в пионеры и что все родители — люди как люди, а он, сидя в последнем ряду, «плакал как баба» и что мне этого не понять. «У моих детей есть Родина!» А иногда Вертинский мог и покапризничать, даже становился надменным, но это бывало редко и продолжалось очень недолго.
Я благодарна судьбе, что мне досталась эта роль. Я благодарна Михаилу Константиновичу Калатозову, с которым было так интересно работать, и, конечно, моим замечательным партнерам.
В ту пору зрение у Ольги Леонардовны уже ослабло, но она еще сама писала письма чуть укрупненным, но четким почерком. И вот в одном из ее писем из Ялты был довольно подробный рассказ о том, как в Ялте появился Иван Семенович Козловский, как он пленил Марию Павловну своими серенадами, приводя с собой гитаристов, придумывал веселые шалости и даже вальсировал с хозяйкой дома.
Мы прочли письмо, порадовались, что наши дамы живут хорошо. А за обедом муж сообщил, что послал Марии Павловне телеграмму следующего содержания:
Мария я не прощу измены с тенором. Я испугалась и сказала, что это перебор, неприлично и т. п. Николай спокойно ответил, что я недооцениваю Марию Павловну. Через день-два пришла ответная телеграмма:
Умоляю успокойся люблю по-прежнему Мария. Муж оказался прав: я недооценила Марию Павловну, ее чеховский юмор.
Художественному театру предстояло пережить еще один тяжелый удар.
Юбилейный день МХАТа — 27 октября совпал с пышным юбилеем Малого театра, на который меня пригласила Ангелина Степанова (Фадеев не мог быть). Места были в первых рядах. Поэтому мы обратили внимание, что в президиуме на сцене, где находились Кедров и Месхетели, произошло какое-то движение. Месхетели вышел, и тут же из ложи бенуара один из генералов, потянувшись через головы наших соседей, тронув меня за плечо, прошептал: «Сейчас у вас в театре скончался Благонравов». Он перепутал фамилию. Но мы знали, что, как обычно, в юбилейный день идет «Царь Федор» с Добронравовым.
После секунды остолбенения Ангелина и я стали пробираться к выходу и побежали в театр. У ворот нас встретил Дорохин и сказал, что Добронравова уже увезли.
Уходя со сцены перед последней картиной «Архангельский Собор», Борис Георгиевич Добронравов, открывая массивную железную дверь за кулисы, заскользил по ней и остался недвижим — паралич сердца. У него было очень больное сердце, но он это скрывал, играл много и в полную силу.
Потеря была невосполнимой. Покинул театр могучий талант, ему было чуть больше пятидесяти. Панихида, фанфары, похороны на Новодевичьем кладбище, а все не верилось…
Так прошел 1949 год, грустно и суетливо из-за моей большой занятости на съемках и в театре. Иверов довольно часто укладывал мужа в постель — температура. Говорили о малярии, а мне мало верилось в такой диагноз.
Наступил 1950 год. Встречали у Ольги Леонардовны, как обычно.
Съемки «Заговора» шли к завершению, но было еще много работы. К этому времени знакомство с Александром Николаевичем Вертинским перешло в дружбу, и нас с мужем пригласили в дом. Был там и Калатозов, и Магидсон, и еще кто-то из участников картины. Помню, что нас поразили красота Лили, изысканность обстановки и широкое русское хлебосольство. Тогда же впервые мне довелось увидеть спящих дочурок. Будущие известные артистки, разметавшись в детских кроватках в смешных позах, крепко спали.
Я очень волновалась, устраивая ответный прием, чтобы не осрамиться перед именитыми гостями. Но, кажется, все обошлось, и я даже услышала от Александра Николаевича: «А вы, оказывается, хозяйка!» Я была очень горда.
…Летом должны были состояться гастроли театра в Ленинграде, и опять я не смогла ехать в Крым, так как профессор Гиляревский (в то время очень известный «сердечник») не рекомендовал мне надолго оставлять мужа одного. Он разрешил ему участвовать в ленинградских гастролях с минимальной занятостью.
Ольге Леонардовне с этого лета не разрешили жить в Гурзуфе. К домику «за синей калиткой» нельзя было подъехать на машине, и врачи боялись рисковать. В это лето дамы надолго задержались в Ялте. Уже глубокой осенью стало известно, что у Ольги Леонардовны тяжелая форма пневмонии.
Помню, как на спектакле «Последние дни» ко мне в гримерную вошел Вадим Шверубович со словами: «Будем говорить правду. Там умирает Ольга Леонардовна. Мы не простим себе. Надо лететь или ехать». После спектакля в конторе у Михальского, где были Месхетели, Калужский и Лев Книппер, решено было, что Лев улетает утром в Симферополь. Заплаканная домработница Ольги Леонардовны принесла шубы. Леве надлежало везти их в Ялту. Меня освободили от спектаклей, и на следующий день мы с Вадимом выехали поездом. Нам дали неделю, с учетом дороги. Тогда поезда ходили до Симферополя дольше. Какие-то лекарства дал Иверов, а я повезла настойку женьшеня (Александр Александрович Вишневский подарил мужу и мне по большому дикому корню).
Я никогда не видела Крыма поздней осенью, дорога из Симферополя до Ялты была красоты необыкновенной. Ехали мы на большой скорости, а шофер все успокаивал меня: «Будет подарок — это я вам говорю!»
Помню, как я вбежала в комнату Ольги Леонардовны, не успев снять пальто, и увидела ее — такую слабую, похудевшую. Она улыбалась, но со слезами, трогала нас, гладила по голове Вадима, провела рукой по моему лицу. Да, прав был Вадим, мы бы себе не простили.
Мария Павловна, Софа, Елена Филипповна и Лева в нижней столовой шептали нам, что, очевидно, кризис прошел.
Раздался клич: «Кормить их!» Ольга Леонардовна приказала открыть к ней дверь, а нас посадить за маленький столик, чтобы ей было видно, как нас кормят. «Мальчиков» поместили в «китайской комнате», а мне устроили ложе за ширмой в столовой.
Вечером к Ольге Леонардовне привезли известного профессора — специалиста по легким. Это был сурового вида пожилой человек, внешне очень похожий на Леонида Мироновича Леонидова. Осмотр продолжался долго. С Ольгой Леонардовной была только Софа. Мария Павловна ожидала результата этого визита у себя наверху. А мы трое сидели под дверью, ловя каждое слово профессора. Организм сильный, сердце работает удовлетворительно, а легкие очень плохие. Постельный режим надолго, гарантий никаких. Мы провожали его до машины, благодарили. От гонорара он отказался, сказав что-то резкое.
На следующий день улетал Лева, а мы — через два дня поездом. Подолгу быть около Ольги Леонардовны мы боялись, чтобы не утомить ее, а ей все надо было знать о театре, и она даже произносила свое обычное: «Глупости какие!»
Дни пролетели как один час. Уезжать было грустно.
Накануне отъезда мы с Вадимом пошли благодарить профессора. Замечательные розы из чеховского сада он принял благосклонно, а на слова Вадима, что он похож на Леонидова — «слышали, наверное?» — последовал ответ: «Я цивилизованный человек, кое-что знаю». Совсем как Леонид Миронович!
…К этому времени относится письмо Ольги Леонардовны коллективу МХАТа.
«От всей моей согретой души благодарю театр, дирекцию, всех, всех за приветствия, за радость и поддержку во время моей тяжелой болезни, за возможность выделить близких мне друзей для свидания со мной. Это было неожиданно и замечательно. Со своей стороны хочу поздравить весь коллектив с вступлением в 51-й год и горячо желаю театру пережить еще раз дни, полные пафоса вдохновенья и влюбленности в любимого автора.
О. Книппер-Чехова».[19]
Из Крыма дамы вернулись только зимой.
Ближе к концу года сдали «Заговор обреченных». По этому поводу участники фильма скромно покучивали по домам, да и по ресторанам тоже. Конечно, побивал все рекорды Вертинский, изобретая необыкновенные «фирменные» блюда. Его роль Кардинала оценивали очень высоко, он радовался как ребенок, и многие наши «загулы» бывали по его инициативе.
Зимой 1951 года Ольга Леонардовна как-то попросила меня помочь ей «в одном деле». По ее просьбе я сняла со шкафа у нее в передней черный кожаный чемодан гармошкой. Давая мне ключик, она сказала: «Открывай осторожно, он уже давно не открывался».
Когда я откинула крышку, руки у меня задрожали: это был чемодан Антона Павловича, и в нем лежали две батистовые сорочки, карандаш, пенсне со шнурком, рецепты длинного формата, прикрепленные резинкой к пузырькам.
Одна рубашка была завернута в папиросную бумагу, а другая, немного пожелтевшая, лежала отдельно.
«Мне нужно все точно распределить по музеям. В этой сорочке Антон Павлович скончался. Я не хочу отдавать ее такой. Ее надо выстирать и накрахмалить, как ту. Возьмешься?» В тот момент от растерянности и волнения я плохо представляла себе, как следует за это взяться, ведь прошло без трех лет полвека! Но я сказала: «Возьмусь».
Когда с этой сорочкой, завернутой в кусок батиста, а потом в бумагу, я явилась домой и рассказала все мужу, он заявил, что я авантюристка и нахалка. А что, если сорочка от моих стирок «поползет»? Но отступиться я не могла. Обернув сорочку куском марли, опустила ее в разведенную теплой водой мыльную стружку (химии у нас тогда не было) и стала осторожно отжимать. Проделав эту процедуру несколько раз, меняя воду, я постепенно стала успокаиваться: материал не «полз», значит, сорочку можно полоскать и крахмалить. Гладила через кусок очень тонкого батиста, в котором я ее принесла.
Все сошло благополучно. Когда я принесла свою «работу», Ольга Леонардовна при мне завернула ее в папиросную бумагу и положила вместе с ненадеванной. «Спасибо тебе», — и провела рукой по моему лицу.
Кажется, в эту же зиму Ольга Леонардовна пригласила нотариуса, и весь чеховский материал был точно распределен по музеям: в Ялту, в Москву, в Музей МХАТа и в музей в Мелихове.
До лета 1951 года память не подсказывает особенных событий, разве что 50-летие Вадима Васильевича Шверубовича, на которое мы были приглашены на Николину Гору вместе с Михальским.
Долго придумывали, что подарить, и наконец в антиквариате в Столешниковом переулке мне попалась старинная чернильница в виде остроносой туфли, с песочницей, но на ней была трещина. В магазине мне сказали, что это «елизаветинское время», что и утвердило меня в покупке. Михальский и муж похвалили меня, а мама, посмотрев, сказала: «От трех человек одну разбитую вещь, не знаю!» Мамина фраза потом долго ходила среди нас. На Николиной подарок оценили.
Помнится, что в 1951 и 1952 годах летом мы жили в Пестове. В первый месяц отпуска я ездила с концертной бригадой — нужны были деньги. Мужу категорически запретили сниматься.
Зимой Николай каждый понедельник ездил в Валентиновку и однажды увидел, как какая-то стерва выкинула из электрички рыжую собаку, отдаленно напоминающую лайку или шпица. Собака забилась под лавку и стала скулить. Мужу не разрешали поднимать тяжелое, а собака на зов не шла — боялась. Какой-то добрый человек согласился донести ее до нашей дачи.
Зная довольно крутой нрав своей мамы, Николай Иванович сказал, что если собаке будет плохо, то ему будет еще хуже. Очень верный был ход.
Маркиз — так пышно был назван этот дворняжий «аристократ», жил по-барски и, что удивительно, по понедельникам бегал на станцию встречать мужа. Зимой брошенные собаки неизвестных пород, которых «добрые» родители брали для развлечения деток, а осенью, уезжая, бросали на погибель, эти «партизаны», как называл их муж, на приличном расстоянии тянулись за Маркизом и Николаем Ивановичем. Для «партизан» по понедельникам варился в большом тазу «кондёр», и они дружно ели, не обижая друг друга, а «титулованный» питался отдельно и более изысканно. Этот пес был с мужем все время. Он был очень деликатен, но право ходить или сидеть рядом, у ноги, для него было незыблемым.
Наступил 1953 год, а с ним события, захлестнувшие всех, как могучей волной девятого вала. В марте кончился Сталин. Почти целую неделю публиковали бюллетени о его состоянии (а он уже был мертв). Наконец объявили о смерти. Начались митинги, у нас в театре тоже был митинг. В президиуме довольно много народу, в центре — Кедров, плакал, не скрывая слез.
С момента сообщения Москва загудела. Гремели крыши, по которым московские мальчишки бесстрашно пробирались к Дому союзов. Первая ночь была бессонной — и от самого известия, и от того, как волнами накатывался с улиц гул, крики и свистки милиции.
Известно, какое огромное количество людей погибло, задавленное возбужденной толпой, неуправляемыми потоками стремящейся отовсюду к Колонному залу Дома союзов, где лежал теперь уже не страшный всемогущий наш хозяин. Но откровенно выражать свои чувства опасались — всесильный Берия был еще жив.
Первую половину отпуска мы провели с мужем в Пестове, а в августе в Ялте должны были состояться большие торжества: открытие памятника Антону Павловичу Чехову, которое приурочили к 90-летию Марии Павловны.
Мужу очень хотелось поехать в Крым. Я на эту тему говорила с профессором, наблюдавшим его, и он довольно спокойно разрешил — при соблюдении строгого режима: прогулки только с 6 до 8 утра, остальное время — в покое в тени.
В Гурзуфе в домике Ольги Леонардовны одновременно с нами жил Виталий Яковлевич Виленкин, а неподалеку на «Вилле роз» снимали комнату наши друзья Петровы. Ольга Леонардовна и Софья Ивановна жили в ялтинском доме. К нашему приезду в Гурзуф, где за нами очень хорошо ухаживала Капитолина Николаевна, пришло письменное распоряжение Барыни, чтобы Николай спал в ее комнате, где всегда прохладно. Головой к окну поставили раскладушку и, действительно, мужу там было очень хорошо.
Как только мы расположились в домике, я пошла на почту звонить в чеховский дом: здороваться, благодарить, передать приветы от Виленкина, мужа и Петровых. Через два дня мне было «приказано» явиться в Ялту.
Из Гурзуфа в Ялту ежедневно ходил катер, его причал был очень близко от «синей калитки». Иногда экскурсанты настойчиво рвались в садик, уверяя нас, что это музей. А один раз я подслушала монолог Капитолины Николаевны (это было в один из приездов в Гурзуф Марии Павловны): «Я же объясняю вам, господа гуляют, мадам моются (я была в виноградной беседке), пройдите в Ялту».
В чеховском доме я застала всех обитателей в большом возбуждении, только Ольга Леонардовна была спокойно-грустной, не совсем здоровой — одышка, отекали ноги. Ей стало трудно переносить жару. Она покорилась приказу врачей, но очень грустила о своем домике, понимая, что больше ей там не быть.
В то время у Марии Павловны гостила известный врач, доктор наук Ирина Еремеевна Кочнова, приехавшая специально на торжества. Мария Павловна была с ней очень дружна. С Кочновой я встречалась и раньше, и одно время мы даже жили вдвоем в «китайской» комнате.
Волнение было от того, что в день юбилея надлежало делать большой прием-ужин. По первым подсчетам приглашенных набиралось более 80 человек, и это повергало в панику всех обитателей дома. Кто-то предложил ресторан. Но Мария Павловна категорически отвергла: «Это срам». Стали осторожно сокращать количество гостей, и окончательно получилось человек 60–65. Сократили, например, всю семью Томашевских, соседей по Гурзуфу, на что обиделся Виленкин (я насплетничала), а Мария Павловна оправдывалась тем, что еле с ними знакома. Уж не вспомню, кого сокращали, спорили, но все «хозяева» Ялты, а их было довольно много, остались в списке гостей. Потом был «совет», как и где накрывать столы. Решено было в саду.
Недели за две я почти ежедневно бывала в Ялте, иногда даже с ночевкой. Откуда-то доставались столы и стулья в нужном количестве. Для ужина был приглашен повар с помощницей. Мы с Кочновой сортировали и подсчитывали посуду, приборы, рюмки, бокалы, взятые напрокат в ресторане. Только вазы и некоторые блюда были из дома.
Совсем незадолго до дня торжества случилось так, что Софья Ивановна, Ирина Еремеевна Кочнова и Елена Филипповна собрались наверху у Марии Павловны для окончательного составления меню. Ольга Леонардовна сидела на нижней террасе, и я осталась с ней. Я и раньше слышала рассказ Ольги Леонардовны о последнем дне и о кончине Антона Павловича в Баденвейлере. Но вдруг теперь Ольга Леонардовна, оперев голову на руку и глядя в сад, тихонько заговорила: «Ты знаешь, в канун того дня я ездила в Фрайбург. Антон Павлович попросил заказать для него светлый фланелевый костюм». И дальше, с мельчайшими подробностями, — и про русских студентов, которых она позвала, когда стало затруднено его дыхание, и о том, как он сам первый раз попросил врача, как кололи лед ножницами и ее шляпной булавкой, и про то, что теперь уже известно всем: «Я умираю» — по-русски и по-немецки, и последние слова: «Давно я, дуся, не пил шампанского». И как она осталась одна, и про огромную черную бабочку, бившуюся о стекло балкона…
В это время послышались шаги, Ольга Леонардовна замолчала, а Мария Павловна весело произнесла, проходя по столовой: «Что, невестушка, на родных жалуешься?» Конечно, она пошутила, а Ольга Леонардовна, вдруг уронив голову на стол, громко заплакала. Мария Павловна очень испугалась, кинулась к ней, а Ольга Леонардовна стала извиняться, ссылаясь на нездоровье, и быстро ушла к себе. Я не стала говорить о причине слез, сказала только потом Софе.
Как мне тогда было ее жалко! Я поняла, как не просто все складывалось и при жизни Чехова, и после его кончины особенно. А теперь, в старости, они с Марией Павловной очень крепко и нежно любили друг друга…
Программа торжественного дня была построена так: в 11 часов утра выход обеих дам на крыльцо и их приветствие собравшейся публике. Читать его должна была я по причине зычности моего голоса — микрофонов тогда не было. В 12 часов — открытие памятника Чехову, затем короткая передышка, и в 5–6 часов вечера чествование Марии Павловны в городском театре и затем банкет в саду.
В тот день с первым катером я отправилась в Ялту с набором парикмахерских причиндалов, поскольку Мария Павловна решила, что причесать ее должна я. И помочь надеть парадный туалет — тоже я. Такая мне была оказана честь! Ольга Леонардовна еще не вставала, а я уже была в «светелке» у юбилярши.
Мы с мужем еще в Москве долго думали над подарком. И решено было заказать вязанную из хорошей шерсти кремовую пелеринку с вышитыми инициалами. Подарок понравился.
Очень хорошее серое скромное платье дорогого шелка висело на плечиках. Мария Павловна летом ходила в носках и теперь решила их надеть. Возник легкий «диспут». «Вы будете стоять на трибуне, и все увидят носки — нельзя». Убедила. Надели чулки. У Марии Павловны к тому времени осталось не так много волос, и они были тонкие, как пух, правда, не совсем еще седые. Для сооружения парадной прически этот пух надо было завить щипцами. По правде сказать, я трусила — вдруг сожгу, да и понравится ли прическа? Но когда, пробуя щипцы на своих волосах, я закрутила эти легкие пряди и, расчесав, уложила «раковиной», Мария Павловна осталась довольна. Была еще одна тонкость: орден Трудового Красного Знамени крепился на левой стороне платья, и туда же Мария Павловна захотела приколоть подарок императрицы Александры Федоровны — подобие маленького фрейлинского «шифра» с двуглавым орлом («Зёзя, но это же тоже награда!»). Уговорила заколоть у ворота, как брошку.
Наконец юбилярша была готова. С площадки доносился гул толпы. Софа звала меня к Барыне, а я еще была встрепанная и в халате.
Барыня моя бедная сидела, трудно дыша, ноги отекли так, что на легких полотняных туфлях ремешок не застегивался. «Расчеши мне голову, рук не поднять!» Еще густые волосы Ольги Леонардовны немного вились. Прямое свободное платье было удобным. И вдруг она сердито произнесла: «Нет на них Антона Павловича!» (это на суету и ажиотаж).
Я наспех привела себя в порядок. И наконец дамы и вся свита вышли на крыльцо. Народу было — не сосчитать, не сосчитать было и роскошных крымских букетов. Власти города скромно стояли в стороне. После ритуала приветствий и поздравлений с охапками цветов на нескольких машинах поехали на открытие памятника, где нас ждали и наши из Гурзуфа. Только муж приехал прямо в театр, когда спала жара.
В то время группа наших артистов находилась в Ялте и тоже выступала с приветствием юбилярше от театра. На сцене стояло парадное кресло, украшенное цветами, а по сторонам — места для президиума и для выступающих. Ольга Леонардовна сидела среди артистов Художественного театра.
Очень хорошо говорил от МХАТа Виталий Яковлевич Виленкин. Было и еще много выступлений. Говорили о любви, благодарности и глубоком уважении. Зачитывали приветственные телеграммы. Наши сыграли что-то чеховское. Пела племянница Марии Павловны — Евгения Михайловна Чехова, уже почтенная дама. За много дней до юбилея, когда стало известно о чествовании в городском театре, Мария Павловна, делая «страшные» глаза, говорила: «Оля, а вдруг Женя запоет, я боюсь!», на что Ольга Леонардовна произнесла свое обычное: «Глупости какие!»
Теперь несколько слов о банкете. Сад был освещен развешанными фонариками, а над столами сияли сильные лампы («творчество» электрика, приглашенного из Ялтинского театра). Мы, свои, довольно много суетились из-за стульев, которых все-таки не хватало, — выдергивали из-под себя, усаживая опоздавших. Было очень красиво и вкусно, много шампанского и замечательных крымских вин.
Мария Павловна, веселая, остроумная, была моложе всех и, как мне кажется, очень довольна. Памятник ей понравился, а Ольге Леонардовне — не очень. За столом Барыня была искусственно весела и как только позволил этикет, ушла к себе. Сказалось не только настроение, но нездоровье.
Я наконец, примостившись к концу стола, что-то жевала, а рядом был Каштанчик, и я потихоньку кормила его пирожками. Я уже писала, что на хозяйственном дворе жил старый цепной пес, а летом 1953 года появился еще один — молоденький песик, отдаленное подобие рыженькой таксы, конечно, по прозвищу Каштанчик. Мы с ним очень быстро подружились. Когда он проглотил довольно много пирожков, я заметила, что он продолжает просить, но не ест, а хватает и куда-то бежит. После третьего его исчезновения я решила проследить за ним. И что же? Оказалось, этот малыш с пирогом в зубах бежал через сад к старому псу: прибежал, деловито «выплюнул» пирог, подождал пока старик лениво прожует, и тут же — за следующей порцией. Поистине, в чеховском доме — чеховские собаки!
Мужа я нашла на скамейке вдали от стола и поняла, что нам надо ехать. Машину до Гурзуфа я раздобыла без труда у именитых гостей, и мы потихоньку исчезли, я только простилась с Ольгой Леонардовной. Она сказала мне: «Вези скорей и укладывай, пусть весь день лежит в моей комнате».
Помню, что Софа послала с нами Капитолине Николаевне какой-то сверток и бутылку. Наши, гурзуфские, приехали в конце ночи довольные. Дня два я в Ялту не являлась — тоже, конечно, устала. Но по телефону звонила аккуратно.
Так прошло это историческое, последнее для всех нас лето. Мы скоро уехали к началу сезона, а Ольга Леонардовна и Софа — осенью. Больше Ольга Леонардовна в Крым не ездила.
С начала нового сезона мужа назначили заведовать труппой. Я очень его отговаривала, боясь такой нервной нагрузки, но аргумент был такой: «Что ж, я совсем инвалид? Ни сниматься, ни играть?» Я подчинилась, а тут еще и Кедров занял его в роли солдата в пьесе «Залп “Авроры”» — роль активная, даже шумная.
С труппой у него контакт наладился. К нему приходили для откровенных бесед, причем не только молодежь, но и среднее поколение. Я знала, что все эти беседы он конспективно записывал в толстую черную тетрадь, для памяти. В театре ему отвели кабинет, где в секретере под ключом хранились эти записи и еще несколько книг, имеющих отношение к структуре труппы в старых театрах.
К концу 1953 года выпускали «Залп “Авроры”». 30 декабря Дорохин должен был играть в этом новом спектакле. Дома напряжение все увеличивалось, любой пустяк воспринимался мужем очень нервно.
На следующее утро после спектакля — 31 декабря — Николай чувствовал себя бодро, не жаловался на плохое самочувствие, только почему-то очень торопился. На мои слова, что времени еще много, сказал: «А надо успеть». И стал приклеивать от старого отрывного календаря на новый — настольный — листок «31 декабря 1953 года». Я спросила, зачем. А он мне в ответ: «Переживем — оторвем». Этим же утром завел старинные часы с боем, стоящие на секретере, — он всегда заводил их сам.
Встречать Новый год мы, как обычно, были приглашены к Ольге Леонардовне. Вернувшись из театра к обеду, муж вдруг спросил: «А что, мы только у Барыни всегда будем встречать?» Я стала что-то говорить о возрасте Ольги Леонардовны и в ответ услышала: «Я пошутил».
После короткого отдыха он стал собираться в театр. В те времена была традиция: 31 декабря, перед спектаклем, дирекция, администрация и зав. труппой обходили актеров и всех занятых в спектакле с новогодними поздравлениями.
Не помню, какой спектакль давали на большой сцене, а в филиале шел «На дне». И опять муж все меня торопил. Вечерний костюм, орденские планки и лауреатские медали — ему казалось, что я все делаю медленно, — крахмальная рубашка, запонки… «Скорей, скорей!» И вдруг раздраженно: «А лакированные туфли ты в гроб бережешь?» Я что-то ответила, тоже раздраженно, и поставила перед ним эти туфли. Оставалось больше часа до начала вечерних спектаклей, когда он уехал на большую сцену: уже было трудно ходить пешком — одышка. Никаких предчувствий у меня не было. Мне нездоровилось, я была после простуды.
Из театра муж вернулся около десяти часов, снял весь «парад», прилег на диван и стал рассказывать о «закулисье»: и как нас звали потом прийти в ВТО, где встречало много наших, и о том, как Валя Дементьева вдруг встала перед ним на колени и стала просить о звании, и как он, тоже на коленях, пытался ее успокоить.
У нас было заведено, что в эту ночь мама приходила к нам. Мы открывали шампанское, поздравляли друг друга и потом уходили. И в этот раз Николай откупорил бутылку и, разлив вино в четыре бокала, весело сказал: «Три Софьи — надо загадать желание!» (с нами была и наша работница Соня). Крутанулся между нами тремя и опрокинул на меня шампанское. Тут же стал что-то говорить о том, что купит новое платье, чтобы я не сердилась. А я и не сердилась. Сказала, что пойду так — высохнет! Большого парада у Барыни не ожидали: Лев Книппер с женой, Вадим Шверубович с женой, ждали кого-то еще — забыла.
Мы вышли из дому в начале двенадцатого. Уже у подъезда дома № 5/7 встретили знакомых. Муж пошел с кем-то из них к лифту, а я осталась немного подышать. Через несколько минут я поднялась в квартиру. Мужа не было, и тут я испугалась — где? Раздался звонок, и вошел совершенно белый Николай, снял пальто и сказал: «Мне плохо, валидол». Я протянула нитроглицерин, но он боялся его принимать (все лекарства я всегда носила с собой, и в его карманах они всегда тоже были). Тогда я сунула две таблетки валидола ему в рот, мы шагнули в столовую, и тут, согнувшись пополам, он упал лбом на мои туфли. Упал, опрокинув корзину цветов со стола у двери. Вбежал Лева, Софа звонила Иверову, от соседей звонили в «Скорую». А я, стоя в дверях, видела его последние судороги и как лицо его из белого стало лиловым.
Прибежал Иверов, кому-то звонил, посадил меня на сундук в передней и закрыл дверь в столовую. Ольгу Леонардовну не выпускали из Софиной комнаты. Через несколько минут Алексей Люцианович прошел к Софе, держа в руках медали, часы и еще что-то.
Приехала «скорая», принесли носилки. Леля — жена Вадима, стоя в дверях на лестницу, сказала мужу: «Не ходи туда, там умер Коля Дорохин». Вадим, отстранив ее, быстро прошел в столовую.
Вынесли носилки, и я увидела из-под простыни лакированные туфли. Понесли по лестнице. К этому времени рядом со мной были Андрей Алексеевич Белокопытов и его жена — Галина Ивановна Калиновская. Очевидно, дом уже знал. В машину «скорой» меня не пустили. Когда они отъезжали, часы на Спасской отбивали двенадцать. Вот так быстро все кончилось.
…Вошли к нам. Андрей Алексеевич, увидев приготовленную на диване постель Николая, громко заплакал. В голос зарыдала наша Соня, когда я сказала: «Скончался». Мама молча сразу ушла в маленькую комнату при кухне и до утра не показывалась.
Я решила почему-то, что мне нужно идти обратно, и все, кто привел меня, покорно повели меня в квартиру Ольги Леонардовны. Я посидела минуту на сундуке, Ольга Леонардовна и Софа меня даже не видели. Я опять захотела домой, и все, кто со мной был, повели меня назад. Уже прибежали, бросив гостей, Раевские, Ольга Лабзина и Петр Селиванов. Кажется, был еще кто-то.
Я позвонила брату мужа и попросила подготовить родителей. Позвонила я и Евгении Алексеевне Хованской, так как утром я должна была играть леди Снируэл в «Школе злословия», а она еще совсем недавно играла эту роль, объяснила, почему прошу заменить меня.
Начались звонки. Первым позвонил Алексей Грибов, спросил, надо ли приехать? Я просила говорить всем звонившим, что не надо.
Часа через два мне очень захотелось остаться одной, и я сказала об этом. Сказала, что все сделаю сама. Постель мужа я убрала, накрыла свою кровать, как делала это каждый день, потом стала убирать в гардероб дневной костюм мужа, дневную его сорочку и обувь.
Я сидела на своей застеленной кровати, даже не сообразив, что можно прилечь. Мокрую свою концертную кофту я сняла и надела Колин тонкой шерсти жакетик, он носил его вместо жилета.
Часов в 7 утра приехала сестра мужа Софья Ивановна из Валентиновки и сообщила, что Прасковья Артемовна сидит внизу — лифт на ночь отключили. Я сказала, что буду на Станкевича скоро.
Во время моего ночного сидения наш кот Никитка все прыгал ко мне на руки. Я его сниму, а он опять, и так до прихода Софьи Ивановны. Когда я хотела встать к ней навстречу, у меня отказали ноги, но это быстро прошло.
В 9 часов утра я позвонила в гараж и попросила отвезти меня на улицу Станкевича, чтобы увидеть свекровь и родных. Встреча была тяжелой, мне не во всем верили, я это чувствовала. Уже были слухи, один нелепее другого.
Иван Кириллович остался на даче с собакой. Потом мне рассказали: Маркиз в половине двенадцатого завыл, вбежал в дом и упал. Подумали, что он умер, и свекор отнес его в холодные сени, где через какое-то время Маркиз стал опять выть.
А заведенные мужем часы с боем остановились в момент его смерти — в тридцать две минуты двенадцатого.
Я вернулась домой. Скоро стали приходить друзья и товарищи. Первым пришел Миша Болдуман (его жена Катя была неизлечимо больна). Я даже приблизительно не могу сказать, сколько побывало у меня людей, так много было их, любивших Николая Дорохина и сочувствующих мне. Нина Ольшевская, Нора Полонская и Ирина Вульф по очереди ночевали на моей постели, а я на Колином месте старалась спать.
2 января была заочная панихида в Брюсовской церкви. Помню дрожащего Ивана Кирилловича с постаревшим лицом.
Вадим Шверубович сказал мне, что Колю привезут в театр после вечернего спектакля — это было воскресенье, — чтобы в понедельник, четвертого, была гражданская панихида и похороны на Новодевичьем. Пришла телеграмма от Фадеева из «Кремлевки» (его в те годы часто определяли в больницу). Очень много было писем и телеграмм — целый портфель.
3 января, часов в 11 вечера ко мне пришли Павел Массальский и Василий Орлов. Надо было ехать в Институт Склифосовского за Колей.
Почти все время в эти дни со мной была Татьяна Сергеевна Петрова — жена выдающегося хирурга Бориса Алексеевича Петрова. Когда спустились на улицу, я не сразу поняла, почему так много людей и легковых машин. Я ехала в машине Петровой. У морга меня из машины не выпустили. Когда перед нами появилась большая черная закрытая машина, мы все поехали за ней. Подъехали к нашему дому, на минуту вышли постоять — и в театр.
Наверное, было около часу ночи, когда гроб внесли в нижнее фойе. Родители мужа и все его родные были уже в театре. Гроб был обит куском материи от старого занавеса с орнаментом театра. Николай лежал как живой, только маленький след на переносице от удара о мою туфлю при падении.
Несмотря на поздний час, народу было много. Меня подвели к стайке студенток третьего курса Школы-студии, где преподавал Дорохин. Там были Галина Волчек, Мила Иванова, Аня Горюнова, остальных назвать сейчас затрудняюсь. Все они проявили ко мне трогательное внимание. Я и сейчас это помню и благодарна им, а Галина Борисовна Волчек и теперь, достигнув большой высоты, всегда называет Николая Ивановича Дорохина своим учителем. Благодарю ее за добрую о нем память…
Панихида в театре была очень многолюдной. Из выступавших помню Юлия Яковлевича Райзмана — он очень хорошо говорил. Помню Александра Николаевича Вертинского. Подходя к гробу, он осенил себя широким крестом (2 января я получила от него замечательное письмо). Приехали на панихиду Ольга Леонардовна и Софья Ивановна. Было много венков. Был венок и от художника Николая Николаевича Жукова — они с мужем учились в одном классе Елецкой гимназии. Помню плачущего Артемия Шлихтера.
Мама была такой белой, что я уговорила ее, чтобы после выноса они вместе с Соней поехали домой. Их отвез наш шофер, а потом поехал на кладбище, чтобы после похорон отвезти родителей мужа.
Зазвучали фанфары, начался вынос. На улице стояла большая толпа. Ехало несколько автобусов, впереди два грузовика с венками. Во главе процессии — милиционер на мотоцикле. На Пироговской остановились у Военной академии, на ступеньках были построены военные, и духовой оркестр играл похоронный марш — последнее спасибо военных.
На кладбище тоже было многолюдно. Когда стали заколачивать крышку гроба, я куда-то «поплыла». Татьяна Сергеевна Петрова и Сева Санаев потащили меня к машине. Привезли прямо к Ольге Леонардовне. Оказывается, она так распорядилась. Какое-то время я сидела в Софиной комнате. Пришла в себя не сразу.
Появился Алексей Люцианович Иверов и сунул мне в рот бомбочку — такую же, как я в Пестове давала мужу. Очнулась я через два часа.
И узнала, что у Ольги Леонардовны и у всех друзей в нашем доме были устроены поминки. У нас в квартире тоже, и у родителей мужа, а кто-то поминал в ресторане. И только я «проспала» это время.
Когда 8 января я пришла в театр, чтобы отдать ключ от секретера в кабинете мужа, наш партийный секретарь Сапетов вернул мне цепочку от ключа и отдал несколько книг. Я спросила про черную тетрадь и услышала, что «ее там нет». Моя попытка настоять не имела успеха. Я помню слова Раевского: «Ты что же, нам не веришь?».
Спустя некоторое время многие актеры из тех, кто бывал у мужа, спрашивали, у меня ли тетрадь. Я рассказала им, как было дело. Получилось, что Николай Иванович невольно навредил своим товарищам: трудное было время в театре и трудные были взаимоотношения труппы с руководством.
Шестого января я играла Бетси в «Анне Карениной». Седьмого — Марьет в «Воскресении», а потом слегла дней на десять. Шестого января я попросила моих дорогих подруг больше не стеречь меня. Надо было справляться самой…
Часть VI
1954–1970 годы
В январе 1954 года меня пригласили преподавать в нашей Школе-студии. Это мои друзья — Шверубович, Паша Массальский, Виленкин, Станицын, Блинников, Раевский и сам тогдашний директор Вениамин Захарович Радомысленский — захотели помочь мне выстоять, определив меня на курс, которым руководил Дорохин вместе с Каревым.
Я попросила Радомысленского не зачислять меня в штат до нового учебного года, чтобы я могла проверить себя, справлюсь ли с такой ответственной работой. Боялась я своих учеников до ужаса. А они очень хорошо меня приняли, но тем страшнее было не оправдать их отношения. С осени меня зачислили старшим преподавателем.
А дома было очень плохо. Мама так и не смогла оправиться от нашей беды, стала как-то угасать.
Во время весенних гастролей театра (Львов и потом Одесса) со мной трогательно возилась Леля Лабзина. Александр Александрович Фадеев позаботился о моем отпуске — вдруг позвонил и стал спрашивать, куда я еду на отдых — а я и не собиралась никуда, — этот золотой человек уговаривал меня ехать в «Суханово» и достал мне путевку. Это был мой последний отдых до лета 1958 года.
Маму периодически клали в больницу. Ее старался подлечить Александр Александрович Вишневский, но сердце и сосуды, замученные всей жизнью, постепенно отказывали.
В начале октября 1957 года маму на носилках привезли из больницы ко мне. Моя дорогая помощница, наша Соня, ухаживала за мамой самоотверженно. В помощь ей была нанята еще одна женщина. Они заботились о маме днем, а я ночами.
Мама скончалась 4 ноября 1957 года. Урну с прахом мне удалось захоронить в могилу мужа.
Со дня похорон и потом меня поддерживали и старые друзья, и, конечно, дорогая моя Барыня, и студенты второго курса Школы-студии, которым руководил Станицын, а я была в составе педагогов.
Этот курс для меня особый — и по творческим, и по человеческим качествам. Пожалуй, это единственный курс, выпущенный в 1959 году, который до сегодняшнего дня остался единой семьей. Они едины и в радости, и в горе, а главное — все они стали не только талантливыми артистами, но и настоящими людьми. Вот их имена: Маргарита Жигунова-Лиепа, Алла Покровская, Наталья Журавлева, Елена Миллиоти, Галина Марачева, Татьяна Лаврова, Нина Скоморохова, Вячеслав Невинный, Александр Лазарев, Евгений Лазарев, Владимир Кашпур, Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Измаил Гамреклидзе, Геннадий Фролов.
В день похорон мамы ко мне пришел высокий, очень худой, молоденький Слава Невинный с письмом от курса и Школы-студии со словами сочувствия моей беде.
В последующие годы работы со студентами в сердце у меня остались Валерия Заклунная, Лебедькова, Корюшкина, Филиппова, Артамонов.
Многие, давно окончившие, иногда вспоминают и говорят мне добрые слова — спасибо им!
Вспоминается мне, как на третьем курсе Виктор Яковлевич Станицын взял для работы акт из булгаковского «Бега», и как к нам на прогон пришла Елена Сергеевна Булгакова с младшим сыном Сергеем. Это были для нее трудные времена. Незадолго до этого она схоронила своего старшего сына Женю, мучительно умиравшего на ее руках. А в материальном смысле жизнь ее была просто бедственной. Это был период полного запрета творчества Михаила Афанасьевича Булгакова. Она была тронута и взволнована тем, что хоть в нашей Школе-студии не побоялись взять для работы «крамольного» автора. Вот с этого времени мы опять стали часто встречаться и верно дружить.
…В то горькое время опорой мне была Ольга Леонардовна, ее дом, ее такое доброе отношение ко мне. Она была уже очень слаба, никуда не выезжала, а главное, отказывали глаза — глаукома. Она уже не могла читать и короткие записки и надписи мне на фотографиях писала вслепую. Говорила, что ей стыдно жить: все сверстники, старые друзья и партнеры давно поумирали, «А я все живу». Даже пасьянсные карты она едва видела через сильную лупу. А ночами, когда уходил сон, Ольга Леонардовна проигрывала про себя любимые чеховские роли и говорила, что только сейчас понимает, как нужно было играть.
В трудное для меня в театре время Ольга Леонардовна как-то сказала: «Если бы ты не была близким мне человеком, я бы поехала в дирекцию говорить о тебе». Я очень горжусь этой фразой — раньше о близких было не принято хлопотать.
Еще с конца 1954 года я перестала участвовать в концертах. Прежний репертуар для меня был закрыт — мне было 43 года. Замечательные артисты, партнершей которых мне довелось быть, состарились. Добронравова, Хмелева уже не было. После мучительной болезни скончался бедный Иван Кудрявцев. Ливанов начал заниматься режиссурой и играл уже возрастные роли. Но я очень много работала в Школе-студии — это помогало меньше думать о мучительных событиях, выпавших на мою долю.
В театре были люди, очень хорошо относившиеся ко мне, были и верные друзья: Грибов, Ольга Лабзина, Василий Орлов, Гриша Конский и, конечно, семья Вадима Шверубовича. А вне театра, разумеется, Александр Александрович Вишневский, замечательный хирург и ученый. Почти каждый мой отпуск начинался с того, что недели на две меня укладывали в его институт. Он же устраивал меня много раз для лечения и отдыха в военный санаторий «Архангельское». Этому человеку я обязана очень многим и всегда вспоминаю его с благодарностью.
Осенью 1955 года Александр Александрович Фадеев спросил меня: что я делаю для реабилитации отца? Узнав, что я плохо понимаю, с чего надо начать хлопоты, он составил подобие краткого конспекта, о чем и куда надо писать. А был он, как известно, депутатом. Когда я стала говорить, что депутат моего района такой-то, то в ответ последовало: «Я думал, ты сообразительнее». И опять его уложили в «Кремлевку», и все нужные бумаги, по его указанию, я передавала через Ангелину Степанову — она была очень доброжелательна ко мне.
Очень скоро меня вызвали на улицу Воровского и после коротких и мучительных вопросов приказали явиться за документами о посмертной реабилитации.
В своей просьбе на имя Фадеева я писала и о Елене Густавовне Смиттен. Когда в назначенный срок я пришла за документами, мне дали две небольшие бумажки — «справки» — с таким текстом каждая: «В виду отсутствия состава преступлений считать невиновным». Все.
Потом меня вызвали на Кузнецкий мост, в печально известный дом со входом со двора, очень любезно предложили сесть и
сообщили о смерти отца, вручив свидетельство с датой смерти: декабрь 1941 года. Еще я получила опись вещей, принадлежащих отцу, на предмет денежной компенсации. Последними в этом списке были часы марки «Заря».
Как можно спокойнее я сказала военному, который меня принимал, что обстановка в квартире отца была казенной, из личных ценных предметов были швейцарские золотые часы — подарок его отчима, большая, очень ценная библиотека, несколько групповых снимков с Лениным и Дзержинским с их автографами, а в сейфе служебного кабинета — именное оружие. После паузы он сказал: «Вы же получите деньги». Тут, не сдержавшись, я ответила резкостью. «У вашей матери будет хорошая пенсия». На это я ответила, что прокормлю маму сама.
Больше на Кузнецкий меня не приглашали, но я получила одну за другой повестки с приглашением в какой-то финотдел для получения денег. После третьей повестки меня оставили в покое.
Примерно в это же время в театре ко мне подошел музыкант из нашего оркестра и, отведя в сторону, спросил, хочу ли я и не побоюсь ли встретиться с одним нашим давним знакомым, который был репрессирован. Я дала свой телефон и сказала, что буду ждать звонка. И вот мы встретились.
В моей памяти это был интересный, лет тридцати, образованный человек, работавший на ответственном посту. Отец его был очень уважаемым юристом и давно состоял в партии. Теперь передо мной сидел неузнаваемый старик с протезами вместо ослепительных зубов, с лысой головой. Правда, голос почти не изменился, и только это заставило меня поверить, что это действительно он. Наше свидание продолжалось несколько часов. Его рассказ был так мучительно страшен, что я с трудом справлялась с собой.
В 1936 году его отца и мать арестовали. Они оказались в разных тюрьмах. Оба выжили. В то время, о котором я пишу, отец его уже умер в кремлевской больнице, а мать находилась в психиатрической лечебнице. Его прелестная молодая жена так и пропала — не отыскали.
Самым страшным для меня был рассказ о моем отце.
Вначале этот мой знакомый содержался в Сухановской тюрьме, куда в октябре 1937 года пригнали большую группу заключенных, среди которых был и мой отец. Оказывается, всех их много дней возили вокруг Москвы в наглухо закрытых товарных вагонах, создавая видимость отправки на Крайний Север. Через какое-то время мой отец, очевидно, был переведен на Лубянку.
Рассказывал мой гость, щадя меня, не упоминая, что делали с отцом, как его мучили. Но мысли о том, что давало моему несчастному отцу силы, о чем он думал перед своим концом и где зарыт его прах, не оставляли меня.
Мама в те дни находилась в клинике, и я передала ей в записке, что занятость не позволяет мне навестить ее в течение трех дней — это чтобы немного отдышаться. Я боялась, что не смогу вести себя с ней, как обычно. Мама не должна была знать об этой встрече. Да и сама я узнала все о гибели отца значительно позже.
В журнале «Театр» в 1991 году была опубликована статья Аркадия Иосифовича Ваксберга «Окровавленные сюжеты. Драматургия факта». И в ней говорилось о моем отце: «Одним из первых попал под метлу председатель специальной коллегии Верховного суда СССР С. С. Пилявский, отец известной актрисы МХАТа Софьи Станиславовны Пилявской. Этот старый революционер, член социал-демократической партии Польши и Литвы, а затем — с октября 1903 года — большевик, отличался независимостью суждений и крутым нравом. Он нередко возвращал в НКВД дела, которые считал расследованными плохо и тенденциозно. Этого, видимо, было достаточно, чтобы его объявить членом террористической шпионской диверсионной «Польской организации войсковой» (несуществующей, разумеется).
Допрошенный, судя по протоколу, один-единственный раз, он категорически отверг все обвинения, устоял под пытками и никаких признаний не подписал. Держался исключительно стойко, хотя его «уличали» другие «польские террористы», в том числе видный деятель партии, ВЧК-ГПУ и Красной Армии Уншлихт, который, отказываясь от своих показаний в суде, сумел лишь вымолвить: «Я не смог перенести пытки».
Пилявский смог. Его судили без участия Ульриха — Никитенко, Горячев и Рутман.
Приговорили к расстрелу. Уничтожили в тот же день: 25 ноября 1937 года. По слухам, доходившим до семьи, назывались другие даты его гибели: все они ложны — «акт о приведении приговора в исполнение» сохранился…»
Я бесконечно благодарна Аркадию Иосифовичу Ваксбергу за то, что узнала всю правду, какой бы страшной она ни была.
Прошло довольно много времени, прежде чем я смогла написать Александру Александровичу Фадееву письмо с благодарностью за все, что он для меня сделал. Он все был в разъездах — то за границей, то по Союзу. В начале мая 1956 года я отнесла письмо к дверям его квартиры и опустила в ящик для газет, в обход секретаря.
Через несколько дней Александр Александрович позвонил. Мне показалось, что он взволнован. Помню, как дважды он повторил: «Спасибо тебе!» Я даже растерялась и стала убеждать его, что это мне надо его благодарить. А вдруг услышала: «Уж ты постарайся жить хорошо». И еще что-то в этом роде, а голос чуть срывался.
Я и подумать не могла тогда, какое это мучительное было для него время. Ведь очень мало кто знал, как он пытался спасать людей, глядя в страшные глаза «великого кормчего». Мне уже потом рассказывал адмирал Головко (он был женат на нашей актрисе Кире Ивановой), что он не знал человека отважнее Фадеева, наблюдая его в узком кругу «Самого». «Он становился белым, потом лиловым, пытаясь возражать, но что он мог поделать?» Это подлинные слова Арсения Григорьевича Головко, и я ему верю.
…В те дни часть нашего театра была на гастролях в Югославии, Ангелина Степанова тоже, а оставшиеся заканчивали сезон в Москве. С 15 мая предстояли гастроли в Запорожье и Днепропетровске.
13 мая мне позвонила Софа и сказала, чтобы я после студии пришла, так как Барыня зовет кое-кого из оставшихся в Москве. Должны были прийти Шверубович, Лев Книппер, Виталий Виленкин и, кажется, Павел Марков. Я забежала домой привести себя в порядок, и Соня сообщила: «Какая-то все звонит, но я забыла, кто».
Когда я пришла к Ольге Леонардовне, уже ужинали, и меня стали кормить, как мне показалось, как-то торопливо. Потом Софа, Вадим и Виленкин, позвав меня в комнату Софьи Ивановны, посадили на стул, и тут я услышала: «Сегодня скоропостижно скончался Фадеев».
Меня как ударили. Какие-то минуты сказать я ничего не могла, и в это время позвонила Валерия — сестра Ангелины и личный секретарь Александра Александровича, и очень настойчиво, даже не просила, а требовала, чтобы я шла в квартиру Фадеевых, так как будет звонить Ангелина, и она боится одна с ней говорить. И я поплелась.
В столовой за накрытым столом мать Ангелины и Валерии пила чай. В углу дивана сидел старший сын Шура — абсолютно белый. За все время он не произнес ни слова. А я, не зная настоящей правды, все задавала вопросы, думая, что это сердце. Мне не возражали, но и ничего не рассказывали. Звонок из Югославии был во втором часу ночи. Лина уже знала, так что моя помощь была ни к чему.
Около трех ночи я притащилась домой, а утром мне надлежало быть в конторе театра ЦДСА. Нужно было заполнить анкету для отъезда с бригадой Большого театра в ГДР. Подавая мне листы анкеты, женщина, сидевшая в служебном кресле, воскликнула: «Подумайте, Фадеев застрелился!» Я обомлела и все пыталась возразить, опираясь на факт моего присутствия в его доме. Женщина протянула мне экземпляр «Правды», где было крупно набрано, что в припадке болезни (с намеком на алкоголизм) покончил жизнь… и еще какие-то пышные слова. С трудом я стала соображать, что на мои вопросы, как он скончался. Валерия мне так и не ответила…
Я пошла к Ольге Леонардовне. Оказалось, что вчера вечером они уже знали правду, но решили, что мне все расскажут в доме Фадеева.
Ольга Леонардовна очень горевала, они дружили, и Александр Александрович говорил ей «Ольга — ты». Я помню, как она просила его, чтобы Союз писателей принял в подарок от нее Гурзуфский домик на память о Чехове, а он, сокрушаясь, объяснял ей, что закон это запрещает. А в ответ слышалось ее обиженное: «Глупости какие!» (По этой же причине ей отказала и дирекция театра, и тогда она продала этот домик художнику Мошкову.)
В этот же день мне позвонила Ольга Николаевна Андровская и сказала, что 15 мая Николай Степанович Тихонов и Всеволод Вячеславович Иванов просят нас поехать на аэродром встретить Ангелину.
В назначенное время за нами заехали. В одной машине — Тихонов, Иванов и мы с Андровской, в другой — Валерия Осиповна с Шурой и Мишей. Ожидали мы где-то на поле у выхода, под навесом, где были стулья. Очень скоро после посадки самолета кто-то подошел к Ангелине и повел ее в сторону. Все молчали, она обняла за плечи сыновей, в руках у нее была «Правда». Поехали на квартиру. Тихонов предупредил, что через час будет машина, чтобы ехать в Колонный зал, и они с Ивановым уехали.
На какие-то минуты мы остались с Линой одни, и она начала пересказывать газетное сообщение, вполне соглашаясь с написанным. Тут я начала было говорить, что мне не надо… и осеклась, услышав вопрос Лели Андровской: «Что — не надо?» Мы стали собираться в Дом союзов. Кажется, сыновья остались дома.
В закулисном фойе было множество людей, к Лине бросился Корнейчук, и они, обнявшись, очень горько плакали. Я прошла к гробу. Еще не пускали поток людей, ожидавших на улице, и в зале было мало народу. Леля Андровская, плача навзрыд, не сразу подошла к нему, а я, стоя очень близко, увидела его прекрасное, такое спокойное, свободное лицо, такое гордое в оправе серебряных волос. Он сам свершил суд над собой — без вины виноватым. Три пальца его правой руки были покрыты серым налетом, очевидно, от пороха. И можно было прижаться лицом к этой благородной и такой отважной руке.
16 мая была гражданская панихида и похороны на Новодевичьем кладбище. Сутра Леля Андровская и я опять были с Ангелиной. С Валерией, кажется, был старший сын Шура, Мишу не взяли — ему нельзя было показывать отца в гробу. В этот день к вечеру я уезжала в Запорожье, на спектакль. Мне можно было оставаться только до выноса. Огромные толпы людей заполняли тротуары. Гроб выносили через широкий людской коридор, а мне пришлось проходить через оцепление и торопиться к дому.
Вечером 17 мая — в день моего рождения, ко мне в гостиничный номер в Запорожье пришли Гриша Конский и Владлен Давыдов и стали жадно расспрашивать: они уехали из Москвы 13 мая.
Я догадалась взять с собой из дому бутылку коньяка и какой-то еды, и мы помянули дорогого нашего друга…
А теперь то, что стало известно потом. К Ольге Леонардовне заходил Константин Александрович Федин, и вот его рассказ.
12 мая Александр Александрович зашел к Маршаку, пробыл недолго, был спокоен, даже острил. Когда он ушел, секретарь Самуила Яковлевича, очевидно, очень умная и чуткая женщина, сказала Маршаку: «Верните его, у него пустые глаза». Но Самуил Яковлевич не поверил ей, не вернул. Фадеев пошел к Твардовскому, но того в Москве не было. К вечеру, приехав в Переделкино, он зашел к Федину, также ненадолго, потом еще в один дом, мне неизвестный.
На даче в Переделкино жили его любимый сын Миша, лет одиннадцати, одна старая журналистка — имя я забыла (у них всегда кто-нибудь жил) и домработница. Поздно вечером Александр Александрович сказал ей, что ночью будет работать, и просил, чтобы она на следующий день в половине третьего позвала его к обеду. А она послала Мишу. Открыв дверь, мальчик закричал: «Папа застрелился!» — и потерял сознание, началась паника. Мишу отнесли к Фединым, он долго находился в шоке.
Через короткое время приехала большая группа военных во главе с генералом КГБ. Дача была оцеплена. Сразу изъяли большой конверт, где было написано: «В Правительство». Что было в том конверте, тогда никто не узнал. Да и теперь точно никто не знает.
Осенью, уже после гастролей и моей поездки в Германию, главный хирург Института Склифосовского Борис Александрович Петров рассказывал, что он присутствовал на вскрытии тела Фадеева, говорил о величине его мозга и о том, что не было цирроза печени, от которого его лечила «Кремлевка». Александр Александрович был вполне здоров и перед концом абсолютно трезв. Выпил лишь несколько глотков сухого вина — очевидно, как сказал Петров, мучила жажда. Рассказывал это Борис Александрович на Николиной Горе у Шверубовичей.
Подробности последнего вечера совпали с рассказом Валерии (и о просьбе к домработнице — тоже). Когда Валерия примчалась на дачу, его уже увезли. И еще одна подробность: спальня (и одновременно кабинет) помещалась на втором этаже дачи. Чтобы не услышали выстрела, Александр Александрович положил на грудь одеяло и завернул на себя наматрасник. Стрелял из своего боевого нагана. Когда Миша его увидел, он был уже холодным.
Спустя много времени стала известна одна его фраза, сказанная ленинградской поэтессе Ольге Берггольц. Он дружил с Берггольц и довольно долго был в блокадном Ленинграде. Как-то на ее гневные слова, что он не защитил кого-то, не сдержавшись, Александр Александрович ответил: «Тебе бы, Ольга, молчать, ты не знаешь, какую беду я отвел от тебя». Зная о ее пребывании в тюрьме, думаю, что речь шла о ее жизни.
До конца дней я буду благодарна судьбе за радость и честь дружбы с Александром Фадеевым.
В театре особенных событий не происходило, в частности у меня. Если не считать того, что еще много раньше Алла Константиновна Тарасова — она тогда еще была директором — сказала мне: «Зосечка, сыграйте Настенку в «Дне», Вере Николаевне Поповой уже нельзя и Дементьевой тоже, а я никогда не любила эту роль». Меня и несколько новых исполнителей вводил Василий Орлов, замечательный педагог и артист. Помогал ему Иосиф Раевский, уже давно игравший Костылева.
Мне повезло: одновременно роль Луки готовил Алексей Грибов. С ним, так же, как с Добронравовым, нельзя было просто играть — надо было жить в роли. Его партнерство очень помогло мне в трудной работе.
Этот спектакль, где играли актеры второго поколения театра, я очень любила, и Настенку играла долго, пока позволял возраст.
Из Крыма шли тревожные письма от Елены Филипповны Яновой о здоровье Марии Павловны. И вот пришло известие о ее кончине. Ольга Леонардовна тяжело пережила эту смерть, у нее был сердечный приступ. Софья Ивановна попросила меня в этот день ночевать у них. Ольга Леонардовна не плакала, но лицо ее осунулось, было серым. Она часто повторяла в те дни: «Мне стыдно жить. Все ушли, одна я для чего-то живу».
В театре были вывешены траурное сообщение и некролог. Если не ошибаюсь, кто-то был командирован на похороны, но кто — не помню.
Мария Павловна умерла на 94-м году жизни. Хоронила ее вся «официальная» Ялта. Ее положили рядом с матерью, Евгенией Яковлевной.
В те дни все, кто был близок к Ольге Леонардовне, старались чаще бывать у нее.
60-летний юбилей театра прошел очень скромно. Из юбиляров была одна Ольга Леонардовна и очень немногие из технического состава. Фаина Васильевна Шевченко к этому времени в театре уже не появлялась — она ушла, вернее, «ее ушли» на пенсию.
Ольга Леонардовна, уже очень постаревшая и слабая, вручала «Чайки» Борису Александровичу Петрову, Вишневскому — сыну и очередным — «внутренним» юбилярам театра.
Я хорошо помню последний спектакль Ольги Леонардовны. Это было «Воскресение». Вместо Василия Ивановича Качалова от автора был Массальский, Нехлюдова еще играл Ершов. (Было это после 50-летия Художественного театра, дату я забыла.) Тогда мы — Ершов, Массальский и я — долго уговаривали Ольгу Леонардовну сыграть графиню Чарскую. Она категорически отказывалась, ссылаясь на то, что забудет текст, что походка уже не та, и еще много было аргументов, но мы победили.
В день спектакля приехали в театр до начала второго действия. За кулисами женской половины говорили тихо, никто не входил в гримерную Ольги Леонардовны, Она была очень взволнована.
В тот вечер я играла Марьет. Войдя к Ольге Леонардовне, чтобы проводить ее за кулисы, я увидела, что она почти без грима, даже без «тона». На мой удивленный взгляд она сказала: «Старое лицо никогда нельзя раскрашивать, довольно парика».
За кулисами в декорации была абсолютная тишина.
…И вот открылся специальный белый занавес, и на огромном голубом диване взорам публики предстала Книппер-Чехова — графиня Чарская. Мы услышали дружные аплодисменты зрительного зала. Сцена прошла замечательно. Совершенный французский язык, свобода и простота, которой отличался высший свет, ее повелительная ласковость… Что говорить, театр давно не видел такой графини Чарской! Уходила она со сцены раньше Ершова и меня, и мы с радостью пережидали длинную паузу, когда в зрительном зале звучали аплодисменты.
Когда после конца картины я, счастливая, постучала к ней, Ольга Леонардовна сидела, откинувшись в кресле, не глядя в зеркало. Она сказала мне: «Ты подумай, не забыли, я не ожидала», — и это совершенно искренне…
Осенью 1958 года, после юбилейных дней, театр готовил парадный вечер в честь Книппер-Чеховой. Когда ей сказали, что это нужно театру, Ольга Леонардовна согласилась, но просила назвать ее подлинный возраст. 22 октября 1958 года ей исполнилось 90 лет, а в паспорте было на два года меньше.
Задолго до назначенного дня Ольга Леонардовна начала безумно волноваться и осуждать «эту затею».
Вечер состоял из двух частей. Первая — официальная. На сцене труппа. Приветствия многих театров, масса цветов и ответное слово Ольги Леонардовны: скромное, благородное и очень сердечное. (К сожалению, тогда еще не записывали на пленку.) На ней был великолепный светло-серый туалет, свободный, закрытый, но очень парадный. Его создала Александра Сергеевна Лямина еще для 50-летия театра в 1948 году.
Ольга Леонардовна поручила мне просить В. Л. Ершова и сама сказала В. В. Шверубовичу, чтобы они были около нее во время первого отделения — так ей будет спокойнее. И они, как два рыцаря, стоя по бокам, были готовы помочь, подхватить, особенно когда Ольга Леонардовна прошла ближе к рампе для ответного слова.
Во втором отделении она сидела в директорской ложе, а на сцене играли первый акт из «Трех сестер», еще были театрализованные приветствия гостей из других театров. Перед началом Михаил Михайлович Яншин сказал мне, что Театр имени Станиславского будет играть кусочек из того акта «Трех сестер», когда Федотик дарит Ирине волчок. «Шепните, чтобы она произнесла текст Маши: “У лукоморья…”»
Но мне ничего не пришлось шептать. Когда Леонов, тогда молодой и не толстый, завел огромный яркий волчок, из ложи раздался глубокий и сильный голос Ольги Леонардовны: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…» И зал встал, долго гремели аплодисменты, а она сидела немного поникшая, старая и очень взволнованная, как будто все оставшиеся силы вложила в эти бессмертные строки.
После окончания представления к ложе все шли и шли люди со словами любви и благодарности Ольге Леонардовне.
На следующий день двери квартиры Книппер-Чеховой были открыты, и очень много друзей и просто знакомых побывали у нее с поздравлениями. Среди гостей я помню Екатерину Павловну Пешкову, Алису Георгиевну Коонен. На столе было шампанское, фрукты, сладости…
После этих двух дней, предельно напряженных и радостных, Ольга Леонардовна отлеживалась почти неделю.
В начале ноября этого года театр собирался на гастроли в Японию — первые гастроли советского театра (до МХАТа там был только симфонический оркестр под управлением Мравинского).
В репертуаре гастролей были «Три сестры» (в омоложенном варианте), «Вишневый сад» (с Тарасовой — Раневской и Шарлоттой — Степановой), «На дне» и «Беспокойная старость».
Летели мы спецрейсом с ночевкой в Хабаровске. Когда в Хабаровске нас, измученных тринадцатичасовым перелетом, привезли туда, где мы должны были переночевать, я услышала голос Алексея Николаевича Грибова: «Соня, Соня, иди скорей сюда! Это же наша мужская спальня, это же тридцать пятый год!» Взволнованные Грибов и Конский все показывали мне какие-то предметы прошлого, а я с трудом узнавала, но тоже очень волновалась, вспомнив счастливые годы.
Были мы в Японии долго, почти два месяца. Новый, 1959 год встречали там. На обратном пути еще недели две играли в Хабаровске и Владивостоке. В Японии было совсем тепло, а на Дальнем Востоке — сильные морозы. Почти все болели и играли с великим трудом, часто в эпизодах заменяя друг друга по принципу — у кого ниже температура.
Дома меня ожидала моя Софья Васильевна: стол накрыт, пироги, и от Барыни — фото с ее юбилея с трогательной надписью, бутылка коньяка и цветы.
Незаметно, в работе и повседневных хлопотах, наступил март.
Еще до моей поездки в Японию Вишневский настаивал, чтобы я согласилась на несложную операцию правого глаза: что-то глубоко под веком ему не нравилось и это «что-то» немного увеличивалось. Надо — так надо, тем более что дорогой мой благодетель сказал: «Я нашел для тебя золотые руки».
И вот настало 12 марта — четверг. Вечером я была у Ольги Леонардовны. Она теперь часто лежала подолгу в постели и так же долго совершала умывание, не позволяя себе помогать. К обеду выходила в столовую, называя это «моя прогулка», и оставалась там До вечера. Иногда выезжала за город — дышать и восхищенно слушать жизнь «всего живого». Странно, но Ольга Леонардовна во время загородных Прогулок слышала пение птиц и шелест деревьев, а дома слух ей уже заметно отказывал.
Тем вечером Ольга Леонардовна чувствовала себя, как она определила, «прилично». Я особенно не засиживалась, так как наутро мне была назначена встреча с окулистом.
У нас была традиция: Ольга Леонардовна всегда меня благословляла перед любым серьезным для меня делом, будь то театр, отъезд или какая-нибудь житейская ситуация. Перед уходом я, как обычно, подошла к ней, а она сказала: «Ты зайдешь ко мне утром». Я стала говорить, что это будет рано, что в это время она еще отдыхает, но ответом было обычное: «Глупости какие!» И строго: «Ты зайдешь!»
Утром, около 10 часов, Соня ждала меня у машины, а я поднялась к Ольге Леонардовне. Она лежала в постели. Перекрестив меня три раза, она спросила: «Ты делаешь вид, что спокойна?» Я что-то ответила о том, что это не глаз, а около, и что я обязательно позвоню, когда приеду домой. «Глупости какие! Пусть Соня позвонит». И я побежала к машине.
Не буду рассказывать про операцию. Длилась она минут 40–45. Самое противное — это звуки от инструмента, боли не было. Меня задержали на короткое время, спросили, есть ли машина. Я соврала, что есть. Вышла в вестибюль к моей Соне — она сидела зеленая от страха. И мы вышли на улицу ловить машину. Половина лица у меня была забинтована, поэтому одна из первых же машин любезно довезла нас.
Наркоз постепенно отходил, и я чувствовала себя довольно неважно. Дома, не снимая шубы, стала звонить Ольге Леонардовне. Подошла Софья Ивановна и, не успела я рта раскрыть, ошарашила меня: «Инсульт, потеря речи, паралич. Говорят, что сознание ясное». Идти туда у меня уже не было сил. Я лежала сутки. Потом попросила, чтобы меня допустили к Ольге Леонардовне. Но «мудрая» врачиха из «Кремлевки» (я была с ней знакома) доказывала мне, что я со своим забинтованным глазом только испугаю Ольгу Леонардовну, и никаких доводов слушать не желала.
Я подолгу стояла за дверью в спальню моей дорогой Барыни, видела ее мучения, хотя она не стонала, не «мычала», как это обыкновенно бывает с инсультниками. Она, бедная, все старалась здоровой рукой поправить язык, а над ней все проделывали какие-то уже совсем теперь ненужные процедуры, только причиняя ей лишние страдания.
На восьмые сутки Ольга Леонардовна потеряла сознание, и тут уж мне разрешили быть около нее. На девятый день с утра началась агония — страшные хрипы вместо дыхания, искаженное лицо в попытке вздохнуть. С утра около Ольги Леонардовны была Софья Ивановна, в ногах кровати стояла Нина Львовна Дорлиак, у окна, отвернувшись, тихонько плакал Вадим Шверубович, а в комнате Софы сидел Лева Книппер. Последний мучительный хрип, и ото лба книзу стало разглаживаться лицо и стало спокойным и прекрасным.
Это случилось днем 20 марта 1959 года, в 2 часа 30 минут…
Позвонили в театр. Директор Солодовников просил Вадима Васильевича и меня явиться на заседание комиссии по похоронам.
Было одно странное для меня совпадение: на моем перекидном настольном календаре оказалось два листка с тринадцатым числом — две черных пятницы.
В ту черную пятницу Ольга Леонардовна встала довольно поздно и пошла умываться. Все было как обычно, но вдруг раздался ее громкий голос: «Кес кёсэ?» (по-французски — «что это такое?»), и звук падающего тела. Когда Софья Ивановна и Варя с трудом открыли дверь, она полулежала, привалясь спиной к стене…
Ольгу Леонардовну не увозили, все, что нужно было делать, сделали дома. Наша театральная медсестра Анна Михайловна и я обмыли ее. Вечером в столовой она лежала в гробу в своем юбилейном наряде — красивая, спокойная, но уже не такая, как в первые минуты после конца.
Дома служил панихиду отец Шпиллер. Были все те же, еще Михальский, Коншина, Виленкин, Василий Орлов. После конца службы Шпиллер произнес замечательную проповедь. Я сняла с Ольги Леонардовны большую золотую «Чайку» — подарок Константина Сергеевича Станиславского Антону Павловичу Чехову. Ольга Леонардовна всегда носила ее на золотой витой цепочке. «Чайку» я отдала в руки Федора Михальского для музея, а цепь — Льву Константиновичу Книпперу.
Панихида в театре была очень торжественной, гроб стоял в зрительном зале на черном бархатном постаменте, для чего вынули семь рядов кресел. Так делали всегда, когда хоронили «стариков». А на сцене — рядами венки.
При выносе загремели фанфары — трагический марш Ильи Саца на смерть Гамлета. Сколько раз слушала она — Королева-мать — эту музыку на сцене. И стольких близких и дорогих проводила под нее в жизни. И теперь вот под эти скорбные звуки плыла над толпой последняя из тех, кто создавал Художественный театр.
Был яркий солнечный день, на Новодевичьем кладбище таяли сугробы и воды было по щиколотку. Опять говорили речи и играл оркестр. Опускали гроб в сырую, холодную землю, куда все стекала вода.
Приехали мы, все те же, с бедной Софьей Ивановной в опустевшую квартиру, где был накрыт стол. На стенах — темные квадраты от картин, снятых Львом Константиновичем Книппером — он и его сын Андрей были наследниками. Большой портрет Антона Павловича в рост с двумя дворняжками в Ялтинском саду забрали в музей, как и все фотографии Чехова с его автографами.
Пишу это для тех, кто даже и теперь так несправедливо судит об Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, приписывая ей всевозможные грехи и главное — богатство, которого не было. Не было драгоценностей, в мещанском понимании, — бриллиантов или еще каких-либо накоплений. Деньги, которые остались, Лева и Андрей разделили на три части — считая Софу. Была сберегательная книжка, завещанная Софье Ивановне — часть сталинской премии. По теперешним понятиям все это очень скромно. И был огромный архив, над которым не один год работала Софья Ивановна, чтобы сдать в музей театра. Этот архив — доказательство глубокого уважения и большой любви многих великих, талантливых и просто замечательных людей к Ольге Леонардовне. Вот подлинное ее богатство.
Лева Книппер мне на память с очень сердечным письмом подарил старинную камею, принадлежавшую еще матери Ольги Леонардовны, очень ветхую — ее нельзя реставрировать, не поранив розовой раковины, из которой она высечена. Я ни разу не решилась ее надеть. Только на сцене, играя Войницкую в «Дяде Ване» (единственная моя роль в чеховской пьесе).
Для меня смерть Ольги Леонардовны была большим горем. Я лишилась моральной опоры, мне не к кому стало идти за советом, не у кого учиться с достоинством переносить трудности, которых в моей жизни было достаточно. Но оставались друзья, очень верные, осталась Софа, которую нельзя было бросить на тоскливое доживание.
Очень скоро в столовую — самую большую комнату в квартире Ольги Леонардовны — поселили художника Эрдмана. Театр не позаботился о том, чтобы не уплотнили Софью Ивановну, которая формально считалась членом семьи Ольги Леонардовны. Эрдман прожил недолго (он скончался в больнице от рака). Вскоре в эту комнату переехал наш артист Леонид Иванович Губанов с женой. Софе стало легче — они очень хорошо к ней относились и, как могли, заботились.
По договоренности с наследниками в комнату Софы поставили диван, стол, два кресла и несколько стульев из столовой. Все даты Ольги Леонардовны ее друзья отмечали, сидя за этим столом.
Софья Ивановна, поработав несколько лет над архивом и сдав его в идеальном порядке в Музей МХАТа, как-то сразу иссякла — сломалась. Она очень тяжело болела.
В силу своего гордого характера Софья Ивановна, еще задолго до конца Ольги Леонардовны, стала оформлять пенсию и получила что-то минимальное. В течение продолжительного времени Виталий Вульф, с которым я тогда познакомилась, хлопотал о пересмотре ее пенсии и с большими трудностями добился этого. Спасибо ему, только Софе недолго пришлось этим пользоваться. Урну с ее прахом захоронили вместе с прахом родных Льва Книппера (там покоится и он сам).
После кремации мы в последний раз сидели за этим столом, вспоминали прошедшую в этом доме жизнь…
Наследники увезли все им принадлежащее. А в Ялту отправился контейнер с обстановкой столовой и спальни для экспозиции комнаты Ольги Леонардовны и интерьера нижней столовой.
Помню, как я с Губановыми до глубокой ночи разбирала оставшиеся пустяки, не нужные наследникам. — что-то из посуды, еще какая-то мелочь — чтобы раздать на память друзьям. Некоторые даже обижались на «осколки» — но что поделать!
У меня хранятся серебряная чарочка Ольги Леонардовны — подарок всем юбилярам к 10-летию Художественного театра в 1908 году, и старинный графинчик, подаренный ей мною и мужем на 40-летие театра. Эти вещи, а также многое, что принадлежит мне и что имеет мемориальную ценность, я завещала нашему музею.
Весной 1959 года в нашем театре был выпущен спектакль по пьесе Алешина «Все остается людям», где мне довелось играть роль жены академика Дронова. Его играл Василий Орлов, один из любимых артистов наших великих основателей. Священника играл Юра Кольцов, тогда уже тяжело больной, еле выживший после сталинских лагерей. Артист он был уникальный. Последняя его работа в театре — «Беспокойная старость» Рахманова (академик Полежаев).
Вскоре меня пригласил на ту же роль режиссер Натансон. Но в фильме роль Дронова играл Николай Константинович Черкасов, выдающийся артист, очень хороший, скромный человек. Это была его последняя роль. Был он уже очень больным, но прятал это старательно. Мы подружились за время съемок. Священника в этом фильме играл великолепный Андрей Попов.
Когда-то молодой Черкасов играл в кино академика Полежаева. Вот так скрестились роли: Черкасов — Орлов и Черкасов — Кольцов. Эти мои партнеры были очень разными, но работать с ними на сцене и в кадре было для меня большой радостью.
Жизнь шла своим чередом, и, на мое счастье, я опять встретилась с Еленой Сергеевной Булгаковой.
Сколько раз мы встречались и дружили заново — так распорядилась жизнь, но теперь наша дружба была нерушима, до самого последнего ее часа.
Об этой замечательной женщине надо написать книгу. В течение 30 лет после смерти мужа она, казалось, делала невозможное, добиваясь, чтобы он был наконец признан.
Время, о котором я пишу, было для Елены Сергеевны очень трудным. Еще мучительно четкой была картина болезни и смерти старшего сына Жени. Средств для существования почти не было, только случайные заработки переводами и печатанием на машинке.
Приблизительно в то время Елена Сергеевна перевела «Жорж Санд» Моруа для серии «Жизнь замечательных людей», как она говорила, «между делом». (А «делом» называлось все, имеющее отношение к Михаилу Афанасьевичу.) У меня есть эта книга с такой надписью: «Дорогой Зосе Люся
[20] — переводчица».
Когда нужно было, она с легкостью расставалась, например, со старинной люстрой или еще с чем-то, не связанным с жизнью Булгакова. После смерти Ольги Бокшанской часть ее имущества досталась Елене Сергеевне.
Жила она в то время в небольшой квартире из двух комнат на Суворовском бульваре. Младший сын Сергей жил с ней.
Первая, проходная комната — столовая была обставлена мебелью, полученной по наследству от Бокшанской. Только письменный стол с лампой, карта на стене, пишущая машинка и широкая кушетка были булгаковскими. Во второй комнате — спальне — почти все было булгаковское: огромный овальный портрет Михаила Афанасьевича, висевший над гробом во время панихиды, его посмертная маска, глубокое кресло, кровать, небольшая старинная люстра, подсвечники и самый похожий фотопортрет Михаила Афанасьевича — тот, где он опирается на балюстраду балкона.
В кухне стоял круглый инкрустированный стол, за которым, когда не было домработницы, Михаил Афанасьевич любил обедать. Ему нравилось наблюдать, как Люся готовит — она все умела делать быстро, ловко и красиво. На стенах кухни висели плакаты в красках, как в Нащокинском: «Водка враг — сберкасса друг» и еще два-три в том же роде. Один такой же висел в передней.
Младший ее сын, Сергей, в то время работал директором «Зеленого театра» в Парке имени Горького. Но надолго он не задерживался ни на одной работе. Дело в том, что еще совсем молодым он заболел гипертонической болезнью почек, Елена Сергеевна дрожала над ним, и для него не было никаких запретов. Конечно, он был избалован, но мать любил очень. И когда грешил, после всегда каялся перед ней.
Его прелестная жена Елизавета Григорьевна Шиловская — Лиля — жила отдельно с сыном, Сережей-маленьким. Ее Елена Сергеевна очень любила, дружила с ней до последних своих дней. И очень она любила своего внука Сережу.
Когда Сергей-старший заболевал, на Елену Сергеевну было больно смотреть. Один раз он заболел во время отдыха на курорте. Когда я к ней пришла, она сидела в кресле как неживая. Я начала задавать вопросы, и у нее градом потекли слезы. Несколько раз она повторяла: «Я больше не могу хоронить!» В первый раз я видела ее в слезах.
Елена Сергеевна ежедневно работала над архивом Булгакова. Часто к ней обращались с просьбой дать почитать рукописи.
Читать она разрешала только у себя в квартире. И люди часами сидели в столовой, мешая ей работать. А некоторые из них (конечно, единицы) злоупотребляли ее доверием: кое-что и исчезало, и потом у нее бывали неприятности, потому что работал «Самиздат».
В 1961 году в Доме литератора состоялся первый вечер памяти Булгакова. Кто выступал с воспоминаниями, не помню. Мы играли восьмую картину из «Последних дней» и во время официальной части гримировались за кулисами. В фойе была выставка, и из запертой витрины был выкраден драгоценный экземпляр рукописи с посвящением: «Тайной жене, тайному другу» (в то время они еще не жили вместе). Елена Сергеевна была убита. Но вот что она придумала: тут же во всеуслышание объявила, что заплатит любую сумму и не спросит имени, если через цепочку входной двери ей просунут украденный экземпляр. Срочно стали собирать деньги.
Она не ошиблась. Через несколько дней в дверь позвонили, незнакомый голос назвал сумму, мерзкая рука протянула рукопись, и, удостоверившись в ее подлинности, Елена Сергеевна в эту лапу положила деньги. Как она радовалась, как заразительно смеялась, повторяя: «Я же говорила!»
Много вечеров до поздней ночи проводили мы с ней на кухне за круглым столом. О многом она рассказывала: о юности, о семье и о первом замужестве, и о первой встрече с Михаилом Афанасьевичем. Оказывается, ее муж — генерал Шиловский, любивший ее очень, был еще и очень ревнив. И вот однажды, уезжая в командировку, он попросил Елену бывать только в семье его друзей и нигде больше. И именно в этом доме, «на блинах», рядом с ней за столом оказался Михаил Афанасьевич. И случилось так, что они ушли вместе и очень долго гуляли по Москве.
Фраза из «Мастера и Маргариты»: «Любовь выскочила на нас, как убийца из-за угла», вполне соответствует истине. И случайная встреча, когда она шла с желтыми цветами, — тоже.
Елена Сергеевна рассказывала и о всех сложностях ухода к Михаилу Афанасьевичу с маленьким сыном, и о несостоявшейся поездке в Батум, и о болезни Михаила Афанасьевича, о последних его днях и часах.
Если не ошибаюсь, в начале шестидесятых годов за границей стали много писать о Булгакове. И Елена Сергеевна решила прибегнуть к помощи Константина Симонова, чтобы хлопотать о напечатании «Белой гвардии», «Записок покойника» и биографии Мольера.
Симонов посоветовал просить сначала о напечатании «Записок покойника» («Театрального романа»). Это замечательное произведение Булгакова, как мне кажется, сам он не готовил к печати. Это была летопись внутренней жизни театра, со всеми его бедами, событиями и радостями. Тогда для нас все было узнаваемо, знакомо и не воспринималось как злой памфлет на театр, который принес столько горя любимому его автору тех лет. А широкий читатель, естественно, воспринимал роман именно как памфлет. Но все равно прав был Симонов: только это могло быть началом.
Было написано письмо в высокие инстанции с подписями немногих писателей и многих друзей-артистов, музыкантов и художников. И «Избранное» разрешили к печати. Елена Сергеевна ликовала.
В начале шестидесятых в доме Елены Сергеевны был принят Владимир Яковлевич Лакшин, тогда еще молодой, но уже активный помощник Александра Трифоновича Твардовского — в то время редактора «Нового мира». Дом Елены Сергеевны был открыт для друзей. Туда стремились многие, но кто-то оставался в нем надолго, а кто-то не задерживался — это Елена Сергеевна умела делать элегантно, но твердо.
Елена Сергеевна была женщиной очень умной и честь мужа и свою берегла свято.
Подошло время публикации романа «Мастер и Маргарита». Он вышел в журнале «Москва» с очень большими купюрами. Весь пропущенный текст Люся для друзей напечатала на машинке с точными указаниями страницы и даже строки. Есть такой экземпляр и у меня.
Начало расти количество переводов Булгакова за границей. Часто иностранцы-переводчики просили разрешения посетить ее, и некоторых она принимала. Я была знакома с Майклом Глени, преподавателем из Оксфорда. Он долго жил в Москве и весьма почтительно и горячо относился к Елене Сергеевне.
Во второй половине шестидесятых она получила из Парижа вызов от вдовы брата Булгакова — Николая Афанасьевича, известного ученого-бактериолога (в Париже есть институт его имени). Собираясь в гости к Ксении Александровне, тоже уроженке Киева, Елена Сергеевна потратила почти все средства на подарки. Покупались шапки-ушанки дорогого меха, жостовские подносы, украинские рушники и еще много дорогих сувениров. Пробыла она там месяц и приехала очарованная и Ксенией Александровной, и Парижем. Вернулась помолодевшая, красивая, элегантная, а главное, счастливая оттого, что произведения ее мужа увидели наконец свет.
Потом по приглашению Елены Сергеевны в Москву приезжала, и не один раз, Ксения Александровна — очень добрая, влюбленная в Люсю, совсем не парижская, а скорее, киевская дама.
В те же годы Елена Сергеевна получила разрешение на поездку в ФРГ для свидания с родным братом, эмигрировавшим с отцом в начале революции еще из буржуазной Латвии (а мать и дочери — Ольга и Елена — остались).
Брат, известный в Германии архитектор, к тому времени уже доживал свои последние дни, и их свидание обернулось прощанием — очень скоро он умер. В Москву туристом приезжал его сын, племянник Люси, я была с ним знакома.
Как-то, еще задолго до всех этих событий, сидели мы с Люсей на кухне и вспоминали прошедшее. Елена Сергеевна рассказала, как вскоре после смерти Михаила Афанасьевича, поздно вечером пришла к ней Анна Андреевна Ахматова и прочитала стихи, написанные на смерть Булгакова. Ахматова не разрешила их записать, а просила Люсю запомнить. Та, плача от волнения, никак не могла выучить, а Анна Андреевна терпеливо повторяла строку за строкой, и Елена Сергеевна наконец запомнила. В тот вечер она читала это стихотворение мне, читала очень похоже на чтение Анны Андреевны (мне доводилось слышать ее не раз).
…О, кто поверить смог, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Все потерявшей, всех забывшей, —
Придется поминать того, кто полный сил
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.
Во второй половине шестидесятых в доме Елены Сергеевны появилось несколько молодых женщин, которые настойчиво просили разрешения помогать ей в работе над архивом. Две или три из них были допущены и много времени проводили в доме. Архив был огромным. Я была с ними знакома, но сейчас не смогла бы узнать в лицо ни одну из них — ведь тогда они были молоденькими.
В чем-то Елена Сергеевна была очень деловой и практичной, а в чем-то необыкновенно доверчивой. Огромный черный кофр-чемодан гармошкой стоял у входа в спальню, доверху заполненный архивными бумагами. Иногда Елена Сергеевна была вынуждена на день-два ложиться в постель (уж очень она себя загоняла делами), и тогда молодые помощницы не приходили. Или приходили, но не для работы.
Однажды я пришла к ней и застала ее, расстроенную, ослабевшую, лежащую в постели. Она рассказала мне, что пропали две единицы архива, очень важные: «Не знаю, что и думать». Я начала расспрашивать: не был ли кто из читателей, вместе ли работают ее помощницы? Потом вдруг она сказала: «Я знаю, как мне быть». В тот вечер об этом речи больше не было.
На следующий день после занятий в Школе-студии я пошла на Суворовский бульвар. Елена Сергеевна оживленно и весело сообщила: «Я написала записку и положила на видное место, а сама ушла надолго из дому. В записке был приказ вернуть документы и положить туда, где они лежали. Вот они, эти бумаги!» Люся, как всегда в таких случаях, действовала смело и категорично. У меня нет права комментировать этот факт, но за достоверность я ручаюсь.
В 1967 году для работы на втором курсе Школы-студии я взяла отрывок из булгаковской пьесы о Мольере «Кабала святош». Работа была принята кафедрой, и я взяла еще одну сцену. Мне было рекомендовано подумать о дипломном спектакле, целиком. Я заробела — уж очень ответственно, но Люся так этим загорелась, что даже кричала на меня за
то, что я сомневаюсь.
Дипломный спектакль должен был выпускаться весной 1970 года. Все свое свободное время я проводила в студии и с Еленой Сергеевной. Наша маленькая школьная сцена определяла поиск единого для всего спектакля сценографического решения, что и удалось сделать художнику Окуню, в прошлом выпускнику нашего постановочного факультета. Менялись только детали. С костюмами тоже вышли из положения, найдя как бы униформу. Елена Сергеевна готова была вынести в студию весь свой дом и купить все необходимое для костюмов. После долгих споров решено было, что она купит ткань для второго костюма Королю. Поехали в «Березку». Она все пыталась подойти к дорогим тканям, но я уговорила ее купить недорогую, для занавесок, серо-сиреневую — она подходила по цвету и мягкой фактуре. Первый костюм Короля тоже был сшит из белых шелковых штор, снятых с окна в кабинете Радомысленского.
Есть люди, которые больше любят дарить, чем получать подарки. Такой была Елена Сергеевна — Люся Булгакова.
Анна Андреевна Ахматова посвятила ей стихотворение, которое я хочу здесь привести.
Хозяйка
Е. С. Булгаковой
В этой горнице колдунья,
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья.
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама… Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.
5 августа 1943
Ташкент.
В те теперь уже далекие времена студенты были немного другими, то есть другим было их отношение к Школе-студии. Над «Кабалой святош» они трудились самозабвенно. Много делали своими руками, не считаясь со временем, и, кажется, спектакль наш получился, насколько это было в наших возможностях.
Когда сдавали его кафедре, Люся была больна, но прислала два больших подноса со всякими лакомствами для «комедиантов Господина»
[21], трогательное письмо и цветы.
«Кабалу» кафедра приняла хорошо, и на другой день спектакль играли уже для «публики», а главное — для Елены Сергеевны. Она была с двумя Сережами — сыном и внуком. Оказывается, в этот вечер были еще Рихтеры, Куравлевы, Лакшин и еще какие-то знакомые Елены Сергеевны. Я волновалась очень, и мне было не до «публики». И опять два подноса и в конце — роскошный букет.
После за кулисы к дрожащим «артистам» пришла Елена Сергеевна, стала их благодарить и вдруг, судорожно всхлипнув, укрылась за ширмой. Преодолевая слезы, она говорила прекрасные слова, а ребята замерли в волнении. И они, и я понимали, что это преувеличение, благодарность за любовь к автору, почти все спектакли которого были еще под запретом, но все мы в тот вечер были счастливы.
Благосклонно приняли наш дипломный спектакль и остальные гости, а на следующем спектакле был уже кое-кто из театра.
Дипломных спектаклей четвертого курса было несколько, и сыгранные на школьной сцене, они переносились на сцену театра «Современник», находившегося в то время на площади Маяковского. На этот случай выпускались афиши, и спектакли шли за деньги, как правило, по два раза каждый.
Когда пришло время нашего «Мольера», ректор сообщил мне, что афиши запрещены: «Понимаешь, родная, так нужно. Ты должна понять». Я «поняла». Мне и художнику Окуню не дали времени для монтировки спектакля, не было возможности для репетиции на незнакомой сцене. Студенты были в смятении, я, признаться, тоже. Сообща мы решили, что это дело нашей чести и что надо положить все силы, чтобы не было сраму.
Наш спектакль был назначен на 1 и 2 июня. Ректор Радомысленский к этому времени уехал из Москвы. Когда я за два с половиной часа до начала подошла к театру, вокруг было много народу. Мне и в голову не пришло связать это со спектаклем. Потом, стоя в последнем ряду битком набитого зрительного зала, я кипела от злости: чистые перемены
[22] были грязными, актеры, боясь наиграть, иногда тишили. На сцене и за кулисами была довольно высокая степень напряжения. Елена Сергеевна в антракте успокаивала меня, а сама волновалась не меньше нас. Но Булгаков есть Булгаков, и успех был. Публика простила нам и нашу «грязь», и наше волнение.
Второй, и последний, спектакль ребята играли вдохновенно и все шептали перед выходом: «В последний раз!»
Елена Сергеевна привела в театр специалиста из МИДа, и он записал все на пленку (она потом «пропала»).
На следующий день у нее дома состоялся «банкет». Люсенька извинялась, что не может принять всех, и я предложила ей выбрать минимальное количество гостей поименно.
Елена Сергеевна пригласила Мольера — Валерия Писарева (теперь ведущий артист Свердловского театра), Александра Дика, Вячеслава Жолобова, Алексея Жаркова (они теперь все во МХАТе), Юрия Блащука, Юрия Стрельникова. Выбрала она верно. Эти мальчики несли всю тяжесть спектакля. Они были в экстазе. Роскошный стол, свечи, цветы, бодрая и веселая Елена Сергеевна. Она буквально вспорхнула на стремянку в передней, и каждый из восторженных артистов получил в подарок «Избранное» Булгакова, а Писареву (Мольеру), владевшему английским, вручила экземпляр на этом языке.
Около двух часов ночи я с трудом увела гостей. Когда мы вышли из подъезда, Люся бросила нам из окна цветы, которые стояли в вазе. Один из мальчиков встал на колено, приветствуя хозяйку, а за ним и остальные.
Когда мы шли мимо Дома-музея Станиславского, кто-то из них спросил: «Сколько же Елене Сергеевне лет?» Я назвала ее годы — а она их никогда не скрывала, — и они заорали хором, что этого не может быть. Потом кто-то сказал: «Сколько лет — неважно, важно, что Елена Сергеевна — чудо».
Во второй половине шестидесятых Алов и Наумов писали сценарий по булгаковскому «Бегу». Они приходили к Елене Сергеевне, советовались относительно выбора актеров, приносили фото, а с началом съемок в редкие свободные часы навещали ее, рассказывая, как идут дела. Один раз, уже было довольно поздно, и мы все и Лакшин собирались уходить, вдруг раздался звонок в дверь. Люся открыла и со словами «Вы кто?» отступила на шаг. Мужчины встали из-за стола. Немного охрипший голос произнес: «Я — Некрасов». (Незадолго до этого вышел его замечательный очерк о булгаковском доме в Киеве.)
Конечно, Елена Сергеевна горячо его приветствовала, но ее первоначальную реакцию можно было понять. Он был небрежно одет, как-то весь распахнут, растрепан и довольно сильно «на парах». С ним была маленькая женщина, тоже не слишком элегантная. Он ее не представил, с нами небрежно поздоровался и сел к столу, усадив рядом свою даму. Даже Люся немного растерялась, так не соответствовал он сам своему творению.
Потянувшись к графину, Некрасов начал вести себя за столом весьма свободно, если не сказать больше. Речь, конечно, зашла о его рассказе, о доме Булгаковых. Слушал он, казалось, равнодушно, а главное, почти не обращая внимания на хозяйку.
Визит продолжался недолго. Внезапно он встал, потянув за собой спутницу, и произнеся что-то вроде: «И тут скучно», — стремительно ушел, уводя даму. Все списали на водку, а Люся говорила, что не пустила бы его, если бы была одна.
В середине 60-х годов Варпаховский поставил во МХАТе «Турбиных». Постановка была пышной, лишенной теплоты и уюта Турбинского дома. Но я — плохой зритель
новых постановок старых любимых спектаклей.
Люся была в Париже и уехала оттуда раньше срока, чтобы быть на премьере. Увиделись мы в театре перед началом спектакля. Кто-то, не видевший
тех «Турбиных», радовался, а Люся сидела грустная и на мой вопрос — как? — сказала: «Алеша Грибов хорошо играет». А он играл лакея Федора в картине «У гетмана»…
В 1970 году, сразу после окончания сезона, я уезжала с театром на гастроли в Киев. Мы внимательно изучили рассказ Некрасова о доме Булгаковых и нынешних его обитателях и решили, что у дочери «Василисы» должны быть старые фотографии Булгаковых. Люся просила меня не считаться с расходами и постараться достать все, что можно, из фотографий для пересъемки.
В первые же дни гастролей я пошла в этот дом с визитом, цветами и приветом от жены Булгакова. Приняли меня любезно, рассказов было много, но больше о семье хозяйки. К стыду Своему я забыла ее имя.
Мы сидели в комнате с печкой, на изразцах которой писали герои «Турбиных» и «Белой гвардии». Все было узнаваемо — и вход из кухни, и ванна за занавеской, и холодные сени, и лестница из парадных дверей (теперь она была наглухо забита), и вход в подвал — жилище «Василисы», и щель между стенами домов, куда Николка спрятал пистолеты. Все это вызывало волнение. Я начала с приглашения на спектакль «Дни Турбиных» и дала понять, что и впредь отказа в билетах не будет. Киев ждал «Турбиных», и все билеты давно были проданы. Но еще в Москве Елене Сергеевне обещали, что дирекция театра поможет.
На следующий день утром я позвонила в Москву и сказала Люсе, что начало положено и что нынешняя хозяйка дома № 13 по Андреевскому спуску будет на премьере «Дней Турбиных».
С этого дня я просыпалась по утрам от звонка моей дорогой Люси, ее интересовало все — любая мелочь.
С помощью одного нашего актера-фотографа удалось снять весь дом внутри и снаружи, с улицы и со двора. Во второй раз мы приехали туда с Прудкиным и с Конским. Хозяйка приняла их очень благосклонно. Кабинет ее сына находился как раз в кабинете доктора Турбина. Нашлось очень много фотографий из семейных альбомов — и групповых, и одного Михаила Афанасьевича, где он снят гимназистом, студентом и молодым врачом. Но поскольку квартира была коммунальная, одна из комнат была закрыта. Турбинская столовая, по-моему, была перегорожена.
Хозяйка дома стала очень популярна, и многие наши актеры приходили к ней, как на экскурсию, а она писала приветственные записки исполнителям «Турбиных», и их вывешивали в театре на доске расписаний за кулисами.
Мне удалось уговорить ее под честное слово дать на пересъемку все, что касалось Михаила Афанасьевича, и она дала много фотографий и какие-то бумаги. Люся благодарила ее письмом и была счастлива, получив от меня объемный сверток. Срочно пересняли весь материал, и я отправила все обратно в Киев.
Количество билетов на «Турбиных» и на другие спектакли сосчитать не берусь. Когда я, еще в Киеве, говорила Люсе, что разорю ее, она отвечала, что деньги — пустяки, когда они есть.
С половины июля у меня была путевка в санаторий «Архангельское», но стало известно, что Алов и Наумов хотят показать картину, еще не вполне смонтированную.
К этому времени Елена Сергеевна стала сильно недомогать. К тому же она затеяла ремонт квартиры. Там был сильный запах краски и лака, и сын отвез ее на время на другую квартиру. Не могло быть речи о том, чтобы Люся отказалась от просмотра. И вот мы на двух машинах — в одной Люся с сыном и Ермолинские, в другой — Лакшины и я, поехали на «Мосфильм». По дороге нас застала сильная гроза. Когда мы все бежали под дождем от машины, гремел гром, и счастливая Люся, смеясь, прокричала нам: «Слышите, как всегда у Маки!» (Булгаков любил грозу — для него она была хорошей приметой.) Промокли мы насквозь. Картина шла больше трех часов, в маленьком зале было душно, но для Люси это были звездные часы.
Через день она собиралась принимать у себя Алова и Наумова и еще кого-то из исполнителей. Я поехала к ней сказать «до свидания» и с опозданием отправилась в «Архангельское». В тот вечер мы с ней говорили по телефону, и мне показалось, что она превозмогает себя. Кажется, прием гостей отложили. Перезванивались мы с ней по два раза в день.
Вечером следующего дня я позвонила Люсе перед ужином, часов в восемь, и услышала очень слабый голос. На мой вопрос о здоровье она сказала: «Ничего, пройдет». Я спросила: кто с ней?
«Сережа поехал за вентилятором». На мой вопрос о враче Люся ответила, что приедет всегдашний, частный. (В это лето горел торф, страдали не только от жары, но и от дыма.) Последнее, что я услышала, было: «Я вас очень люблю».
Большой тревоги я почему-то не чувствовала, думала — действительно пройдет.
В 8 утра мне позвонила моя знакомая — она временно жила у меня в квартире — и сказала, что звонил Шиловский и просил сообщить мне, что вчера около 10 часов вечера скончалась Елена Сергеевна Булгакова. Меня стало трясти, но до конца я поверила только после того, как смогла дозвониться до Сергея.
Отказало сердце — обширный инфаркт. Последние ее слова были: «Неужели ничего нельзя сделать?»
Я приехала на Суворовский бульвар в день кремации. Сразу пойти к Люсе не смогла, прошла на кухню, где какие-то дамы суетились над закусками для поминок.
Сережа, крепко взяв меня за плечи, повел в столовую. На столе, за которым столько раз мы сиживали, в светлом гробу лежала Елена — Люся — Елена Сергеевна Булгакова. Красивая, спокойная и совсем холодная. Потом Сережа отвел меня в спальню, где были Ермолинские и еще кто-то.
Перед выносом я вышла на улицу. Помню, там были Белокопытовы — Галина Ивановна и Андрей Алексеевич, Наталья Ильина и еще несколько человек. В нашем театре был отпуск, большинство отсутствовало. В машине с гробом сидели по одну сторону Сергей с сыном, по другую — мы с Лилей Шиловской и еще люди. Алов и Наумов — своим ходом.
Сразу после кремации я уехала в «Архангельское». Через неделю хоронили урну в могилу Булгакова. На захоронение меня не пустили — врачи в «Архангельском» были строгие.
Я позвонила Сереже, и он привез ко мне Ксению Александровну и Люсиного немецкого племянника. Им удалось приехать на погребение урны. Ксения Александровна, плача, все пеняла мне за то, что я не сообщила ей о болезни Люси, но кто же мог знать!
Смерть Елены Сергеевны была для меня невосполнимой утратой. Помню, я написала письмо Нине Львовне Дорлиак — они с Рихтером были далеко, на гастролях. Как мне потом рассказывали, Святослав Теофилович, узнав о смерти Люси, замолчал надолго.
Вместо послесловия
С осени 1970 года в нашем театре произошли большие перемены. «Старики» второго поколения решили просить Олега Николаевича Ефремова взять на себя обязанности главного режиссера. Это была необходимость: коллегиальное управление себя не оправдало, Кедров уже давно лежал в инсульте, а Ливанова, в силу его характера, к тому же больного, даже ни о чем не информировали, от чего он очень страдал.
Ефремов окончил нашу Школу-студию. По какой причине его после Школы не пригласили во МХАТ, мне неизвестно, но думаю, что все от того же отсутствия согласия в нашей коллегии и дирекции. И Ефремов ушел в Детский театр, где играл много и успешно.
В то трудное для театра время еще шли по инерции крупные старые спектакли, но как бы уцененные, со многими заменами, а новых значительных пьес просто не было. Оставшаяся режиссура театра и большая часть актеров с пристальным вниманием следили за рождением «Современника», тем более что почти вся его труппа состояла из выпускников Школы-студии, и вся напряженная, очень трудная работа молодых проходила, главным образом, по ночам, в репетиционных помещениях филиала и на его сцене.
«Современник» открылся, набирал силу и скоро стал любимым театром Москвы, властителем дум молодежи 60-х годов. Таким образом, выбор Олега Николаевича Ефремова на должность «Главного» стал закономерным.
Большая заслуга Ефремова в том, что он нашел для наших замечательных «стариков» нужную пьесу. Для меня дорогой памятью этого времени стал спектакль «Соло для часов с боем» по пьесе Заградника. В этом спектакле был идеальный ансамбль «стариков» второго поколения Художественного театра: Андровская, Грибов, Яншин, Станицын и Прудкин. Выпускал спектакль Олег Николаевич Ефремов.
Сроки выпуска были короткими, и еще на публичной генеральной мы слышали, как они трогательно шепотом подсказывали друг другу текст. «Старики» были очень взволнованы — они как бы держали свой последний экзамен.
Ольга Николаевна Андровская и Михаил Михайлович Яншин были уже смертельно больны. Вскоре после премьеры их обоих привозили на спектакли из кремлевской больницы, и даже врачи, вначале категорически запрещавшие им играть, поняли: артиста нельзя остановить, нельзя ему помешать быть на сцене, пока держат ноги.
То же самое было потом и со Станицыным. Его увезли со спектакля — он потерял сознание, сойдя со сцены. Смертельно заболел и мой дорогой друг Алексей Грибов.
Пытались играть «Соло» с дублерами — ведь только Прудкин остался. Но вскоре спектакль угас. К счастью, он снят на пленку, и его много раз показывали по телевидению.
Мне жаль, что, несмотря на счастье выбранного мною пути и работы в самом прекрасном театре, который я застала еще в зените славы, на счастье встреч со многими замечательными людьми, о которых молодежь может знать только из литературы, в этом моем рассказе много грустного и даже тяжелого: трагическая потеря всех близких, война, уход из жизни многих измученных ею людей. А мне еще надлежало жить и привыкать к новому театру, со всеми его для меня радостями и со всеми бедами.
И вот я живу, стараюсь быть полезной и всегда буду желать театру крупных свершений, прямого пути, а главное, преданности делу, которому отдали жизни его создатели и все, кто был с ними.
Иллюстрации











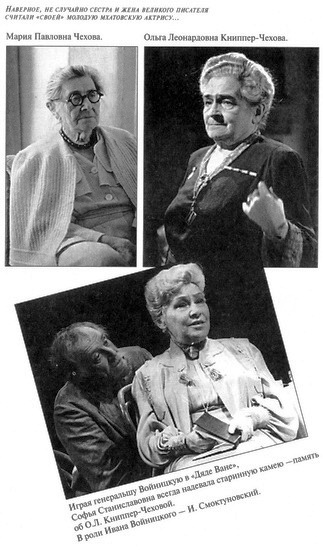




Примечания
1
Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. М.: Советская Россия. 1968. С. 157.
(обратно)
2
Тишина
(фр.).
(обратно)
3
Большой длинный деревянный сундук для хранения зимних шуб.
(обратно)
4
Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Т. 4. С. 159.
(обратно)
5
Русский женский головной убор.
(обратно)
6
Музей МХАТ. Архив К.С. № 7416.
(обратно)
7
Чушкин Н. В спорах о театре // Встречи с Мейерхольдом. М.: ВТО, 1967. О.416/421.
(обратно)
8
Снимок опубликован в сб. «Борис Ливанов». М.: ВТО, 1983.
(обратно)
9
Так почти все в театре за глаза называли Константина Сергеевича.
(обратно)
10
Архив В. И. Немировича-Данченко. Музей МХАТ. № 7230.
(обратно)
11
Станиславский К. С. Собр. соч., т. 8, М.: Искусство, 1961. С. 142–143.
(обратно)
12
Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма в 2-х т. М… 1979. С. 413–414.
(обратно)
13
В сб. «Ольга Леонардовна Книппер-Чехова» / Сост. В. О. Виленкин. Ч. II, с. 313.
(обратно)
14
Архив А. Н. Грибова. Музей МХАТа.
(обратно)
15
Дорохин Н. И. По дорогам войны. М.: Искусство. 1950.
(обратно)
16
Отдел рабочего снабжения, для рабочих крупных строек и предприятий.
(обратно)
17
Сцена «У фонтана» из «Бориса Годунова».
(обратно)
18
Книппер-Чехова O. Л. Воспоминания, статьи. М., 1972.
(обратно)
19
Книппер-Чехова О. Л. Переписка (1896–1959). Т. 2. № 271.
(обратно)
20
Люся — домашнее имя Елены Сергеевны. Так звал ее Михаил Афанасьевич Булгаков.
(обратно)
21
Текст из пьесы.
(обратно)
22
Театральный термин.
(обратно)
Оглавление
Софья Пилявская
ГРУСТНАЯ КНИГА
Юрий Белявский. ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
Часть I
1911–1926 годы
Часть II
1927–1931 годы
Часть III
1931–1941 годы
Часть IV
1941–1945 годы
Часть V
1945–1953 годы
Часть VI
1954–1970 годы
Вместо послесловия
Иллюстрации
*** Примечания ***