Жан-Анри Руа, Жан Девиосс
Битва при Пуатье
(октябрь 733 г.)
От издательства
Битва при Пуатье, о которой пойдет речь в этой книге, – одно из самых известных и примечательных событий западноевропейского Средневековья, наряду с такими прославленными сражениями, как Баннокберн, Гастингс, Бувин, Креси, Леньяно. В любом учебнике можно найти упоминание об этой битве: место, где она состоялась, дату – 732 г. и имя человека, вышедшего победителем из яростной схватки, – франкского майордома Карла Мартелла. На первый взгляд история битвы при Пуатье и сопутствующих событий необычайно проста – начав экспансию в VII в., арабы добились потрясающих успехов за краткое время, завладели Персией, Палестиной, Сирией, Египтом, Северной Африкой, вышли в Среднюю Азию и вторглись в Индию. Они взяли Европу в клещи: с запада арабо-берберские войска Тарика ибн Зийяда высадились на побережье Испании, в считанные дни уничтожив Вестготское королевство и начав набеги за Пиренеи, в меровингскую Галлию; на востоке арабы осадили Константинополь и углубились в Закавказье. Но захватившие в 711–714 гг. Испанию арабо-берберские войска после серии набегов на меровингскую Галлию встретились в окрестностях Пуатье с армией франков под командованием Карла Мартелла, правителя Франкского государства. После ожесточенной схватки предводитель мусульман Абд-ар-Рахман пал на поле боя, а его войско потерпело полное поражение и обратилось в постыдное бегство. Так была остановлена экспансия мусульман, начавшаяся в песках Аравии, а арабский халифат, основанный преемниками пророка Мухаммеда, погрузился в пучину междоусобиц.
Таково традиционное изложение событий, связанных с битвой при Пуатье. Наиболее яркую оценку битвы при Пуатье дал английский ученый XVIII в. Эдуард Гиббон – если бы не битва при Пуатье, то в Оксфорде сейчас бы изучали Коран.
Для многих битва при Пуатье долгое время знаменовала собой точку соприкосновения двух цивилизаций – мусульманской и христианской, послужив к поражению первой и невиданному расцвету второй. Действительно, спустя несколько десятилетий после битвы при Пуатье на Западе поднялось могущественное государство, до этого словно дремавшее в летаргическом сне, – Франкское королевство, где сын Карла Мартелла Пипин III Короткий основал вторую королевскую династию. Апогеем же Франкского королевства и наследников Карла Мартелла стала христианская империя Карла Великого, монарха, который уже в свою очередь повел войска за Пиренеи и союза которого искал багдадский халиф Харун ар-Рашид.
В западноевропейской историографии XIX в. битва при Пуатье также связывалась с значительными социально-политическими изменениями, которые якобы привели к зарождению феодализма. Утверждалось, что именно в ходе битвы при Пуатье, когда пешее ополчение франков столкнулось с маневренной конницей арабов, а после поражения попросту не успело догнать бежавших мусульман, поскольку те были верхом, Карл Мартелл извлек для себя урок, задумав в дальнейшем создать франкскую кавалерию. Поскольку кони и тяжелое вооружение стоили очень дорого, Карл принялся раздавать своим сторонникам земельные участки на срок воинской службы (бенефиции), на доходы с которых его воины закупали и содержали необходимое вооружение и лошадей. Воин, получавший бенефиций, был обязан майордому личной преданностью и приносил клятву верности. Впоследствии бенефиции стали наследственными владениями, и Западная Европа плавно соскользнула в объятия феодализма.
При подобной трактовке событий битва при Пуатье приобретает первостепенное значение для средневековой Европы, играя роль своеобразного рубежа, вехи, разделяющей всю европейскую историю на два периода – до и после битвы при Пуатье.
Однако при более пристальном взгляде оказывается, что все не так уж и просто: словно какая-то пелена окутывает и саму битву и события, что привели к ней. Чем больше вникаешь в современные битве источники, тем вопросов становится все больше и больше, они растут как снежный ком. Неизвестны ни точное место, где встретились две армии (то ли возле Пуатье, то ли возле Тура), ни точная дата (732 или 733 год). Неясно, какие цели преследовали арабы, рвавшиеся к монастырю Св. Мартина Турского, – простой грабительский набег, вызванный слухами о несметных богатствах, накопленных поколениями франкских монахов, или же тщательно продуманное наступление в надежде покорить Галлию, наступление, которое являлось продолжением стремительной мусульманской экспансии, свидетелем которой стали VII–VIII вв. Иначе говоря, была ли на самом деле битва при Пуатье битвой народов, подобно сражению на Каталаунских полях, или же заурядной стычкой? Понимали ли сами участники событий все значение битвы, в которой они сражались? Или же для франков и арабов, для которых война была привычным способом существования, схватка у Пуатье стала еще одним, ничем не отличавшимся от других, этапом в военной эпопее обоих народов.
Так получилось, что битва при Пуатье действительно совпала по времени с упадком арабского халифата и приостановлением планомерного наступления мусульманских войск. Однако каким же должно быть сражение на самом отдаленном краю халифата, на границе мусульманской Испании, чтобы от потрясения, вызванного им, халифат Омейядов рухнул как карточный домик. Возможно ли здесь иное объяснение? Авторы предлагаемой читателю книги рассматривают и другую версию событий.
Не стоит забывать, что на поле под Пуатье в бою сошлись две армии, воевавшие по совершенно разным воинским канонам. Даже если арабы не сражались верхом (как утверждает итальянский историк Франко Кардини) и франкам не впервой было биться с мусульманскими отрядами, битва при Пуатье должна представлять несомненный интерес с точки зрения военной истории.
Ж. Девиосс и Ж.-А. Руа написали не просто книгу об одном событии – битве при Пуатье. Стоит напомнить, она вышла в 1966 г. в издательстве Галлимар в знаменитой серии «Тридцать дней, которые создали Францию». Для книг этой серии, написанных самыми разными авторами и с применением самых разных исторических подходов, тем не менее характерна одна черта – они никогда не замыкаются на одном событии, которое служит им лишь своеобразной точкой отсчета. Цель серии – показать, как известное историческое событие отразилось на истории Франции. Равным образом и для Ж. Девиосса, и для Ж.-А. Руа битва при Пуатье – лишь конечный этап того исторического движения, которое, собственно говоря, и привело арабов и франков на поле боя при Пуатье. Помимо подробного освещения самой битвы, различных точек зрения и оценочных суждений о ней Ж. Девиосс и Ж.-А. Руа фактически написали два исследования: Руа – историю зарождения ислама, халифата и мусульманской экспансии, а Девиосс – историю Франкского государства в эпоху династии Меровингов и начале правления династии Пипинидов-Каролингов. Конечно, исторические исследования не стоят на месте, и сегодня историки-медиевисты смотрят на битву при Пуатье несколько под другим углом зрения, нежели это делали Руа и Девиосс в далеком 1966 г. Но оба автора были в числе тех, кто стоял у истоков и внес весомый вклад в исследование этой проблемы.
Карачинский А. Ю.
Пролог
Место для Бога
В одном из своих предисловий Андре Жид настойчиво требует от всякого писателя оставить, по его выражению, место для Бога, то есть для всего того, что остается неизвестным автору при выполнении его работы и что добавит к ней читатель. Тем, кто делает историю, в отличие от тех, кто о ней пишет, никогда даже и в голову не приходит отстаивать такое право, даже Наполеону, позировавшему для потомков на Святой Елене. Они, конечно, боялись, что их сочтут непричастными к лучшему из сделанного ими. Здесь же это Божье место занимают люди, и необязательно великие, которые чаще всего лишь используют в своих интересах, или в соответствии с тем, как они понимают эти интересы, великие процессы непреодолимой силы, приводящие в движение целые народы. Они редко осознают, что именно они делают, и это с особенной отчетливостью проявляется в том столкновении двух миров, которое потомки назовут битвой при Пуатье.
Распределить роли здесь даже как-то слишком легко: с одной стороны, ислам, вырвавшийся из Аравийской пустыни подобно песчаной буре, сметая все на своем пути. Грабежи, насилие, хищения, неспособность направлять свои завоевания, внутренние раздоры, конец которым в состоянии положить только новые войны и заманчивая добыча; с другой же – мир, все еще потрясенный падением Римской империи и ищущий единства в христианстве. Обрел он его, без сомнения, защищая свои святыни от варваров.
Конечно, некоторые очертания этой нравоучительной картины оказываются размытыми. В Карле Мартелле нет ничего от святого, его прошлое сомнительно, он не знал благоговения перед церковными богатствами, когда нуждался в деньгах. Что же касается варваров, то нетрудно вспомнить, что их цивилизация вполне успешно выдерживала сравнение с европейской цивилизацией той же эпохи.
Лучше попытаться представить себе, что, вторгшись в нашу страну, покрытую лесами, и не зная других маршрутов, кроме остатков римских дорог, мусульманский военачальник, восхваляемый за свое благочестие и черпавший силу в Коране, вел праведную борьбу с идолопоклонниками.
В таком случае картина полностью меняется – вплоть до того, что в конце концов можно задаться вопросом, не была ли более предпочтительной победа Абд-ар-Рахмана: Франция, как и Испания, покрылась бы мечетями и альказарами, что не помешало бы развитию романского стиля и не ущемляло бы религиозного рвения христиан, так как ислам отличался терпимостью, и мы, возможно, избежали бы религиозных войн. Наше знакомство со значительной частью греческих философов состоялось бы раньше, поскольку хранителями их наследия являлись арабские мыслители; что же касается арабской науки, то она бесконечно превосходила те остатки римской учености, которые сохранились у нас после вторжения варваров; и можно сделать вывод: «Проникнутые страстью к науке, но менее способные к открытию, чем греки, арабские ученые произвели синтез индуистских и греческих работ, синтез, в который они внесли достаточно значительный личный вклад. Они усвоили индийское счисление, продвинули вперед алгебру, тригонометрию и астрономию. Период между VII и XII вв. является одним из самых ярких в истории науки».
Кто это сказал? Арабский историк? Нет, французский профессор, агреже математических наук, г-н Рене Татон, в своей книге «История счета» (р. 19). Кроме того, он мимоходом отмечает, что, если бы Герберт
[1] не открыл во время своих путешествий в Испанию цифр, которые мы с полным основанием называем арабскими, и не был бы избран папой, Европа продолжала бы считать, скорее, плохо, чем хорошо, с помощью римских цифр, как это еще делала наша Счетная палата в XVIII в. Но Герберт стал Сильвестром II в 999 г. Победа Абд-ар-Рахмана позволила бы нам выгадать двести шестьдесят семь лет. И мы еще ничего не сказали о многих других культурных достижениях, обогатиться которыми нам удалось, только дождавшись крестовых походов.
Но, полно мечтать, Абд-ар-Рахман был разбит, это один из немногих пунктов, по которым согласны все историки.
Правота как одной, так и другой стороны в очередной раз оказывается не бесспорной. И снова никто из тех, кто готов встретиться в бою, не осознает до конца ни того, какую роль играет, ни судеб, которые решаются его руками.
Вот почему мы отвели этим людям то самое «место для Бога», которое ускользает от их понимания независимо от того, идет ли речь о Том, чьим пророком был Мухаммед, или о Том, свет Которого, излучаемый монастырем Сен-Мартен, озарил всю Европу, или же, говоря менее конкретно, о том, который обретается в смысле Истории. Однако это сражение, о котором мы так мало знаем наверняка, так зачаровывает и так легко превращается в легенду. Как отметил Ф. Гизо, рассказывая об этом своим внукам, это, очевидно, связано не с тем, что никто из его участников, ни военачальник, ни простой солдат, не мог осознавать серьезности этой битвы, а, несмотря ни на что, возможно, с тем, что незаметно для себя они готовились к ней с неясным ощущением величия своей роли. И спустя века эти крестьяне из окрестностей Пуатье все так же показывают вам мызу, где произошла эта битва, с почтением в голосе. Но, чтобы лучше понять эту историю, со всем вниманием прислушавшись к легенде, нам следует представлять себе прошлое ислама и франков и тот долгий путь, который привел их к столкновению друг с другом.
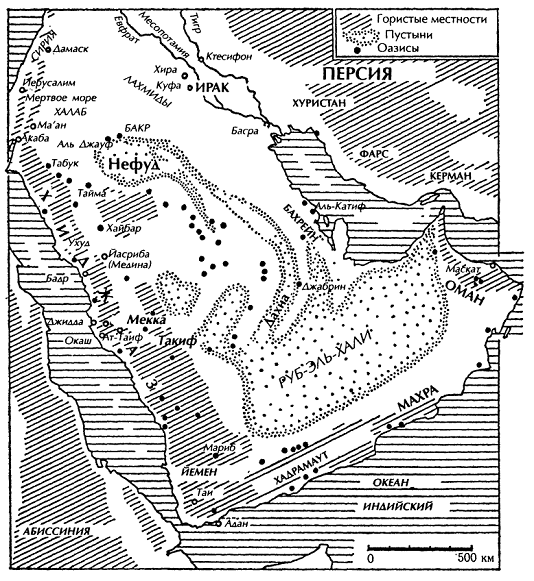
Карта 1
Аравия до Мухаммеда
Глава I
Исторические шансы ислама
В начале VII в. Европа, получив импульс от Григория Великого,
[2] вернула себе некоторую часть своей прежней политической силы и морального единства. Отрадный факт, ибо из глубин страны, считавшейся пустынной и необитаемой, внезапно началось вторжение совершенного нового рода. Это нашествие, источником которого была Аравия, захлестнуло Сирию, Персию, Египет, Мавританию, начало угрожать Греции и, вопреки любым ожиданиям, поглотило Испанию, а после перевалило через Пиренеи. Как объяснить эту непредвиденную мусульманскую экспансию, порожденную бесплодными песками? Кто были эти арабы, пророком которых сделался Мухаммед? Все эти вопросы можно объединить в рамках более широкой проблемы – каким потенциалом обладал ислам.
Не преувеличивая влияние среды, чего, по-видимому, не избежал Тэн, современный историк полагает, что великие цивилизации зарождаются в условиях, благоприятных с точки зрения почвы, природных ресурсов и возможностей сообщения. Так, Греция – это страна, где по двадцать лет почти не бывает морозов, ее жаркий и сухой климат формирует человека быстрее и гармоничнее, чем где-либо еще, ее спокойное море, усеянное островами, менее всего способно испугать своим видом искателей приключений. Кроме того, здесь сходятся два великих торговых пути: один из них соединял Восток с Западом, проходя через Малую Азию, а второй шел с берегов Нила на север.
Если же мы пожелаем найти противоположность ее достоинствам, обратимся к Аравии. Там между дневной и ночной температурой наблюдаются перепады в 60 градусов. Климат там почти невыносим даже для местных жителей. Тамошнее море – это пекло, обрамленное безводными или гористыми берегами с редкими и труднодоступными портами. Внутри страны раскинулась пустыня, которая чувствует себя тем привольнее, что этот полуостров, по размерам в четыре раза превышающий Францию и изолированный от остального мира с трех сторон, представляет собой горный массив с вершинами, расположенными по его внешнему контуру. На северо-западе они преграждают путь ветрам из Средиземноморья. На юге они отгораживают страну от муссонов Индийского океана: в Дахне и Руб-эль-Хали царит такая жара, что поныне этот район остается практически неисследованным. Горы Нефуд на севере едва ли более сносны. Между ними находится плато Неджд, которое по сравнению с соседними областями кажется более влажным и прохладным. Выпадающие там время от времени дожди дают жизнь растительности, которой верблюды и скот питаются в течение трех или четырех месяцев.
Подобная местность, как полагают, не способствует ни гармонии, ни уравновешенности, которые восхищают нас в греческом человеке. Однако, по мнению многих, именно она, как это ни парадоксально, дала исламу его первый шанс. Она установила естественный отбор, уничтожающий слабых. В результате она выковывала народ, способный выдерживать все лишения бадии, этих широких бесплодных пространств, где в состоянии выжить только бедуин при условии отказа от любых желаний, начиная с естественного стремления к пище. «Я могу запереть свой голод в изгибах своих внутренностей так же крепко, как руки искусной прядильщицы держат нити, которые она скручивает своими пальцами», – сказал еще Шанфара, поэт, живший до Мухаммеда. Более близкие к нашему времени свидетели, вроде Доти и Лоуренса,
[3] решившиеся разделить с кочевниками их тяжелую жизнь, подтверждают, что в этом нет бахвальства: «В подобной окружающей среде главнейшим качеством бедуина является не что иное, как эссуббор, мужественное забвение о голоде, необходимое для того, чтобы ему противостоять».
[4]
Лоуренс высказывается в том же смысле «Жизнь бедуина тяжела даже для тех, кто к ней привык, и ужасна для чужаков – это существование живого трупа».
Те, кто выживает, уже не боятся ни голода, ни жажды, ни боли Лоуренс видел, как молодой человек, у которого плохо срослось сломанное предплечье, обнажил себе кость кинжалом, снова сломал ее и выправил.
[5] Что же касается смерти, то это слишком привычная спутница, чтобы ее страшиться.
У пустыни есть и другие достоинства, более общие. Она изолирует полуостров с четвертой стороны, превращая его в «остров арабов». Она оградила его от Римской империи. Анри Пиренн
[6] видит в этом основное отличие исламского нашествия от всех остальных варварских вторжений. Германцы после них приложили все усилия, чтобы построить свои государства по образцу «Романии»,
[7] которой им было нечего противопоставить ни в идейном плане, ни с точки зрения цивилизации, администрации и религии, так что в итоге они сами оказались поглощены более развитыми народами, которыми завладели.
Для арабов, единственных, кто избежал притяжения Рима в силу самих условий своего существования, подобной опасности не существовало. Они обладали такой же, а может быть, и большей, чем у других, способностью к приспособлению и усвоили лучшие достижения исчезнувших народов, но силы, достаточные для борьбы с христианством и отказа от всякого компромисса с ним, они всегда находили в самих себе и в религии Мухаммеда.
Наконец, эта бесплодная среда обитания всегда одинакова. В любом другом месте почвы, культуры и пейзажи менялись и человек, несущий значительную долю ответственности за это, неизбежно эволюционировал, здесь же за тысячи лет не изменилось ничего. И человек остался тем же. У историка и сегодня есть возможность увидеть там живого современника Пророка, словно превратившегося в окаменелость в этих песках. Именно поэтому даже те, кто наиболее взыскателен в отношении источников, допускают использование имеющихся в нашем распоряжении многочисленных этнографических документов по кочевникам наших дней, а также рассказов путешественников и исследователей.
[8]
Кочевник неотделим от своего верблюда, на котором можно преодолевать до двухсот тридцати километров в день, и пользуется всеми дарами этого сказочного животного: его молоко представляется бедуину самым вкусным угощением, верблюжья шерсть, смешанная с овечьей или козьей и спряденная женщинами, становится его одеждой и покрышкой для шатра, моча считается лекарством и косметическим средством, сушеный помет служит топливом. В случае полного отсутствия воды ее добывают из желудка верблюда, и, разумеется, его мясо идет в пищу. Истинный бедуин кичится тем, что не пьет на пути от колодца к колодцу.
Современный кочевник может прожить шесть недель полностью отрезанным от остального мира, имея лишь полмешка муки весом сорок пять фунтов на человека. Этим объясняется необычайная мобильность воинов Пророка, удивлявшая их иноземных противников. Это удивление мы можем представить себе в свете тех чувств, которые вызвали турки во время первых экспедиций Лоуренса.
Лоуренс не скрывал недостатков своих товарищей: «Это такой же странный народ, как бедуины. Постоянное пребывание в их обществе требует от англичанина бездны терпения. Абсолютные рабы своих желаний, не знающие духовной узды, они без всякой меры упиваются кофе, молоком и водой, объедаются вареным мясом; всегда готовы выклянчить щепотку табаку, неделями мечтают о редкостных сексуальных наслаждениях, а промежутки заполняют, распаляя себя и своих слушателей непристойными историями». Бремон, познакомившийся с ними в это же самое время, сравнивает их с бедуинами по отвращению к коллективной деятельности и дисциплине, по страсти к грабежу и шумному бахвальству на тему военных подвигов, за которым порой кроется малодушие или внезапное бегство от уступающего по численности неприятеля. Однако он утверждает, что пустыня нейтрализует эти пороки: «Их сила объясняется исключительно географическими условиями, которые ограничивают их желания. Нищета Аравии делает их простыми, воздержанными и стойкими вопреки им самим. Если бы судьба забросила их в цивилизованные страны, они бы изнемогли, как и любой другой дикий народ; их бы подточили болезни, нравственное падение, роскошь, жестокость, коварство и хитрость, которые, за отсутствием иммунитета, поражали бы их сильнее, чем прочих».
Таким образом, бедуин являет нам два своих лика, на первый взгляд несовместимых: с одной стороны, это примитивное существо, ведомое одними инстинктами и чуждое всякой цивилизации, в котором римлянин, византиец или перс мог увидеть лишь дикаря и не заподозрил бы, что он сможет завоевать мир. Однако, с другой стороны, благодаря неумолимой среде, к которой он вынужден приспосабливаться, чтобы выжить, это боец, чье мужество нельзя сломить ни числом, ни превосходством в вооружении при условии, что он осознает значимость своей борьбы. Когда ислам фактически бросил племена пустыни на завоевание мира, у них уже имелся богатый боевой опыт; эти стражи своих стад были еще и воителями, которые стремились не только защитить общинные угодья, но и пытались завладеть чужими. В этом мире, где так часто отсутствовало самое необходимое, грабительский набег воспринимался как абсолютно нормальная и даже моральная вещь; поскольку применение силы или хитрости одинаково возможно с обеих сторон, то верх возьмет лучший, а другой всегда может надеяться на реванш. Доти, присутствовавшего при кровавом разгроме хатанов, которые были вынуждены бросить свои палатки, скот и имущество, взволновала мысль о том, что с ними станется. В ответ он услыхал:
«Для того чтобы восстановить хорошую форму, у них уйдет год или два; их будут кормить их наги (верблюды), впрочем, нескольких из них они продадут в деревнях, чтобы купить фиников и посуду. Они не долго будут оставаться без укрытия от солнца, так как их женщины скоро обстригут оставшийся у них скот и будут прясть и шить день и ночь; через несколько недель они раскинут свои новые палатки. А потом к ним на помощь придут другие хатаны с юга».
[9]
Жители Запада были потрясены, обнаружив подобного рода набеги в биографии Мухаммеда, а в Коране – очень точные инструкции относительно добычи и ее дележа.
Хотя Мухаммед и попытался облагородить этот обычай, отведя часть нищим и обездоленным, ему не удалось ни осудить его, ни понять, почему следует поступать именно так. Впрочем, набег всегда подчинялся определенным правилам:
«Первейшее правило арабских воинов – не трогать женщин; второе – щадить жизнь и честь детей, слишком маленьких для того, чтобы сражаться с мужчинами; третье – не уничтожать того, что невозможно унести», замечает по этому поводу Лоуренс.
[10] Эти правила часто побуждали к личному вызову и поединку, и, наконец, к рыцарственности, воспеваемой поэтами:
«Дочь Малика, почему ты не спросишь всадников, если тебе неизвестно о моих подвигах?
(Они скажут тебе, что) я всегда верхом на сильном коне высокого роста, покрытом шрамами, и против него беспрестанно выступают, сменяя друг друга, воины.
То он вызывает на бой врагов, вооруженных копьями, то бросается на обладателей луков с натянутой тетивой.
Всякий, кто был свидетелем битвы, скажет тебе, что в бою я устремляюсь в самую гущу, но отступаю при разделе добычи».
Так описывает себя Антара, о котором Мухаммед сказал: «Это единственный бедуин, чья слава заставила меня желать увидеть его».
[11]
Кроме того, арабы стремились, насколько возможно, щадить участвующих в сражении мужчин, избегая проливать кровь своего противника. И в этом случае жителю Запада едва ли будут понятны эти известные по летописям великие битвы, в которых сталкиваются иногда преувеличенные легендой, но определенно значительные массы людей и которые выливаются в смехотворные количества убитых и раненых. Однако здесь не идет речь о словесных вызовах или театральных жестах, когда две армии встречаются, обмениваются угрозами, а потом расходятся без всякого сражения. Велико искушение сделать вывод о трусости арабов, замаскированной словами или мимикой. На самом деле бедуин храбр, и у нас слишком много тому доказательств, чтобы сомневаться в этом. Это не мешает ему сознавать, что смерть противника повлечет за собой общеобязательную кровную месть двух кланов, то есть цепочку убийств, которая может прерваться только тогда, когда общие интересы побудят оскорбленную сторону принять денежное возмещение – дийю.
Таким образом, цель набега не в убийстве, а, совсем напротив, в захвате возможно большей добычи с максимальной безнаказанностью: поэтому важно стремительно передвигаться, чтобы уметь внезапно налететь на противника, а после уйти от его погони. Этим объясняется и та забота, которой бедуин окружает свою лошадь, животное более быстроногое, чем верблюд, но куда менее приспособленное к пустыне. Без сомнения, набег – не война, так как он редко приводит в движение крупные силы. Однако именно ее стиль отмечает первые важные битвы, в ходе которых окрыленные религиозным рвением арабы вознамерились покорить мир. Естественным основанием общности кочевников является семья, собранная в одной палатке. В то время как мужчины составляют ее гордость и силу, к дочерям в ней относятся с презрением. Это лишние рты, которые приходится кормить в шаткой надежде на выкуп в отдаленном будущем, – так что обычай закапывать заживо новорожденных дочерей просуществовал до времен Мухаммеда, который его осудил.
Тем не менее, как и во всех первобытных обществах, брак – это повод установить мирные отношения с другой семьей. Отец уступает свою дочь супругу, и, как только выкуп внесен, она становится собственностью последнего, причем он может ее отвергнуть. Она может уйти от него, вернувшись в шатер своего отца, который в этом случае начинает переговоры с мужем, чтобы тот вернул ей свободу в обмен на выкуп. Даже вдова остается в зависимости от семьи своего супруга; обычно она доставалась его брату. Однако не стоит забывать, что брак – это прежде всего акт, затрудняющий или исключающий кровную месть и тем самым способствующий созданию союзов, более крупных, нежели просто семья. И многочисленные браки Мухаммеда следует понимать именно с этой точки зрения, а не в смысле чувственности, за которую его порицали некоторые враги. Именно так, а также и иными способами, например, за счет утверждения факта родства с общим предком (который мог быть и легендарным животным, в подтверждение чему можно привести некоторые имена, вроде бану калб или бану асад, «сын собаки» и «сын льва»), социальная молекула разрослась, превратившись в клан, а потом и в племя. Во главе его стоял сейид или шейх,
[12] который нисколько не ущемлял авторитета отца семейства в его шатре и должен был остерегаться того, чтобы прослыть тираном. Его власть зиждилась не на четко установленных правах, а на его собственной приветливости, щедрости, преданности общим интересам, а также почтенном возрасте и знании традиций. Члены клана или племени не подчинялись никакой настоящей дисциплине; они так никогда и не отказались от индивидуализма, которым дорожили, однако с того момента, когда клан подвергался нападению или встречался с угрозой или когда речь шла о кровной мести, затрагивавшей его честь, солидарность внутри него становилась всецелой. Вследствие этого равновесие между племенами всегда оставалось очень неустойчивым; объединить их оказалось трудно даже при полной победе ислама, и союз этот всегда оказывался хрупким по причинам, которые нам представляются ничтожными, но задевали столь уязвимую племенную гордость.
Именно этому обществу навязал себя Мухаммед, еще не обладавший ни воинской славой, ни авторитетом вождя. Долгое время его единственным оружием оставалось слово, но в том мире, где он жил, слову приписывалось огромное могущество. У кочевников именно слово созидает ритмы бытия
[13] и осуществляет связь между поколениями. Ибо эти архаические общества имели основой своего единства во времени поколение, откуда и важность этих бесконечных генеалогий, которые монотонно излагают нам арабские историки. Договоры были тайными и исключительно устными; традиция есть продление слова. Слово, сказанное предками, служит цементом общества, и именно поэтому вождь должен обладать им в первую очередь, ибо он – голос клана. Лоуренс прекрасно описал все значение публичной речи, воодушевляющей воинов, или слова – ранящего, иносказательного или поднимающего собеседника на смех – в беседах с вождями нередко в широко раскрытых шатрах, непрочные стены которых всегда имеют уши.
Анекдоты, сообщаемые нам традицией, даже если они отдают легендой, проливают свет на высокий престиж слова; ограничимся нижеследующим, о котором упоминает Зеллер: «Однажды Омар, мекканский воин, вышел из своего дома, чтобы убить Пророка. По пути он встречает одного из своих родственников, который зовет его скорее пойти и посмотреть, что происходит у него дома; он возвращается и видит своего шурина и сестру, которая прячет от его взгляда какую-то вещь; это оказываются несколько стихов из Корана. Он с гневом отнимает их у нее, читает и, растроганный, переубежденный, снова направляется к дому Пророка. "Что привело тебя, сын Аль-Хаттаба? – говорит ему Мухаммед. – Станешь ли ты упорствовать в своем нечестии, доколе небо не падет на твою голову?" – "Я пришел, – отвечает Омар, – чтобы объявить тебе, что я верю в Аллаха и его пророка"».
Слово араб скандирует и совершенно естественно превращает в поэму. Это спонтанное творчество заполняет тишину долгих путешествий по пустыне, его способны оценить даже самые дикие из бедуинов. Поводом к нему служат самые незначительные события повседневной жизни – поступь верблюда, падение, неожиданная встреча; и, по свидетельству Лоуренса, как только приходит весть о новом военном успехе, иман, оставив все дела, воспевает ее в хвалебной оде: «Если работа проделывалась за шестнадцать минут, поэма считалась достойной почтения, а поэта награждали золотом».
[14] Впрочем, поэт – это воин, а воин, совершенно естественно, – поэт, так было и с Аудой, который рассматривал жизнь как сагу: «Малейшее событие в ней приобретало смысл; самый ничтожный персонаж, имевший к ней отношение, становился героическим. Его разум был заполонен поэмами, восхваляющими древние набеги, и эпическими сказаниями, которые он выплескивал на первого попавшегося слушателя. При отсутствии такового он, несомненно, пел их для собственного удовольствия своим великолепным, глубоким, звучным, высоким голосом».
[15] Когда вдохновение нисходит не в пылу битвы, оно изливается наружу в конце трапезы в самой приятной форме, обычно сатирической, с лукавым или злым умыслом. Так Ауда выдумывает рассказ о том, как Мухаммед при свидетелях купил ожерелье из драгоценных жемчужин, которое не получила в подарок ни одна из трех его жен. Он всячески расцвечивает эту полностью вымышленную историю к вящему отчаянию незадачливого мужа, преследуемого ревностью своего гарема.
Таким образом, Лоуренс отмечает и в наше время процесс создания арабской поэзии, которая, без сомнения, вначале представляла собой сатиру, затем погребальный плач и, наконец, касыды, уже чисто лирические, с удивительным изяществом и лаконичностью воспевающие любовную страсть, вино, странствия охотников, избиение врагов и славу племени, в скрупулезно продуманных образах.
Необходимо также подчеркнуть народный характер этого труда, не имеющего никакого отношения к ученым мужам. Когда Лоуренс рисует нам Фейсала, пытающегося привлечь на свою сторону руаллов и излагающего их мысли по поводу арабской истории и языка, он настаивает на необходимости молчания, следующего за словами последнего: «Затем он умолк на мгновение, ибо для этих необразованных мастеров красноречия слова были живыми, и они любили наслаждаться ими без всякой примеси, смакуя их по одному между небом и языком».
[16]
Задолго до Мухаммеда неграмотные кочевники уже были мастерами слова и ценителями его силы и музыкальности, и это давало исламу еще один шанс – общность литературного языка стала объединяющим фактором, ведь в местах, где проводились самые настоящие поэтические конкурсы, объявлялось перемирие в кровной мести, например, в Оказе в районе Мекки. Мухаммед заручился поддержкой почти всех поэтов, и они внесли огромный вклад в распространение его учения, так велико было их влияние на арабов; например, рассказывается об одном племени, которое, прежде чем в полном составе обратиться в ислам, послало своего поэта к Пророку для беседы.
[17] Если сам Мухаммед и отказывался от звания поэта, то лишь для того, чтобы подчеркнуть божественность и уникальность своего послания: однако Коран, как ясно уже из его названия, это прежде всего «чтение наизусть», именно поэтому его распространение, даже без использования письменности, пойдет с огромной скоростью, тем большей, что он использует абсолютно эффективные лингвистические средства. Рислер очень удачно проанализировал
[18] значение языка для победы ислама, особенно в семитских областях, где греческому языку и мысли удалось внедриться только в городах и при дворах, не проникнув глубоко в душу сельских жителей. Тамошние крестьяне продолжали пользоваться арабским или родственным ему арамейским, так что легко прониклись симпатией к завоевателю, говорившему на их языке. Правящие классы, гораздо более просвещенные, чем арабы, подарили языку, на котором не говорили до обращения в ислам, его грамматику, синтаксис, всю ту гибкость, которой ему все еще не хватало, и некоторые из его лучших литературных памятников. Тогда арабский язык создал своеобразный литературный и научный интернационал, в котором арабы удивительным образом составляли лишь ничтожное меньшинство, а культурный обмен шутя преодолевал любые расстояния: так, Авиценна, житель Трансоксании (между Индом и современной Россией), оказал несомненное влияние на Аверроэса, философа из Кордовы, тогда как Идриси, преподававший в Испании, отмечал работу Яккута, учившегося недалеко от Аральского моря.
Мы удалились от наших неграмотных бедуинов, однако именно они дали начало этому процессу. Их религия оставалась делом клана, у каждого племени были свои боги и идолы, среди которых главное место занимали деревья и камни, – что объясняется в основном той окружающей местностью, по которой они кочевали. При отсутствии камней человек пустыни падал ниц перед шаром из песка, который он замешивал на молоке своей верблюдицы.
[19] Какой бы примитивной ни была эта религия, равно наделявшая, в негативном плане, таким же влиянием джиннов, которые вмешивались в жизнь людей и которых важно было никогда не раздражать, заметим, что боги в ней никогда не имели человеческого облика, и именно эта черта сохранилась в религии Мухаммеда. Почитанием окружаются не только камни неровного рельефа, безусловно, способного поразить воображение, так как еще и сегодня он удивляет путешественников, но и камни, считающиеся упавшими с неба и отсылающие нас к звездному культу, объектами которого являлись Луна, Венера, богини Аль-Лат и Аль-Узза, а также не кто иной, как бог Аллах – самый заметный представитель этого пантеона.
Не будь такого камня, вмонтированного в квадратное строение Каабы, Мекка осталась бы лишь местом, где находится колодец Замзам, на караванном пути, ведущем на север. Почему этот черный камень сыграл выдающуюся по сравнению с другими роль, собрав вокруг себя триста шестьдесят идолов?
Может быть, потому, что племя курайшитов, которые являлись его хранителями, добилось наибольшего влияния и навязало другим свое святилище, или же потому, что паломничество, цель которого состоит в поклонении Камню, совпадало со сбором фиников и очень часто с ярмаркой. Как бы там ни было, в этом случае можно наблюдать объединение религиозных и коммерческих интересов, что еще раз подтверждает тезис Дави о перемирии на базарной площади, согласно которому торговый обмен мог возникнуть лишь под сенью святыни. Именно поэтому тот факт, что сделки заключались даже в стенах Каабы в промежутке между двумя молитвами, не обязательно служит доказательством упадка язычества.
Мы уже видели, как протекает жизнь в пустыне и как эта жизнь закаляет человека. Является ли эта парадоксальная удача кочевника уделом всех арабов? Помимо этой злосчастной Аравии, поражающей воображение исследователя или путешественника, некоторые историки
[20] настойчиво твердят о значении другой Аравии – счастливой.
Здесь жизнь возможна во все времена года. Благодаря близости моря, ярко выраженному рельефу, воды которого еще в самой глубокой древности были собраны в каналы с помощью плотин, вроде известной нам дамбы в Марибе, этому региону суждено было породить процветающие цивилизации, все более многочисленные следы которых обнаруживает современная археология. Можно упомянуть четыре великие империи, хронология которых остается спорной: Ма'ан, Саба, Катрабан и Хадарамаут.
Именно в эту страну в 24 г. до Р. X. по приказу Августа направилась экспедиция под командованием Аклия Галла, префекта Египта. Согласно преданию, подхваченному Бенуа-Мешеном,
[21] римские легионеры вошли в бесплодную пустынную местность и погибли, изведав пытку зноем и изнурением; но, безусловно, в реальности дело обстояло по-иному. Эти легионеры не углублялись в пустыню. Они двигались вдоль западного побережья Аравии, пока не потерпели крушение у Марибы, безусловно, представляющей собой современный Мариб. Известно, что благодаря своей плотине и совершенной оросительной системе этот район был полностью возделан. Разрушение этого сооружения, с чем связывают упадок страны, относится к гораздо более позднему периоду. Следовательно, стоит отказаться от символической картины занесенных песком трупов, все еще сжимающих мечи полуистлевшими пальцами, и, напротив, понять, что сказочные богатства этой части Аравии возбуждали аппетиты ее соседей. Она производила духи («По всей Аравии разливается их божественный аромат», написал Геродот), там же можно было найти мирру, ладан и ароматы – благовония, пользовавшиеся большим спросом в античном мире.
[22] Ее географические положение у слияния двух морей делало ее ключевым пунктом в торговле между Дальним Востоком и Африкой с одной стороны, и Средиземноморским бассейном – с другой. Ее побережья благоприятствовали каботажному плаванию. Туда переправлялись жемчуг, добытый» в Персидском заливе, слоновая кость, шелк, хлопок, полотно, рис и перец с Инда и из Африки, рабы, обезьяны, золото, страусовые перья в обмен на всю продукцию Средиземноморья. К этой внушительной торговле добавлялись сельскохозяйственные и ремесленные ресурсы.
Очевидно, что утверждение Жака Пиренна
[23] о том, что благодаря пересекающим Аравийский полуостров караванным путям и каботажу, осуществлявшемуся вдоль его берегов, он уже с самой глубокой древности играл существенную роль в экономических связях между Западом и Востоком, основано на истории и экономике именно этой, богатой, части Аравии. К VI в. после Р. X. там уже были важные города, Маскат и Адан на юге, а также Медина и Мекка в Хиджазе – крупные рынки на пути от Красного моря в Азию. Охрану караванов брали на себя сами же дикие бедуины.
С конца IV в. Сасаниды завербовали себе помощников из их числа, направив их в Месопотамию. Те же образовали небольшое государство, подвассальное Персии, со столицей в Хире и приняли христианство несторианского толка.
[24] В VI в. Византия, в свою очередь, поселила бедуинов на юге Сирии; они также создали вассальное государство и тоже обратились в христианство, но в форме монофизитства,
[25] которое в то время восторжествовало в Сирии и Египте. Наконец, завоевание Йемена Хосровом I еще теснее связало Мекку и Медину с международной экономикой. Мистическое движение росло наряду с расширением христианства. В арабских городах христианские общины пополнялись в основном за счет простого народа, в то время как евреи, поселившиеся в Аравии вследствие гонений Ираклия,
[26] занимали важное место в городской среде, образуя в ней свою плутократию. Именно в этой обстановке Мухаммед, который и сам принадлежал к классу зажиточных горожан, начал свое пророческое служение.
Не делая такого упора на важности экономических реалий, Годефруа-Демомбин подчеркивает,
[27] что чудесное рождение одной из величайших религий мира в пустыне не более чем иллюзия: в действительности пустыню, о которой идет речь, пересекает широкая полоса оазисов и степей, а возвышенные и орошаемые районы на побережьях кормят многочисленное население, сформировавшееся в соприкосновении с людьми древней цивилизации.
Хорошо бы учесть эти оговорки и с их помощью добавить полутонов в традиционный образ пустынной Аравии, но не следует отказываться и от тезиса Лоуренса. Чтобы подтвердить его, он ссылается на реальный закон человеческой географии, о котором говорит и Бенуа-Мешен и следствия которого можно наблюдать еще и сегодня.
В процветающем Йемене образовался избыток населения, которое не могло покинуть его, ни переправившись через Красное море из-за враждебности Абиссинии, ни поднявшись по его побережью на север, так как Хиджаз тоже страдал от перенаселенности. Поэтому мелкие, самые неимущие группы, побуждаемые неумолимой необходимостью, уходят в глубь пустыни; земледельцы превращаются в кочевников, рискуя снова стать пахарями по другую ее сторону. Лоуренс превосходно описывает
[28] эту «кузницу кочевников», этот «пустынный Гольфстрим», неисчерпаемая энергия которого живет в семитах и преподает каждому из своих участников самую ядовитую и обстоятельную из всех социальных дисциплин,
номадизм. Даже если этот тезис и преувеличивает опасности переправы через Красное море, а кочевничество никогда не носило столь неотвратимого характера, от этого ничуть не страдает тот факт, что между пустыней и арабом существует глубокое сродство. Во-первых, горожане составляют лишь ничтожное меньшинство, и даже они восприимчивы к зову пустыни. Мы видим, как преуспевающий Мухаммед, супруг богатой Хадиджи, регулярно удаляется туда, однажды – на целый год, чтобы там предаваться размышлениям, ибо семиты, как евреи, так и христиане, или арабы, всегда взирали на пустыню как на оптимальное место для религиозного вдохновения. Синай находится в пустыне. Когда же отклик на зов пустыни не был продиктован обстоятельствами или аскетизмом, человеком двигали более прозаические соображения торговли.
Колыбелью ислама не является ни Йемен, ни пустыня, а Хиджаз, который очень мало заслуживает своего звания преграды, так как его роль – служить проходным путем. В отличие от Йемена он не является страной богатой культуры. В Мекке нет ничего своего, там все привозное, а климат почти невыносим – настолько, что еще и сегодня путешественник задается вопросом, как могло человеческое общество удержаться на этой бесплодной равнине. Это не что иное, как пустыня, а ведь можно с полным основанием вспомнить о плодородии некоторых оазисов, в частности Медины. Однако существует единодушное мнение о том, что эти два крупных города Хиджаза, ставшие средоточиями ислама, никогда не смогли бы сыграть своей роли, если бы не являлись перевалочными пунктами на пути торговли благовониями. Таким образом, именно торговые нужды побуждали жителей Мекки или Медины, не роняя при этом своего социального статуса, и даже укрепляя его, становиться караванщиками и вступать в контакт с бедуинами. Именно так поступил Мухаммед и не составил в этом отношении никакого исключения.
Таким образом, именно в этом двойственном и определенно непростом союзе бедных кочевников и торговой аристократии следует искать глубинные причины революционного брожения, которому суждено было вылиться в ислам.
Однако какими бы глубокими ни были разногласия авторов по поводу роли климата, окружающей среды, экономических факторов, все они согласно полагают, что Аравия получила свой исторический шанс благодаря тому, что породила необыкновенного человека, способного осуществить этот тонкий синтез и сумевшего – в стране, которая гордится тем, что произвела на свет сорок тысяч пророков, – стать для своих современников единственным Пророком и до сегодняшнего дня оставаться им для миллионов мусульман.
Глава II
Мухаммед
Нет ничего более неопределенного, чем жизнь того, чьи приверженцы называли его «Мухаммедом» («вдохновенным, достохвальным»), согласно Корану, предвозвещенного Иисусом с помощью синонима Ахмед, и, вероятно, более известного в течение всей первой части своего существования как Абу-ль-Касим.
Можно покорно следовать исламскому преданию, которое окружает земной путь Пророка ореолом сверхъестественности и не терпит самой возможности применения к нему исторической критики.
[29] Мы предпочитаем опираться в основном на Коран, хотя в нем Мухаммед очень редко говорит о самом себе.
Судя по дате его смерти – 13-й день месяца Раби, в 11 году по Хиджре, или 8 июня 632 г., – из которой мы вычитаем десять лет, проведенных в Медине, и десять или тринадцать лет проповеди в Мекке после откровения, полученного в сорок лет, рождение Пророка можно отнести примерно к 570 г. Когда бы это ни произошло, все согласны с тем, что Мухаммед принадлежал к племени курайшитов, самому влиятельному в Мекке. Наибольшим весом тогда пользовались две семьи: Омейя, самая богатая, удерживала в своих руках политическую и военную власть в городе; род Хашим, менее обеспеченный, охранял колодцы Замзам, и их содержание приносило ему немалый нравственный и религиозный авторитет. Мухаммед был хашимитом. Учитывая это почетное родство, можно удивиться его бедности. Чтобы объяснить ее, кое-кто заявляет, что его дед, Абд-аль-Мутталиб, разорился из-за своей щедрости по отношению к паломникам. Через свою мать, Амину, будущий пророк был связан с одним из кланов соперничавшего с Меккой города Йасриб, который прозвали Мединой, «приютом», когда он поселился там, возможно, благодаря этим кровным узам. Отец, Абдаллах, о котором известно очень немногое, если не считать того, что он был очень красив, умер до рождения своего сына, оставив жену в нищете. Ребенок был поручен своему деду, который отдал его кормилице из семьи местных бедуинов, бану сад; согласно распространенному мнению, климат Мекки был практически невыносимым для новорожденных. Само собой разумеется, легенда подробно описывает чудеса, предшествовавшие и сопровождавшие его рождение: незадолго до зачатия лицо Абд-Аллаха осветилось лучом божественного света нур, столь явно, что это побудило другую женщину тщетно искать близости с ним, надеясь стать матерью Пророка. Затем некий голос возвестил Амине, что она носит во чреве «лучшего из земнородных».
[30] Ребенок появился на свет свободным от всякой скверны, обрезанным от природы, а пуповину ему перерезал ангел Джабраил; время родов было ознаменовано появлением кометы, Сирия была освещена, и Амина могла видеть даже рынки Дамаска, в то время как озеро Суа высохло; ужасное землетрясение поколебало дворец Сасанидского царя Кисры (Хосрова) и повалило сорок его башен, священный огонь, который более тысячи лет поддерживали его персидские поклонники, угас, а все идолы на земле, устыдившись, склонили головы.
[31] Кормилица Халима, со своей стороны, поведала, что год этот был неурожайным, и она отправилась в Мекку верхом на исхудалой ослице в сопровождении своего мужа на такой же тощей верблюдице. Ее собственный ребенок плакал, мучимый голодом, который она не могла утолить, ибо у нее осталась лишь капля молока, а у верблюдицы оно пропало. Халима пришла в отчаяние: как сможет она в такой ситуации взять на себя еще одного питомца? В городе все новорожденные уже были разобраны, кроме одного, красота которого ее покорила, и она с сожалением подумала, что если она не возьмет его, никто другой не станет себя им обременять, так как семья его слишком бедна, и ни одна кормилица не согласилась принять его; поэтому он обречен умереть, отравленный нездоровым воздухом этого города. Она увезла его с собой. И едва она взяла его, как грудь ее снова наполнилась молоком. В пути у ее верблюдицы тоже появилось достаточно молока, чтобы прокормить их всех, а ослица пошла так быстро, что Халима догнала всех своих подруг.
Эти подробности умиляют благочестивые души. Нет нужды подчеркивать обнаруживаемое ими стремление привести биографию Мухаммеда в соответствие с тем ореолом святости, которым неизбежно облекло его пророческое служение Чтобы установить, что они сфабрикованы задним числом, достаточно всего одного доказательства. Голос, сообщивший Амине о необыкновенной судьбе, ожидающей ее сына, повелел ей назвать его Ахмедом. В этом случае высказывание Корана полностью соответствует Преданию: «Некогда Иисус, сын Марии, сказал сыны Исраиля! Я Божий посланник к вам для подтверждения Закона, который в руках в вас, и для благовестия о посланнике, который придет после меня, которому имя Ахмед».
[32]
Как отмечает Годефруа-Демомбин,
[33] невозможно понять, почему ребенок получил это имя, если только не допустить, что эта легенда сложилась уже после начала его проповеди. Тем не менее из Предания мы можем узнать об этих первых годах, проведенных среди кочевников, чья простая, безыскусная, ни здоровая жизнь укрепила юношу, привила ему любовь и понимание пустыни и привычку, пронесенную им через всю жизнь, довольствоваться самым необходимым и отказывать себе в роскоши. Очень правдоподобно предположение о том, что он жил у Халимы и ее родичей еще долгое время после того, как его перестали кормить грудью, особенно если вспомнить о бедственном положении его матери.
Когда же Мухаммед был отдан Амине, она отправилась в Йасриб, безусловно, рассчитывая передать его своей родне. Она умерла, либо еще на пути туда, либо, возвращаясь назад, что указывало бы на неуспех ее предприятия. Тем не менее позволительно вместе с Блашером
[34] поразмышлять о том, какой оказалась бы проповедь Мухаммеда, если бы он вырос в этом богатом оазисе, насквозь пропитанном иудаизмом. Но сирота остался в Мекке, где каждый думал только об увеличении своего богатства и не проявлял к нему никакого интереса. В отличие от кочевников, здесь традиции не возлагали на главу клана ответственности за обездоленных членов семьи,
[35] и настойчивость, с которой Коран поручает сирот общественному попечению, говорит о том, что сам Мухаммед, должно быть, пострадал от такого положения дел.
Однако после смерти деда его забрал к себе один из дядьев, Абу Талиб, зажиточный купец, сын которого Али поклялся своему кузену в нерушимой любви и преданности. Некоторых в связи с его возвращением к богатству удивляет то, что впоследствии этот ребенок стал пастухом, обязанность, которая чаще всего поручается рабам или наемникам. Они вопрошают, не стремится ли здесь Предание удовлетворить семитскому предрассудку, по которому каждый пророк обязательно должен быть овечьим пастырем, каким был Моисей, а потом Давид и как учит Коран.
[36] Однако разве не будет такое предположение правдоподобным, тем более что детство среди кочевников уже подготовило Пророка к подобному труду? Говоря об истории этого периода, куда сложнее принять двух белых ангелов, которые повергают Мухаммеда наземь, рассекают ему грудь и извлекают из его сердца черный сгусток скверны. По мнению Блашера, это прекрасный пример вымысла в Предании, порожденного буквальным прочтением коранической метафоры, вроде «раскрытия груди».
[37] Годефруа-Демомбин категорически отвергает гипотезу, согласно которой в этом эпизоде можно видеть легендарную трактовку первого эпилептического припадка у Мухаммеда.
Действительно, не может быть и речи о том, чтобы назвать Мухаммеда истериком, сведя тем самым его призвание и деятельность до уровня патологического явления, которое в наше время стало бы медицинским случаем. Знакомясь с Кораном даже в неполных и неизбежно несовершенных переводах, читатель, каковы бы ни были его религиозные или философские взгляды, не может не восхищаться красотой этого текста и величием породившего его вдохновения, которое легко выдерживает сравнение с другими священными книгами, в частности с Библией. Кроме того, изучая то, как Мухаммед сумел завоевать сердца своих современников и управлял общиной верующих, удивляешься его политическому чутью, трезвости и успешности его действий вопреки всем преградам, которые вставали на его пути. Человеку, страдающему нервным или психическим расстройством, было бы недоступно это редкое даже у совершенно здоровых людей сочетание религиозного призвания с глубоким реализмом. Но от этого симптомы, сопровождавшие видения Мухаммеда и очень хорошо описанные Уоттом,
[38] не становятся менее достоверными, и их нельзя недооценивать – слуховые галлюцинации, ощущение боли и сильная испарина, и это только самые скромные проявления. Можно ли допустить, что подобные признаки возникли у него только после сорокового года жизни, к которому относится начало проповеди? Если не углубляться в прошлое вплоть до возраста четырех лет, память о котором хранит. Предание, правдоподобным выглядит предположение, что будущий пророк еще в детстве познал эти страдания, которые произвели сильное впечатление на его окружение, тем более что арабский менталитет того времени был в высшей степени склонен приписывать их одержимости демонами. Если же его религиозный опыт не был следствием психической патологии, то его необходимо рассматривать, как это делал Блашер, в перспективе работ Делакруа, и в этой связи плодотворнее всего было бы сравнение со св. Терезой и другими мистиками, которое показало бы различные этапы, всегда одни и те же, на пути каждого из них и в результате позволило бы подвергнуть Коран и Предание критике, основанной на открытиях современной психологии.
К несчастью, об образовании и формировании молодого Мухаммеда нам известно очень мало Возможно, он сопровождал караваны, отряжаемые его дядей в Сирию. В его беседе с отшельником Бахирой слишком много чудес и неправдоподобности, чтобы ее можно было взять на вооружение, однако следует допустить, что Мухаммед приобрел сравнительно точные сведения об иудаизме и христианстве, свидетельством чего является Коран, в большей степени благодаря своим прошлым и будущим путешествиям, а не общению с неимущими христианами Мекки, которых его клан, должно быть, сторонился. Можно вместе с Годефруа-Демомбином
[39] удивиться тому, как мог этот курайшит, если ему доводилось присутствовать на христианских церемониях, не сохранить о них никаких воспоминаний, тогда как некоторые языческие поэты его времени вроде Аль-А'ши описывают священника, преклоняющего колени перед чашей вина. Однако важно не забывать, что Мухаммед был воспитан в вере своих родителей, а Предание определенно грешит, с ужасом отвергая саму мысль о его возможном участии в языческих церемониях. После смерти Абд-аль-Мутталиба наследником сикайи, то есть почетного права кормить и поить паломников к языческому святилищу Мекки, стал дядя Пророка Аль-Аббас, и если языческий поэт и мог побывать на литургии, то куда труднее вообразить, чтобы то же самое позволил себе племянник человека, облеченного жреческой функцией, явно несовместимой с христианством. Намного легче представить себе его интерес к тем замкнутым или гонимым религиозным общинам, которых в то время было немало на караванных путях. Во всяком случае, возможность того, что Мухаммед мог читать еврейские или христианские тексты, по-видимому, исключена, так как совершенно непонятно, как бы он смог получить к ним доступ, да и неизвестно, умел ли он читать. Предание отрицает это с заведомой целью придать его посланию, «продиктованному» самим Аллахом (таков смысл слова «коран»), характер сверхъестественности, которого оно бы не имело, родившись под влиянием иудейских или христианских текстов; однако выказываемое Кораном сходство с ними иногда озадачивает. Сам Мухаммед отрицает, что у него были наставники, способные подсказать ему те или иные стихи; они слетали с губ Пророка спонтанно на глазах у верующих, которые запечатлевали их в памяти для дальнейшей декламации, а письменная традиция, воплотившаяся в рукописном тексте Корана, в основном относится ко времени после смерти Пророка. Здесь, как кажется, Коран подтверждает Предание.
Действительно, в трех стихах мы встречаем относящееся к Пророку выражение эломимиййу, означающее «неграмотный». Например, в стихе 158 суры Арафа читаем: «Потому, веруйте в Бога и Его посланника, неученого пророка…»
[40]
Мы не можем буквально принимать этот эпитет, которому, по словам Монт, противоречат совершенство стиля, верность классическим канонам и красноречие священной Книги. В этих сурах, дарованных в Медине, Мухаммед обращается к евреям, которые отказываются от принятия ислама, по их впечатлению Мухаммед, заявляющий о своей связи с их традицией и о том, что Библия предвозвещает его приход, демонстрировал вопиющее незнание текстов. В этом контексте слово «неграмотный» приобретает совершенно иной смысл Курайшит отказывается следовать учителям еврейского закона, которые учат по текстам. Его откровение другой природы, нежели их банальные словесные ухищрения по поводу буквы, которую они, возможно, сфабриковали. Да, он невежественен и силен своим незнанием, ибо его вдохновляет Аллах, и только он.
Но мы здесь ничего сказать не можем. Заметим просто, что этот молодой человек, еще не получивший своего первого видения, который бы сам удивился больше всех, предскажи ему кто-то его будущее, сумел после своего нищенского детства приобрести репутацию хорошего караванщика и дальновидного дельца. Однако мекканские купцы пользовались письменностью, хотя и довольно примитивной, поскольку диакритические знаки были ей неведомы, и фиксировала она одни согласные, но для их торговых нужд этого было достаточно. Нет причин, почему бы Мухаммеду не знать того, что было известно самым сведущим из них. Между двадцатью и двадцатью пятью годами он поступил на службу к богатой вдове Хадидже, поручившей ему свои караваны, и вел ее дела с необычайным успехом, получая прибыль, исключительную для того периода.
[41] Иными словами, у Мухаммеда было финансовое чутье, и нас не должно вводить в заблуждение его нищенское детство и приверженность к жизни без всякой роскоши, которую он демонстрировал впоследствии, а также бедность или даже нищета некоторых из его учеников Хадиджа видела в будущем пророке красивого, честолюбивого мужчину благородного происхождения, обладавшего, что было особенно ценно, коммерческим чутьем. В его глазах Хадиджа выглядела не моложе, чем в действительности, и, возможно, никогда не казалась ему красивой; однако именно ей предстояло дать ему то единственное, чего ему недоставало, чтобы выйти на первые роли в кругу мекканской аристократии: поручительство процветающего предприятия.
Предание гласит, что он женился на ней в двадцать пять лет: ей исполнилось сорок, и она первая предприняла шаги, чтобы добиться согласия своего отца, когда тот был пьян, но этот анекдот выглядит подозрительным. Все согласны с тем, что этот брак оказался очень удачным. Мухаммед хранил абсолютную верность своей жене до тех пор, пока она не умерла, подарив ему семерых детей, троих мальчиков, из которых не выжил ни один, и четырех девочек, младшая из которых, Фатима, стала супругой Али, двоюродного брата Пророка. Блашер противопоставляет воздержанность, выказанную Мухаммедом в эту эпоху, той чувственности, которая впоследствии побуждала его жениться на многих других женщинах, иногда совсем молодых, да еще заводить красивых наложниц. Что более всего поражает нас в этом союзе, так это его неравенство, ибо Хадиджа была старой и безобразной, а Мухаммед унаследовал красоту своего отца. Мусульманские толкователи отказываются допускать, что у Пророка, помимо всего прочего, имелся и достаточно корыстный расчет. Однако те, кто свободен от парализующего влияния пиетета, часто обнаруживают у Пророка такой нюх на выгоду и такой практицизм, который придает ему совсем иной характер по сравнению с Буддой и Христом, гораздо более безразличным к материальным ценностям.
Это вовсе не критика, а, совсем напротив, констатация факта. Если бы Мухаммед безраздельно отдался лишь своему мистицизму, он был бы менее интересен для историков, так как никогда бы не захотел и не смог играть роль государственного мужа. Вот, если угодно, более грубое сравнение: Христос умер, осужденный с согласия евреев, после того как объявил, что его царство не от мира сего, тогда как Мухаммед почил, окруженный горячей любовью своих приверженцев, после того как с оружием в руках победил своих противников и встал во главе государства, которое сплотил и сделал грозным. Невозможно разделить эти два аспекта его личности, которые в глазах представителей западной христианской культуры неизбежно выглядят несовместимыми, хотя для араба это совсем не так. Подтверждение тому дает сама Хадиджа. Она вышла замуж за бедного человека, соблазнившись его деловыми качествами. Ничто тогда не могло предвестить ей в Мухаммеде основателя новой религии. Однако ее убедило первое же его откровение. Она не только не стала отговаривать своего мужа от путешествия, быстро снискавшего ему враждебность богатых купцов, но сделала все, чтобы поддержать его в новом призвании и победить уныние, которое поначалу иногда обуревало его.
Благодаря достатку Мухаммед отрекся от нищеты и окружил себя определенными удобствами. Он пользовался репутацией честного горожанина, был прозван надежным человеком и, должно быть, блистал той уравновешенностью, которая является высшей добродетелью мекканца. Как мимоходом сообщает Предание, он был избран для разрешения запутанной тяжбы. Когда дожди разрушили Каабу, четыре племени курайшитов отстроили ее заново, сделав более прочной; материалом для нее послужила древесина потерпевшего крушение греческого корабля. Когда же речь зашла о том, чтобы огородить один угол и вделать в него черный камень, вспыхнул яростный спор. Кому достанется эта честь? На нее претендовали все четыре вождя. Мухаммед велел положить камень на плащ и вручил четыре его угла четырем вождям, затем сам взял камень и замуровал в священном месте. Таким образом, мы получаем дополнительное доказательство его влияния и представление о его дипломатических способностях, которые впоследствии творили чудеса в Медине и привели столько соперничающих племен к объединению ради общего дела.
Итак, Мухаммед привык совмещать нужды торговли с духовными запросами и ежегодно на месяц удалялся в одиночестве на гору в окрестностях Хира, причем это не удивляло Хадиджу. Это оставляет место двум гипотезам, нисколько не противоречащим друг другу либо речь здесь идет о некоем обычае, бытовавшем тогда в определенных кругах мекканского общества, неотступно преследуемых более суровыми религиозными требованиями, чем это возможно в рамках достаточно примитивного в своей практике политеизма, либо супруга будущего пророка уже предчувствовала пусть еще не истинное призвание своего мужа, но, по крайней мере, то, что он больше других нуждается в возможности предаться мистицизму.
Во всяком случае, откровение явилось как гром среди ясного неба, и, может быть, для самого Мухаммеда это было еще неожиданнее, чем для его первой жены. Мы уже подчеркивали патетический тон посвященных этому событию отрывков Корана, и в описании этих двух видений стремление убедить самого себя в их ценности становится еще более заметным из-за того, что Мухаммед болен и не знает, нельзя ли отнести их за счет своей болезни:
Соотечественник ваш не заблудился и с пути не сбился
Он говорит не от своего произвола.
Он откровение, ему открываемое.
Его научил крепкий силою,
Обладатель разумения Он явился ему.
(Сура звезды, LIII, стихи 2–6)[42]
Затем ниже та же назойливая мысль:
Он был от него на расстоянии двух луков, или еще ближе.
Тогда открыл он рабу его то, что открыл.
Сердце его не обманывалось тем, что он видел.
(Та же сура, стихи 9 – 11)[43]
И далее снова
Взор его не обманывался и не блуждал.
Действительно, он тогда видел величайшие из знамений
Господа своего.
(Там же, стихи 17–18)[44]
И опять, в суре обвития, LXXXI, стихи 22–25:
[45]
И согражданин ваш не беснующийся
Он некогда видел его на светлом небосклоне,
У него нет недоумения о таинственном
Он не есть слово сатаны, прогоняемого камнями.
Можно вместе с Блашером настаивать на подробностях видений и двух ступенях откровения – сначала сон, а затем само видение – на сопровождавших его физиологических проявлениях, наконец, на периоде жестокой тоски, которая пришла вслед за ним,
[46] связывая эти различные фазы с тем, что дает нам по части мистического опыта современная психология. В частности, она гласит, что за периодом сомнений должна была последовать непоколебимая вера Пророка в свою миссию. Но, по нашему мнению, основная проблема не в этом. Понять нужно то, каким образом близкие Мухаммеда и то небольшое ядро испытанных приверженцев, которое окружало его с самого начала, могли признать ценность принесенного им послания. Здесь речь идет в большей степени о социологии, чем о психологии, и слишком уж легко было бы ответить, что ясновидцы всегда находят людей, готовых следовать за ними, особенно в обездоленных классах, чтобы к собственной выгоде ниспровергнуть существующий порядок – ведь очевидно, что ни Хадиджу, ни людей его круга к этой категории отнести нельзя. Заявляют, что его проповедь встретила теплый прием у бедных христиан Мекки, а богатая торговая аристократия, напротив, немедленно отвергла ее. Возможно, впоследствии так оно и было, но вначале именно Хадиджа и родственники поддержали упавшего духом молодого человека и убедили его в обоснованности его миссии, хотя в тот момент не было ничего проще, чем его отговорить. Какой бы ни была любовь Хадиджи к своему мужу, одного этого чувства недостаточно, чтобы объяснить ее веру, вошедшую в противоречие с интересами ее класса. Не легче понять и столь скромный вначале успех откровения, если предположить, что Мухаммед сразу предстал как бескомпромиссный монотеист, призывавший к уничтожению идолов и в результате выглядевший еще большим святотатцем в силу того, что принадлежал к клану, который видел свою миссию в их почитании. Следовательно, нужно вслед за Уоттом допустить,
[47] что новое религиозное движение должно было так или иначе опираться на ситуацию, сложившуюся в Мекке в эпоху Мухаммеда, а последний, как полагал Блашер,
[48] вовсе не призывал к монотеизму в первых же своих сурах. В то время Мухаммед еще не потерял надежду, снискав расположение мекканской аристократии, создать приемлемую для всех синкретическую религию и освежить политеизм, упадок которого вызывал законное беспокойство у хранителей святилища Каабы и торговцев, чье процветание напрямую зависело от него.
В этом своем начинании, помимо поддержки Хадиджи, Пророк мог прибегать к благоразумию своего кузена Вараки, которого он также убедил в истинности своих видений. Свидетельства расходятся по поводу этого персонажа, привлекательного, но малоизвестного, в котором некоторые видят христианина и заявляют, что это мог быть переводчик Евангелия с сирийского на иврит и арабский.
[49] Таким образом, вполне возможно, что именно в той культуре, представителем которой являлся этот ученый, Мухаммед нашел подтверждение тому, что он продолжает линию Авраама; она же привела его к согласию с сектой, предававшейся аскетическим практикам христианского происхождения, обозначаемой в мусульманском предании наименованием ханифиты. Предание заставляет Вараку умереть еще до откровения, но это, безусловно, лишь для того, чтобы не пришлось осудить его за неверие. Первыми обратилась Хадиджа, затем кузен Мухаммеда Али, его приемный сын Зайд, молодой раб, подаренный ему Хадиджей, происходивший из некоего христианского племени сирийской степи, который, следовательно, тоже мог просветить Пророка в том, что касалось христианства, причем в более популярном плане, чем Варака, и, наконец, два именитых человека, Осман и Абу Бакр. В течение трех лет проповедь не выходила за рамки этого кружка и оставалась в тайне.
Мы не знаем, каким был первый текст, ниспосланный Мухаммеду. Суры и стихи, составляющие Коран, были собраны Османом (в 651 г., то есть через двадцать лет после смерти Пророка) и расположены лишь по признаку длины, от самых длинных к самым коротким, за единственным исключением – первой суры, представляющей собой молитву. Похоже, что с хронологической точки зрения самые короткие суры были и самыми ранними, и это заставляет утверждать, что сегодня Коран читается в обратном порядке. К несчастью, чтобы восстановить истинную последовательность, недостаточно просто переставить их, и мусульманские ученые осознают всю сложность этой задачи, поскольку Ас-Суйути писал в XV в., что восстановить этот божественный порядок выше человеческих сил. Европейские ученые, которые доныне пытаются это сделать, обычно следуют предложенному Нольдеке делению на четыре периода, три из которых – мекканские.
[50] Именно такое деление с некоторыми поправками в нюансах, опирающимися на очень продолжительные и скрупулезные исследования, предлагает нам Блашер, тем самым физически восстанавливая Коран, ниспосланный свыше.
[51] Как и Аль-Бухари, он колеблется между двумя отрывками, одним, взятым из суры XCVI (сгустившаяся кровь), и другим, из суры LXXIV (закутавшийся в одежду).
[52] Блашер предлагает любопытный перевод «сгустившейся крови», как «прилипания, связи».
[53] Более правдоподобным представляется нам перевод Монте, и именно ему мы снова отдадим предпочтение.
Читай во имя Господа твоего, который создает…
Создает человека из сгустившейся крови,
Читай… всеблагий Господь твой,
Который дал познания о письменной трости,
Дает человеку знание о том, о чем у него не было знания.
[54]Блашер вместо «читай» ставит «проповедуй», и у обоих переводов, одинаково допустимых, есть свои сторонники «Проповедуй» подчеркивает мысль о властном призвании, побудившем Мухаммеда к распространению слова Божия и положившем начало его устной проповеди, которая таковой всегда и оставалась. Предание сообщает нам о настоящей борьбе Мухаммеда с ангелом при его первом появлении, когда тот показал ему длинную полосу шелковой ткани с вышитыми на ней буквами, а Мухаммед в ответ на его приказ прочитать их сказал: «Я не из тех, кто читает», и почувствовал, что завернут в складки этой ткани так безжалостно, что испугался задохнуться».
[55] Годефруа-Демомбин поддерживает промежуточную версию,
[56] в которой ангел трижды повторяет «читай наизусть!», в то же время яростно встряхивая будущего пророка. Затем он показывает ему чудесную ткань, на которой записано откровение, уточняя, что сам прочитает его Мухаммеду и научит декламировать его наизусть. Вследствие этого Годефруа-Демомбин полагает, что следует отказаться от перевода икра как «читай».
[57]
Тогда трудно понять предпоследний стих, прославляющий Бога за то, что он научил человека пользоваться каламом, то есть пером. Было бы удивительно, если бы он отказал в этой привилегии своему пророку.
Как бы то ни было, мы плохо понимаем причины, побудившие мекканцев отвергнуть проповедь, без сомнения, менявшую дух древней религии, наполняя его новым рвением, но с сохранением скрупулезного почтения к обычаям и привилегиям родного города, а о том, во что они выливались в плане материальных благ, Мухаммеду было известно лучше, чем кому-либо другому. Коран сделал Аллаха покровителем караванов. Как отмечает Годефруа-Демомбин,
[58] курайшитам потребовалось пятнадцать лет, чтобы осознать это. Следует ли связывать это с издавна отмечаемой преданием враждебностью Абу Лахаба, дяди Пророка, который без конца досаждал последнему и чинил ему неприятности с тех самых пор, когда тот вознамерился обнародовать свое послание? По одной версии, Мухаммед поручил Али пригласить на трапезу сорок человек и, как следует накормив и напоив их, поднялся, чтобы обратиться к ним с речью. Тогда Абу Лахаб поспешил объявить: «С самого начал ваш товарищ околдовал вас». Присутствовавшие разошлись прежде, чем Мухаммед успел сказать хоть слово.
[59]
Другой текст изображает Мухаммеда, испускающего призывный клич «О друзья!». Курайшиты собираются и спрашивают его, в чем дело. Он отвечает: «Что подумаете вы, если я объявлю вам, что сегодня утром или вечером к вам нагрянет враг? Поверите ли вы мне?» – «Разумеется». – «Хорошо. Я предупреждаю вас, что вас ожидает ужасная кара!» – «Отправляйся к дьяволу, – кричит ему тогда Абу Лахаб, – ты что же, для этого нас созвал?».
[60] Мы видим, как этот мстительный дядя следует за Мухаммедом на базар и на собрания, где тот желает проповедовать свою веру, и кричит присутствующим: «Не слушайте! Это лгун из сабиев!». Он доходит до того, что швыряет в своего племянника мусор, в то время как тот исполняет положенную молитву перед Каабой. Отсюда и жуткая кара, обещанная ему в потустороннем мире Кораном: он будет жариться в вечном огне, а его жена с веревкой из жил на шее будет подбрасывать дрова.
Однако было бы удивительно, если бы одному человеку удалось настроить большую часть своих современников против новой религии, если бы в ней самой не было принципиально неприемлемых элементов.
Как мы уже видели, первые верующие принадлежали к семье и непосредственному окружению самого Мухаммеда. Однако может быть, неправильно видеть в кружке близких ему людей ту самую аудиторию, на которую он рассчитывал: известно, что он принимал обращавшихся в ислам рабов и чужестранцев. Имеется упоминание о нескольких вольноотпущенниках, примкнувших к нему не только в силу отвращения к своим прежним хозяевам-язычникам, но главным образом потому, что в большинстве своем это были иноземцы, нередко христиане или иудео-христиане. Пример тому – абиссинец, известный Билал ибн Рабах, купленный Абу Бакром, чтобы впоследствии исполнить свою роль первого мусульманского муэдзина. Известно также о двух иранцах, сыне иранца и абиссинки, нубийце и др.
[61]
Все они были молодыми людьми, и их частые визиты, конечно, не способствовали повышению социального престижа Мухаммеда. Но есть нечто более важное: самые ранние суры твердят о Страшном суде и карах, предстоящих неблагочестивым. Самые суровые – ожидают неправедного богача. Именно поэтому соблазнительно, как это делает Гримм,
[62] превратить Пророка в революционера, конфликт которого с привилегированными классами более чем естественен. Однако это значит слишком уж быстро позабыть о том, что сам Мухаммед принадлежал к этим классам и по происхождению, и в результате выгодной женитьбы. Впрочем, окружению Мухаммеда ставили в упрек вовсе не бедность Уотт указывает, что, по крайней мере, один из этих чужестранцев был достаточно богат, чтобы возбуждать зависть мекканцев,
[63] в иностранцах их возмущало то, что они были молодыми и незначительными людьми, и у автора данной книги есть веские основания понимать эту формулировку как «лишенные надежной защиты клана».
Иными словами, противники ощущали, возможно, смутно, но не без проницательности, что Мухаммед, сам пострадавший в силу своего сиротского положения от того, что не всегда пользовался покровительством клана, собирается создать религию, в которой община Правоверных вытеснит клан и займет его место. К тому же у него есть возможность дождаться того момента, когда и самой-то мекканской «буржуазии», оседлой и богатой, станет достаточно трудно мириться с клановой системой, порождением нищего номадизма.
Мухаммеда, безусловно, менее проницательного, чем его противники, их враждебность приводила в уныние. Чтобы во что бы то ни стало развеять его, он был готов зайти очень далеко, и у нас есть тому пример – любопытная история с урезанными стихами. Кроме Аллаха, занимавшего ведущее положение в их пантеоне, мекканцы поклонялись трем богиням, которых считали его дочерьми. Они часто клялись этими тремя богинями, и даже первые мусульмане должны были поступать так же. Согласно преданию, Пророк пожелал получить от Аллаха: «что-то, что сблизило бы его и его народ»,
[64] тогда, после девятнадцатого стиха суры звезды на его губах рождается обращение к верховным богиням, на чье заступничество следует надеяться.
Курайшиты в восторге, и все падают ниц перед Каабой. Но вскоре Мухаммед ощущает, что вдохновлял его в тот момент не Аллах, а Сатана, и решительно исправляет предыдущий отрывок, который превращается в современный стих 23: «Они только одни имена, какими наименовали их вы и отцы ваши».
[65]
Европейские исследователи ислама обычно отказываются принимать это предание, которое, как им кажется, свидетельствует о наличии в Коране непозволительного противоречия. Почти все ученые, принадлежащие к арабской традиции, соглашаются с ним. Как же такое могло произойти? Мы не понимаем, почему Пророк отказался от своего стиха, если тот принес ему такой успех и, наконец, приобрел ему столь желанную аудиторию.
Однако все проясняется, если допустить, что реакция публики была равнодушной. Мухаммед осознал, что даже такой важной уступки недостаточно. Для него эта неудача была доказательством того, что подтолкнул его к этому шагу не Аллах, а Сатана.
Эта позиция двусмысленна, но тем не менее абсолютно искренна. С объективной точки зрения, факт обнародования стиха, а затем заявление о том, что его не следует принимать во внимание, так как он продиктован дьяволом, принять сложно. Если устами своего пророка действительно глаголет Бог, то демон может подделать его весть, только если он равен ему по силе, а это уже манихейство. Мы видели, с какой энергией Мухаммед отрицал выдвинутое его противниками обвинение в одержимости демоном. Допустить, что этой злой силой был продиктован один стих, не значит ли дать им основание для таких утверждений, ведь в таком случае ничто не мешает думать, что и все остальные происходят из того же источника? Существует и искушение заподозрить, что на самом деле Мухаммед занял поистине беспроигрышное положение. Он начинает с того, что издает стих, а когда результат выявляет его непригодность, автор оставляет за собой право взять свои слова обратно. Колода оказывается крапленой – как бы ни легли карты, выигрыш обеспечен. Субъективно такая позиция понятна. Пройдя через сомнение и подвергнув свои видения критике, Мухаммед глубоко убежден, что является гласом божества. Как тогда объяснить то, что божественный глагол не воодушевляет людей, и что делать, чтобы этого добиться? Каково бы ни было средство, если люди пойдут за ним, оно будет считаться хорошим, так как именно это послужит доказательством тому, что полученная весть воистину исходит от божества. В результате, вопреки внутреннему убеждению, принимается положение о второстепенных божествах. Толпа остается враждебной. Значит, это не Божьи глаголы, и, чтобы снова обрести их, нужно вернуться к первоначальной идее, даже если после этого придется проповедовать в пустыне.
Здесь действует логика чувства, которая противоречит логике ума, но часто обнаруживается в мистическом опыте.
Если поставить первыми суры 73 и 74, предваряемые формулой обвития, которому подвергался Пророк во время своих экстатических припадков, то уже в них можно распознать основное содержание учения о ритуальных предписаниях, о человеческом долге, о Судном дне, и даже известную формулу:
Если Аллах пожелает, а также эпитет
хранитель свитков, в применении к Аллаху.
[66]
Сура 82 настойчиво твердит о силе и непреодолимости божественного правосудия. Каждое наше прегрешение записывают на небесах писцы-ангелы, которым необходимо учитывать даже мельчайшие атомы добра или зла. Именно поэтому те, кто думают лишь о том, как бы умножить свои богатства, забывают о самом главном, то есть о заслугах и грехах. Здесь Коран демонстрирует высочайшие образцы стиля и мысли, уже полностью содержа в себе основы нового общества, в котором нужно будет помогать себе подобным, освобождать пленников, питать сирот и нищих. Вопреки растущему энтузиазму правоверных, большинство мекканцев встретило эту благородную программу сарказмом, который тяжко ранил Пророка: это лгун, одержимый, вещун, или поэт; над ним насмехались за то, что у него не было ребенка мужского пола.
Около 615 г. враждебность стала настолько острой, что некоторые мусульмане перебрались в Абиссинию. Согласно преданию, там их очень благосклонно принял сам Наджаши, что выглядит странным, так как иудео-христианство, проглядывающее в некоторых стихах Корана, ближе несторианам, чем монофизитам, к которым, как и византийцы,
[67] причисляли себя абиссинцы. Как бы то ни было, гонений определенно не было, поскольку к первой группе эмигрантов, включавшей одиннадцать мужчин и четырех женщин, в том числе Османа и его жену Рукайю, родную дочь Мухаммеда, присоединилась вторая и, что еще важнее, третья, состоявшая из двадцати четырех человек. Все это время правоверные Мекки продолжали участвовать во всех традиционных церемониях вокруг Каабы. Они также собирались в своем кругу, чтобы послушать пророчество и, конечно, совершить молитву. Эти собрания проходили в ущелье в предместьях Мекки до тех пор, пока внезапно не появилась враждебная группа мекканцев. Состоялась битва. Зайд бен аби Ваккас ранил одного человека в голову, ударив его верблюжьей челюстью. Это была первая кровь, пролитая во имя ислама.
К этому же периоду следует отнести и знаменитое вознесение Мухаммеда. Будучи очищен ангелом Джабраилом, который снова разверз его грудь и омыл его сердце водой Замзама, Пророк посетил в его сопровождении семь небес: на первом он видел Адама. Евангелист Иоанн и Иисус находились на втором, Иосиф – на третьем, Идрис – на четвертом, Аарон – на пятом, Моисей – на шестом, Авраам – на седьмом. Он поднялся так высоко, что слышал скрип каламов в руках у ангелов, записывающих деяния людей. По другой версии, болееизвестной, мы видим его верхом на Аль-Бураке, быстром как молния животном, занимающем среднее положение между лошадью и мулом, но с женской головой. Постоянно ведомый Джабраилом, он через Хеврон и Вифлеем достигает Иерусалима. Там Мухаммед совершает молитву и так же стремительно возвращается в Мекку.
[68] Рассказ об этом необычайном путешествии был встречен всеобщим недоверием и усилил позиции тех, кто видел в Мухаммеде обманщика или душевнобольного. Известно, что он оставил описание Иерусалима. И оно оказалось настолько точным, что евреи были поражены. Даже среди правоверных были те, кто не решался ему поверить. Лишь Абу Бакр был счастлив принять его слова на веру. Изощренная экзегеза различает два путешествия и еще в наши дни задается вопросом, действительно ли тело Пророка перемещалось в ходе этого ночного паломничества или же речь идет о визуальной галлюцинации. Следуя традиции Аиши,
[69] Мухаммед не покидал своей постели, но другие утверждают, что как раз в эту ночь искали его, но нашли только утром у входа в дом Умм Хани, которую он
тщетно просил не предавать это событие огласке. Коран нам здесь ничего не проясняет, он в этом отношении отличается чрезвычайной сдержанностью, и, чтобы извлечь из него нечто конкретное на эту тему, приходится прибегать к рискованной интерпретации туманных или поэтических пассажей.
Остановимся главным образом на иерархии семи небес и населяющих их еврейских пророков, а также на понимании Иерусалима как священного града, что, кажется, предвосхищает мединский период и отражает стремление Мухаммеда войти в длинную череду еврейских пророков, чтобы таким способом получить подтверждение своего призвания.
Несмотря на все свои неудачи, он добивается двух громких обращений, которые, безусловно, должны были повлечь за собой и другие, а также более тесного сплочения мусульманской общины вокруг клана бану хашим. По крайней мере, одно из этих обращений было связано с племенными разногласиями Мухаммеда публично оскорбил Абу Джахл, и тогда Хамза объявил, что разделяет веру своего племянника.
Омар принял ислам так же внезапно. Зайдя к своей сестре Фатиме и зятю Зайду, тайным мусульманам, он застал их за чтением суры 20. Пораженный ее красотой, он побежал к Мухаммеду, чтобы перейти в его веру. Известно, как много ему предстояло сделать для ислама, победу которому после смерти Пророка обеспечил именно его авторитет.
Тогда курайшиты решили разорвать всякое общение с бану хашим и бану мутталиб, не заключать с ними браков, ничего у них не покупать и не продавать им, и поклялись в этом письменно, положив свиток в Каабу. Первым следствием этого бойкота стало разорение Хадиджи и большинства правоверных, лишь у Абу Бакра сохранились значительные средства. Однако и на этот раз клановая солидарность сыграла в пользу Мухаммеда Абу Талиб не обратился в ислам, но принял бану хашим в своем квартале шииб,
[70] где они и закрепились. Тем не менее нормальные отношения были восстановлены либо после вмешательства пяти молодых курайшитов, либо по требованию двух семей, взволнованных бедственным положением «замурованных». Легенда гласит, что все отправились, чтобы возобновить клятву, записанную на папирусе, но обнаружили, что она полностью источена насекомыми, кроме слов «Во имя Аллаха милостивого, милосердного», и пришли в восхищение от этого чуда. Тем не менее потрясение было жестоким. Мухаммед понял, что никогда не сможет убедить своих сограждан. Кроме того, его терзала боль от почти одновременной утраты дяди Абу Талиба, который не обратился в ислам, но всегда оставался верным ему, и жены Хадиджи, первой и самой горячей последовательницы новой религии. Более ничто не связывало Пророка с его родным городом.
Но куда отправиться? Он присоединялся к группам паломников из Мины, наведывался на базар в Окхазде. Он предпринял безуспешную попытку обратить племя бану такиф в оазисе Ат-Таиф, находящемся на высоте 1650 м, где богатые мекканцы отдыхали от удушающего климата своего города. В силу этого факта и благодаря взаимовыгодным связям, существовавшим между Меккой и Ат-Таифом, Мухаммеда ожидал полнейший провал: толпа чуть не забросала его камнями. Он вернулся в Мекку, но не отчаявшись, что настолько удивительно, принимая во внимание его неудачи, что предание измышляет видение, подбодрившее его в пути. Тогда он остановил свой выбор на Йасрибе, и на этот раз решение оказалось удачным. Хотя в отношении торговли этот богатый оазис и был равен Мекке, его удаленность и влияние делали его, скорее, соперником, чем союзником последней. Некоторые из его жителей, безусловно, видели в Мухаммеде перебежчика, способного принести пользу, а мекканцы и сами ощущали эту опасность, поскольку попытались воспрепятствовать уходу человека, исчезновение которого тем не менее было бы для них очень желательным. Наконец, в Йасрибе имелась богатая еврейская община, состоявшая из трех племен, некогда господствовавших над двумя арабскими, аус и хазрадж, и все они постоянно враждовали между собой. Мы видели, как в конце своего пребывания в Мекке, стремясь преодолеть нерешительность соотечественников, Мухаммед очень настойчиво ставил себя в один ряд с еврейскими пророками. Это был язык, которому очень охотно внимали побежденные евреи Йасриба, готовые с радостью встретить Мессию и ожидающие, что он вернет им победу над соперниками. Что касается арабов, то они нуждались в посреднике, чуждом их раздорам, но связанном с ними родственными узами; Мухаммед же состоял в отдаленном родстве с племенем хазрадж. Первые переговоры с ними состоялись, когда около 620 г. Мухаммеду удалось обратить шестерых членов этого племени, совершавших паломничество к Каабе. Через год в ущелье между Миной и Меккой имела место тайная встреча с шестью хазраджитами и шестью представителями ауситов. Беседа закончилась торжественной клятвой, названной «присягой женщин»: «Я приглашаю вас защищать меня от всего того, от чего вы защищаете своих жен и дочерей». Жители Йасриба вернулись в свой город вместе с мусульманином, направленным к ним, чтобы преподать им Коран.
В 622 г. шестьдесят два мужчины и две женщины из Йасриба под покровом ночи проскользнули в ущелье, где их принял Пророк. Они возобновили «клятву женщин», и каждый из присутствующих хлопнул Мухаммеда по руке, и этот жест так и остался знаком повиновения халифу. Кроме того, было назначено двенадцать представителей (накибов), ставших поручителями общины. На этот раз почва была тщательно подготовлена; наученный своими неудачами, Мухаммед остерегался излишней спешки. Сначала он организовал исход своих приверженцев из Мекки в Йасриб, а когда, обманув бдительность курайшитов, он сам прибыл туда же, успех его оказался таким, что спустя некоторое время этот город сменил название, став городом Пророка, Мединат ан-Наби, Мединой. Считая первым днем своего календаря дату этого, по виду бесславного бегства, мусульмане воздают честь государственному мужу и основателю ислама, которым Мухаммед стал, только покинув Мекку.
Разумеется, остававшиеся ему десять лет жизни были не лишены неудач и разочарований, но главное в них – это череда побед и достижений, стремительность которых до сих пор поражает историка.
Мухаммед давно чувствовал свою ответственность за уже значительную группу, перед которой организационные проблемы вставали в куда более широком масштабе, чем в Мекке, где большинство правоверных за исключением иностранцев принадлежало к одному и тому же клану. Здесь же необходимо было сплотить в единую общину гетерогенные элементы: мухаджиров, эмигрировавших вместе с ним, и ансаров, его мединских приверженцев, не говоря уж о тех, кто вернулся из Абиссинии.
Все они стали равными друг другу, братьями в исламе. Древняя племенная структура рухнула. Всякое разногласие между ними разрешалось перед лицом Аллаха его Пророком, постановление которого не подлежало обжалованию. Это было начало революции с неисчислимыми последствиями, в конце концов сделавшей возможным объединение арабов, заставив их забыть о древних распрях, и объясняющей первые военные успехи вопреки явной численной слабости. С этого времени Коран начинает уделять внимание почти исключительно разработке норм нового права, и это делается так точно и эффективно, что еще и сегодня мусульманскими обществами правит именно оно.
[71] Таким образом, у нас на глазах складывается ядро будущего государства, которое беспрепятственно зародится у народа, разношерстного и разделенного границами, проходящими между евреями и язычниками, исконными горожанами и арабами из племен, эмигрировавших из Йемена.
[72] Здесь потребовался весь такт и терпение Мухаммеда, который уже не раз сумел их доказать.
Он начинает собственными руками возводить мечеть. Она покоилась на каменном фундаменте высотой в три локтя и была построена из кирпича, а выше – из пальмового дерева. Сверху ее покрывали пальмовые листья. Мы еще далеки от тех величественных строений, которыми ислам украсит завоеванные страны; однако в том, что касается формы и внутренней планировки, все остальные мечети возводились по образцу и подобию этой. Единственное ее отличие состоит в том, что в ней ниша, отмечающая направление, куда должны быть обращены лица молящихся, или кибла, была обращена в направлении к Иерусалиму. Вблизи мечети скоро появились домики двух жен Пророка, Санды и Аиши, с крытым проходом к мечети. Это в равной степени религиозное сооружение и жилище; там на скамьях спали приезжие, слишком бедные, чтобы найти себе кров. На молитву, как мы уже знаем, правоверных созывал могучий голос Билала.
Однако Мухаммед знал, что каким бы глубоким ни было единение мухаджиров и ансаров в лоне ислама, одного этого недостаточно, чтобы накрепко связать их. Он воскресил древний обычай братания кровью, состоящий в ритуальном обмене кровью одного человека с другим во время жертвоприношения, в результате чего они становились братьями и приобретали все соответствующие права, включая наследование. Мухаммед выбрал своим братом Али. Сорок пять глав курайшитских и мединских семей торжественно породнились тем же способом. Тогда беглецы призвали в Медину своих жен и детей, которых мекканцы не задерживали. Али женился на Фатиме, дочери Пророка, а последний отпраздновал брак, заключенный им три года назад с Аишей, дочерью Абу Бакра, которой тогда было всего шесть или семь лет. Мы уже подчеркивали, что многочисленные браки Мухаммеда были призваны прежде всего установить более прочную связь между ним и той или иной семьей общины, то есть были частью его политики объединения. Тем не менее Аиша была молода и прекрасна, как и прочие будущие жены и наложницы, и контраст между верным супругом единственной и уже немолодой Хадиджи и явившимся впоследствии зрелым, но чувственным человеком разителен. Христианская традиция клеймит позором подобное сладострастие и считает его несовместимым с пророческим призванием. В глазах арабов все выглядит наоборот; они гордятся мужественностью основателя ислама, видя в ней немаловажное качество, и с удовольствием распространяются на эту тему.
Объединив таким образом своих последователей, Мухаммед стремился привлечь к себе три влиятельных еврейских племени. Без сомнения, он знал, что они олицетворяли собой власть денег, а это было именно то, чего более всего недоставало его общине; кроме того, необходимо понять, как предлагает Годефруа-Демомбин,
[73] что еще в Мекке все то, что Мухаммед знал о еврейских традициях (впрочем, он был слабо информирован), побудило его рассматривать себя как завершающую фигуру длинного ряда пророков Израиля. В этом есть что-то удивительное, если учесть сегодняшнюю арабо-еврейскую рознь и гонения, жертвами которых евреям предстояло сделаться еще при жизни Пророка. Возможно, однако, что эти преследования оказались лишь трагическим следствием великой неразделенной любви. Впрочем, не стоит забывать, что еврею, платящему дань, никогда не придется беспокоиться о смене своей религии. Верховного раввина Иерусалима окружат роскошью и почетом, и в течение всего периода мусульманской экспансии он будет занимать важное место в иерархии ислама.
Мухаммед определенно вполне искренно полагал, что обращение в ислам евреев его эпохи является одной из первейших его задач. Чтобы добиться этого, он подражал им в своем культе: молитва в мечети совершалась по субботам, в шаббат, верующие при этом обращались в сторону Иерусалима, мусульманский пост совпадал с еврейским; был заключен любопытный договор, согласно которому древние соглашения между ауситами и хазраджитами и еврейскими племенами сохранят всю свою силу, а каждый обязался уважать согласие и защищать оазис. То была знаменитая «конституция I года».
К несчастью, материальные интересы евреев и арабов совершенно не совпадали. Первые, богатые торговцы, стремились сохранять добрые отношения с Меккой и принимать караваны оттуда; вторые, в большинстве своем бедные, не имея никаких средств за пределами оазиса, грабили мекканские караваны без всякого протеста со стороны Пророка, а впоследствии и с его согласия. Евреи не принимали участия в этих экспедициях, и когда была развязана открытая война против Мекки, они не решились в ней участвовать. Их позиция была расценена мусульманами как лицемерие (этот же термин они применяли к остававшимся в Медине немусульманам, или к тем, кто обратился в ислам неискренне). Оставалось сделать лишь шаг к тому, чтобы обвинить евреев в предательстве или шпионаже и списать на них военные поражения. В духовном плане Мухаммед выказал величайшую наивность, надеясь обратить в свою веру евреев. Его слабое знание священных текстов вызывало с их стороны иронию и сарказм. И вот мы наблюдаем резкую перемену позиции, уже имевшую место перед лицом мекканцев: раз еврейские тексты не говорят о Мухаммеде, значит, евреи подделали их, а это преступление, за которое они заслуживают адских мучений и презрения правоверных. Истинной является вера Авраама, строителя Каабы, на которую с этих пор ориентируется кибла.
Вопреки преданию, с самого начала видевшему во всех грабежах разновидность священной войны, очевидно, что эти экспедиции были продиктованы стесненными материальными обстоятельствами переселенцев из Мекки, а Пророк сначала остерегался выражать свое мнение по поводу их законности. Европейцу они напоминают разбой, но тем не менее отличаются от всех прецедентов тем, что ими руководил сам Мухаммед, а число участвовавших в нем было довольно значительным: слишком много – для грабительского набега, но слишком мало – для битвы. Здесь мы впервые видим, как Пророк выказал неоспоримые таланты военачальника. Согласно Аль-Бухари, его отряд, видимо, состоял из трехсот человек,
[74] но подробности оставляют простор для фантазии: 90 переселенцев, 70 членов племени аус, столько же хазраджитов и лошадей. Чтобы получить заявленную цифру, нужно сосчитать и лошадей. Кто сидел на них верхом? Цель – разграбить караван, ведомый Абу Суфианом. Получив известие о выступлении Мухаммеда, он свернул со своего пути на запад и отправил в Мекку гонца, чтобы сообщить об опасности. Тогда в Мекке собралась толпа в тысячу мужчин, которые бросились на защиту своего добра в сопровождении нескольких женщин, воспевающих достоинства их племени. Подойдя к Бадру, они узнали, что караван миновал опасную зону и должен достигнуть Мекки в целости и сохранности. Большинство намеревалось вернуться, но Абу Лахаб и другие потребовали использовать ежегодный праздник в Бадре, чтобы развлечься там и тем самым продемонстрировать Мухаммеду, что его никто не боится. В это время последний попытался узнать, какие против него выставлены силы. Он взял в плен двух курайшитов, которых принял за охранников каравана (в то время как это были разведчики армии), и, судя по сообщенному ими числу верблюдов, закалываемых ежедневно на обед воинам, заключил, что отряд насчитывал от девятисот пятидесяти до тысячи человек. Несмотря на численное превосходство мекканцев, Пророк решил атаковать. Он опередил неприятеля на пути к колодцам Бадра, а остальные источники велел засыпать песком. Над равниной, в месте, доминирующем над полем битвы, по его распоряжению возвели укрытие, откуда он отдавал свои приказы, порывая, таким образом, с арабской традицией, требующей, чтобы вождь находился во главе своих воинов, чтобы вызвать на поединок вражеского предводителя, впрочем, Пророк запретил поединки и своим воинам, которые его не послушались. Вперед выступили три курайшита, и три ансара приготовились дать им отпор. Но курайшиты отказались сражаться с ними: «Мухаммед, пошли против нас людей, равных нам!». Тогда Мухаммед назвал Убайду, Али и Хамзу Хамза убил своего противника, а Али своего, в то время как Убайда тяжело ранил своего, но и сам получил от него серьезное увечье Хамза и Али добили раненого врага и принесли Убайду обратно в мусульманские ряды.
Однако первый общий натиск, видимо, оказался не в пользу мусульман. Тогда Пророк вышел из своего убежища и влился в первые ряды сражающихся, читая стихи из Корана, возвещающие ад тому, кто покажет спину врагу. Затем он послал Али собрать горсть щебня внизу долины и бросить его в курайшитов с криком «Бесчестье лицам». Чудесным образом каждый камешек попал в глаз кому-нибудь из противников. Здесь же предание сообщает о многотысячном подкреплении из ангелов, с большой тщательностью описывая их вооружение, однако современная исламская экзегеза видит в них лишь символ духовного подъема, вызванного присутствием Пророка. Мусульмане одержали полную победу. Курайшиты оставили на земле сорок четыре убитых, и столько же попало в плен. Трупы сбросили в колодцы Бадра. Добыча, разумеется, была менее значительной, чем если бы удалось перехватить караван, и самую ценную ее часть составляли пленники. Мухаммед своей властью произвел дележ. В результате родилась зависть, так как воины, охранявшие его самого и почти не участвовавшие в битве, а также два разведчика, которые выслеживали караван, и два вождя, оставленные в Медине, получили столько же, сколько и остальные. В качестве своей доли Пророк взял меч Мунаббиха-ибн-аль-Хадж-дажа, прославленный Зу-л-Факар.
Вопрос об участи пленников вызвал спор: одни советовали отрубить им головы, другие – бросить их в яму с огнем. Абу Бакр напомнил о кровных связях и советовал хорошо обращаться с ними. Мухаммед не отдал никакого приказа, но присоединился к его мнению. Переселенцы назначили выкуп в три тысячи дирхемов и разделили ее с ансарами. Среди пленников оказался родной дядя Мухаммеда Аль-Аббас. Чтобы избежать уплаты выкупа он заявил, что является мусульманином. Мухаммед возразил ему, что о его вере будет судить Аллах, а осуждает его уже само его поведение, и Аль-Аббас должен заплатить четыре тысячи дирхемов. Другой пленник был племянником Хадиджи, которая еще до своего обращения женила его на своей дочери Зайнаб. Узнав о пленении мужа, Зайнаб, остававшаяся в Мекке, отправила в Медину посредника с серебром и ожерельем, подаренным ей Хадиджей в день свадьбы. Глубоко растроганный при виде ожерелья, Мухаммед освободил пленника при условии, что он разведется со своей женой и позволит ей добраться до Медины. После множества перипетий так и произошло. После принятия ислама муж получил свою супругу обратно. Были и другие случаи обращения пленников, впоследствии сыгравших важную роль, так как именно они, вернувшись в Мекку, стали проповедовать там новую веру.
Но первым плодом победы стал приступ фанатизма: необходимо уничтожить неверных и порвать с евреями. Прежде всего Мухаммед напал на бану кайнука и осадил в их собственном квартале. Они сдались через пятнадцать дней осады. Эта операция принесла богатую добычу и позволила переселенцам не церемониться с этим племенем превосходных оружейных мастеров и отобрать у них все; а с годами конфискация оружия у побежденных станет насущной необходимостью. Затем продолжились грабежи, перерезавшие курайшитам путь на северо-восток от оазиса. Одна из таких вылазок под командованием Зайда увенчалась бескровным захватом целого каравана. Пятина
[75] Пророка достигла двадцати тысяч дирхемов. Община благоденствовала, но курайшиты были решительно настроены взять реванш. Они обратились к арабским союзникам и завербовали абиссинских наемников. В результате они собрали армию в три тысячи человек – семьсот воинов в кольчугах, двести всадников. По силе это войско в четыре раза превосходило то, которое были в состоянии выставить мусульмане. В январе 625 г. мекканцы выступили в поход. Мухаммед мудро решил придерживаться оборонительной тактики, но молодые люди, не участвовавшие в битве при Бадре и жадные до добычи, громкими криками сообщали о том, что переходят в атаку. Пророк уступил, надел свою кольчугу и препоясался мечом. Тем временем сторонники атаки успели передумать. Тогда Мухаммед заметил, что коль скоро Пророк облачился в доспехи, он может снять их только тогда, когда сам Бог встанет между ним и его врагом.
Безусловно, не одобряя этого решения, Абдаллах ибн Убайи со своими тремя сотнями воинов отступил незадолго до столкновения, также заработав себе прозвище лицемера в Коране. Во главе семисот воинов Мухаммед развернул свои силы на тщательно выбранном месте у подножия холма Ухуд, его левый фланг прикрывали пятьдесят лучников, которые получили приказ не двигаться, что бы ни случилось. Видимо, они сдержали атаку конницы, имевшей целью захват Мухаммеда, а затем завязалась общая рукопашная вокруг знамени, которое доблестно защищал клан, которому была поручена его охрана, – он потерял девятерых своих членов, но не отдал знамя врагу. Чаши весов стали клониться в сторону правоверных, которым удалось проникнуть во вражеский лагерь. Именно в этот момент лучники, желая принять участие в грабеже, покинули свое место. Конница курайшитов немедленно воспользовалась предоставленным им случаем, чтобы прорвать ряды мусульман, и паника среди приверженцев Мухаммеда стала всеобщей, когда распространился слух, что сам Пророк убит. На самом же деле погиб Хамза, а Мухаммед лишь получил ранение. Когда его люди поняли, что он жив, к ним вернулось мужество, и им удалось спасти своего вождя из окружения и с достоинством отступить. Однако на поле боя остались семьдесят мусульман, и женщины племени курайшитов страшно изуродовали их тела. Можно задаться вопросом, почему мекканцы не напали на саму Медину. Уотт видел в этом доказательство того, что, вопреки очевидности, победа осталась за Мухаммедом: цель курайшитов состояла в уничтожении мусульманской общины или хотя бы разрушении влияния Мухаммеда в Медине, но она ни в коей мере не была достигнута. Кроме того, он полагал, что раз мекканцы не попытались войти в город, то это потому, что они не могли этого сделать с военной точки зрения. Большинство их коней было ранено стрелами, а пехота, изрядно помятая, сильно уступала войску Пророка. Если бы не нехватка конницы, город, несомненно, был бы завоеван.
[76]
Но на самом деле, как подчеркивает далее сам Уотт, Ухуд был духовным поражением. После Бадра правоверные считали, что облечены милостью Аллаха. Теперь же появилась опасность, что Ухуд разуверит их в этом. Поэтому первым делом Мухаммед объявил, что поражение мединцев вызвано слабостью их веры: «Не считайте себя слабыми и не печальтесь нисколько: вы возьмете верх, если будете верующими».
[77]
Затем он предложил своим приближенным легкую добычу – евреев клана бану надир, которых он обвинял в нарушении договора и подготовке своего убийства. Будучи осаждены в своем главном опорном пункте среди опустошенных нападающими пальмовых рощ, они сдались, отказавшись от всех богатств и оружия, и покинули город. Невзирая на ропот недовольства, Мухаммед забрал себе всю добычу, как долю Аллаха и его Посланника, и отдал ее переселенцам из Мекки, которые в результате обрели полную материальную независимость.
[78]
Кроме того, он поддерживал боеспособность своих людей серией экспедиций, укрепляющих его власть над соседними с Мединой племенами, но в это же время вызывал у других недоверие и вражду. Его удачливый противник в битве при Ухуде, Абу Суфйан, умело использовал этот факт, чтобы с помощью последних организовать крупный поход на Медину, в котором участвовали десять тысяч человек, включая двести всадников.
[79] Уотт приводит даже еще более значительные цифры для конницы и утверждает, что у Мухаммеда ее практически не было, что исключало для него возможность сражения на открытом пространстве.
[80] Он собрал примерно три тысячи человек и на этот раз принял твердое решение не выходить из Медины. Неспособные держать оружие женщины и дети оставались в укрытиях, соединенных между собой земляными насыпями. Таким образом, оазис был защищен, а с самой открытой стороны Мухаммед велел выкопать ров, по имени которого и были названы последующие события. Над его сооружением трудилась вся Медина, включая самого Пророка. Через шесть дней, вероятно, 31 марта 627 г., когда появились мекканцы, ров был закончен. Мысль эта была очень удачной и совершенно новой для арабских воинов, незнакомых с материальной стороной осады. Возможно, идея соорудить ров была подана Салманом, одним из обращенных иностранцев, который познакомился с подобными укреплениями в Персии. Когда войска Абу Суфйана обнаружили это препятствие, показавшееся им неприступным, они пришли в такое замешательство, что их командиру пришлось употребить всю свою власть, чтобы убедить их пойти в атаку. Воспользовавшись тем, что в одном месте ров сужался, группе всадников удалось прорваться Али убил их вождя, и воины в беспорядке бежали. Аналогичные попытки совершались и под покровом ночи, но не принесли успеха, так как в охране рва участвовали все мединцы, включая Мухаммеда, которые постоянно сменяли друг друга, хотя и не без приступов досады у некоторых из них ведь подобная война отходила от традиций слишком далеко, чтобы доставлять удовольствие, да и погода настала очень холодная. Нападавшие страдали от нее сильнее, чем осажденные, кроме того, Мухаммед предусмотрительно распорядился убрать урожай зерна за месяц до прихода мекканцев, и те скоро столкнулись с нехваткой фуража для своих коней. За невозможностью решить дело с оружием в руках с обеих сторон предпринимались попытки ослабить сплоченность неприятельских рядов, используя племенную рознь и даже подкуп противника. Абу Суфйан попытался убедить последнее в Медине еврейское племя бану курайза ударить мусульманам в тыл; переговоры провалились. Мухаммед знал, что основная группа кочевников мекканского союза не устоит перед привлекательной взяткой, и предложил им треть собранных в Медине фиников, но ансары отказались отдать ее. После изгнания бану надир Пророк завладел их землями, и он пообещал ансарам значительную часть своих угодий. Нам эти сделки представляются грязными; даже если они ни к чему не привели, то все равно посеяли семена раздора в рядах неприятеля и ухудшили отношения между составляющими их разнородными группами. Примерно через месяц боевой дух тех, кто еще оставался, сломила буря. Несмотря на значительность своих сил, Мекка не сумела сокрушить ислам. Битва обошлась без больших потерь: девять убитых, шестеро мусульман и трое неверных; но ее последствия были бесконечно более важными, чем итоги других, более кровопролитных стычек. Сама незначительность этих утрат послужила к затиханию ненависти, если не считать самых непримиримых, и некоторые практичные мекканцы задумались, не лучше ли принять Мухаммеда и его веру, чем тщетно сражаться, тратясь на столь дорогостоящие экспедиции.
В Медине же военные расходы в очередной раз оплатили евреи. Мухаммед проведал об их сношениях с врагом. Правда, они все же не изменили; к тому же с мусульманами их не связывал никакой конкретный договор. Даже традиционалисты ощущают, что в этом случае Пророк проявил бессмысленную кровожадность.
[81] Осажденные в своих кварталах курайза сдались через месяц. Тогда ауситы напомнили Мухаммеду о том, что он принял ходатайство племени хазрадж за их союзников кайнука в момент их капитуляции. Правильно будет, если он примет и их ходатайство за своих союзников курайза. Мухаммед согласился возложить решение на одного из аус, которого тут же и назначил. Это показалось справедливым. Но назначен был Са'д ибн Муаз, которого, раненного в одной из стычек у Рва, выходил милосердный мусульманин. Падая от удара, он поклялся дожить до торжества Пророка и уничтожения евреев. Трудно поверить, что Мухаммед этого не знал,
[82] и указанный судья вынес безжалостный приговор, какого от него и можно было ожидать: смерть мужчинам, рабство женщинам и детям. Годефруа-Демомбин считает это черной страницей в истории Мухаммеда. Уотт пытается объяснить это избиение, напоминая, что в Аравии той поры, когда племена шли войной друг на друга, они не имели никаких обязанностей по отношению друг к другу. Мужчин от убийства и жестокости удерживал только страх ответных мер со стороны семей их жертв. Но, что для современников Пророка было удивительнее всего, он не боялся последствий подобной казни.
[83]
На самом деле, ее жестокость, возможно, явилась отражением той идеи, что отныне принадлежность к исламской общине должна быть поставлена выше всех прочих уз. Как бы то ни было, добыча была немалой, и эта печальная история действительно сослужила делу ислама хорошую службу. Небольшое время спустя произошло обращение Халида ибн Валида и Османа ибн Талхи, двоих людей, которым суждено было сыграть важную роль на раннем этапе истории халифата.
Последовали набеги на северные оазисы. Мухаммед лично руководил одной экспедицией против племени мусталик, которое кочевало по караванному пути в Сирию, почему добиться его подчинения или поддержки было особенно ценно. Он женился на дочери вождя этого племени.
В 628 г. Мухаммед посчитал, что у него достаточно сил, чтобы без кровопролития войти в свой родной город. В этом не следует видеть военной экспедиции в ответ на ту, которая завершилась у рва, а, напротив, попытку установления мирных отношений, что стало возможным благодаря точному равновесию потерь с одной и с другой стороны, поскольку на семьдесят курайшитов, убитых при Бадре, приходилось семьдесят мусульман, павших при Ухуде, а количество погибших у Рва было ничтожно малым. Впрочем, почва была подготовлена разведкой общественного мнения и союзами с некоторыми влиятельными жителями Мекки. В феврале или марте сильный отряд численностью от тысячи четырехсот до тысячи шестисот человек выступил в поход, командование им взял на себя Пророк, объявив о своем намерении совершить умру, или небольшое паломничество. Воины шли без оружия, не считая мечей, а животные, предназначенные для жертвоприношения, были уже освящены. Несмотря на все предосторожности, мекканцы, безусловно, посчитав, что эти паломники движутся в слишком большом количестве, чтобы иметь мирные намерения, испугались и решили преградить им путь. Мухаммед остановился и направил Османа послом в Мекку. Спустя небольшое время и со скоростью, заставляющей думать, что дело не обошлось без самого Мухаммеда, в лагере пошли слухи о том, что Осман убит. Тогда все паломники собрались к Мухаммеду и под священным деревом коснулись его руки, поклявшись следовать за ним до самой смерти. Едва была принесена эта клятва, посланник возвратился целым и невредимым в сопровождении двух мекканских эмиссаров. Затем был подписан договор, по которому Мухаммед отказывался от паломничества в том году, но за это курайшиты обещали очистить город на три дня в следующем году, чтобы мусульмане могли совершить умру. Обе стороны обязались прекратить военные действия на определенное число лет, как принято считать, десять, и отказаться от грабежа и разбоя. В действительности Мухаммед продемонстрировал свою силу; он сумел не воспользоваться ею (неизвестно, стал бы он победителем?) и на равных провести переговоры с влиятельными мекканцами. Это был успех. Однако мусульмане помнили лишь об отказе от паломничества, ради которого они отправились в путь, и очень плохо встретили договор, который, как им казалось, символизировал их поражение. Чтобы удовлетворить их и в соответствии с уже хорошо отлаженной процедурой, Пророк предложил разочарованным пилигримам захватить богатый еврейский оазис Хайбар; его защитники сдались после долгой осады, в результате чего в собственности общины оказались обрабатываемые земли, а побежденные евреи сделались их арендаторами.
Летописцы сравнительно немногословны в вопросе о паломничестве Мухаммеда во главе двух тысяч человек согласно условиям договора. Представляется, что обе стороны тщательно избегали всякого повода для конфликта, и традиция относит именно к этому периоду запрет на употребление вина правоверными во избежание излишнего возбуждения. Пророк закрепил некоторые обрядовые детали и стал готовиться к своей последней женитьбе на двадцатишестилетней вдове, оказавшейся сводной сестрой Аль-Аббаса, влияние которого он хотел использовать в своих интересах, и родственницей Халида ибн Валида, самого знаменитого из курайшитских военачальников, бывшего одним из помощников Абу Суфйана при Ухуде. Этот блестящий воин принял ислам либо в этот же период, либо, что более вероятно, во время своего визита к новой супруге Пророка в Медину. По возвращении туда Мухаммед начал продвигаться на северо-запад с целью перерезать маршрут, по которому вдоль Красного моря следовали мекканские караваны. Он расширил свои переговоры с племенами, подготавливая тем самым обращение всей Аравии; наконец, предание повествует о том, как он направил письма к самым могущественным государям своего времени, к персидскому царю, к негусу, к наместнику Египта и даже к византийскому императору Ираклию, которые встречают мусульманского посланника с разумной осторожностью. В отличие от них, некоторые арабские вожди сирийской пустыни поступили с прибывшими к ним мусульманскими посланниками гораздо хуже. Возможно, как раз чтобы им отомстить, Мухаммед и послал трехтысячный корпус к сирийской границе. Им командовал Зайд ибн аль-Хариса, на случай гибели которого было назначено два заместителя. После успешных действий на границе Зайд неосмотрительно продвинулся к Муте, к югу от Мертвого моря, и натолкнулся на византийскую оборонительную армию, возможно, под командованием наместника Палестины III, а не лично Ираклия, как полагает предание. Эта же легенда дерзает утверждать, что врагов там было сто тысяч. Скорее всего, их было тысяч десять. Заид был убит вместе со своими двумя заместителями.
К счастью, в походе принимал участие Халид, который принял на себя командование. Он приказал своим частям маневрировать и безостановочно перемещал их, чтобы создать у византийцев впечатление, будто он получил подкрепление. Сражаясь, он разбил девять мечей, что побудило Пророка сказать о нем: «Меч из твоих мечей, о Аллах!» – и сумел отступить, не потеряв ни единого человека. Но мединцам отступления были не по вкусу, даже когда они представляли собой шедевры стратегии, и когда воины вошли город, их встретили презрением. Существует предание, которое даже обвиняет Халида в том, что он захватил командование подозрительным способом, а Уотт задается законным вопросом, каким образом потери при столкновении двух столь крупных сил могли ограничиться двумя офицерами высшего звена и дюжиной солдат.
[84] Через месяц была отправлена экспедиция, призванная отомстить за этот позор. Разумеется, очень важно отметить, что при первой же встрече с неарабскими войсками, численное преимущество которых в конечном счете ненамного превосходило перевес мекканцев в предыдущих сражениях, исламская армия потерпела поражение почти без боя. Однако не возбраняется думать, что этот не особенно удачный контакт с византийцами сделал свое дело, поскольку они стали недооценивать арабов, и в результате парадоксальным образом дал мусульманам еще один шанс.
В этот же самый период небольшие отряды осваивали путь между Хиджазом и севером. Они насаждали ислам и без труда привлекали бедуинов к идее мирного вхождения в Мекку без захвата добычи.
Вступлению в Мекку предшествовала долгая подготовка, разумно сочетавшая в себе военные операции, браки и дипломатию. Мухаммед женился не только на сводной сестре Аль-Аббаса, но и на дочери Абу Суфйана. Эти два влиятельных лица понимали, что последние успехи мусульман окончательно поставили под угрозу караванный путь. Следовательно, продолжать сопротивление исламу значило нанести торговле города непоправимый ущерб. С другой стороны, военачальника Абу Суфйана, несомненно, тревожило обращение в ислам его заместителя Халида и тот факт, что почти сразу же он был облечен высоким командованием. Он начал подумывать о том, чтобы стать военачальником, может быть, верховным военачальником у Пророка, и располагать армией, многочисленной и одновременно хорошо оснащенной. Оставалось сломить сопротивление непримиримых противников Мухаммеда, которых становилось все меньше и меньше. Очевидно, предание видит все в более мрачном свете, обвиняя мекканцев в нарушении мирного договора. Абу Суфйан отправился в Медину, по его словам, чтобы повидаться с дочерью, но, что более вероятно, чтобы обсудить с Мухаммедом условия его возвращения в Мекку. Тогда Мухаммед тайно подошел к городу и, чтобы запутать следы, отослал небольшой отряд в сторону Сирии; под его началом находилось самое меньшее десять тысяч человек, превосходно экипированных и дисциплинированных. Они вступили в Мекку с четырех сторон. Одна колонна, под командованием Халида, наткнулась на сопротивление, связанное, вероятно, с желанием курайшитов сохранить себе путь к отступлению в Ат-Таиф. Потери мусульман составили тринадцать человек убитыми, по одним источникам, и двадцать четыре – по другим, но, в любом случае, они ничтожны для столь крупной победы. Было заключено соглашение о помиловании. Не считая нескольких лиц, чьи преступления были слишком велики, чтобы оно могло на них распространяться, оно тщательно соблюдалось, и никаких грабежей не было. Мухаммед ограничился тем, что попросил богатых мекканцев ссудить его деньгами. В результате беднейшие из его воинов получили по пятьдесят дирхемов на брата. Мединцы беспокоились, вернется ли Пророк в их город; на самом же деле, даже заставив всех жителей принести торжественную присягу, Мухаммед не доверял этим новообращенным, среди которых было столько его ожесточенных противников, и потому остался у них лишь на пятнадцать или двадцать дней. Пришел час, когда были торжественно сокрушены триста семьдесят идолов Каабы, а мекканцам, согласно его тактике, пришлось принять участие в походах, официальной целью которых было покорение языческих племен в окрестностях Мекки или уничтожение их святилищ, а практическим результатом – получение всеми богатой добычи, ставшей цементом нового союза.
Предметом самой известной из этих стычек стал Ат-Таиф, хорошо укрепленный город на возвышенности, против которого Пророк таил злобу за то, что тот не принял его проповеди. Его жители, принадлежавшие к племени сакиф и издавна связанные с Меккой, отвернулись от нее в трудный момент, заключив союз с могущественным кочевым племенем хавазин. Совместно им удалось собрать армию в двадцать тысяч человек, встретившую мусульман в Хунайне. Едва не дрогнув перед лицом численного превосходства, Мухаммед с небольшим корпусом бывших переселенцев и ансаров стойко оборонялся. Главные силы мекканцев приободрились, и была одержана победа, видимым результатом которой стала добыча, исчислявшаяся во множестве голов скота. Осада Ат-Таифа оказалась менее удачной, и Мухаммед благоразумно отказался от ее продолжения, опасаясь критики и утомления новообращенных. Он завоевал их сердца путем дележа добычи.
Последние годы после возвращения в Медину были посвящены убеждению колеблющихся или лицемеров, которые находились всегда. Теперь уже вся Аравия приносила Пророку все более многочисленные изъявления покорности. Последнее паломничество в Мекку было обставлено с необычайной торжественностью. Боясь, чтобы его голос не оказался слишком слабым, Мухаммед поставил рядом с собой на священной скале Ас-Сафа муэдзина Билала, громко повторявшего каждое его слово. Он установил последние детали ритуала и предчувствует свой конец: «Люди, услышьте мои слова и обдумайте их, ибо я уже завершил свою жизнь…»
Вернувшись в Медину, он собрал мощную армию, задача которой – отомстить за битву при Муте. В ее состав входили Абу Бакр и Омар, но возглавил ее совсем молодой человек, девятнадцатилетний Усама. Его единственное достоинство заключалось в том, что он был сыном Зайда ибн Харисы, приемного сына Пророка, убитого при Муте. За два дня до смерти Мухаммед, уже не имея сил говорить, вручил этому молодому человеку свое знамя. Относительно смерти Пророка существуют различные предания. Мы остановимся на том, согласно которому он угас, положив голову на грудь своей любимой жены Аиши в «миг, когда утро вступило в свои права».
Мы потому так подробно остановились на жизни Мухаммеда, что, повторим, именно он дал исламу его главный шанс. Кроме того, не зная жизни Пророка или судя о ней сквозь призму тех искажений, которыми наделила ее христианская традиция, невозможно понять ни арабского менталитета, ни, в частности, того настроения, которое побудило благочестивого Абд-ар-Рахмана к нападению на монастырь Сен-Мартен де Тур. В глазах арабов мусульмане, павшие при Пуатье, еще и сегодня являются мучениками за веру. Здесь есть от чего прийти в замешательство, если задуматься о сопровождавших их вторжение грабежах, об их коварстве по отношению к неверным, о терпимости к евреям вперемешку с гонениями, и, наконец, об обычно рискованном в глазах европейца сочетании очень высокого понятия о едином Боге, заслуживающем любых жертв, начиная с жизни, с очень трезвым осознанием своей материальной выгоды, а также волчьим аппетитом к плотским наслаждениям. Все это сплавлено воедино в фигуре Мухаммеда, и не приходится удивляться тому, что все его арабские последователи берут его личность за образец для подражания.
После своей смерти, за сто лет до Пуатье, он оставил страну, которой было очень далеко до империи, и даже определить ее границы было очень трудно, так как само это понятие почти не имеет смысла в пустыне, когда речь идет о всегда ненадежной покорности кочевников. Можно сказать, что весь полуостров был объединен или что на нем были посеяны семена будущего объединения. Но у Пророка не было наследника мужского пола, и не хватило времени позаботиться о преемственности. Это был пробел, от которого исламу еще предстояло пострадать и от которого он страдает до сих пор. В значительной мере его восполнила сила, излучаемая Кораном и этой новой религией, абсолютно не понятой ее тогдашними противниками и потрясшей мир до основания.
Глава III
Внезапное нападение
Все согласны с тем, что арабское завоевание отличала необыкновенная стремительность, но также и с тем, что его сложно точно описать. Прежде всего следует вместе с Соважем
[85]отметить: для того чтобы по-настоящему понять весь механизм, не довольствуясь простым перечислением сражений, необходимо знать политическую, административную, социальную и экономическую ситуацию в странах,
завоеванных арабами. Однако имеющуюся информацию никак нельзя назвать удовлетворительной, к тому же она неодинакова в зависимости от страны. Если Египет той эпохи изучен достаточно хорошо, во-первых, по многочисленным египетско-греческим папирусам, во-вторых, по коптским сочинениям или переводам с коптского, и, наконец, благодаря арабским историкам,
[86] то в том, что касается Сирии, которой история уготовала ключевую роль, поскольку при Омейядах она стала политическим центром и великим очагом исламской культуры, наши познания практически равны нулю, и едва ли мы лучше осведомлены относительно Ирака. По нашему мнению, мы можем, самое большее, извлечь определенную пользу из вышеупомянутого удачного, но слишком краткого очерка о значении арабского языка,
[87] предлагаемого нам Рисле. Что же касается хронологии и описания битв, то это главным образом заслуга арабских историков. Когда речь идет о них, нужно прежде всего отметить, что они писали спустя очень долгое время после самих событий. Так, первый рассказ о завоевании Северной Африки и Испании, которым мы располагаем, это труд Ибн Абд-аль-Хакама, и А. Гато, который его перевел, сообщает нам во введении: «В том виде, в каком наш автор описывает историю арабских завоеваний, мы можем принять ее как правдивую в основных чертах. Однако при желании глубже вникнуть в нее и дойти до деталей мы ощущаем, что не знаем главного. В то время, когда наш автор составлял свою работу, от первого вторжения его отделяло около двух столетий. Так что не стоит упрекать его за его неточности и лакуны».
[88]
Но представим себе, что было бы, если бы мы знали о Семилетней войне
[89] из единственного рассказа, написанного нашим современником, опираясь на длинную устную традицию. Могли бы мы тогда претендовать на какую-либо объективность? Что касается Ибн Хальдуна, хотя и далекого по времени, но все же лучшего из этих историков, то Готье написал превосходную главу о состоянии духа последних,
[90] и прежде чем указать на чрезвычайную сложность их точного перевода, он отмечает, что в отличие от европейцев, их концепция истории была не географической, а биологической. В кочевниках Ибн Хальдуна интересует то, что он называет «духом плоти», а именно сострадание и воспитание, которое приводит каждого индивида к тому, чтобы рисковать жизнью ради спасения близких. По его мнению, этот дух проявляется только в людях, связанных кровными узами. Впрочем, «духу плоти», вероятно, стоит предпочесть «дух клана». Тогда мы сможем увидеть отличие от нашей концепции. Для нас родиной является страна с географическими рамками, и мы прежде всего озабочены тем, чтобы установить границы и размах какого-то завоевания. Клан же, напротив, представляет собой группу людей разных поколений, понимаемую независимо от ее регионального субстрата, расу, биологический вид. Речь идет о крови, а не о почве. Это объясняет нам, почему в глазах арабов разница между генеалогами и историками столь невелика, тем более что Пророк сказал: «Узнавайте свою родословную». Равным образом, это помогает нам понять то, почему, несмотря на достаточно многочисленные свидетельства, нам бывает чрезвычайно трудно доподлинно выяснить, докуда докатился тот или иной арабский набег и какие именно территории при этом были завоеваны. Вернемся опять к взятому нами примеру Семилетней войны: предположим не только, что впервые речь о ней зашла сегодня, то есть почти через два столетия после ее завершения, но еще что при этом не упоминается о Парижском соглашении и его территориальных последствиях, а вместо этого нам сообщают обо всех предках маркиза Монкальма или принца де Субиза со времен Людовика Святого. У арабов, когда дело касается рассказа о битвах, последние предстают в ореоле всевозможных романтических перипетий, причем на удивление схожих. Это дает нам право подозревать, что все они сфабрикованы по единому шаблону.
Можно попытаться преодолеть это препятствие, отметая арабских историков, когда это возможно, и привлекая, особенно в отношении Египта, коптских авторов. У них свои недостатки. Они погрязают в христианских чудесах и не отличают их от исторических событий, создавая из них поучительную картину, призванную высветить Божье всесилие. Иногда они даже заранее описывают, в форме предсказания, бедствия, ожидающие их народ. В этом случае о событиях рассказывается до того, как они начнут разворачиваться. Например, во вступительном слове к «Великому житию» Шноуди читаем:
[91] «Персы причинят Египту большое несчастье, ибо они возьмут из церкви священные сосуды и будут без трепета и страха пить из них вино перед алтарем…» Таким образом, заключает Амелино, нельзя считать, что коптские авторы заслуживают полного доверия; к тому же либо их повествование идет окольным путем, настолько, что их интересует только жизнь того или иного патриарха, а арабского завоевания они касаются лишь вскользь, либо они отделены от этого события слишком долгим временным промежутком, чтобы рассказ о нем мог быть достоверным.
Остается последний источник: египетско-греческие папирусы. Они обладают преимуществом в силу того, что их сохранилось довольно много: это архивы монастырей, частных домов и тех, кого можно называть «министерскими чиновниками» той эпохи. Таким образом, мы располагаем не только подробными указаниями наместника Египта от лица правящего халифа, но еще и податными списками. Благодаря им мы можем воссоздать гражданскую и коммерческую жизнь Египта того времени. К несчастью, сведения этих многочисленных документов о поведении арабов и его особенностях очень скудны, поскольку завоеватели полностью сохранили греческий язык и институты, так что по этим документом мы не ощущаем никаких заметных изменений, произошедших до или после завоевания.
Таковы наиболее заметные трудности, подстерегающие того, кто попробует воссоздать различные фазы арабского завоевания. Чтобы, несмотря ни на что, попытаться восстановить их, мы, в частности, возьмем в помощь, помимо уже упоминавшихся работ, исследование Жоржа Марсэ в книге «История средних веков», том III, а также его книгу «Мусульманская Берберия и Восток в Средние века»,
[92] и, конечно же, Шарля-Андре Жюлиана, t. II, в издании под редакцией Роже ле Турно.
[93] Из более старых работ мы воспользуемся, в частности, книгой Мориса Клоделя.
[94] Из арабских историков мы будем чаще всего упоминать Ибн Абд-аль-Хакама
[95] и Ибн Хальдуна.
[96]
Мы долго говорили о том шансе, который ислам получил благодаря Мухаммеду. Однако после его смерти все могло, даже можно сказать, логически все должно было рухнуть. Кочевые племена согласились подчиниться Пророку, и только ему одному, именно ему лично присягали все правоверные. Можно ощутить их смятение из-за невозможности в первый момент поверить в его кончину. Он вознесся на небо и скоро воскреснет. Передача власти не предусматривалась, и отсутствие наследника мужского пола лишало ее этого единственного, приемлемого для всех, гаранта законного наследования. Дочь Пророка Фатима отстаивала права своего мужа Али, но дочери мало учитываются в арабской системе наследования. Аиша, любимая жена, могла законно утверждать, что большая часть откровений имела место в ее присутствии, при этом ее знание Корана, а это было в тот период, когда письменная традиция еще не зафиксировала его на бумаге, было таково, что именно к ней чаще всего обращались мусульмане, желая узнать, что сказал или собирается сказать Мухаммед. Ее религиозный авторитет усиливало еще и то, что Мухаммед умер и был погребен в ее комнате. Помимо красоты эта женщина обладала живым умом и тонким пониманием интриги, будущее продемонстрировало грандиозность ее политических амбиций. Мы ощущаем, какую роль ей выпало сыграть по тому остервенению, с которым традиция Али стремится ее оклеветать: она-де не была верна Пророку, и вовсе не у нее он умер. Вслед за этими семейными раздорами, разумеется, снова обозначилось соперничество между Мединой и Меккой, мухаджиров, эмигрировавших в ходе хиджры,
[97] и ансаров, обратившихся в ислам жителей Медины Абу Бакр был отцом Аиши, что в глазах правоверных делало его преданность Пророку в тяжелые минуты безупречной. Этот богатый мекканский купец был хорошо знаком с менталитетом крупной буржуазии своего города. Кто же из этих двоих подталкивал другого, Аиша или Абу Бакр? Трудно сказать. Вполне возможно, что это была Аиша, поскольку Абу Бакр, почти разорившийся в результате той поддержки, которую он оказывал Мухаммеду, и потрясенный его уходом из жизни, в тот период помышлял лишь о том, чтобы руководить молитвой, эту миссию он принял на себя в последние дни жизни Пророка, слишком больного, чтобы осуществлять ее самому, и о сохранении духовных ценностей ислама. Мединцы разделились, мухаджиры форсировали события, и Абу Бакр стал первым преемником Пророка (халифом).
На самом деле, более удачного выбора и быть не могло, и хочется спросить, удалось бы кому-то другому, кроме Абу Бакра, сохранить ислам или нет? Горячая вера и абсолютная честность, не исключавшая трезвости опытного государственного мужа, позволили ему преодолеть все препятствия. Первую организованную им экспедицию отмечает уважение к памяти Мухаммеда: как и задумал Пророк, она была послана в регион к востоку от Иордана. Ему потребовалось большое мужество, чтобы отдать такой приказ, отказавшись от других возможностей, ведь это значило лишить себя сил, которые могли оказаться незаменимыми на месте. Весь полуостров был охвачен лихорадкой. На роль продолжателя дела Мухаммеда претендовало множество пророков. Племена восстали и отказались платить подать, а Абу Бакр не стремился к полюбовному соглашению на эту тему, поскольку, по его мнению, такой отказ не только лишал ислам необходимых средств, но еще и являлся отступничеством. Как только войска вернулись, первый халиф, поручив командование ими мечу ислама, Халиду, послал их против мятежников; разбив Тулайха, лжепророка из Неджда, он двинулся к Персидскому заливу, чтобы покарать племя бену тамим. Затем он вернулся в центральную часть полуострова, где его передовой отряд был разбит Мусайлимой, другим самозванцем, которого он внезапно атаковал и уничтожил вместе с последователями в углу их оазиса, впоследствии названном «загоном смерти». Другая мусульманская армия, преодолев считавшуюся непроходимой пустыню Дахна, покорила племена Бахрейна, в то время как на юго-востоке Икрима, командовавший разбитым Мусайлимой отрядом, на этот раз одержал победу у южного побережья в Омане и Махре. Йемен также находился под властью лжепророка Аль-Асвада.
Здесь делу ислама способствовало противостояние, имевшее место между кланом персов, некогда хозяев страны, и местными жителями-химьяритами, ставшими союзниками Аль-Асвада. Армия под командованием Муджахида истребила еретиков и соединилась с Икримой. Вдвоем они завоевали Хадрамаут. Таким образом, через год после смерти Пророка Аравийский полуостров во второй раз покорился исламу.
Абу Бакр определенно желал только одного – чтобы все арабы признали единственного истинного Пророка, и, должно быть, предпринятое им завоевание византийской Сирии и сасанидской Месопотамии, с которой все и началось, совершилось без предварительного умысла. Сохраняя верность своей программе и стремясь ее довершить, он направил войско в Бахрейн, чтобы напомнить об исламе племени бакр, обратившемуся, но частично отпавшему от новой религии после смерти Мухаммеда. Эти силы под командованием Халида намеревались вклиниться между Персией и Византией, которые уже так давно воевали между собой, что взаимно обескровили друг друга. По-видимому, верх взяла Византия. В 628 г. Ираклий разграбил дворец в Ктесифоне. Но его армия была изнурена, воины отказывались подчиняться, а военачальники замышляли мятеж; религиозные споры разъединяли провинции, но особенно они свирепствовали в Сирии. По выходе из полосы военных неудач Персию начали терзать дворцовые перевороты. За период между 629 и 532 гг. там сменилось не менее восьми государей. Наконец, знать пришла к общему решению возвести на трон Йездигерда III, ставшего последним из Сасанидов. Некогда Персидская империя создала небольшое вассальное государство Лахмидов со столицей в Аль-Хире, чтобы защитить свои западные границы. Однако в 610 г. объединенные силы арабов разбили персидское войско, и это буферное государство прекратило свое существование. Среди победителей фигурировало крупное племя бакр, и военному вмешательству, задуманному Абу Бакром с единственной целью вернуть все части этого племени в лоно ислама, суждено было положить начало завоеванию Персии. Заручившись поддержкой Халида и его людей, ставший правоверным вождь Аль-Мусанна начал набеги на территорию Персии. Халид овладел Аль-Хирой, бывшей столицей государства Лахмидов. Христианский военачальник, представляющий там власть Сасанидов, стал данником ислама. Тогда наместник Хурмуз собирает все свои силы, пытаясь защитить свою провинцию. Но тщетно, он был побежден и убит в битве при Аль-Казиме, в которой мусульмане захватили колоссальную добычу. Персы выслали подкрепление, но и оно было разбито. Вдохновленный этими победами, Абу Бакр отдал приказ Халиду вторгнуться в Палестину. Тогда Аль-Мусанна разбил лагерь на берегу Евфрата.
Каково бы ни было мнение восточных источников, которые полагают, что халиф дал своим войскам конкретные указания, имея в виду длительную оккупацию завоеванных территорий, он, вероятно, видел в этих операциях главным образом повод к укреплению союза, хрупкость которого он осознавал лучше, чем кто-либо другой, и удалению от Медины войск, способных вызвать там всяческие неприятности. В любом случае вторжение в Палестину выглядит таким же спонтанным, как и в Ирак. Тогда из столицы выступили сильные отряды, в каждом из которых было по три тысячи человек, под командованием Йазида, сына Абу Суфйана, и Амра, сына Аль-Аса.
Патриций Сергий, наместник Кесарии, выступил им навстречу, чтобы преградить путь. Столкновение произошло в Аль-Арабе, к западу от Мертвого моря. Это был первый крах византийской армии, вероятно, по численности уступавшей арабскому войску. Сергий возобновил наступление с более многочисленной армией. Он встретил свою гибель в Дасине, и Палестина оказалась открытой для завоевателей. Наконец, правительство Сирии пришло к пониманию того, что имеет дело с чем-то посерьезнее незначительного набега. Тогда оно произвело полную мобилизацию и смогло собрать значительное войско, хотя и посредственного качества. Встревоженные этими приготовлениями, арабы запросили подкрепления у Медины, откуда Халиду поступил приказ присоединиться к войскам Йазида. Он принял на себя командование и одержал победу при Аджнадайне. Вскоре после этого успеха Абу Бакр скончался. Он позаботился о преемнике, назначив имамом Омара. За два года Абу Бакр не только восстановил ситуацию, пошатнувшуюся в результате ухода Мухаммеда, но еще заложил фундамент для будущей экспансии ислама. Толчок же ей дал Омар, чья политика, естественно, была более воинственной, чем у его предшественника. Омар не пользовался популярностью из-за своего резкого характера, но все признавали его компетентность и верность, поскольку, добровольно отказавшись предлагать свою кандидатуру на пост наследника Пророка, он стал самым преданным и деятельным помощником первого халифа. Таким образом, он без борьбы получил высшую власть, повелел похоронить Абу Бакра рядом с Мухаммедом и предложил верующим вступить в армию, чтобы поддержать своих братьев в Ираке. Они во множестве откликнулись на его призыв, и в результате в евфратский лагерь, где мы оставили Аль-Мусанну после ухода Халида, прибыли значительные силы. Медина еще не была вполне уверена в верности вождя кочевников и назначила командиром Абу Убайда.
Сасанидский царь Йездигерд III знал, что на карту поставлено будущее его империи. Рустам, наместник Хорасана (который, как и все восточные провинции, был густонаселенной местностью), набрал там огромную армию и лично возглавил ее, имея своим заместителем превосходного стратега Бахмана; цель его состояла в том, чтобы очистить свою территорию от арабов и вернуть Аль-Хиру. Абу Убайд, несомненно, не мог оценить размера сил, которые стояли перед ним. Опьяненный первым успехом, он совершил серьезную ошибку, переправившись через Евфрат по мосту, составленному из лодок. И начал военные действия против главных сил противника, имея за спиной реку. Вид слонов испугал лошадей, началось беспорядочное бегство, Абу Убайд был убит. Аль-Мусанна сумел переправить обратно остатки армии. Положение арабов в Ираке стало шатким. К счастью для них, Бахман был вызван царем в Ктесифон, прежде чем успел воспользоваться своей победой. Аль-Мусанна чудесным образом оправился от поражения, получив подкрепления от всех арабских племен и даже от христиан, живших на границе. Ему удалось разбить персов при Бувайбе, под Аль-Хирой, чего они никак не ожидали. Более того, он переправился через Евфрат, но на этот раз втайне. Двигаясь вдоль рек, он достиг Ктесифона, столицы государства, грабя и разоряя все на своем пути; однако Рустам преградил ему путь во главе новой армии, и Аль-Мусанна спешно вернулся в Медину, прося подкрепления. Прельстившись сказочной добычей, отправиться на войну пожелало огромное количество кочевников, как мусульман, так и неверных, однако и на этот раз Аль-Мусанне было отказано в командовании ими. Оно досталось Са'ду ибн Абу Ваккасу, одному из соратников Пророка, которому, в отличие от его предшественников, по прибытии в Ирак хватило мудрости принять во внимание мнение бедуинского вождя, в совершенстве владевшего техникой войны с персами.
С учетом силы неприятеля было принято решение применять осторожную тактику и покинуть Аль-Хиру. Через четыре месяца взаимного наблюдения две армии встретились лицом к лицу в Кадисии, расположенной достаточно близко к этому городу. Арабские авторы с удовольствием описывают наводящий ужас вид персидской армии. Рустама окружало пятеро военачальников. Тридцать три слона несли башенки, полные лучников, и знамя Хосрова, сделанное из тигровых шкур, усыпанных драгоценными камнями.
[98] Мусульмане декламировали Коран, их сопровождают поэты, нараспев читающие воинственные стихи; одна за другой произошли три битвы; первая, названная днем Армата, не стала решающей; вторая, или день Агхвара, оставила преимущество за арабами; третья, день Амаса, закончилась смертью Рустама и полным разгромом персов
[99] из-за подхода к мусульманам подкрепления из Сирии, что предопределило победу и окончательно склонило чаши весов в сторону арабов. Оборона империи рухнула под ударами правоверных. Для них теперь был открыт путь на Ктесифон, где их ждала добыча, еще более фантастическая, чем они могли мечтать. По обычаю, который стал у них обиходным и обнаруживается особенно в Северной Африке, они соорудили два укрепленных лагеря, Басра (современная Басора) и Куфа, к югу от развалин Вавилона. Таким образом, они создали опорные базы, послужившие отправными точками для будущего завоевания. Йездигерд тщетно затевал сражения, пытаясь этому помешать, и дошел до того, что обратился за помощью к китайскому императору (любопытно, что его сын, Фируз, впоследствии стал генералом китайской гвардии). Последняя крупная битва, при Нихавенде, сделала арабов хозяевами Центральной Персии.
Последний из Сасанидов был убит в Хорасане. Вместе с ним исчезла империя, восходящая к Александру, могущество которой долгое время противостояло Византии.
Отныне все усилия Омара были направлены против нее.
Сирия была более легкой добычей, чем Персия. В отличие от нее, ее не защищали крупные реки или высокие горы. Ее население, если не считать жителей городов, говорило на арабском языке. Она больше симпатизировала исламу, жесткий монотеизм которого лучше сочетался с ее монофизитством, чем византийское православие с его догматом о Троице, который в глазах сирийцев выглядел проявлением многобожия.
[100] Наконец, евреи, претерпевшие гонения при Ираклии, встретили арабов как освободителей.
В 635 г. мусульмане были уже под стенами Дамаска. Они осадили город, не предпринимая попыток штурма. Через пять месяцев он сдался. Тогда Ираклий набрал наемников и создал армию, превосходившую их по численности. Они отступили и ждали нападения на южном берегу Йармука, впадающего в Иордан. Тридцатитысячная армия под командованием сакеллария Феодора поражала своими размерами, но ей не хватало сплоченности. Прямо в ее лагере мятежники-армяне провозгласили собственного императора. Во время битвы сирийские арабы покинули поле боя. Феодор был убит, мусульманская конница прорвала ряды неприятеля и рассеяла их. За этим последовала новая капитуляция Дамаска, потом Алеппо, а после Антиохии. Еще через два года пал Иерусалим. Омар вошел в него как паломник в плаще бедуина. Но, поклонившись священному городу, он вместе с арабскими вождями создал систему управления Сирией и столкнулся с чумой, которая поразила каждого десятого победителя. Йазид, поставленный наместником Дамаска, умер; на его место был назначен его брат Муавия, которому предстояло заложить в Сирии основу величия Омейядов. Падение Кесарии (640 г.) сделало завоевание окончательным. Один из отрядов поднялся по Евфрату до Мосула и тем самым подготовил вторжение в Армению. В 642 г. ее столица Двин оказалась в руках мусульман.
Можно ли объяснить завоевание Египта счастливым стечением обстоятельств, как и в предыдущих случаях? Некоторые утверждают, что экспедиция, возглавляемая Амром, стала следствием событий в Сирии. Будучи недоволен возвышением Муавии, он покинул лагерь в Кесарии вместе со своим войском, чтобы самовольно, без приказа халифа пересечь границу Египта. Более правдоподобным выглядит предположение, высказанное Амелино,
[101] что успех арабских войск в битве при Йармуке убедил прежде колебавшегося халифа. Тогда он дозволил Амру выступить в Египет с армией в три тысячи пятьсот или четыре тысячи воинов. Но самому Амру это предложение показалось столь невероятным, что он, очевидно, опасаясь отмены этого приказа, не переходил границы, остановившись в Эль-Арише, и не получил от халифа последних распоряжений. Малочисленное, по сравнению с занимавшей страну византийской армией, войско, которое было поставлено под его командование, так же как и последовавший успех, заставляют задуматься. Не желая приуменьшать значение арабских побед, следует все же как можно точнее установить соответствующие цифры. Занявшись скрупулезным разбором греко-египетских папирусов, о которых мы уже упоминали, Жан Масперо подсчитал, что количество солдат, находившихся в Египте накануне завоевания, не должно было превышать двадцати пяти – тридцати тысяч, поделенных между удаленными друг от друга гарнизонами, что не позволяло им оказывать друг другу помощь.
Если верить арабским авторам, подкрепления, полученные Амром, довели численность его армии до сорока тысяч, а более вероятно, до двенадцати тысяч пятисот человек. Это различие в численности было менее значительным, чем то, что имело место в момент решающих и победоносных сражений в Ираке и Сирии.
Кроме того, египетскому диоцезу, управляемому патриархом Киром, также не хватало единства. Ираклий позаботился о том, чтобы урезать полномочия лидера, который мог стать его соперником. Основной задачей представителей Византии был сбор подати и снабжение Константинополя зерном. Армия исполняла роль полиции, но нападение извне казалось немыслимым. Как и в Сирии, здесь народ разобщали религиозные распри. Копты ненавидели греков и очень мало сочувствовали центральной власти, стремившейся силой восстановить единство веры.
Появление на границе Амра и его воинов обычно относят к концу 639 или началу 640 г. Они воспользовались полной неожиданностью своего нападения и захватили Фараму, находившуюся на месте древнего Пелусия;
[102] сколько длилась осада, месяц или даже два, ответственность за это промедление следует возложить не на неприятеля, а на разлив Нила, затруднивший доступ к городу. Затем мусульмане заняли Бильбейс, на краю пустыни. В результате они, так и не замеченные, достигли самого сердца Египта. Когда паводок отрезает деревни от остального мира, новости распространяются медленно, а те, что смогли достичь правительства, убедили его лишь в том, что речь идет о незначительном набеге, которые в то время частенько случались в этом регионе.
Тем не менее, выйдя из Гелиополиса и приблизившись к Вавилону,
[103] Амр понял, что столкновение с главными силами византийской армии, поспешившими на помощь столице, неизбежно, и малочисленность его трех тысяч воинов была тем более ощутимой, что для осады этой цитадели требовались куда более значительные силы. Тогда он обратился к халифу Омару, который прислал ему Зубайра с четырьмя или пятью тысячами человек.
[104] Византийская армия совершила ошибку, устремившись на открытое поле на равнине Гелиополиса. Это дало возможность пятистам всадникам атаковать ее во фланг, что и определило победу арабов. Мусульманам удалось даже обосноваться в предместье Вавилона. Тогда патриарх Кир решил договориться с победителями и отправился в Константинополь с тем, чтобы Ираклий утвердил заключенный им договор. Последний, разгневавшись, отказался сделать это, обвинил патриарха в измене и осудил его на изгнание. Не выдержав ожидания, Вавилон сдался. Таким образом, Верхний Египет, за исключением крупного порта Александрия, оказался открыт для завоевателей. Будучи уверен в поддержке населения и присоединившихся к нему партизан, в числе которых были мятежные египетские солдаты, Амр без колебаний осадил этот город. Батлер считает,
[105] что в распоряжении арабского военачальника находилось от четырнадцати до двадцати тысяч воинов, а гарнизон Александрии насчитывал пятьдесят тысяч человек. Амелино, как и Масперо,
[106] цифры кажутся преувеличенными, и он сокращает их до двенадцати тысяч с обеих сторон. Осада затягивалась: после смерти Ираклия Кир получил свободу, снова возглавил правительство Египта, и на него возложили ответственность за проведение переговоров с арабами. Его роль в этом деле вызывает споры и остается достаточно туманной.
[107] Он подписал с Амром договор, зафиксировавший передачу города и падение Египта.
Чтобы закрепить свое завоевание, Амр дошел до Киренаики и заложил мусульманский город Фустат, военную базу и религиозный центр на месте лагеря, разбитого под Вавилоном.
За десяток лет двум первым халифам удалось завоевать для ислама значительные территории и чрезвычайно богатые страны, населенные немусульманами. Омар сумел дать им административную систему, иногда рабски подражавшую ранее существовавшей, но цель ее состояла в том, чтобы обеспечить новому государству ресурсы, в которых оно нуждалось для организации и улучшения своих завоеваний. Если бы не была введена эта хорошо задуманная и эффективная система, то натиск ислама оказался бы не более чем минутной вспышкой и не привел бы к образованию империи, прочность которой удивляет нас еще и сегодня. Истинным инициатором этого снова является Мухаммед, так как в основе всей организации по-прежнему остается Коран. Но заслуга его практического применения с учетом обстоятельств, которые Пророк не мог предвидеть, принадлежит Омару.
Согласно Откровению, земля принадлежит Аллаху, который отдает ее в пользование мусульманам,
[108] по крайней мере, когда ее оккупация является результатом принуждения или насилия (анват), хотя и не без какого-либо соглашения с побежденными (кулх). В первом случае земли составляют часть добычи (ранима), четыре пятых которой распределяются между воинами, а халиф получает пятую долю, пятину. На практике побежденные продолжали обрабатывать свою землю, продукцию которой они по большей части отдавали своим новым хозяевам. Но во втором случае, когда заключался договор, за побежденными оставалось своеобразное право распоряжаться землей, которая тем не менее являлась собственностью мусульманской общины, и они могли передать это право кому угодно при условии выплаты хараджа, ежегодного налога, размер которого устанавливается договором. Следовательно, вопрос о договоре, предупреждающем завоевание, имел большое значение для побежденных и часто вызывал ожесточенный торг, который вынуждает упрекнуть мусульман в отступлении от собственной веры: когда речь идет о настойчивом стремлении к переговорам, это анват или кулх? Разумеется, Кир согласился на встречу с Амром именно для того, чтобы обеспечить Египту и Сирии выгоды кулха, и, возможно, именно неуважение к этому сговору стало причиной подозрений в предательстве.
По существу, это налог для «неверных», мусульмане не были обязаны его платить. Но он связывался исключительно с самой землей, так что даже после обращения ее владельца в ислам представители власти продолжали требовать уплаты налога. «Люди Писания», желающие остаться в лоне своей религии (то есть иудеи, христиане и, в широком смысле, зороастрийцы), должны платить другой, персональный налог, джизью (поскольку этот налог приносит хороший доход, можно утверждать, что мусульмане вовсе не были заинтересованы в обращении неверных или в их преследовании и при оккупации завоеванных территорий на деле доказали свою огромную веротерпимость, вопреки заявлениям христианской традиции). На самом деле, эта теоретическая система допускает подгонку к условиям конкретной страны, при этом араб не становится администратором, оставляя на своих постах местные власти, и административный язык остается таким же, как и до завоевания. Например, в Египте со времен фараонов земледелец был лишь пользователем своего земельного участка; в Сирии и Ираке крупными императорскими, муниципальными и церковными владениями распоряжались крупные арендаторы и обрабатывали их, используя труд колонов. Таким образом, ужесточения повинностей не происходило, просто прибыли отправлялись в другие руки. Они-то и становились собственностью победителей, которые не имели права владеть землями за пределами Аравии. Представляется, что именно поэтому в чужих странах они строили лагеря и не оседали в них, питали отвращение к жизни в старых городах и строили новые, которые прежде всего представляли собой военные базы; их главным занятием по-прежнему оставалось воинское ремесло. Кроме добычи они получали денежное довольствие, которое колебалось в зависимости от ранга в мусульманской иерархии и распределением которого ведал халиф. Именно эта система способствовала росту его авторитета, но в то же время порождала интриги среди его приближенных и даже стремление устранить его у тех, кто считал себя обиженным. Вероятно, именно по одной из причин подобного рода в ноябре 644 г. Омар был убит персидским рабом.
В результате этого деяния безвременно и трагически оборвалась жизнь одного из величайших наследников Пророка, который завещал своему народу империю, охватывавшую Сирию, Ирак, Верхнюю Месопотамию, Армению, Персию, Египет и Киренаику. Абу Бакр и Омар в едином усилии и с замечательной преемственностью во взглядах сумели нейтрализовать все разъединяющие факторы, которые существовали среди арабов. Они преподнесли им неожиданный подарок – удивительно легкое завоевание, в ходе которого военные подвиги стали цементом их единства. Сплотившись между собой и расставшись со всякими личными амбициями, они открыли для одной из беднейших стран мира путь к несметным богатствам и дали некогда презираемому всем остальным миром народу возможность задуматься о мировом господстве.
Нож раба снова поставил все под сомнение. Уже тогда он предвозвестил святотатственный удар меча, убивший следующего халифа, Османа, во время чтения Корана, и последовавшие за этим семнадцать лет смут, приостановивших завоевание.
Глава IV
Новые завоевания
I. Ифрикия
Ибн Абд-аль-Хакам сообщает нам, что после нападения на Триполи в 643 г. Амр направил Омару следующее послание:
«Аллах сделал нас хозяевами Триполи, который находится всего в семи днях пути от Ифрикии; не желает ли Повелитель правоверных дозволить нам пойти на нее войной? Честь этого завоевания будет принадлежать ему, если Аллах дарует нам победу».
Омар ответил:
«Эта страна не должна называться Ифрикией; ее следует именовать
эль-Моферреса-т-эль-Радера (далекий изменник); я запрещаю приближаться к ней и посылать туда экспедиции, пока я жив!»
Или по другой традиции: «Пока вода моих век увлажняет мои глаза».
[109]
После убийства Омара Ан-Нувайри
[110] рассказывает нам аналогичную историю. Халифом был избран Осман. Он назначил на место Амра в правительстве Египта человека, которому больше доверял, своего молочного брата Абд-Аллаха ибн Са'да, который во главе нескольких конных подразделений вскоре начал военные вылазки в Ифрикию, принесшие ему значительную добычу. Он поспешил известить об этом нового халифа. Тот начал строить планы вторжения в эту страну и обратился за советом по этому поводу к старым соратникам Мухаммеда. Все согласились с тем, что необходимо послать туда армию, только Абу-ль-А'вар-С'ад ибн Зайд заявил:
«Я слышал, как Омар ибн-Аль-Хаттаб говорил, что,
пока в его глазах есть слезы, ни один мусульманин не отправится в поход в эту страну; и я никогда не посоветую сделать шаг, который будет противоречить воле этого халифа».
Как бы ни были прикрашены эти различные версии, они передают официальное решение Омара отказаться от попыток завоевания Ифрикии. Осману, который, разумеется, не был человеком того же масштаба, что и его предшественник (хотя те, кто упрекает его за любовь к роскоши и щедрость к родственникам, без сомнения, стремились обвинить его во всех грехах, чтобы оправдать его убийство), тем не менее принадлежит та заслуга, что он, невзирая на столькие предостережения, решился на авантюру, доведшую ислам до самой Испании, а потом за Пиренеи. Этот знаменитый набег, который арабские историки украшают чудесными или романтическими подробностями,
[111] вероятно, следует отнести к 647 г. Патриций Григорий (которого арабские историки называют Джирджиром) осознал опасность. От Византии его отдалили религиозные разногласия. Поэтому, чтобы предотвратить угрозу, он обратился к берберским племенам, обеспечившим его армией, которую мусульманская традиция, безусловно, преувеличивает, заявляя, что ее численность достигала двадцати тысяч воинов.
[112] Что же касается мусульман, то их, без сомнения, было очень много, поскольку сам Осман объявил священную войну и поставил своему брату тысячу верблюдов в качестве верховых животных для самых бедных, а также лошадей.
[113] Но при этом речь идет о достаточно мобильном войске, призванном захватить богатую добычу, а не оккупировать завоеванную страну; после присоединения сил Ибн Са'да количество воинов должно было достигать двадцати тысяч.
Опорной базой Григория была крепость Субайтала на юге Туниса. И посреди равнины, простирающейся у стен этого города, после некоторой заминки перед началом сражения, либо с целью лучше изучить своего противника, либо по причине численной диспропорции, Ибн Са'д одержал блестящую победу. В ходе битвы сам Григорий был убит, как говорят, рукой Ибн аз-Зубайра, который сам описал свой подвиг следующим образом: когда Ибн Са'д удалился в свой шатер, чтобы отдохнуть, убедившись в подавляющем превосходстве окружившего его неприятеля, Ибн аз-Зубайр заметил, что существует возможность внезапно напасть на Григория, который держался позади своей армии верхом на серой лошади в сопровождении двух юных девушек, защищавших его от солнца павлиньими перьями. Тогда Ибн аз-Зубайр проник в шатер своего начальника, несмотря на противодействие камергера, охранявшего вход, попросил дать ему несколько всадников и помешать врагам нанести им удар в спину, прорвался сквозь вражеские ряды, бросился на Джирджира (Григория) и, невзирая на сопротивление его амазонок, отрубил ему голову и водрузил ее на острие своего копья. Сами арабские историки ставят под сомнение истинность этого подвига, описание которого мы почерпнули из Книги Песен
(Китаб эль-Агхани).[114]
Тем не менее достоинство этой версии в том, что она объясняет внезапное поражение Григория, гибель которого деморализовала его войска. Странное присутствие двух женщин, обмахивающих Джирджира павлиньими перьями, породило легенду о его дочери Йамине, ездящей верхом под зонтом из павлиньих перьев или внезапно появляющейся без покрывала на вершине башни, причем ее руку вместе с сотней тысяч динаров отец обещает тому, кто убьет Ибн Са'да. Согласно некоторым традициям мы снова встречаемся с Йаминой, захваченной в плен и спасшейся от рабства, только бросившись наземь со своего верблюда и сломав шею. Как замечает Э.-Ф. Готье, не важно, что Йамина, вероятно, никогда не существовала. Можно представить себе многих других женщин, принадлежавших к особенно утонченной византийской аристократии, которые в этот день сделались пленницами и после дележа попали в руки полудикарей. Именно их трагическую судьбу стремился отобразить арабский сказитель.
[115]
Разграбление Субайталы и набег на юг Византии принесли значительный доход, который и являлся целью экспедиции. Кроме того, Ибн Са'д мог опасаться контрнаступления с севера, крепости которого оставались для него неприступными за отсутствием осадного материала и сил, достаточных для их захвата. Именно поэтому он охотно принял колоссальную компенсацию, предложенную византийцами за то, чтобы он покинул Бизацену и вернулся в Египет со всеми своими сокровищами. Эта военная акция длилась не больше года, и Византия не потеряла ни пяди подвластной ей территории. Тем не менее из этой войны она вышла очень ослабленной. На юге, разоренном и обезлюдевшем, из-под контроля Карфагена вышли берберские племена. Смерть патриция воскресила старые распри Арабы с удивлением обнаружили, что очень сильную на вид греческую армию можно победить, и это приносит сказочную добычу. Однако убийство Османа снова поставило все под вопрос и подарило Ифрикии семнадцать лет передышки, в то время как Египет, в значительной степени повинный в этом событии, принял активное участие в последовавших гражданских войнах.
[116]
Тем не менее Византия не использовала своего шанса. Она слишком давно не знала покоя даже на море, там, где ее первенство было общепризнанным. Дело в том, что арабы обзавелись флотом, в пробных ударах которого уже чувствовалась рука мастера. В 649 г. арабская эскадра заняла Кипр, в 654 г. разграбила Родос, в 655 г. нанесла греческим эскадрам, находившимся под личным командованием императора Константа II, достопамятное поражение у берегов Ликии. Кроме того, Констант II совершил оплошность, не воспользовавшись смертью Григория, чтобы восстановить свою власть над Африкой. Объявив в своем эдикте жесткие санкции против всех тех, кто не будет хранить верность древним символам, он окончательно оттолкнул от себя ортодоксальных христиан Африки, так что узурпатор, Геннадий, мог в течение нескольких лет сохранять независимость своего княжества, не стесняясь заключать союзы с мусульманами в ходе борьбы со своим соперником, которого поддерживал император. Когда же, наконец, этот последний снова сделался хозяином византийских владений в Северной Африке, в его руках оказались лишь клочки экзархата, и ему даже пришлось отказаться от крепостей первой линии обороны и ограничиться защитой одного Центрального Туниса.
[117]
Когда в 660 г., несмотря на все свои военные победы, Али, менее удачливый в дипломатии, чем на войне, позволил сместить себя Муавии, ловкому наместнику Сирии, который, в свою очередь, объявил себя халифом, основав династию Омейядов, у него оставалось немало возможностей победить и насадить свою власть, а исламу еще предстояло пережить долгие годы нескончаемой борьбы. Однако, претерпев решительное видоизменение, ислам все же встал на путь к новому равновесию. Первые халифы желали быть продолжателями Мухаммеда, в управлении они опирались на его соратников и правоверных, на Медину, Мекку, Аравию и кочевников Муавия помнил о том, что он является наместником Сирии и именно сирийцам обязан своим халифатом. Отныне центром мусульманского мира сделался Дамаск, а священные города, откуда прозвучала проповедь, тщетно бунтовали, желая сохранить свое первенство Муавия пользовался поддержкой арабов племени калб, из которого он выбрал себе жену, однако они считали себя выходцами из Йемена и противостояли племени кайс, которое связывало себя с севером и центральной частью полуострова. Управленческий аппарат оставался византийским, и халиф сохранил императорскую канцелярию, диван
[118] состоял из сирийцев, еще остававшихся по большей части христианами, они же занимали высшие государственные посты. В официальных регистрах по-прежнему употреблялся исключительно греческий язык, в ожидании того момента, когда, как мы уже видели, обратившиеся в ислам греки подарят арабам их диакритические знаки, синтаксис и грамматику. Деньги по-прежнему несли на себе изображение византийского креста.
[119] Наконец, проявив большую изобретательность, Муавия вынудил досрочно выбрать ему преемника еще при жизни, им стал один из его сыновей, тем самым он установил принцип наследственной власти, который часто оспаривался, но на протяжении первого двадцатипятилетнего периода принес бразды правления его прямым потомкам, а затем боковой ветви. Таким образом, повелитель правоверных стал арабским царем, василевсом, очень похожим на того, которого он заменил в этой византийской провинции.
К – А Жюлиан полагает, что все написанное арабскими историками о нападениях на берберов между 660 и 663 гг. следует воспринимать с осторожностью.
title="">[120] В 665 г Муавия ибн Худайдж, старый вождь омейядской партии Египта, получил от халифа приказ вторгнуться в Бизацену. Он разбил византийскую армию, высадившуюся в Хадрумете, и завладел крепостью Джалула, что, должно быть, выглядело как чудо, так как арабские историки выдумывают, что либо крепостная стена неожиданно рухнула в тот момент, когда обескураженные арабы уже готовы были снять осаду, либо Бог открыл город, «не послав на штурм ни лошадей, ни людей».
[121] Во всяком случае, добыча была большой. Однако следовало дождаться Окбы, чтобы увидеть его блестящие набеги, закончившиеся окончательным завоеванием страны. В 670 г. он остановился в сердце Бизацены в полупустынной долине, которую предание рисует нам полной кустов и ползучих растений, служивших убежищем хищным животным и совам. Он вскричал громким голосом: «Обитатели этой долины! Удалитесь, и да сделает вас Аллах милосердными! Мы собираемся здесь остаться!». Он повторял это объявление три дня подряд, и все дикие животные покинули это место, так что в течение следующих сорока лет: «в Ифрикии нельзя было встретить ни змеи, ни скорпиона, даже если бы кто-то предложил тысячу динаров за поимку хотя бы одного»,
[122] затем он изгнал с этой территории населявших ее людей, разделил ее на наделы, призвал туда жителей города, ранее построенного Муавией ибн Худаиджем, и, воткнув в землю свое копье, воскликнул: «Вот ваш кайруван!». Жюлиен сообщает о том, что, согласно традиции Ан-Нувайри, Окба объявил: «Я собираюсь построить город, который будет служить плацдармом (Кайруван) ислама до конца времен».
[123] Мы не находим этой фразы в издании Слейна, где нас, напротив, поражает настойчивость, с которой он подчеркивает не военное, а религиозное предназначение города. По этой версии, первой там была построена мечеть, а когда возникло разногласие по поводу киблы (направления молитвы), воткнутое в землю копье указало правильную ориентацию. Как бы то ни было, хотя некоторые арабские историки упорно воспевают прежде всего религиозную и интеллектуальную столицу, которой Кайруван стал гораздо позже, в то время как другие держат в уме образ крепости и пакгауза, которым он, вероятнее всего, был первоначально, все они прекрасно понимают значение его основания.
Как и в случае предыдущих завоеваний, здесь мы встречаемся одновременно с недоверчивостью арабов по отношению к построенным до них городам и с их стремлением селиться общиной, которая может быстро мобилизовать свои силы, либо для обороны, либо для нападения. Кайруван охранял маршрут из Египта от византийцев и был построен напротив Авреса для защиты берберов, которые стали его самыми непримиримыми противниками. Тем не менее Ифрикия не сделалась самостоятельной провинцией и сохранила зависимость от Египта. По неясным причинам Окба неожиданно был снят со своего поста и попал в такую опалу, что его преемник Абу'ль-Мухаджир, раб или вольноотпущенник наместника Египта, которого последний назначил повелителем Ифрикии, заковал его в цепи и, согласно Ан-Нувайри, грозился уничтожить Кайруван и основать на его месте свой город. Предотвратило эту катастрофу вмешательство самого халифа.
[124] На самом деле, политика Абу'ль-Мухаджира, состоявшая в переговорах с берберскими племенами с целью заручиться их поддержкой против Византии, Жюлиану
[125] представляется, в конечном счете, такой же плодотворной, как и гораздо более жесткие действия его предшественника. Впрочем, она не исключала военных побед, поскольку именно Абу'ль-Мухаджир взял в плен знаменитого Кусайлу, князя Аураба. По смерти Муавии, его сыну Йазиду нелегко досталось его наследство, халифат, потому что ему, как и его преемникам, пришлось бороться с противниками, провозгласившими себя халифами, которых поддерживала Медина. Однако он восстановил Окбу на его командном посту, и тот без промедления предпринял масштабный поход на Магриб, относительно которого некоторые полагают,
[126] что его реальность вызывает сомнения, столькими чудесными элементами расцветила его традиция, сделав его менее правдоподобным. Окба влачит за собой Абу'ль-Мухаджира и Кусайлу в оковах, освобождает крепости к северу от Авреса, сминает туземные войска, пользующиеся поддержкой греческих элементов, обозначенных в текстах как «руми», в Багхаи, Ламбезе, затем в Тиарете и, быть может, даже в Танжере, где, по версии Ан-Нувайри, он встречает руми по имени Юлиан, которого расспрашивает относительно Испанского моря, и, узнав о том, что оно хорошо охраняется, говорит: «Укажи мне, где найти вождей Рума и берберов». – «Что касается Рума, – отвечал Юлиан, – ты оставил их позади, перед тобой – берберы со своей конницей, сколько их – одному Богу известно». Они останавливаются в Суз-эль-Адне, и грек уточняет, что это люди, не имеющие религии, пожирающие трупы и пьющие кровь своего скота, которые не верят в Бога и даже ничего о нем не знают.
[127] Невзирая на эти не слишком обнадеживающие предостережения, Окба вторгается на юг, совершает массовое избиение берберов, захватывает несколько красивых женщин, которых можно дорого продать. Наконец, он достигает Атлантического океана и выезжает в воду по грудь лошади Затем он воздевает руку и восклицает: «Господь! Если это море не остановит меня, я пойду в дальние страны и в царство Зу-ль-Карнайна,
[128] сражаясь за твою религию и убивая тех, кто не уверует в тебя или будет чтить других, отличных от тебя богов».
[129] Абд аль-Хакам изображает нам его в этой же ситуации, но вкладывает в его уста более простую речь: «Аллах! Клянусь тебе перед свидетелями, я не могу идти дальше, но если ты найдешь для меня дорогу, я продолжу свой путь».
[130]

Карта 2
Этапы завоевания Магриба (VII и VIII вв.)
Увы! Без сомнения, мы должны отвергнуть эту прекрасную картину, которая так замечательно предвосхищает будущее завоевание Испании. Безжалостная историческая критика подметила, что Танжер появляется только в более поздних традициях, Абд аль-Хакам упоминает лишь о Сузе, географическое положение которого для арабов чрезвычайно туманно, и Р. Бруншвиг пишет: «Если этот рейд Окбы можно рассматривать как подлинный, то, в ожидании доказательств обратного, разумно будет ограничить его Центральным Алжиром; возможно, он достиг еще современной Орании и долины Шелифа».
[131]
Выдумана она или нет, но эта блестящая экспедиция закончилась катастрофой, подлинность которой неоспорима. Кусайле удалось бежать. С помощью византийцев, которые более не располагали достаточными силами, но продолжали играть политическую роль в стране, он собрал значительную коалицию берберских племен и, возглавив их, следил за отступлением Окбы. Тот проявил неблагоразумие, расчленив свою армию, если только она не распалась сама в результате споров по поводу раздела добычи. Ее распад произошел в Тобне. Арабский военачальник сохранил под своим командованием лишь небольшой эскадрон, с которым двигался по маршруту, проходившему к югу от Авреса. Он был окружен на границе пустыни у современной Тахудхи и уничтожен вместе со своими тремя сотнями всадников. Его тело покоится в мечети оазиса, носящего его имя, в пяти километрах к югу от места его убийства. Арабам пришлось отказаться от всех своих завоеваний дальше Барки. Кусайла вошел в Кайруван как победитель и, таким образом, утвердился в качестве непререкаемого вождя берберов, которые, уже обратившись, стремились отказаться от ислама (в одном известном тексте Ибн Хальдун отмечает, что за шестьдесят два года они отрекались от него до двенадцати раз). Вероломная Ифрикия, похоже, оправдала недоверие Омара в свой адрес, и ей предстояло еще долгое время сохранять независимость, так как ислам по-прежнему раздирали гражданские войны. По кровавой традиции, халиф Йазид был убит, его сын Муавия II умер от чумы. У него не осталось брата, которому бы позволял править его возраст, и выбор с трудом остановили на имени одного из его дядьев, Мерване, который после года благоразумного правления передал своему сыну немного более устойчивую власть. Этот последний Абд-аль-Малик в течение двадцати лет осуществлял результативное управление, за время которого восстановил могущество ислама. Однако другой халиф, его соперник Абдаллах ибн аз-Зубайр крепко удерживал Хиджаз и Мекку, в то время как его брат Мусаб представлял его в Басре и правил Ираком от его лица. Сначала Абд-аль-Малик воспользовался периодом передышки, чтобы поручить Зубайру ибн Кайсу мощную армию, призванную отомстить за гибель Окбы. Кусайла, предупрежденный о его приближении, покинул Кайруван, и столкновение произошло в Мемсе. Оно было ужасным, и обе стороны понесли огромные потери; однако день закончился гибелью Кусайлы и большого числа его сторонников. Однако обстоятельства, о которых Ан-Нувайри рассказывает, что они странным образом напоминают историю Окбы,
[132] сделали этот успех ненадежным. Вместо того чтобы прочно закрепиться в Кайруване, Зубайр оставил там, как и в Барке, лишь небольшой гарнизон и отправился в Ифрикию. В его отсутствие и благодаря своему флоту на Сицилии византийцы вернули себе Барку. Зубайр был убит вместе со всеми своими сподвижниками, когда в 686 г. попытался отвоевать этот город. В 687 г., после отправки туда небольшой армии, которая была разбита, Абд-аль-Малик бросил все свои силы на Ирак. В 691 г. он встретился с Мусабом в Маскине, убил его и вернул себе эту провинцию. В 692 г. он справился и с Ибн аз-Зубайром, получив отныне возможность для энергичных действий в Ифрикии, где в 695 г. Хасан взял приступом Карфаген, вызвав бурю эмоций в Константинополе, а император Леонтий снарядил флот, которому удалось вернуть город. В этот момент на сцене появляется необычайный персонаж периода берберского владычества, Кахина, то есть пророчица, собственное имя которой неизвестно (Дамйя, Дихйя?). Ибн Хальдун утверждает, что она следовала иудаизму, как и члены ее племени. Э.-Ф. Готье полагает, что она прибрела свое влияние после смерти Кусайлы. Византийцы, которые до сих пор играли лишь роль союзников берберов в их обороне, воспользовались уходом арабов и соперничеством между берберскими племенами, чтобы попытаться восстановить свое владычество в Бизацене. С падением Кусайлы его племя, аураба, которое было оседлым, с цивилизацией и религией, сближавшей его с греками, утратило свое влияние, и его место заняли джерауа, преобладавшие в восточном Авресе. Теперь мы имеем дело не с беране, а с ботрами, зенатами. Это уже не христиане или люди, близкие к христианству, а евреи, кочевники верхом на верблюдах, вторгшиеся в Магриб, ничто, ни интересы, ни идеи, не связывало их с древними традициями, выразителем которых была Византия. Они были глубоко чужды древней Африке и по своей истории, и по образу жизни.
[133] Во главе с Кахиной они грозили неизбежной войной, не стесняясь прибегать к практике выжженной земли. В результате они восстановили против себя горожан и земледельцев, как греков, так и местных жителей; при этом иногда происходили настоящие перевороты в союзнических отношениях, и византийцы начинали желать арабам победы в борьбе с ними. Без сомнения, это объяснение, предложенное Готье, носит слишком систематический характер, что вызывает критику со стороны Марсэ.
[134] Тем не менее в своих основных чертах оно остается правдоподобным и замечательным образом учитывает приливы и отливы арабской экспансии, в соответствии с которыми над берберами доминировали оседлые племена или кочевники. И в этом случае арабским историкам необходимо следовать с осторожностью. Тем не менее не вызывает сомнения то, что Кахина восстановила берберский союз и разгромила мусульман на берегах Мескианы между Айн-Бейдой и Тебессой, заключив в темницу нескольких сподвижников Хасана, с которыми, согласно Ан-Нувайри, она обходилась любезно и отпустила всех, кроме Халеда и ибн Йазида, которого усыновила;
[135] впоследствии он завел секретную переписку с Хасаном, держа его в курсе всех шагов своей приемной матери. Вследствие этого поражения Хасан покинул Ифрикию, и судьба забросила его в Триполитанию.
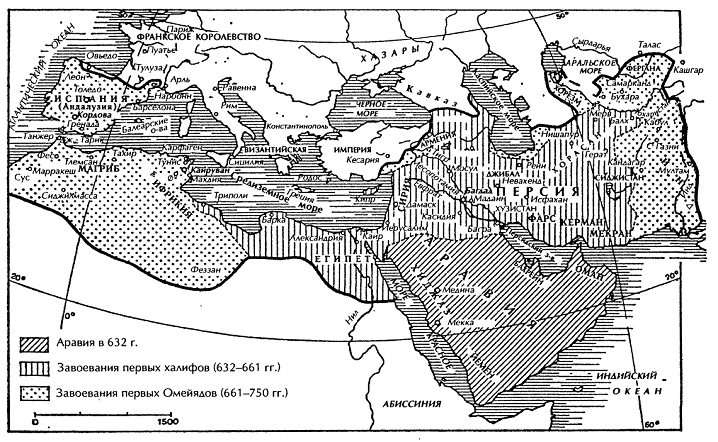
Карта 3
Завоевания ислама до падения Омейядов
Именно тогда, согласно Ан-Нувайри,
[136] Кахина, убежденная, что арабы вторгаются в страну с единственной целью захвата городов, золота и серебра, послала своих сподвижников на уничтожение городов, разрушение замков, рубку деревьев и изъятие имущества жителей, считая, что для выживания население нуждается лишь в полях для обработки и выпаса. Здесь, как кажется, арабский историк подтверждает версию о том, что племена, находившиеся под ее контролем, были кочевыми. Однако его утверждение о том, что эти приказы были отданы в тот момент, когда Кахина узнала о том, что Хасан, получив от Абд-аль-Малика подкрепление и средства, снова вторгся в Ифрикию, представляется маловероятным, так как осуществление подобных разрушений требовало определенного времени. Можно предположить, что, напротив, эта политика выжженной земли была непосредственным следствием победы Кахины, и, возможно, за этим скрывалось стремление ее племен к преднамеренному грабежу и необходимость мириться с ним, закрывая на многое глаза. Равным образом, возможно и то, что романтический анекдот о тайном гонце, осуществлявшем связь между приемным сыном Кахины и Хасаном, опирается на реальный факт – последний был очень хорошо информирован о положении неприятеля, причем сведения поступали не из единственного источника, а благодаря множеству связей с людьми, обманутых или разоренных кочевниками. В мусульманской традиции подготовка к войне всегда подразумевала стремление расколоть врага изнутри, используя неизбежные разногласия, с помощью секретных сделок, и пример тому дает сам Пророк. С другой стороны, трудно поверить, чтобы Хасан, потерпевший столь сокрушительное поражение в первый раз, оказался до того неосторожным, что решился вновь пытать счастья в этой вероломной стране, западни которой он изучил на собственном опыте, если бы только он не был уверен в сочувствии со стороны населения. Более того, было бы странно, если бы он выбрал крепость Карфаген в качестве своей первой цели, не зная об отсутствии там гарнизона Он взял город приступом в 698 г. и действительно нашел там лишь нескольких «руми», бедственное положение которых было таково, что к смене хозяев они отнеслись с полным безразличием. Вскоре Хасан заложил в глубине залива новый город, обладавший тем преимуществом, что его было легко оборонять от нападения флота, пришедшего из открытого моря. Это подтверждает одновременно желание мусульман потягаться с Византией за владычество на море и законные опасения, связанные с пониманием того, что ее опыт в этой области далеко превосходил их собственный. Имея своей отправной точкой мощный тунисский арсенал, арабские эскадры двигались от успеха к успеху, и грекам удалось сохранить лишь Септем (Сеуту), кое-какие осколки Мавритании II и Тингитании, Майорку, Минорку и несколько испанских городов. Ислам получил над Средиземноморьем власть, которая в течение веков не ставилась под сомнение. Это факт, значение которого мы не вправе недооценивать, как это прекрасно понимал Анри Пиренн.
[137] В 702 г. Византия практически оказалась вне игры, и Абд-аль-Малик, успешно подавив последнее восстание, направил к Хасану мощную армию; Кахине, утратившей популярность из-за разрушений, которые она повсюду оставляла на своем пути, и располагавшей менее многочисленным личным составом, было практически ничего ей противопоставить. Прорицательница предвидела свое поражение; при приближении арабских авангардов она призвала двух своих сыновей и Халида ибн Йазида и возвестила им, что будет убита, им же велела отправиться к Хасану и умолять его о помиловании. Мусульманский военачальник встретил перебежчиков благосклонно, поместил обоих юношей под защиту одного из своих офицеров, а Халиду приказал галопом скакать прочь. И снова, невзирая на свое превосходство, арабы чуть было не дрогнули перед берберами, «и бойня была такая, что каждый ожидал своей гибели».
[138] Кахину догнали и убили, когда она мчалась мимо колодцев, позже названных Вир эль-Кахина. Ее смерть олицетворяла собой окончание эпохи героической обороны. Берберы попросили у Хасана пощады, и он согласился, потребовав предоставить ему взамен союзное войско численностью в двенадцать тысяч человек, во главе которого были поставлены два сына Кахины. Старая владычица была разбита окончательно и безнадежно. Она, как от бесчестья, отказалась от мысли уступить территорию неприятелю или сдаться; своих сыновей она, напротив, попросила сдаться и заранее согласилась видеть их на службе у тех, кто собирался ее убить. Для европейца такое поведение удивительно и даже противоречиво. Э.-Ф. Готье напоминает, что у нас есть и более недавние примеры. В середине XX в. Мухаммед начал с того, что одержал победу над французскими войсками. Затем удача от него ускользнула. Поняв, что партия проиграна, он также приказал своим сыновьям сдаться победителю, и в будущем они на французской стороне приняли участие в решающей битве, в которой их отец был убит.
[139] Дело в том, что, по мнению Готье, сегодня берберы, как и в VII в., не имеют понятия Родины. Единственное, ради чего они готовы отдать жизнь, это их клан, или семья. Кахина не могла сдаться, не покрыв себя позором, но в отношении ее сыновей дело обстояло иначе. Невзирая на поражение, клан благодаря им был спасен: «Идите, – сказала она своим сыновьям, – и через вас берберы сохранят некоторую силу». Даже если эта фраза измышлена арабским историком, в ней нет ничего неправдоподобного. Тем не менее эта сдача впервые гарантировала арабам прочное укоренение в Ифрикии и уже тогда предвозвестила тот момент, когда берберы станут главной ударной силой ислама, в частности, в ходе завоевания Испании. Радушно принимая своих противников, чтобы сделать их своими военачальниками и даже, согласно Ибн Хальдуну, поручить одному из братьев верховное командование полностью побежденным племенем, а второго сделать наместником в горах Авреса,
[140] Хасан проявил выдающийся политический реализм, который прекрасно дополняет его военные таланты. Тем не менее он не получил достойной награды, поскольку по возвращении в Кайруван и после попытки наладить упорядоченную налоговую систему он подпал под подозрение, и на месте правителя Ифрикии, отныне независимой от Египта, его сменил Муса ибн Нусайр. Арабские историки расходятся во мнениях по поводу даты этого события. Наиболее приемлемым вариантом выглядит 705 год.
[141] Не сообщая других подробностей, Ибн Абд аль-Хакам говорит нам, что «Муса полностью подчинил Магриб» и переправил значительную добычу халифу, которого этот жест успокоил. Его сын Мерван захватил сто тысяч пленников, другой сын – столько же, а пятина повелителя правоверных составила двадцать тысяч человек. Ан-Нувайри дополняет эти сомнительные и, вероятнее всего, сильно преувеличенные цифры. Ссылаясь на Аль-Лейса ибн Са'да, он заявляет, что положенная по закону пятина достигала шестидесяти тысяч пленников – вещь, неслыханная за всю историю существования ислама. Ибн Хальдун рассказывает, что Муса послал своего сына Абдаллаха войной на остров Майорку, где тот, по его словам, захватил множество пленников и богатую добычу. Сам Муса покорил Деру и послал своего сына в Суз. Берберы покорились, племена представили Мусе заложников, которых он поселил в Танжере.
[142] Возможно, что в данном случае ближе всего к истине Ибн Хальдун. Как и его предшественник, успех которого он развил, Муса сочетает блестящие военные экспедиции, доходящие до Танжера, хотя ему так и не удается завоевать Септем (Сеуту), и моральное воздействие на различные племена, в основном поклонявшиеся природным силам, но иногда христианские или иудейские, которым он навязывал ислам.
Наконец, он добрался туда, где Окба, как нам рисуют его предания, направил своего коня в море, и давняя мечта арабского вождя стала исполнимой.
II. Аль-Андалус
Тридцатого апреля 711 г. некий граф Юлиан принимал в качестве гостей в своем замке, развалины которого можно до сих пор видеть в окрестностях Альгесираса, тех, кто собирался покорить Испанию.
Этот человек – достаточно загадочный персонаж; по поводу его происхождения и личности выдвинуто множество гипотез. Был ли он одним из высших сановников королевства вестготов? Или, может быть, берберским вождем племени гумара, как утверждает историк Кодера? Арабские хроники называют его именем Юлиан. Мы даже не уверены в точности этого патронима, поскольку тот же Кодера старается доказать, что его звали Урбан или Олбан.
«Кажется, что проще и разумнее всего, – пишет Леви-Провансаль, – отождествить его с экзархом византийского населенного пункта Септем (Сеуту), который после окончательного разгрома Карфагена в 698 г. еще несколько лет оставался последним владением константинопольского императора».
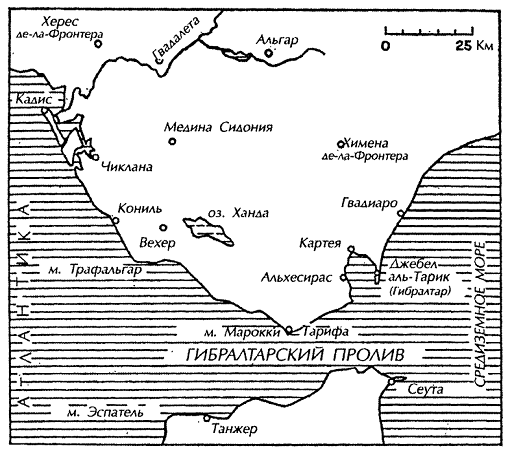
Карта 4
Южная оконечность Испании
Этот человек убедил арабов вторгнуться в Испанию, куда он обещал их пропустить, безусловно, потому что Юлиан, присоединившийся к делу сыновей Витицы,
[143] питал непримиримую ненависть к Родериху, новому королю готов, отнявшему у них престол. Для мусульман он явился орудием благосклонной судьбы, но другие, более веские обстоятельства обеспечили арабам хорошие виды на будущее. Менталитет вестготов, которые занимали полуостров с V в., изменился. Продолжительный период мира ослабил их мужество и лишил их привычки воевать с внешними врагами. Готы утратили тот дух северных воинов, который переполнял их при звуке воинственного клича. Смягчившись, несомненно, под влиянием христианства, они забыли, как некогда пьянила их кровь и разрушение. Их военная доблесть померкла до такой степени, что честь и безопасность стали им одинаково безразличны. Теперь они никогда не прислушивались к зову родины в минуту опасности. Впрочем, как могли ответить на него они, угнетаемые магнатами и сбитые с толку страхом перед гражданскими войнами, не сулившими им никакой выгоды?
Утратив национальную гордость, военное мужество, они стали беспомощной жертвой энтузиазма арабов. Это моральное различие между двумя главными враждебными силами не оставляет никакого сомнения по поводу исхода предстоящей борьбы. Тем более что власть короля Испании расшатывала влиятельная клика оппозиционно настроенных сеньоров Витица, прежний государь, изнемог под нажимом двойственной коалиции духовенства и знати. В 709 г. его место на троне занял Родерих, и, против всех ожиданий, разразилась беспощадная война между его сторонниками и приверженцами сыновей Витицы, которых поддерживал и таинственный граф Юлиан. Нет сомнения в том, что этот последний, желая усилить эту оппозицию, начал искать союза с арабами. В противном же случае, если следовать традиционной мусульманской версии, причины его вмешательства окажутся романтическими. Вся испано-христианская литературы усвоила эту легенду, которую нам следует воспринимать с величайшим недоверием.
Рассказы на этот сюжет многочисленны; в нашем изложении мы можем следовать Фернандесу Гуэрре, или Пидалю Менендесу, или еще некоторым поэмам
романсеро. Эти повествования, обычно очень поздние, сообщают читателю почти одну и ту же историю.
У графа Юлиана была дочь, которую, как полагают, звали Флоринда, или, если следовать двум хроникам 1344 и 1430 гг., Алакаба, то есть Каба. Происхождение этого позорного прозвища никак не объясняется, а по-арабски «кава» означает «проститутка». Согласно обычаю, Флоринда была отправлена ко двору в Толедо, чтобы получить там образование, приличествующее ее положению. Тогда, по воле злого рока, Родерих увидел, как она купалась в Таге. Восхищенный король потребовал ее благосклонности, надо полагать, весьма грубо, потому что молодая девушка, отнюдь не почувствовав себя польщенной, была оскорблена.
Узнав об этом, Юлиан привез Флоринду обратно в Сеуту и стал вынашивать план мести.
Очень скоро Родерих, забывший об этом, очевидно, заурядном инциденте, попросил у графа ястребов и соколов для охоты на лань. «Скажи своему господину, – передал в ответ Юлиан, – что я пришлю ему такую хищную птицу, какой он никогда не видел».
На самом деле, он принял свое решение. Согласно арабским хроникам, он тогда предпринял долгое путешествие в Ифрикию, чтобы встретиться с Мусой ибн Нусайром, которого он убедил в легкости и своевременности возможного завоевания Испании. Поманив его колоссальными прибылями, он обещал ему ощутимую помощь в случае, если он решится на переправу через море. Воодушевление Окбы после его победоносного рейда к берегу океана, того Окбы, который вскричал, посылая своего коня прямо в пучину волн: «Бог Мухаммеда! Если волны не остановят меня, я донесу славу твоего имени далеко за пределы этого мира», не могло остаться без награды.
Тем не менее арабы еще колебались. При прошлых попытках высадки они потерпели два поражения на море, будучи менее опытными мореплавателями, чем готы. Первая экспедиция стоила им семидесяти двух судов и немалого количества людей. В 709 г. последовала другая попытка, оказавшаяся столь же безуспешной. Поэтому-то халиф Дамаска с чрезвычайной осторожностью посоветовал Мусе не доверять предателям и направил ему это рассудительное послание: «Пошли малочисленные отряды разведать силы Испании, но остерегайся подвергать правоверных неизвестным опасностям».
Это сдержанные слова развязали самое головокружительное завоевание арабского мира. Для того чтобы захватить весь полуостров, оказалось достаточно одного великого года. Во время рамадана 91 г. по Хиджре триста человек пехотинцев и сто всадников под командованием бербера Тарифа ибн Маллука сели на четыре судна, принадлежавшие графу Юлиану. Они преодолели Геркулесовы столпы, чтобы высадиться в месте, где впоследствии мавры построили Тарифу, названную так в память о Тарифе. И с этого плацдарма маленькое войско, захватившее прибрежную полосу, в течение нескольких недель отправлялось в успешные набеги. Тариф вернулся в Танжер с лодками, полными соблазнительных пленниц, золота и добычи, чтобы принести Мусе эти образчики испанских богатств. И арабские хроники приписывают прорицателям следующие слова: «Аллах велик, и Мухаммед, его пророк, избрал тебя, о Муса, чтобы принести священную войну в Испанию и обратить неверных». Таким образом, отпали последние сомнения Мусы ибн Нусайра, и он отдал приказ о начале собственно экспедиции. Руководил ею наместник Танжера Тарик ибн Зийяд, вольноотпущенник Мусы. Кое-кто называет его бербером, но некоторые историки называют его персом. В ходе этой операции граф Юлиан помогал в качестве политического советника. Зафрахтованный маленький флот сновал с одного берега на другой и высаживал мусульманские войска, которые сразу же закрепились на склоне горы Калпе, будущего Гибралтара, название которого является английским искажением арабского Джебель аль-Тарик, «гора Тарика». Момент был в высшей степени благоприятным для того, чтобы это предприятие увенчалось успехом: Родерих был занят на севере своего королевства. Арабские войска были не особенно крупными, хотя мы вправе подозревать мусульманских хронистов в произвольном приуменьшении их численности.
Принято считать, что в них было семь тысяч берберов и очень мало чистокровных арабов. Кроме того, Тарик доставил из Африки несколько тысяч лошадей, после чего, как нас уверяют, сжег свои корабли, чтобы поднять боевой дух своих воинов. Более вероятным кажется, что он их отослал обратно. «Во имя Аллаха, – сказал он, – пойдем вперед; перед нами враг, позади – море».
Застигнутый врасплох этой высадкой, Теодомир, которому король поручил оборону Андалузии, решил обратиться к Родериху за помощью против захватчиков, «прибывших, – написал он, – неизвестно откуда, с небес или с земли», численность которых постоянно росла.
Но Тарик уже захватил город Катейя, расположенный на берегу Гибралтарского пролива; затем, взяв чуть западнее, он организовал себе плацдарм. Он создал базу, способную служить убежищем на случай краха. Граф Юлиан обеспечил защиту этой позиции, расположение которой можно точно установить, поскольку позднее на этом месте был построен Альгесирас.
Пока Родерих готовился к отпору, Тарик запросил и получил из Африки подкрепление из пяти тысяч берберов. В результате под его командованием оказалась приблизительно двенадцатитысячная армия. Продолжая осторожно двигаться на запад, он встретился с войском Родериха в Хересе на берегах р. Гвадалете. Королю вестготов приписывают армию численностью в девяносто тысяч человек, но эта цифра явно завышена. Войска столкнулись 19 июля 711 г. (28 рамадана 92). Судьба всей страны была решена этой единственной битвой, и нельзя удержаться от ее сравнения с битвой при Пуатье.
Исход этого столкновения был предрешен. С одной стороны, король, привыкший к неге и роскоши, окруженный великолепно вооруженной знатью. Седилло в общих чертах рисует нам его портрет: «Блеск его одеяния, сверкающего золотом, его повозки, выложенной слоновой костью, его седла, усыпанного драгоценными камнями, затмевает железо, которое одно в этот момент имеет цену». Что же до его солдат, отупевших рабов, то они сражались с большой неохотой. У его неприятелядело обстояло совсем иначе умелый вождь, привыкший к войне, вел за собой воинов, воспринимавших смерть как благо. То, что они уступали в численности, компенсировалось их волей к победе. «Следуйте за своим вождем, – вскричал Тарик, – он погибнет или наступит на грудь короля готов».
В течение семи дней противники исчерпали свои силы в стычках. С обеих сторон ряды сильно поредели.
Арабам не удавалось прорвать линию вестготских войск, которые постоянно перестраивались. Причиной поражения Родериха стала единственная психологическая ошибка. Он доверил командование двумя крыльями своей армии сыновьям Витицы. Ночью 25 июля Юлиан, окаянная душа, сговорился с ними об их измене. Так что утром следующего дня, когда Тарик яростно ударил в центр и прорвал ряды армии, двойное предательство на фронтах мгновенно вызвало замешательство, которое обернулось катастрофой. Тщетно пытался Родерих остановить бегство своих войск Арабы, оставшиеся хозяевами на поле боя, убили и взяли в плен множество людей. Этот день, 26 июля, ознаменовал собой конец вестготского владычества в Испании Родерих исчез. Нужно ли доверять арабским источникам, утверждающим, что именно он был тем вождем, которого зарубил Тарик ибн Зийяд, и что голова его была отправлена в Дамаск, где халиф приказал укрепить ее на столбе у входа во дворец? Испанцы полагают, что он нашел спасение в бегстве. Переодевшись крестьянином, он спрятался в уединенной долине, ускользнув, таким образом, от искавших его врагов. Из предлагаемых нам трех вариантов его участи последнее наименее правдоподобно. Он якобы утонул, переплывая Гвадалете.
Кордова пала в октябре 711 г., руководил ее взятием вольноотпущенник Мугит во главе семи сотен всадников. Города Андалузии, расположенные восточнее, такие, как Эсихо, Эльвира и Малага, отворили свои ворота значительно позднее. Что касается Толедо, королевской столицы, то, если верить Аль-Маккари, она не оказала никакого сопротивления. Арабы застали ее почти обезлюдевшей, но завоеватели нашли в ней несметную добычу. Тарик оставил там небольшой гарнизон и продолжил свой путь на северо-восток. Так он добрался до Гвадалахары и, согласно Санчес-Альборноцу, перешел сьерру Гуадаррама через перевал Битраго в шестидесяти двух километрах к северу от Мадрида, после чего вернулся зимовать в Толедо, не переходя через Алькабу.
Тем временем Муса ибн Нусайр наблюдал за победоносным маршем Тарика из Танжера. Раздраженный столь блестящим успехом, он отказал Тарику в подкреплении, которого тот просил, и решил лично отправиться в Испанию с восемнадцатью тысячами человек – но на этот раз все они были арабами. Не слишком заботясь о том, чтобы соединиться с Тариком, он начал собственную военную кампанию. Он взял приступом город Медина Сидония, а также два других населенных пункта, прикрывавших Севилью с востока. Затем он осадил этот город и легко его захватил. Одержанная им победа при Мериде была более серьезной, осада продолжалась всю зиму и весну, и город сдался только 30 июня 713 г.
Только тогда он соединился с Тариком, с которым встретился в Талавере. Встреча этих двух людей прошла в обстановке, свободной от всякой сердечности. Утверждают даже, что Муса ударил Тарика своим хлыстом.
Тем не менее по приказу халифа, поставившего этих двоих военачальников почти на один и тот же уровень, они помирились на войне. Муса отправился в Астурию, а Тарик – в области, расположенные за Эбро, и их объединенные усилия привели к победе над долго сопротивлявшейся Сарагосой. Таким образом, эта двойная экспедиция завершилась завоеванием всего полуострова до самых Пиренеев.
Муса, возможно, продолжил свой поход в направлении Лериды, затем попытался достичь Нарбонне, двигаясь вдоль берега Средиземного моря, чтобы продолжить завоевание по ту сторону гор; но посланец халифа приказал ему, так же как и Тарику, вернуться в Сирию. Оба завоевателя сошли со сцены Испании. Муса окончил свой жизненный путь в тюрьме; военная карьера Тарика завершилась на Востоке и теряется в полной неизвестности.
Дальнейшее усмирение полуострова продолжал Абд эль-Азиз, пока не погиб от рук убийцы
[144] через два года после отбытия своего отца Мусы.
Настало время заключить с Теодомиром договор в духе примирения, который, как мы полагаем, достаточно интересен, чтобы воспроизвести его в приложении.
Итак, арабы организовали свое завоевание, разделив полуостров на четыре округа, у каждого из которых был собственный наместник. Лишь в 719 г. эмир Эль-Самх подхватил «нависшую над Европой» с вершин Пиренеев мечту Мусы ибн Нусайра о покорении народов Галлии, этот проект был навеян безмерной гордостью и древним кочевым инстинктом, для которого не имеют значения расстояния.
Впрочем, арабы завладели югом Галлии, почти не встретив сопротивления. В том же 719 г. была оккупирована Септимания, в прошлом зависевшая от королевства вестготов. В Нарбонне появилась мусульманская колония, и город превратился в опорную базу завоевателей. Единственной неудачей сарацинских войск стало неожиданное сопротивление Аквитании. Подойдя к Тулузе, Эль-Самх потерпел сокрушительное поражение и встретил свою смерть.
В 725 г. его преемник Амбизах захватил Каркассон и Ним и, дойдя до Бургундии, разграбил Отен. Возникает соблазн организовать серию крупных набегов на Галлию. Разграблению подвергается Бон. Руэг, Жеводан, Велэ страдают от изматывающих нападений, от которых нельзя откупиться данью.
Одновременно арабы развивают активную деятельность в Средиземноморье: в 720 г. они завоевывают Сицилию, в 724 г. – Сардинию, Корсику и Балеары. Так что, когда в 730 г. в руки арабов попадает Авиньон, их могущество кажется ни с чем не сравнимым.
Из примерно двадцати лет, последовавших за закреплением мусульман в Испании, следует особо отметить 718 г. В этот момент в знаменитой Константинопольской битве, которая длилась целый год, с августа 717 по август 718 г., решается судьба Восточной империи. Борьба была ожесточенной как на суше, так и на море. Арабский флот бросил якоря напротив города, в то время как армия Масламы, переправившегося через Геллеспонт, осадила Константинополь. Ситуация выглядела угрожающей, но Лев III начал методичное контрнаступление. Он лично направлял греческий огонь и сжег часть вражеских кораблей. Техника имперского флота сломила сопротивление арабских судов, которые были постепенно уничтожены одно за другим. Уцелевшие корабли были вынуждены отойти.
На земле ситуация для арабов складывалась не более удачно. Армия Масламы, изнуренная голодом и чумой, начала отступление.
Для ислама это было ужасное поражение настолько, что Эммануил Берль написал: «Эта битва связала судьбы Европы с будущим христианства. Если бы халифы выиграли ее, Восточная империя погибла бы, Балканы уже в VIII в. покорились бы мусульманскому владычеству, которого они, впрочем, не избежали, но шестью столетиями позже».
Арабская экспансия остановилась у Константинополя, как впоследствии она задохнулась у Пуатье, где Карл Мартелл одержал первую из великих побед, которые относят к нашей «второй династии».
Глава V
Вторая династия
Elegans, egregius atque utilis. В соответствии со своим прозвищем Карл был красивым и храбрым воителем. К тому же нрава он был гордого, бешеного и коварного; достоинства, которые у него сочетались с пороками, позволили ему стяжать себе славу, покорить соседей и обуздать свой народ. Иначе говоря, отвагой он во всем походил на своего отца – Пипина Геристальского.
Об этом нам сообщают хроники, которые щедро наделяют своих персонажей добродетелями и грехами, подчиняясь либо расположению духа, либо своим задачам, а может быть, даже с единственным злым умыслом привести в отчаяние своих любопытных потомков.
Ах, почему исследователям отказано в милости встретить, как в рассказе Моруа, ангела, который предлагает умершему старику-историку все возможности Истории, хранящиеся на полках бесконечной библиотеки?
Итак, нас уверяют, что Карл был красив. Мы не располагаем ни документом, ни портретом, который бы позволил нам оценить достоверность этой информации. По всей вероятности, его физический облик соответствовал канонам красоты той эпохи. Очень возможно, что у него было массивное лицо, характерное для его расы, очевидно, борода и, конечно, волосы, расчесанные на прямой пробор и ниспадающие на плечи, то есть роскошная шевелюра, ведь германцы и франки в своей наивной простоте видели в этом изобилии символ могущества.
[145] «Если они не будут коронованы, то для меня лучше видеть их мертвыми, чем остриженными», – вскричала Клотильда.
[146]
Так что, заглянув в наше время из прошлого, мы видим, что История могла бы дать ему прозвище Прекрасный. Но Карл, первый известный обладатель этого германского имени, не был королем и назывался «Marttaus», «Martieaux», «Marteau» (Молот), или Мартелл, в зависимости от прихоти пера переписчика, что можно проследить по документам его эпохи. В этом можно удостовериться, ознакомившись с палимпсестом Национальной библиотеки. Этот календарь VIII в. происходит из одного люксембургского аббатства и содержит надгробное слово по случаю смерти Карла «Martieaux» в 741 г. Документ того же периода, доказывает, что слово «Мартелл» представляло собой обычное родовое имя, которое Карл носил от рождения. Архиепископ Реймсский, св. Ригоберт, державший его над купелью, решительно утверждает, что именно так его и звали. Как представляется, высказать это точку зрения прелата побудили две причины. Довод второстепенный: со времени смерти св. Мартина Турского это имя, Мартелл, то есть Марцел или Мартин, от латинского Марцеллий, пользовалось в Галлии большой популярностью. Но для епископа речь шла главным образом о том, чтобы таким образом почтить память герцога Мартина. Этот дядя Карла погиб после ожесточенного сражения при Локофуа, где пало «бесконечно неисчислимое множество людей». Это было за восемь лет до рождения Карла, которое принято относить к 689 г. После этой битвы Мартин, бежавший в Лан, поверил обещаниям нейстрийских посланников, поручившихся за его жизнь. Однако они поклялись на пустых раках, и Мартин был убит.
Отрекшись с некоторой грустью от грез, напоминающих гравюры, и детских воспоминаний, мы вынуждены с этих пор отказаться от мысли, что «Мартелл» это воинское прозвище, каковым его с трогательной убежденностью преподносит составленная в XI в хроника Сен-Дени: «Тогда Мартиус (Martiaus) был впервые назван этим именем ибо, подобно тому, как молот разбивает (и сминает) железо, сталь и другие металлы, он в битве сминал и сокрушал своих врагов и все прочие народы».
[147] С некоторыми вариациями мы встречаем это же объяснение в верденской хронике: «За это он был назван Тудит (кузнец), что значит «кузнечный молот», поскольку он размозжил все соседние королевства, подобно тому, как с помощью молота куют из железа всякие вещи», а у Годефруа снова читаем: «Папа Григорий III провозгласил его консулом и дал ему титул Молот Божий, который навеки присоединился к его имени».
Без всякого сомнения, для этих хронистов Карл был прежде всего дедом Карла Великого, оставившего ясную формулировку
Ego miles Christi, «я воин Христов». Значит, появилась необходимость признать слово «Мартелл» не родовым именем, а славным прозвищем победителя ислама. Заподозрив это подлог, Мишле постарался дать ему хитроумное объяснение.
«Карл сам проявил себя как враг Церкви. Его языческое имя Молот сразу же заставляет меня усомниться в том, что он был христианином. Известно, что молот является атрибутом Тора, символом языческой общности, власти, варварского завоевания…»
Слишком долго историки поддерживали веру в существование воинского титула Молот, и этот предрассудок пал только под действием доводов Сюзан Оноре и Жоржа Ру, которые восстановили истину.
Но хватит споров, и расстанемся со своими иллюзиями, у Карла было еще одно имя – Мартелл, как, вероятно, и хотел его крестный отец Ригоберт.
Однако пятьдесят два года спустя, 22 октября 741 г., лежа на своем смертном одре в королевском городе Кьерси-сюр-Уз, Карл, вероятно, утратил совершенство черт лица и тела. Эта замечательная человеческая машина, созданная, чтобы мыслить и воевать, была изувечена битвами, старостью и заурядной болезнью.
Продолжатель хроники Фредегара осведомляет нас примерно в следующих выражениях: «Вследствие изнеможения, вызванного, скорее, тяготами, чем возрастом, его сразила жестокая лихорадка, и он мирно почил в лоне своей семьи». И это в тот самый момент, когда Григорий III, осыпая его подарками, во имя всего святого умолял его о помощи в борьбе против лангобардов.
Все кончено, воитель умер.
Никогда больше не
поведет он своих отрядов в топкие и вязкие болота Фрисландии, где повсюду подстерегают коварные опасности; лошади, которые тонут в трясине, и лошади, которых убивают; предсмертные крики людей, поглощаемых зловонной и бездонной тиной; все эти смертельные ловушки, эти неисчислимые препятствия, перед которыми он не отступал.
Больше не будет ни военных конных походов по бесконечным равнинам Баварии, ни опасных скачек таким быстрым аллюром, что Карлу не находилось соперника. Он больше не вступит в пьянящую кровавую битву в глубинах аламаннского леса.
Он часто вел эти беспорядочные рукопашные схватки, которые увенчивались покорением старых племен, захватывая добычу, женщин и казну. Снова и снова горели священные сосуды, разрушались храмы, разил меч: «Те, кого оставляли в живых, давали заложников». Карл умер посреди этих свойственных его эпохе военных похождений – по определению Зеллера, «войне ирокезов и могикан в огромных девственных лесах». Карл безостановочно пускался в этот военный водоворот. Для того чтобы результат каждой кампании был окончательным, необходимо было следовать технике римлян: перерезать дороги, разрушать дамбы, строить постоянные лагеря, наконец, перекраивать и организовывать покоренные страны. Быть может, Карл этого не хотел, или, вернее, ему просто не хватило времени.
И правда, едва успев покончить с германскими восстаниями, он снова шел через Галлию, чтобы принести войну в «страну римлян», Аквитанию, удобную для передвижения и грабежа.
Так прожил свою жизнь Карл Мартелл. Жестокие убийства и никаких крупных сражений, кроме разве одного, необычайного и приводящего в замешательство, превратившего Карла в воинственного апостола Церкви, которым он никогда раньше не был. Настоящая битва, хотя и урезанная, без начала и конца, восемь или девять лет назад, в стране пиктонов, битва с армиями исмаилитян.
Как обширно было поле военной деятельности Карла Мартелла! Даже в самых общих чертах эта карта поражает своим размахом.
 Карта 5
Карта 5
Галлия около 714 г.
На востоке, на границах королевства, широко раскинулась «страна германцев», включавшая в себя и Фрисландию, расположенную вдоль Северного моря, которая практически вклинивалась в Саксонию, соединяя Рейн с современной Данией узкой полосой своей прибрежной территории. Южнее, напротив теперешнего Эльзаса, лежала Аламанния, зажатая, как в челюстях, между Тюрингией и Баварией.
Фрисландия, Саксония, Тюрингия и Аламанния составляли кордон вдоль границы франкского королевства Австразия. Эта Восточная Франция, похожая на большой четырехугольник, включала области Мааса и Рейна, наряду с городами Кельном, Мецем и Триром. Как и прилегавшая к ней с северо-запада Нейстрия, Австразия возникла в результате раздела державы Хлодвига. Нейстрия, Западная Франция, протянулась от устья Шельды до низовий Луары. Ее опорными пунктами были Париж, Суассон и Тур.
Столкновения между этими странами, происходившие слишком уж часто, были в числе главных событий второй половины VII и начала VIII в. Насколько тесно они были связаны друг с другом, настолько же непримиримым было их противостояние, и эта борьба больше напоминала стычки двух мятежных группировок, чем войны между королевствами.
Довершим эту карту славы и могущества Карла Аквитанией от Пиренеев до Луары и от Атлантики до Бургундии – последним осколком мозаики, занимающим весь юго-восток Галлии.
Все пространство от Дуная до Атлантического океана, от Средиземного до Северного моря стало той ареной, на которой, можно сказать с некоторым преувеличением, Карл безостановочно сражался «наравне с самыми великими полководцами».
Жизненный путь внебрачного сына Пипина Геристальского – головокружительный скачок из кельнской тюрьмы в базилику Сен-Дени, где Карл Мартелл был похоронен, в аббатстве, которое он по примеру королей обогатил своими дарами. Все-таки закон равновесия для Истории естественен. Падение одних всегда соответствует возвышению новых персонажей, это игра, и вмешательство случая добавляет ей пикантности.
Меровинги, а следом – Каролинги. Короли и майордомы.
[148]Власть, клонящаяся к упадку, и сила, ведущая к Империи.
Все это сыграло свою роль в истории прихода Карла к власти. Непреклонность, слабость, жестокость и злодеяния, страх и проницательность. Но, главное, ему благоприятствовало вырождение рода, находившегося у власти в течение двухсот семидесяти двух лет, первый представитель которого, Меровей,
[149] был окружен ореолом загадочности и величия, несомненно, в связи с фантастической историей его рождения – легендой в чистом виде, но со следами греческой и скандинавской мифологии.
В бушующем море купается вдова Хлодиона.
[150] Ужасное морское чудовище набрасывается на нее и зачинает Меровея.
Эта династия завершилась с Хильдериком III,
[151] лишенным трона, низвергнутым и заключенным в монастыре Ситье или Сен-Бертен в Сен-Омере в диоцезе Теруана. На завершение агонии Меровингов понадобилось сто двенадцать лет, и между Теодорихом I и злосчастным Хильдериком III сменилось более десяти королей.
Легенда сообщает нам о предсказании Базины, жены Хильдерика I, наследника Меровея. Если мы и собираемся привести здесь повествование, содержащее элемент чудесного, то только потому, что оно превосходно иллюстрирует величие и упадок первой династии.
В 456 г Хильдерик, ведший несколько разнузданную жизнь, был с позором изгнан франками. Укрывшись в Тюрингии у короля Бизина, он соблазнил его супругу Базину и женился на ней. Их брачная ночь протекала необычно.
– Воздержимся, – сказала молодая жена Хильдерику. – Встань и расскажи своей рабыне, что ты увидишь во дворе дома.
Он безропотно подчинился и увидел проходящих зверей, похожих на львов, единорогов и леопардов.
Еще дважды Базина просила его смотреть. Повинуясь, он обнаружил сначала медведей и волков; а в конце – вереницу мелких животных низшей породы.
Назавтра Базина дала Хильдерику ключ к этому видению.
– Увиденное тобою – не что иное, как точное отражение истины. У нас родится сын, который будет великим и прославленным воином, подобным льву среди королей (Хлодвиг).
Его мужественных сыновей изображают леопарды и единороги; от них родятся смелые и ненасытные медведи и волки. А последующих королей означают ничтожные животные.
В том, что касалось истории ее потомков, которым только предстояло появиться на свет, Базина оказалась ясновидящей. Этот род постепенно оскудевал, чтобы засохнуть как ветвь, лишенная соков. Короли-младенцы, часто распутные, порочные, всегда бесполезные, короли, подбородки которых приходилось прятать под большой фальшивой бородой, чтобы они выглядели более волевыми.
Королевский сан стал значить не больше, чем титул. Единственной радостью короля помимо охоты и развлечений было то, что он все еще оставался на троне; единственным проявлением его былой власти оставались длинные волосы и ниспадающая вниз борода. Всю жизнь этого монарха заполняла лишь скука и материальные хлопоты, так как средства к существованию стали ненадежными. Государь, некогда обладавший сказочным богатством и тративший его без счета, теперь дошел до того, что его единственной и не слишком доходной собственностью стал дом, несколько прислужников и в придачу необходимость трудиться.
И если короли все еще принимали послов из разных стран, то лишь для того, чтобы передать им ответы, подсказанные или даже продиктованные другими.
Верх комичности – их транспортное средство. Повозка, запряженная быками, которых по-крестьянски понукает хмурый скучающий погонщик. В этом смехотворном экипаже монарх прибывал во дворец или представал перед народом, а потом возвращался в свое жилище.
Эта картина, которой мы обязаны Эйнгарду, секретарю и, возможно, зятю Карла Великого, безусловно, не является точным отражением реальности. Историческую истину в данном случае искажает пристрастие или раболепство хрониста.
Правда, не все эти государи были бездеятельными и предавшимися разврату. В иные времена некоторые, вероятно, стали бы достойными правителями – Хильдерик II, или Хильперик II, – но не будем связывать несчастье, тяготевшее над этой династией, в основном со злобой и амбициями «второй династии».
[152] Мы охотно говорим об узурпации, о гнусных преступлениях, но отдельные случаи убийств не дают права на обобщение, и майордомы никогда не предавались подобным излишествам. Напротив, их постоянной заботой был поиск, а затем удержание у власти короля, который был бы для них своеобразным «алиби». Дуэт монарха и майордома являлся необходимым гарантом законности. Если отказаться от обвинений майордомов в столь черных замыслах, объяснить факт вырождения Меровингов оказывается гораздо сложнее.
Согласно принципу меровингской власти, опиравшейся прежде всего на достоинство и мужество находящегося у власти человека, король был всем – по самому факту своего существования.
Однако в течение VIII в. все как будто сговорилось, чтобы сделать королевскую власть бездеятельной. Никогда больше в нашей истории несовершеннолетние короли, а значит, их регенты, не восходили на трон так часто. Когда в 715 г. на престоле воссел Хильперик II, можно было констатировать, что в течение предшествующих двадцати пяти лет ни один король не занимал этого места в совершеннолетнем возрасте. Как в Австразии, так и в Нейстрии королевский скипетр переходил из одной младенческой руки в другую в смехотворной и жалкой эстафете.
Хильдеберт II правил пять лет, после смерти ему наследовали два младенца. Дагоберт II был «совсем маленьким», когда пришел к власти. Впоследствии он оставил после себя двоих сыновей в возрасте восьми и четырех лет. Хлотарю III, старшему из наследников Хлодвига III, было семь лет, когда он потерял отца. Король царствует, но больше не правит. Впрочем, в большинстве своем эти государи были вырожденцами, вроде Хлодвига II, который умер безумцем.
Но это еще не самое худшее. Ведь, в конце концов, бывали и периоды устойчивого регентства, когда у власти находились энергичные женщины, вроде Брунгильды,
[153] но эта опора королевской власти скоро сгинула, впоследствии же королевы выбирались, скорее, за красоту, чем за таланты «государственного мужа».
Некоторые, вроде Фюстеля де Куланжа, датируют начало упадка Меровингов примерно 614 г., который приходится на период правления Хлотаря II.
[154] Более явным образом он начался в 639 г со смертью Дагоберта I, который еще был великим королем. Начиная именно с этой даты мы наблюдаем первые плоды последовательных и глубоких изменений, неумолимо подтачивавших королевскую власть.
Не последней причиной было оскудение казны. Франкские короли располагали фантастическими богатствами, которые постоянно старались приумножить, справедливо считая эту собственность самой прочной своей опорой. Это богатство, сравнимое с сокровищами византийских императоров, употреблялось аналогичным образом – на приданое, милостыню и другие дары, а кроме того, и это главное, на политические цели. Из своих сундуков короли черпали средства, чтобы платить своим чиновникам, содержать армию, в то время как в их внешней политике казна играла роль щита. «В 596 г. Брунгильда с помощью денег предотвратила нападение авар на Тюрингию».
Где следует искать источник этих колоссальных богатств и, если говорить более точно, того золотого запаса, которым они располагали?
Как и Фердинанд Лот, Марсель Пру указывает на настоящую выкачку золота со всего государства в королевские сундуки. Но в стране не было рудников, и это объяснение лишь констатирует наличие драгоценного металла, не сообщая нам о его происхождении. Возможно, следует вместе с Анри Пиренном искать главный источник этих средств в торговле, и особенно с Востоком. Если, следуя Ибн Хальдуну, допустить, что в начале VIII в. «христиане уже не могли даже доски пустить по морю», мы придем к выводу, что обескровливание торговли, а значит, и уменьшение притока золота, было вызвано натиском ислама, который одновременно является косвенной причиной падения Меровингов. Эта теория крупного бельгийского историка Анри Пиренна, безусловно, немного утрирована, но не лишена серьезных оснований.
Золото – бесподобное обеспечение. Григорий Турский сообщает нам, что король приобретал его в Константинополе, такие же сведения предоставляет нам и вестготское законодательство. У монарха было только одно желание: увеличить, насколько возможно, свой финансовый потенциал. Это ни в коем случае не надуманная потребность: ручеек металла разбухал за счет сбора податей – средства, тем менее оригинального, что фискальная система Франкского королевства точно воспроизводила соответствующий институт в Римском государстве. Однако методы были более безжалостными: непомерным поземельным налогом неумолимо облагались все земли без исключения. Что же касается
tributum, другого, подушного налога, то король толковал его более широко. В своей неумолимой доброте он освободил от него чиновников, нищих и калек, но не забыл ни франков, ни галло-римлян и без различия взимал налог как с колонов, так и с земельных собственников. Даже в случае смерти налогоплательщика вдове и детям приходилось изыскивать необходимую для уплаты подати сумму. Тяжкие повинности, которые порой приводили к восстаниям, как, например, в Туре и Клермоне. Эти всплески недовольства нисколько не мешали работе неумолимого насоса, перекачивающего средства, чтобы наполнить королевские сундуки.
Наш обзор этой налоговой системы был бы неполным без напоминания о ядовитом букете из многочисленных косвенных поборов. Постоянно взимались огромные пошлины. Платили за ввоз товаров, их вывоз и оборот. Платили на реках, платили на дорогах. Плата за переход через мост, за пользование государственной дорогой, налог, открывавший ворота города или позволявший войти на рынок. Ошеломляющая шахматная доска, которая приносила неопровержимую финансовую выгоду. Ничто не осталось без внимания: штрафы за обвинения в суде, конфискации, военные доходы и добыча, дань, причитающаяся с побежденной стороны. Так, ежегодный откуп саксов составлял пятьсот коров, в то время как лангобарды вносили по двенадцать тысяч золотых су. Наконец, подарки, более или менее добровольные, которые прибавлялись к доходу от взяточничества. Все покупалось: место для чиновника, епископство для клирика; искусство спекуляции доросло до уровня гениальности.
Однако деньги были не единственным достоянием королей. Со времен завоевания они владели вотчиной, самой богатой и разнообразной в государстве. Спектр их владений был бесконечен; им принадлежали леса, соляные копи, невозделанные земли, они жаловали себе виллы, дороги и даже порты.
Подчинение королю поддерживали два основных инструмента – абсолютная власть и казна. Мы уже наблюдали падение королевского престижа, подорванного юнцами на троне, но как понять банкротство, казалось бы, безграничного богатства? Необходимо вернуться к каждому пункту, которые мы перечислили, чтобы осмыслить то систематическое разложение, которое поразило все статьи дохода. С упадком торговли прекратился приток золота; одновременно под угрозой, в свою очередь, оказались подати, налоги, дани и земли. Первый удар: Церковь начала борьбу с фиском, и собор 535 г. в Клермоне настоятельно потребовал введения более справедливых налоговых ставок.
Еще более серьезными стали последствия эдикта, изданного в 614 г. Хлотарем II. Король смиренно согласился взимать пошлины только «в тех же местах и на те же товары, что и предыдущие короли». Фюстель де Куланж видит в этом отступлении первый признак упадка королевской власти. Ошибки множились, преемники Хлотаря оказались настолько слабыми, что уступили налоговые доходы частным лицам.
И государство обессилело, его данники рассеялись. Тюрингия, Бавария и Саксония вновь обрели независимость, государство замкнулось в себе, одновременно утратив прибыль от своих военных доходов.
С другой стороны, обнаружилось, что расточительность королей превосходит их скупость, и они сами нанесли себе неожиданный удар. Они совершили опасную ошибку, восстановив земельное могущество аристократии, которая и существовала-то только по их милости. Толпа «верных» получала владения и деньги.
С этих пор, обирая себя, королевская власть становится главным соучастником процесса, ведущего к зарождению конкурирующей силы. Сначала из придворных сановников, чиновников и настоятелей аббатств сложилась элита, чья мощь выскользнула из породивших ее безрассудных рук. К тому же под действием системы престолонаследия, основанной на традициях и нравах, от которых не хотели отказываться, расшаталось единство государства, в то время как на вельмож изливался поток «бенефициев». Такой, что они могли дерзко заявить Брунгильде: «Твой сын царствует, потому что мы его поддерживаем».
В то время как Теодеберт щедро жертвовал верденской церкви семь тысяч золотых монет, Дагоберт сетовал: «Мои герцоги и слуги отбирают у меня лучшие виллы моего королевства», а Хильперик горько оплакивал свою опустевшую и перешедшую к Церкви казну, невозможное все-таки свершилось: невероятное богатство Меровингов растаяло, и исчезновение этого замечательного
instrumentant regni (инструмента управления) стало причиной их гибели. В основе печальной легенды о «ленивых королях» лежит эта драма власти. Ценность этой легенды только в том, что она вдохновляла Буало в его похвальном слове изнеженности:
Увы! Что сталось с тем временем, тем счастливым временем,
Когда короли гордились именем лентяев,
Засыпали на троне и, служа мне без стыда,
Оставляли свой скипетр в руках майордома или графа.
Короля более не существовало; он безгласно присутствовал при агонии своей династии, крушение которой было томительным и долгим. Его власть присвоила олигархия, которая, возможно, смогла бы организоваться и править, если бы не появился новый правящий род. Семья, обильная майордомами
(major domus), принесла с собой господство одного народа – австразийских франков.
Казалось бы, роль дворцового распорядителя сулит, скорее, безвестность, чем блестящее будущее, и у нас есть все основания удивляться. Первоначально майордом был доверенным человеком, которому поручалось наблюдение за чиновниками королевского дворца, главным домашним служителем, интендантом и не более того. В своем возвышении он повторил путь аристократии, из которой сам же и происходил. Мало-помалу он начал играть роль руководителя администрации и встал во главе королевской дружины (truste),
[155] его влияние возросло, повысилось, стало заметным. Значение дворца крепло: это был центр событий, административный и военный штаб; и одновременно тот, кто им управлял, превратился в самое влиятельное лицо королевства. Будучи выбран из числа самых могущественных левдов, он был первым среди них. Бесценный агент королевской власти, он распоряжался «людьми», рвение которых вознаграждал, а излишние амбиции пресекал. В силу своего положения майордом оброс клиентами и обеспечил себе приверженцев, что позволило ему закрепить свой пост за своей семьей. В Австразии слово Тацита почти ни в чем не утратило своей истинности:
Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt, там королей избирали по знатному происхождению, а правителей – по достоинствам. Приход к власти майордома и немощь Меровингов представляли собой следствия одной и той же причины: засилья несовершеннолетних королей. Именно это явление превратило
major domus в
subregulus (вице-короля) или опекуна, который пользуется властью на месте и вместо короля, затмевая даже королеву-мать. Именно он и был подлинным регентом.
Разберем механизм этого возвышения майордомов: только сознательно оставим в стороне особый случай майордомов Нейстрии, которые никогда не имели ни корней, ни глубоких связей в аристократической среде.
Вовсе не каприз случая навязал дворцу вереницу полководцев, государственных людей, наделенных военными талантами и политической активностью; это не были новые люди. Их колыбелью была территория, раскинувшаяся между Карбоннским лесом, Маасом и рейнской границей Фрисландии. Они господствовали над племенами, объединившимися вокруг их семьи; защищая страну от тюрингских, саксонских и фризских варваров, они осуществляли благотворное патриархальное владычество.
Из своей богатой виллы Ланден Пипин Старый распространил свое влияние на окрестности Льежа, в то время как могущественная семья Ферреолов, эмигрировавшая из Нарбонна, установила аналогичный протекторат над бассейном Мозеля. Ее главой был Арнульф, бывший
domesticus[156] Теодеберта II, епископ Меца. Благодаря своему замечательному чутью и проницательности, а может быть, еще и волей случая, предоставленного любовью, эти два семейства соединили свои судьбы. Бегга, дочь Пипина Ланденского, вышла замуж за Ансегиза, сына Арнульфа. От этого брака родился Пипин II, называемый Геристальским, отец Карла Мартелла и настоящий основатель новой династии. Союз креста и меча, слияние римской и германской крови породило могущественных и знаменитых людей, богатых обладателей вилл, лесов и земель. Людей, чей моральный капитал был не менее значимым: они обладали святостью. Благодетели Церкви, в VI в. они подарили миру семерых епископов, и даже говорят, что Тарсиция, одна из женщин семьи, воскресила мертвого. По примеру величайших служителей Божьих Арнульф окончил свою жизнь в монастыре в Ремирмонте, а Гертруда, одна из дочерей Пипина Старого, почиталась как святая.
Многообещающая генеалогия для второй династии. Пипин Старый, советник трех королей, способствовал гибели Брунгильды. Прикоснувшись к власти, он скоро осознал, что влияние королей еще слишком сильно, чтобы его можно было заменить. Тем не менее ему не возбранялось верить в свою проницательность, которая, видимо, внушала ему надежду на радужное будущее его потомков, невзирая на протесты одного из его биографов: «Царям людским он предпочел Господа, царя-самодержца, и знал, что он не велит склоняться перед лицом сильных мира сего и судить, взирая на нищету и богатство; так что для людей он отстаивал то, что причиталось людям, а кесарю воздавал кесарево». О его сыне Гримоальде, пробывшем на посту майордома тринадцать лет до 656 г., мы говорить не будем. Как личность он во всем уступает Пипину Геристальскому, второму майордому с этим именем.
Пипин Геристальский поистине прорвался к власти одним воскресным утром 681 г., когда некий левд одним ударом меча раскроил череп Эброину. Эброин, могущественный майордом Нейстрии, покорил Австразию после гибели герцога Мартина в той самой битве при Локофуа, в которой Пипин утратил свою власть.
Гибель Эброина, повернув в обратную сторону колесо фортуны, устранила единственное препятствие, стоявшее перед Пипином, добродетели которого превозносят
Annales Metenses (Мецские анналы). Будучи щедрым, он оказывал поддержку всем изгнанным из Нейстрии; будучи благородным и человеколюбивым, он помогал слабым и осыпал свои владения поистине царскими благодеяниями. Обладая осторожностью и ловкостью, он покровительствовал всем партиям.
Эти пленительные достоинства были вознаграждены в битве при Тертри в 687 г. Это столкновение завершило собой новую фазу постоянно возобновляющегося соперничества между Австразией и Нейстрией. Верный своим дипломатическим принципам, Пипин искал предлога, чтобы обрушиться на извечного врага; отклоненное посольство утвердило его в роли защитника угнетенных и нейстрийских беженцев. Напоминая о том, что он действовал в отношении Нейстрии мирно и по-дружески, он снял с себя ответственность за развязанную им войну. Воодушевленные его словами воины отвечали криками ликования и ударами копий по щитам.
Две армии встретились у небольшой деревни Тертри. Благодаря военной хитрости австразийский герцог сумел обратить в бегство неприятельское войско и, войдя в Париж как победитель, стал арбитром обоих королевств. Будучи мудрым и выдающимся честолюбцем, продолжает хроника, он презрел бесполезный титул и удовольствовался самым главным – властью.
Под его сенью сменяли друг друга короли, Теодорих III, Хлодвиг III, Хильдеберт III, Хлотарь IV. Он оставил им видимость власти, хотя продолжатель Фредегара наделяет Хильдеберта благочестием и любовью к справедливости и даже приписывает ему эпитет «Справедливый». Однако это не помешало этому государю умереть во цвете лет в плену.
Слава дома Пипина Геристальского постоянно росла: он заключил мир с фризами, усмирил аламаннов и, проведя одну за другой четыре кампании, снова надел на них ярмо, которое они было сбросили. Последним его военным подвигом стало покорение свевов, и он пресытился своим успехом и богатством. Однако никак не защищенностью от внутренних беспорядков, которые неожиданно начали угрожать его интересам.
Причина этих волнений может показаться абсурдной. Пипин был женат дважды. Сам по себе факт неудивительный. Некоторые франкские короли имели настоящие гаремы, а «добрый король Дагоберт» всегда водил с собой «огромную ораву наложниц, то есть злодеек, которые не были его женами, кроме тех, которые были у него в другом месте и носили название и уборы королев». Пипин со своими двумя женами был далек от излишеств и вовсе не заслуживал тех сложностей и мучений, которые произошли от этой двойной женитьбы. В соответствии с законом германцев и франков он сначала женился на Плектруде, а потом – на Альпайде. Увы, в глазах Церкви эта последняя супруга, сестра Додона, знатного
«domesticus», дома Пипина, выглядела незаконной. Две соперницы, нетерпимый епископ Маастрихта Ламберт – и ссора приобрела четкие очертания.
На вилле в Геристале, расположенной на обрывистой скале у рейнской границы, Пипин устроил пышный прием. В конце пиршества он как хозяин настойчиво попросил у Ламберта благословения. Но епископ отказался благословить чашу Альпайды и ушел на покой.
В свое время возвращенный Пипином из семилетней ссылки в монастыре, Ламберт не мог удержаться от упреков в адрес своего благодетеля. Долгое время он возвышал свой голос против этого скандального сожительства, не желая допускать, чтобы Пипин делил ложе с супругой и конкубиной, что тем не менее было общепринятым обычаем.
Неукротимая совесть стоила прелату жизни. Месть в те времена осуществлялась без всяких колебаний, с легкостью; граф Додон, брат Альпайды, оскорбленной супруги, собрал отряд воинов и осадил резиденцию Ламберта в Льеже. Один из этих солдафонов, вскарабкавшись на крышу, заметил молящегося епископа и убил его своим дротиком. Однако это преступление не привело к желаемому результату. Вместо того чтобы укрепить позиции Альпайды, оно ее погубило. Испугавшись, набожный Пипин отрекся от нее и сослал в основанный ею же монастырь Орпенс, где ей суждено было окончить свои дни. Низвержение Альпайды увлекло за собой и двух ее сыновей – старшего, Карла Мартелла, и Хильдебранда.
[157] Чтобы довершить свою капитуляцию перед Церковью, Пипин призвал Плектруду, которую прежде удалил, на радость ее сопернице.
Тогда подлинным наследником Пипина Геристальского был признан Гримоальд, сын Плектруды; казалось, что вызванная этими событиями буря улеглась. Но речь шла всего лишь о передышке. Пипин заболел в своем поместье Йопил на правом берегу Мааса напротив Льежа. В ожидании его смерти распря возобновилась, и стало ясно, что никто не сложил оружия; у Альпайды, пусть и сосланной, оставались сторонники. Снова партии двух жен схлестнулись насмерть, чтобы оспорить наследство. Для родичей Альпайды, поборников здравого смысла, решение выглядело простым и действенным: свержение Гримоальда. Орудие этой расправы действовало, не зная тех сомнений, которые позднее терзали Гамлета. Убийца подобрался сбоку к погрузившемуся в молитву Гримоальду, и несчастный рухнул на том самом месте, где умер блаженный мученик Ламберт. Еще даже не была закончена базилика, строившаяся в память святого. На другом берегу, в Йопиле, угасал Пипин. Получив известие об убийстве, он, превозмогая болезнь, сумел на время восстановить свои силы, и его исцелению способствовала жажда мести. Нужно было отыскать виновных и предать их казни. Пощадил он, возможно, только одного – Карла Мартелла, которого он проучил другим способом. Прежде чем умереть со спокойной душой, Пипин решительно отстранил Карла от наследования, так же как и его мать Альпайду. Карлу было двадцать пять лет. Как мы знаем, именно в этом возрасте он был 16 декабря 714 г. Пипин «царствовал» двадцать семь лет и шесть месяцев.
Привычка уважать волю герцога Австразии была столь прочной, что его наследником был признан Теобальд, внук Пипина, внебрачный сын Гримоальда от одной из его наложниц, Теодуальды. Дело закончилось невероятной ситуацией: король-фантом Дагоберт находился под покровительством шестилетнего майордома Теобальда, замещаемого своей бабкой Плектрудой. Положение, способное придать смелости одним и наскучить другим. Нейстрийцы усматривали в нем возможность обретения независимости, австразийцы пребывали в оцепенении от ненадежности власти, которая им предлагалась. Мы подходим к новому столкновению между двумя франкскими королевствами. Эта перспектива не может не удивлять. Изучение, пусть обзорное, правления Пипина подводит нас к другим выводам. Государственные структуры выглядели устойчивыми; уже четверть века страну вполне устраивал мир, и, казалось, ничто не должно было нарушить равновесия, которым наслаждалось государство. Все авторы анналов единодушно поражаются тому порядку, который сумел насадить принцепс франков с помощью «своего высочайшего авторитета и широкого ума». Гражданские и военные качества Пипина довершало религиозное рвение, которое оказалось полезным в «германской стране». Помогая св. Руперту и св. Виллиброрду, он распространил Евангелие в Баварии и Фрисландии, укрепив тем самым свою власть за пределами Франкского государства. Его политика была примирительной; он был верен своим друзьям и милостив ко всем, его называли мудрым и воздержанным. Что указывало на то, что после его смерти империя погрузится в хаос? И тем не менее…
В Йопиле Пипину, находившемуся под впечатлением своих семейных невзгод и ослабленному болезнью, изменила его обычная мудрость. Его принцип наследования должен был бы соответствовать максиме, которой он всегда руководствовался: «Умело пользоваться властью, но не делать ее слишком ощутимой». Поставив, вопреки обычаю, на свое место Теобальда и Плектруду, он неосторожно раскрыл секрет своего владычества, дотоле таившийся под покровом умеренности. Это было последнее и самое насильственное проявление власти Пипина. Его наследницей стала Плектруда.
Эта способная женщина быстро убедилась в том, что ее репутация целиком зиждется на имени Пипина. Она неусыпно стремилась осуществить последние распоряжения своего мужа. Этот захват власти она начала с того, что сметала со своего пути всех, кто, по ее мнению, представлял особенную или серьезную опасность. Хотя нигде не написано, что Карл Мартелл плел заговоры или даже втайне надеялся отстранить Теобальда, Плектруда приказала упрятать его в надежное место. Арестованный Карл был брошен в кельнскую тюрьму. В этот период он уже женился и стал отцом того, кого потомки назовут Пипином Коротким.
[158] Когда дверь за ним закрылась, он вместе со своей горечью и бессилием был обречен на забвение. Его брата Хильдебранда, слишком юного или менее подозрительного, пощадили. Избавиться от побочного сына Пипина с помощью меча было бы проще, радикальнее и во вкусе этого жестокого века, не говоря уж о дополнительном удовольствии от сладкой мести. Но у сильных есть свои слабости. Великодушие Плектруды спасло нашу вторую династию, не сохранив, впрочем, власти для самой регентши.
Трудности продолжали обрушиваться на эту опекуншу опекуна. Явная слабость ее и Теобальда усиливала мятежные настроения; ее власть была недостаточно твердой, чтобы удерживать Нейстрию в благоговейном страхе.
На свете всегда можно найти страну, которая добивается независимости, и так было во все времена; в 715 г. Нейстрия захотела свободы, и ее народ восстал против Плектруды и гегемонии австразийцев. Быстрая череда событий, закончившаяся битвой в Куизском лесу вблизи королевского имения Компьень. Скорее, бой насмерть, чем заурядная стычка, это кровавое побоище стало концом регентства Плектруды. Едва избежав гибели, она бежала вместе с внуком Теобальдом, который, как говорят, умер от страха и изнурения. Так сошел со сцены наследник, назначенный Пипином Геристальским.
Разочарование, стыд, уныние наполняли сердца австразийцев, в то время как нейстрийцы, вновь обретшие независимость, закрепляли свою победу. Они избрали майордома, Рагенфреда, франка из Анжу, прямо на поле битвы, заверяет нас продолжатель хроники Фредегара. Чтобы придать своему избранию законность, Рагенфреду нужно было найти короля. Он вытащил из монастыря настоящего Меровинга, жившего там в безвестности под именем Данииля, и возвел его на престол под именем Хильперика II. Гармония власти была достигнута.
Вторая задача Рагенфреда: найти союзников, чтобы окончательно сразить Австразию, которая, правда, представляла собой легкую добычу. Тело без души, страна, надломленная восстаниями; народы-данники нападали на нее, а Плектруда, запершись в Кельне, пыталась собрать войска.
Узнав о происходящем, Радбод, герцог фризов, принял предложения Рагенфреда, что не должно удивлять, если вспомнить об обстоятельствах неудавшегося крещения правителя Фрисландии. В тот момент, когда этот герцог, наконец, согласился принять крещение, его душу встревожила последняя деталь. Он спросил, будет ли рай одинаков для него и его врагов франков. Его заверили в этом. Тогда он вынул ногу из купели. «Я предпочитаю провести вечность в аду рядом с моими славными предками, чем на небесах вместе с этой горсткой нищих христиан».
По обоюдному согласию Рагенфред и Радбод напали на Австразию одновременно с двух сторон. Германцам Севера, великим мореплавателям, морские экспедиции были не в новинку; и фризский герцог во главе настоящего флота, состоявшего из множества ладей, поднялся по Рейну до самого Кельна. Одновременно нейстрийский майордом направил свои силы туда же, пройдя через Шампань и Арденны. Этот совместный маневр позволил обоим военачальникам подвергнуть завоеванную страну методичному разграблению. Какими бы неполными и туманными ни были повествования об этой экспедиции, можно полагать, что опасность, грозившая Австразии, была серьезна, а гибель, вероятно, близка.
Разоренной страной овладела подавленность. Неуверенная и лишенная руководства Австразия тщетно искала выход, который позволил бы ей избавиться от одолевавших ее несчастий; но не бывает возрождения без лидера, который вселяет мужество и воодушевляет армию. Кто-то, несомненно, мудрец, вспомнил о том, что плодовитый Пипин породил и другого сына. Этот Карл, хотя и незаконнорожденный, в равной степени нес на себе печать его отцовства – династия не угасла, и это внушало надежду. Пошли расспросы: Карл томится в тюрьме. Устроить побег в столь беспокойное время (как мы знаем, в сентябре 715 г.) дело несложное. Несколько сообщников, все похоже на фокус, и темница отдает своего пленника – Карл снова был на свободе. Некоторые предполагают, что это была работа победоносных нейстрийцев, маловероятная гипотеза, не подтвержденная ни одним документом. На самом деле, мы вправе думать, что Карла освободили сами австразийцы, оскорбленные тем, что некоторое время находились под властью женщины. После этого побега фортуна подтвердила свое благоволение к Карлу важным событием: в шумном порыве воодушевления толпа левдов провозгласила его новым герцогом Австразии и майордомом. Дальновидный выбор: этот мужественный, энергичный, привычный к оружию народ обрел лидера по своей мерке. В обстановке смятения и поражения Карл олицетворял порядок и силу: отныне Австразия находилась в руках истинного преемника Пипина Геристальского. Будучи человеком волевым и талантливым, одаренным, реалистичным, трезвым, он превосходно умел пользоваться случаем и обладал качествами, необходимыми в то время для выживания и могущества. Ни его предки, ни его род не были обмануты в своих ожиданиях.
После побега Карла мы замечаем в поле своего зрения Милона. Кто этот непонятный персонаж и зачем его вспоминать?
Первые милости от Пипина Геристальского он получил, будучи простым клириком, дьяконом. Пипин отдал Милону право наследовать его отцу Людвину в качестве архиепископа Трирского. Все тот же гениальный карьерист, Милон с первого же часа прилепился к новому государю Карлу, фаворитом которого оставался в течение двадцати шести лет. Скоро он убедился в выгодности этой политики. В 717 г. Карл, недовольный несговорчивостью своего крестного отца Ригоберта, отстранил последнего от архиепископства Реймсского и передал епархию Милону, несмотря на противозаконность подобного совместительства, противоречащего каноническому праву. Увы! Тревожный симптом, когда речь идет о прелате; пороки необратимо заглушили в нем его скудные добродетели. «Кодексы и дигесты епископов Трирских» говорят о нем с ужасом:
Habitu et moribus irreligiosus, ни вид, ни нрав его не приличествовали церковнослужителю. Второй продолжатель хроники Фредегара выражается еще резче, называя его «лжеархиепископом». Особенно предан был Милон двум страстям, которые породили третью. Будучи закоренелым гурманом, он без зазрения совести предавался радостям застолья; от этого наслаждения его отрывала лишь одна страсть – охота. В результате он превратился в жестокого убийцу и утратил всякий контроль над собой. Но долг платежом красен, и в 735 г. он был убит набросившимся на него разъяренным кабаном. Оба этих греха, вовлекавшие его в неописуемую круговерть, находили удовлетворение на войне. Поэтому он часто воевал. И даже если в довершение всего он действительно был порочным и злобным, это не мешало ему ревностно и верно сражаться в войсках Карла Мартелла. Он принимал участие почти во всех кампаниях, причем обязательно в роли солдата и советника, надев кольчугу поверх рясы. В качестве духовника Карл всегда предпочитал ему другого: эту роль до самой своей смерти 26 ноября 726 г. исполнял Мартин; на смену ему пришел какой-то священник, имени которого мы не знаем. Милон в исключительном порядке пользовался двойной привилегией фаворита и соратника по оружию.
Именно в этом качестве он нам и интересен, особенно как одно из главных действующих лиц в битве при Пуатье. Исследования позволяют нам узнать имена лишь пяти воинов из нескольких тысяч участников сражения. Это немного. Стоит ли в таком случае пренебрегать хотя бы одним, даже если это Милон? Конечно, рядом с ним стоят более известные имена: Карл Мартелл, его брат Хильдебранд, Эд Аквитанский и вали Испании Абд-ар-Рахман. Но тем не менее у него есть право на собственное место в нашем повествовании, которое стремится к возможно большей полноте. Стремление к объективности обязывает нас упомянуть также о св. Грациане и Авантине, которые, вероятно, погибли в этом бою.
Неутешительный итог. Сухие и скудные хроники лишены подробностей, хотя продолжатель Фредегара писал спустя небольшое время после битвы и по побуждению Хильдебранда. Ни в этом, ни в каком-либо другом тексте мы не находим деталей, необходимых для современного повествования, которое стремится объяснить и восстановить историческое прошлое в его целостности. Детали, смешное слово: ведь нам недостает как раз самого необходимого. Причем до такой степени, что мы до сих пор спорим о самом факте битвы с арабами. Наше незнание огромно. С каким местом и какой датой ее связывать? В нашем распоряжении лишь догадки, гипотезы, часто обманчивые. Вот пример: толкования рукописи 10 837 из латинского фонда нашей Национальной библиотеки. Документ происходит из аббатства Эхтернах. Это поддельная книга, содержащая среди других отрывков календарь якобы св. Виллиброрда, написанный около 753 г. и снабженный множеством дополнений. Увлекательны перипетии этого исторического исследования, которое долго держало нас в напряжении. Оно началось в 1937 г., чтобы в 1955 г. получить завершение под пером Марселя Бодо.
Сначала немецкий ученый Бернхардт Бишофт различил на полях этой рукописи краткие примечания, дополняющие сухие строчки. В результате их изучения он посчитал себя вправе утверждать, что речь идет о годовщинах битв, относящихся к древней истории Ирландии или Шотландии.
Это предположение вскоре было опровергнуто Вильгельмом Левисоном, который восстановил правильный порядок вещей, показав, что эти примечания относятся к событиям на континенте, а точнее, к Карлу Мартеллу.
Так, первое примечание, бесспорно, указывает на одержанную Карлом 28 марта 717 г. победу над Рагенфредом при Венси. Вторая не менее явным образом отражает разгром армии Плектруды в Куизском лесу, поражение, имевшее следствием вторжение Карла. Одновременно мы получаем и точную дату – 26 сентября 715 г.
Смысл четвертой записи не допускает никаких сомнений. Она отмечает смерть Карла, которая действительно наступила в октябре 741 г. Однако дата 15 октября, вероятно, неверна. Впрочем, эту же ошибку повторяют анналы Сен-Амана и Петавийские анналы, восходящие к этой рукописи.
Остается третье примечание: «PUGNA IN NIRAC», которое дает богатую пищу для предположений, построенных на логических умозаключениях. Автора этих заметок, вероятно, монаха из Эхтернаха, по-видимому, интересовали исключительно исторические события, имеющие отношение к Карлу Мартеллу, основавшему его монастырь вместе с аббатисой Ирминой. Как не удивиться невежеству этого монаха, позабывшего отметить самую славную победу принцепса франков, битву при Пуатье?
Г-да Левиллан и Самаран попытались доказать, что «PUGNA IN NIRAC» и битва с арабами – одно и то же. Опираясь на словарь Реде, они обнаружили в районе Лудона четыре населенных пункта под названием Нире. В частности, с Нираком можно было бы отождествить один из них, Нире-лё-Долан, чье печальное название
[159] наводит на мысли о каком-то некрополе. Он настолько приковал к себе их внимание, что внушил ложную уверенность.

Карта 6
Нире в Пуату
С помощью искусной подгонки, переместив армии к западу, оба ученых пришли к
выводу о том, что битва началась в Нире-лё-Долан, а последняя схватка произошла в Мюссэ-ла-Батай.
«Таким образом, начало и конец битвы установлены (14 и 25 октября 732 г.). На самом деле, можно допустить, что вечером 16-го после короткой стычки арабы двинулись из Нирака в Пуатье; миновав ночью ущелье, ведущее с плато, дав людям и лошадям день для отдыха и продолжив путь 18-го утром, они могли встретиться с неприятельскими авангардами уже послезавтра; 21 и 22-го числа отбросить их к северу до самых песчаных равнин Мире, откуда, потерпев поражение 23 и 24-го, они отошли обратно на юг, чтобы остановиться в пяти километрах к северу от Пуатье и, вступив в бой 25 октября, исчезнуть в ночь с 25-го на 26-е».
Эта тактическая схема красива, но, безусловно, уязвима для критики. Оставим без внимания сарказм и фантастические измышления на эту тему генерала Бремона – всякое усилие, всякая гипотеза служит делу Истории. Эта рукопись вдохновила и другие попытки. Г-н Мюссе в
«Journal des Débats» от 25 мая 1929 г. предложил вместо «Нирак» читать «Мирак» – заурядная ошибка монаха-переписчика. Вслед за ним мы выходим на новую теорию, которая помещает это сражение в ланды Мире и район Тура. Что же касается майора Лекуантра, то он совмещает Нирак с Нентре, деревней в окрестностях Шательро.
Волнение и споры, поднятые открытием немецкого ученого, долго оставались жаркими. Пробуждение оказалось еще более болезненным. Марсель Бодо в своем блестящем исследовании доказал, что Нирак – это не что иное, как Нери в районе Крепи-сюр-Уз и к битве при Пуатье не имеет никакого отношения.
«Карл Мартелл, двигавшийся из Реймса, и его союзники из Парижа, встретились на римской дороге из Суассона (анналы Мюрбаха); однако именно на этой древней дороге, которая сегодня называется дорогой Брунгильды между Суассоном и Санлисом, на границе герцогства Австразия и королевства Нейстрия находится деревня Нери, расположенная на господствующей высоте в долине Отомна».
В ответ – торжество тех, кто отрицает само существование этой битвы, нынешний снобизм. Пародируя каламбур Альфонса Алле по поводу Шекспира, можно ответить им: «Битвы при Пуатье никогда не было. Между этими же самыми противниками, на том же самом месте и в тот же самый день произошло совершенно другое сражение, которое тоже называется битвой при Пуатье».
Но Карлу еще далеко от равнины Пуату, и от нее его отделяет немало битв. Ему еще необходимо научиться искусству полководца. Этому новичку не суждено было стяжать славу в своем первом в жизни сражении. Став заложником своей молодости и отсутствия дисциплины в войсках, он способствовал разгрому своих союзников, разбитых Радбодом. Единственным спасением было бегство. Герцог фризов, уверенный в том, что освободил свой народ от франкского ярма, удовольствовался разграблением прирейнских земель. После безрезультатной осады Кельна он отступил в свою страну.
Упрямец Карл не был обескуражен этой неудачей, он созвал другое ополчение и собрал новую армию. Хитроумно командуя ею, он подстерег Хильперика и Рагенфреда, которые передвигались по стране без всякой предосторожности. Карл неожиданно напал на них недалеко от аббатства Ставело у Амблефа. Эта королевская резиденция доминирует над рекой Амблеф, которая соединяется с Уртом, чтобы влиться в Маас у Льежа. Утомленные дорогой и пресытившиеся грабежами нейстрийцы понесли ужасную кару. Отступление короля и Рагенфреда превратилось в беспорядочное бегство.
После этого боевого крещения Карл посвятил 716 год переустройству своего истерзанного войнами королевства. Он готовил свою армию внутри страны, уничтожая все еще существовавшие враждебные группировки. Согласно хроникам, он захватил несколько крепостей, которые отдал на разграбление своим солдатам. Но сообщаемые ими сведения неточны.
На следующий год в ходе одной из таких карательных экспедиций Карл вторгся в Камбрези Хильперик и Рагенфред, узнав о его походе, выступили ему навстречу. За неделю до Вербного воскресенья 717 г вблизи деревни Венси, недалеко от города Кревкер, разыгралась самая кровопролитная битва той эпохи, завершившаяся разгромом Нейстрии. Преследуемый Карлом, Рагенфред пересек земли аббатства Фонтанель, переправился через Сену и бежал в Анжер. Из этого убежища он стал искать себе новых союзников.
И на этот раз настойчивость нейстрийского майордома не могла остаться безрезультатной. Война – слишком заманчивое и прибыльное занятие, чтобы устоять перед ее зовом; это забава того времени, в то время как мир, уверял Либаний, для франков – сущее бедствие. 719 г. сулит нам начало третьей кампании против Австразии.
Нам уже надоедает эта нескончаемая дуэль, которая не приносит ничего, даже новшеств в военном искусстве. Имеющиеся у нас рассказы о битвах настолько одинаковы, что описание одной способно поведать нам сразу обо всех прочих. Тертри, Куиз, Венси, Амблеф следуют одной канве, отличие только в обрамлении, да еще надежде, которая кочует из лагеря в лагерь. Схватка, возгласы победы, бегство побежденных, которые безотлагательно приступают к подготовке реванша. Война, как печень Прометея, всегда возрождается.
Нет сомнения в том, что это сходство навязано нам несостоятельностью хронистов, у которых отсутствие воображения или информации оборачивается аналогичной схожестью биографий известных людей. Жизнеописание Пипина Старого до странности совпадает с рассказом о Пипине Геристальском, Карле и даже Эброине, исключая разве что смерть последнего. Те же поучительные достоинства, схожие недостатки, одинаковые деяния и чаяния.
Дефицит оригинальности приводит к тому, что интерес к этому периоду падает, тем более что здесь легко делать обобщения.
Nihil novi (ничего нового), вот единственный комментарий, который напрашивается после обзора почти трехвековой истории. Расселение варваров не принесло с собой ничего нового, они всего лишь обосновались в Империи, не нарушив обычного порядка вещей: их самобытные черты растворились в римском мире. Эту ассимиляцию мы отмечаем на всех уровнях. Варварские короли в хламиде, порфире, золотой короне уподобляются Цезарю и Августу. По примеру римских и византийских императоров их власть оказывается абсолютной, светской, опирается на казну – три черты, далекие от оригинальности. Равным образом они наследуют античные формулы, которыми их осыпают без всякой меры: «Ваше великолепие», и доводят карикатуру до того, что подражают порокам и преступлениям цезарей. Хлотарь режет своих племянников,
[160] а Хильперик,
[161] впав в безумие – подобно Домициану, – взламывает ворота монастырей, законодательствует о Троице и приказывает выкалывать глаза своим врагам. При дворе царит немыслимая безнравственность, зараза которой расползается до самых низов социальной лестницы. Григорий Турский в изобилии приводит примеры этого плачевного упадка и клеймит позором пьянство, прелюбодеяния, оргии и убийства. И верно, нам не следует вставать на сторону романтического мифа о молодом германском народе, носителе нравственности.
Этому падению нравов соответствовала деградация в интеллектуальной сфере, поразившая искусство, литературу и науки. Варвары, забывшие после завоевания свой германский язык в угоду латыни, не смогли насадить новой культуры. Более того, их вклад равен нулю, они лишь присоединились к римскому банкротству, которое сами же ускорили. Литература влачила жалкое существование, а говорить о коронованном «поэте» Хильперике мы как-то не решаемся.
Эта мимикрия обнаруживалась и в сфере управления. Племенные институты германцев отступили перед римской организацией. Например, Салическая правда, составленная в домеровингскую эпоху, в период после Хлодвига уже не являлась законом Галлии. Германское право развалилось перед лицом римского. Этот негативный баланс можно продолжать бесконечно. Например, как мы уже видели, налоговая система франков была римской, аналогичным образом была скопирована сельская организация. Сохранились крупные земельные владения, сменились лишь их хозяева, но они практиковали те же способы обработки земли с помощью все тех же рабов. Эксплуатация всегда была привилегией «conductore», которые сдавали в аренду земли и получали плату от колонов.
Мы уже слегка касались причин этой обманчивой интеграции, бесплодие этого завоевания можно объяснить еще и малочисленностью завоевателей – как полагают, по 5 человек на сотню римского населения. Вновь прибывшие не получили никакого подкрепления в виде свежих сил, а отсутствие
«connubium» (брака) вплоть до VI в. не было социальным препятствием для союзов между германцами и римлянками. Это франкское меньшинство не смогло изменить римский народ, который отнюдь не презирало, а восхищалось им. Оно никогда не стремилось уничтожить или эксплуатировать Империю.
Единственное новшество той эпохи: на смену Римской империи с ее вечно враждующими между собой внутренними силами пришло множество государств. Кампания, организованная Рагенфредом в 719 г., стала одним из проявлений этого антагонизма.
Хильперик присоединился к своему майордому в Анжере. Объединенными усилиями они привлекли на свою сторону могущественного союзника, герцога Аквитании. Его осыпали дарами, пообещав в придачу положение и привилегии суверена в своих государствах. Во главе своих аквитанцев и гасконцев Эд вернул Хильперика под стены Парижа. Связанные общим интересом, эти правители объединились и без промедления решительно повели свои армии к австразийской границе.
Но Карл не дал застигнуть себя врасплох и внезапно встретил их на равнинах Суассона. Сражение разворачивалось стремительно. Союзные войска плохо поддерживали Эда, он дрогнул первым и увлек за собой в бегство нейстрийскую армию. Единым потоком беглецы и победители достигли Парижа. Хильперик и Эд, избежав гибели, бросились в Орлеан, чтобы затем добраться до столицы Аквитании. Карл отказался от преследования.
Результат этой победы был сведен к нулю из-за ситуации, к которой он привел. Хлотарь IV умер. Плененный Хильперик мог бы наследовать ему на троне Австразии, но он отбыл в Аквитанию в обозе своего союзника.
Карл столкнулся с извечной проблемой узаконивания своей власти. Майордому недоставало законного прикрытия в лице меровингского короля. Единственным выходом из этого тупика были переговоры. Он направил Милона с посольством в Тулузу. Дьякону потребовалась вся его изворотливость, чтобы убедить герцога «римской страны». Он заявил, что предлагает мир от имени Карла, который, как он сказал, великодушно забыл о своих обидах на Эда. Как же тогда можно отказать ему в возвращении на трон Хильперика, которому он присудил столь высокую награду? Милон заверил, что Карл едва сдерживает желание самому прийти за королем, но каким разорением и каким разгромом это может обернуться для этой прекрасной страны, Аквитании! Обещания и угрозы Милона восторжествовали над слабостью герцога, который выдал Хильперика вместе с его сокровищами.
Карл обошелся с вернувшимся королем уважительно, но тем не менее заключил его под стражу во дворце. Хильперик почти не сопротивлялся этой немилости примерно в конце 720 г. он умер в Нуайоне или, может быть, Аттиньи-сюр-Эн, измученный горестями и тяготами.
Аббатство Шелль дало Хильперику преемника, Теодориха IV, сына Дагоберта III, который в то время, по всей вероятности, был в очень юном возрасте. После того как народ и майордом торжественно провозгласили его королем, он пробыл на троне семнадцать лет и безучастно наблюдал за перипетиями четвертого арабского вторжения. После его смерти в 737 г. Карл, разочарованный или уверенный в своей силе, оставил трон незанятым.
Именно после битвы при Суассоне и воцарения Хильперика мы обнаруживаем, что власть Карла Мартелла распространяется и на Австразию, и на Нейстрию. В 717 г. Плектруда открыла ворота Кельна, осажденного австразийской армией, и отдала внебрачному сыну сокровища Пипина. Тогда же Карл восстановил принципат своего отца Австразия и Нейстрия снова соединились, и война окончилась.
Какую роль мог играть Карл с этих пор? Его одушевлял только один принцип – война. Каждому году – своя кампания, каждому часу – своя битва. Нескончаемое движение, которое закаляло людей, создавало армию и щедро одаряло каждого. Недостатка в причинах, основаниях, предлогах не бывало никогда. Столько народов находилось в движении, искало себя, сталкивалось и расходилось! Как жить без добычи, без заложников, без женщин? Как обойтись без стран-данников? И все это не слишком серьезно, даже не жестоко: это волнующий аромат раннего Средневековья. Без передышки Карл ведет свою армию вперед. Великолепные годы!
720 – Германия ведет себя заносчиво; вернувшись на Рейн, Карл вторгается в Саксонию, чтобы покарать ее непокорный народ и одержать кровавую, но бесполезную победу.
722 – Новая кампания на севере, снова саксы, всегда воинственные и во всеоружии. Еще одна бесплодная победа.
725 – Первое нападение на Баварию, которая угрожала сбросить франкское иго. Карл проследовал через покоренную Швабию, подошел к Дунаю и, вторгнувшись в Баварию, установил там свои порядки. Его усилия были вознаграждены колоссальной добычей, состоявшей из сокровищ и женщин.
728 – Новая демонстрация силы в Саксонии и Баварии.
729 – Саксония неукротима.
730 – Карл наказывает поднявшую голову Швабию и навязывает Аламаннии жесткую зависимость.
731 – Забыв о договоре, заключенном с герцогом Аквитании, Карл дважды разграбляет Берри. Помимо результатов этих грабежей нарушение договора приносит ему ненависть старого герцога. Этот «хвастливый гасконец», как его называет Левиллан, чувствует себя настолько оскорбленным, что престиж и могущество принцепса Австразии вызывает у него безмерную ненависть. Эти недобрые чувства побуждают Эда искать поддержки у Мунузы, своего мусульманского соседа. Их сговор ускорил начало арабского вторжения, опасность которого была уже не за горами.
Карл Мартелл не ощущал неотвратимости угрозы, появление которой он неосознанно приближал. Его границы были вне непосредственной опасности, он со смехом слушал увещания сеньоров, убеждавших его принять меры против вторжений и злодеяний сарацин в Галлии.
По крайней мере, именно такое отношение приписывает ему арабский историк Аль-Маккари в любопытной беседе Карла с одним из сеньоров, пришедших просить его о помощи против Абд-ар-Рахмана. Сеньор говорит: «О! Какой позор падет из-за нас на наших внуков! Нам угрожают арабы; мы ждали их с Востока, а они пришли с Запада! Как получается, что никто не может противостоять этим людям, которые на войне даже не надевают кольчуг?» – «Оставьте их, – отвечает Карл сторонникам вмешательства, – сейчас они на вершине своей отваги; они подобны вихрю, который сметает все на своем пути. Увлечение заменяет им кирасу, а мужество – крепость. Но когда руки их наполнятся добычей, когда они пристрастятся к прекрасным жилищам и их вождями овладеет честолюбие, а в ряды проникнет разлад, мы нападем на них и легко достигнем цели».
Эти ожидания скоро оправдались. На границе Испании Мунуза вступил в конфликт со своим начальником Абд-ар-Рахманом – это, надо полагать, был первый открытый всплеск арабо-берберских разногласий. Этот бунт стал причиной трагедии, которая обусловила и развязала четвертое нашествие арабов.
Глава VI
Подготовка к войне
I. Абд-ар-Рахман ибн Абдаллах эль-Гафики
Драма с участием четырех действующих лиц, с занимательным жребием и судьбой. Небольшая жестокая пьеса, не закончившаяся с падением занавеса.
Таким было начало четвертого, самого крупного сарацинского набега на Галлию. Слагаемыми этой ситуации стали зависть, ненависть, месть и героизм; недостатка не было ни в чем, даже в любви. Это столкновение чувств и событий, вызванных этими людьми, породило военную эпопею, которая потерпела крах у «дороги Мучеников за веру».
После заключительного акта уцелевший герой, удивленный и гордый своим могуществом, ушел со сцены, чтобы искать других поводов для славы, пока не встретит свою погибель. Честолюбие, религиозный долг – это уж точно, и еще определеннее – обстоятельства. В очередной раз события восторжествовали над человеком, превратив его в инструмент, и бдительной судьбе оставалось лишь оборвать нить жизни Абд-ар-Рахмана эль-Гафики – это было предопределено.
Причины конфликта следует искать в той новой атмосфере, которая воцарилась в мусульманской Испании после смерти Амбизаха ибн Сухйама эль-Келеби, убитого стрелой при переправе через Рону в декабре 725 г. Будучи человеком суровым и неподкупным, Амбизах являл собой именно тот тип наместника, который был необходим у власти для стабильности в мусульманской Испании. Его справедливость объединила в рамках одного правосудия мусульман, христиан и евреев, «с равной беспристрастностью установив между ними равновесие». Он распределял между самыми бедными мусульманами бесхозные земли, никак не ущемляя прежних землевладельцев. Что касается евреев, то он поощрил их добровольный исход в Палестину, куда влек самозваный мессия Зонария. Мудрому Амбизаху приписывается и восстановление моста через Гвадалквивир. Проявляя трезвый расчет при управлении провинциями, он к тому же применял на практике закон, заявленный в Коране: «Счастлив тот, кто соберет на свои одежды много пыли в борьбе против неверных». Он возобновил набеги за Пиренеи, придав им совсем иное направление – долина Роны от Арля до Лиона, пока не встретил мученическую смерть в одном их таких налетов. Амбизах ни в чем не отступал от строгой мусульманской традиции.
После его смерти климат изменился. За три года было разжаловано три наместника, предававшихся пьянству, сластолюбию и жестокости. В 729 г. с Эль-Хайтамом ибн Убайдом аль-Килаби обстановка ухудшилась до предела. В его правление расцвели жадность, деспотизм, интриги, нарушение своих обязанностей. Деградация была стремительной и заметной. Одна из жертв притеснений Эль-Хайтама, Зийяд или Зайд, с горя пожаловался халифу, который направил для расследования в Испанию чрезвычайного посла Мухаммеда ибн Абдаллаха.
И в 730 г. по улицам Кордовы под свист толпы проехал на осле связанный Эль-Хайтам, осужденный за свои преступления на постыдную казнь. Контраст между славной гибелью Амбизаха и позорной поездкой Эль-Хайтама на ослиной спине лишь подчеркивало вырождение власти в этой удаленной части арабский Империи. Именно на этом фоне анархической, негодующей, кипящей Испании росли персонажи нашей драмы. Погруженные в эту среду, они реагировали на нее по-разному. В этом историческом сюжете все напоминает театральную пьесу, жизнь главных героев достаточно туманна и представлена лишь в намеках, их происхождение неизвестно и неопределимо. Когда они выходят на сцену, нам приходится принимать их лишь с теми подробностями, которые сообщаются в программке.
Главную роль нужно отвести
Абд-ар-Рахману ибн Абдаллаху эль-Гафики. Его физический облик нам неизвестен, едва ли можно говорить о бронзовом отливе его лица, украшенного длинной черной бородой Энциклопедия ислама сообщает нам о нем весьма немного Абд-ар-Рахман был
табитом,[162] пользовавшимся известностью за свое благочестие, прирожденным всадником и воином. Он обладал храбростью и мужеством рыцаря и необыкновенными добродетелями, такими, как бескорыстие, благородство и величие души, стоящей на службе у неколебимой веры. Долгое время он провел в тесном общении с одним из сыновей халифа Омара и разбирался в учении Мухаммеда лучше, чем кто-либо другой. Впервые мы встречаем его рядом с Эль-Самхом при осаде Тулузы в 721 г. Одиннадцатого мая Эль-Самх погиб в этой битве, и от бегства арабскую армию спасла только энергия Абд-ар-Рахмана, который привел ее в Нарбонн в полном боевом порядке. Он был ненадолго выбран
вали,[163] но вскоре его пост был передан Амбизаху, родственнику наместника Африки. Причиной отставки Абд-ар-Рахмана, как утверждают, была его безмерная щедрость по отношению к своим солдатам. Он отошел в сторону в августе 721 г., чтобы вернуться в момент правительственного кризиса, справиться с которым было поручено Мухаммеду ибн Абдаллаху. Этот представитель халифа должен был положить конец интригам и козням, делавшим власть наместника призрачной, содействовать устранению разногласий через избрание нового вали, который, не будучи тираном, обладал бы достаточной силой, чтобы пресекать заговоры в корне. Чтобы осуществить этот выбор, Мухаммед ибн Абдаллах прислушался к желанию воинов Войска были единодушны в своем волеизъявлении они ценили бескорыстие и мужество Эль-Гафики, «Товарища». Он пользовался их доверием, мог рассчитывать на их верность и вызывал у них воодушевление. Благочестивые мусульмане Испании, к которым обратились за советом, настоятельно рекомендовали то же имя, как было устоять перед этими горячими пожеланиями? Так любовь арабского народа привела в столичный дворец Кордовы желанного правителя Абд-ар-Рахмана ибн Абдаллаха. Уместно было бы привести здесь и дату этого события – ведь, как принято считать, точность имеет значение. Однако утверждения на этот счет противоречивы. Форьель отстаивает 729 г., почти слово в слово с энциклопедией Хутсмы (конец 729 – начало 730), которая сходится во мнении с Родерихом Толедским (730 г.), в то время как Кордовский аноним вместе с Ибн Хайяном и Ибн Хальдуном предлагают отнести это событие ко времени после 15 марта 731 г. Подобное разнообразие не позволяет нам считать эту дату лучшей отправной точкой для определения года битвы при Пуатье. Заметим лишь, что Абд-ар-Рахман стал четырнадцатым эмиром после завоевания Испании, которому было поручено управление полуостровом. Это была важная должность, подразумевавшая подчинение лишь двум вышестоящим инстанциям, вице-королю Африки и Дамасскому халифу, который издали наблюдал за этим королевством, включавшим восемьдесят крупных городов, триста городов помельче и более двенадцати тысяч деревень. Эта страна не разочаровала захватчиков. Как писал Муса ибн Нусайр халифу Дамаска, испрашивая у него разрешения начать завоевание: «Она превосходит Сирию мягкостью климата и чистотой воздуха, Йемен – плодородием почвы, Индию – пряностями и благовониями… Адан – портами и прекрасными реками». Первоначально разделенная на пять провинций, она еще увеличилась за счет прибавления шестой – Септимании со столицей в Нарбонне. Последняя точно укладывалась в рамки готской Септимании.
Когда Абд-ар-Рахман пришел к власти в Кордове, доставшееся ему наследство оказалось непростым. Беспощадный деспотизм его предшественников вызвал смятение и беспорядок. Взятая им на себя роль была двойственной: заглушить недовольство и личные амбиции, а затем возродить воинственный пыл испанских мусульман, угасший за годы бездеятельности и оседлости. Начиная с 726 г. не было сделано ничего великого или отчаянного, и хотя в рамадан всегда постились, борьба с идолопоклонством прекратилась. Новый эмир посетил провинции, чтобы успокоить умы и удовлетворить поступавшие к нему многочисленные жалобы. Он неуклонно выказывал стремление делать добро и заглаживать несправедливость. Как утверждают, он два года ездил по Испании, милостиво принимая всех, кто к нему приходил, и обращаясь с мусульманами и христианами с одинаковой добротой. Он безжалостно отстранил каидов, притеснявших своих подданных. На их место были поставлены честные люди. Церкви, незаконно лишенные своего имущества, возобновили богослужение, что никак не помешало Абд-ар-Рахману разрушить те, что были построены при пособничестве или благодаря продажности каидов; ибо веротерпимость арабов была ограничена непререкаемым законом: неверные могут продолжать отправление своего культа, но никаких новых храмов возводиться не должно. Эта умиротворяющая политика мало-помалу успокоила гнев и страсти. Однако говорят, что и в этом правлении не все было идеально; что Абд-ар-Рахман, придя к власти, выказал большее высокомерие и жестокость, чем можно было бы ожидать от человека, избранного народной любовью. Представляется, что это не более чем обвинения со стороны тех, кто враждебно воспринял его избрание, которое не заставило замолчать всех злопыхателей. Главным, если не единственным, противником был
Мунуза, бербер, которого не следует путать, как это делают некоторые мусульманские авторы, с персонажем арабского происхождения, Османом ибн Али Тиссой, который дважды за предшествующий период осуществлял управление полуостровом. Согласно народной традиции, отголосок которой можно уловить в хронике Альфонса III, Мунуза был одним из четырех мусульманских военачальников, первыми вступившими в Испанию. Если верить хроникам кордовского Анонима и Родериха Хименеса, это был безжалостный и кровожадный человек, отличавшийся особой жестокостью по отношению к христианам и наводивший на них ужас мечом и пытками. Исидор из Бехи (Бадахозы) упрекает его за то, что он обрек на сожжение епископа Амамбадуса, не называя, однако, ни его кафедры, ни канонической территории. Мунуза, этот африканский воин, внес большой вклад в завоевание Испании и поэтому получил провинцию, которую можно было считать самой важной на полуострове. Он контролировал область, которую арабы называли восточной границей, охватывавшую всю линию Пиренеев. Сердань, Нарбонн и Септиманию. Привыкнув видеть в себе суверенного правителя этого своеобразного государства, он втайне надеялся получить пост вали Испании. Абд-ар-Рахман разрушил его мечты. Эта ненависть стала первым мотивом бунта против эмира. Происхождение Мунузы – а, как мы уже говорили, он был мавром – давало ему еще одну, не менее существенную причину, чтобы сделаться врагом Абд-ар-Рахмана. Здесь мы касаемся важной проблемы арабо-берберских противоречий. Если всего через пять или шесть лет после данного периода они проявились в ходе громких событий, то ясно, что они не утратили своей остроты со времен завоевания мавританской Африки.
По мнению Рейно, борьба, противопоставившая Мунузу и эмира, стала одним из первых проявлений этих противоречий. Берберы продолжали тосковать по независимости, а арабские наместники угнетали их, чтобы сдержать, так что их жалобы достигали Испании. Точнее, в момент назначения Абд-ар-Рахмана с ними обращались еще хуже, чем обычно. Мунуза задумал план, отвечавший его личным чувствам: отомстить за своих братьев, склонившихся под арабским ярмом, которое не становилось легче благодаря общей религии и вере. Вдохновляемый этой удвоенной злобой, он искал средства, чтобы избавиться от своего господина. Случай натолкнул его на мысль о плане, который мог бы послужить его замыслам. В одной из своих экспедиций в Аквитанию он взял в плен.
Нумеранцию, Менину, которую чаще называют Лампагией. Согласно арабским хронистам, она была всего лишь христианкой из независимой Галисии. Они очень расплывчато описывают ее как «дочь графа этой страны». Они не отрицают ни факта ее существования, ни роли, которую она сыграла при дворе Мунузы. Привычный для них недостаток осведомленности возмещается сведениями, предоставляемыми Исидором из Бехи: «Лампагия была ребенком от второго брака или внебрачной дочерью Эда Аквитанского; поскольку первая жена этого государя была слишком стара, чтобы подарить ему дочь, которая была бы столь молода в 730 г.». Говоря о ней, хроники полны восхищения: она была прекрасна, необыкновенно прекрасна. В завершение этих титров вспомним и отца Лампагии.
Отто, Эдона, или
Эда Аквитанского, родившегося, как представляется, около 650 г. Долгое время историки считали его внуком Хариберта, отца Дагоберта I. Эту генеалогию навязывает нам хартия Алаона. Изложим ее вкратце.
Хариберт и Дагоберт – братья. У Хариберта – три сына: Хильперик, Богис и Бертран. После смерти Хариберта, а вскоре и Хильперика Дагоберт отдает Аквитанию Богису и Бертрану. Эд был сыном Богиса и стал законным хозяином Аквитании, получив двойное наследство от своего отца и дяди Бертрана.
Хартия Алаона, составленная в Компьене 21 января 845 г., вызвала подозрения г-на Ральзниа, который показал безосновательность этих утверждений.
В действительности Эд не был потомком Хлодвига, и его происхождение неизвестно. Лучше считать его герцогом или наместником, который сумел добиться независимости и могущества, воспользовавшись смутами во Франкском королевстве. Его считают наследником Лупа, герцога Аквитанского. Весетт изображает Эда как смелого правителя, обладающего благородным сердцем, способного быстро принимать решения в зависимости от ситуации, с характером, подвижность которого иногда побуждает его противоречить самому себе. Одновременно доблестный и слабый, он, как мы видели, находился в крайне неприятном положении перед лицом могущественного Карла Мартелла. Здесь же стоит подчеркнуть опасность для Эда соседства с мусульманами, от которого он неоднократно терпел ущерб. Его владениям как с севера, так и с юга постоянно угрожали эти два неутомимых врага. Но ненависть Эда к герцогу франков была более сильной, чем по отношению к арабам.
И он тоже искал средства отомстить своему господину – точка соприкосновения с Мунузой. Лампагии было суждено сблизить этих двоих мужчин.
Отныне у каждого из наших персонажей была своя доля забот. Абд-ар-Рахман был занят реорганизацией королевства; Мунуза и Эд – воинственными планами; Лампагия – более кроткими мечтами. А судьба была готова нанести три удара.
Мунуза был очарован своей пленницей. Он без памяти полюбил ее за красоту и женился на ней; любовь настолько захватила его, что девушка стала его единственной супругой, так как, хотя полигамия и допускается Кораном, Мухаммед советовал ограничиваться одной спутницей жизни, считая это похвальным. С этого времени события начинают неумолимо наслаиваться одно на другое. Этот брак привел к союзу между Мунузой и Эдом. Причем оба моментально оценили всю его выгоду. Когда договор был заключен, герцог Аквитании, которому теперь не грозила опасность со стороны Пиренеев, направил все силы против майордома. Впоследствии Эд оказал необходимую поддержку Мунузе, войска которого стали для него своеобразным передовым отрядом. В результате этого союза Мавритании и Аквитании граница с арабской Испанией оказалась смещенной к Эбро. Септимания была отрезана от Кордовы, и, возможно, в планы Эда уже входила предварительная версия того проекта, который в свое время воплотил Карл Великий.
Мунуза одобрил условия этого договора и перешел к решительным действиям. Опираясь на влиятельную партию, он заставил признать себя абсолютным хозяином Нарбонна и Пиренеев. Его цель, а он ее больше не скрывал, заключалась в том, чтобы свергнуть Абд-ар-Рахмана и занять его место. Это было открытое восстание, которое мгновенно взбудоражило всю Испанию.
История простая, можно думать, слишком простая. Абд-ар-Рахман, справедливый и мудрый, борется с внутренними трудностями, свалившимися на него из-за неумелого правления его предшественников. А в это время, в тени, предатель Мунуза пользуется обстоятельствами, чтобы поднять восстание и заключить соглашение с неверным, Эдом, который как раз в этот момент более всего нуждается в подобном союзе. И посреди этих интриг расцветает удивительная и необыкновенная любовь.
Данная реконструкция фактов – ясная, логичная, идеальная – тем не менее соответствует истине, которая, в таком случае, кажется слишком уж безукоризненной. Однако было бы несправедливым не рассказать о выводах, следующих из некоторых текстов, которые не согласуются с нашим повествованием.
В Житии св. Теодофреда, Фонтанельской хронике и хрониках Сен-Дени, а также анналах Санкт-Арнульфа и некоторых других монастырей проступает общая линия. Эд установил связь с сарацинами не через Мунузу, а напрямую с самим Абд-ар-Рахманом. Так, например, мы читаем в Житии св. Теодофреда: «Эд, герцог аквитанский, вызванный вышепоименованным деспотом (Карлом Мартеллом), подвергся изгнанию. Тогда Эд направился в Испанию, добился дружбы тамошнего короля Абдирама, чью милость приобрел подарками и обхаживаниями. Скоро он привел огромную армию, состоящую из самого жестокого народа, что позволила отомстить за нанесенное ему оскорбление и, выйдя из Бордо, достигнуть города Пуатье».
Хроника Сигеберта опровергает факт подобного неестественного союза, который выставляет Эда в самом мрачном свете. «732 г.: как правитель Эд во всех отношениях уступал Карлу. Он вызвал против него сарацин из Испании». Но сразу после этих слов можно видеть следующее замечание: «приглашение явно вымышлено».
Житие св. Григория также возражает против этой точки зрения, доходя до утверждения, что в последующей войне Эд был безупречен и даже играл более значительную роль, чем Карл Мартелл. Уточним, что в этом отрывке любопытным образом переплетены события 721 и 732 гг.
Предвзятость этих хроник настолько очевидна, что нельзя не предпочесть им другие повествования, вроде произведения кордовского Анонима, которые придают значение исключительно союзу с Мунузой. Чтобы убедиться в этом, достаточно простого размышления. Если Эд и Абд-ар-Рахман состояли в союзе, то почему с самого начала мусульманского нашествия они вступили в яростную борьбу? Подобный подход противоречил бы интересам каждого и такой стремительный поворот в отношениях не имел смысла.
Наконец, некоторые спорят по еще одному поводу. Что было раньше, замужество с Лампагией или соглашение между Эдом и Мунузой? Иными словами, была ли Лампагия орудием судьбы? И здесь некоторые авторы снова бунтуют, утверждая, что герцог предал собственную кровь, отдав родную дочь в качестве гаранта этого договора; таково мнение Родериха Толедского. Мы же придерживаемся в точности противоположного мнения, в чем к нам присоединяется Конд: «…И скоро любовь, которая не всегда считается с приличиями, сделала его рабом в подчинении у своей пленницы. Лампагия ответила ему на чувства, зажженные ею самой, и стала супругой Мунузы, подобно тому, как Эгилона вышла замуж за Абд эль-Азиза. Покорный этой страсти, мусульманин заключил перемирие с христианами, и теперь честь должна была заставить его соблюдать договор, если его не удержит любовь».
Повторим, только случай, который свел Мунузу с Лампагией, позволил мавру без отвращения приступить к переговорам с Эдом. Его смерть стала достаточным доказательством силы его чувств к Лампагии. Как бы ни накладывались друг на друга события и ни готовили развязку, свидетелями которой мы еще станем, необходимо было, чтобы душа каждого была именно такой, какой была.
Абд-ар-Рахман, чистый, суровый, решительный военачальник; Эд, беспокойный, нерешительный, жестокий и уставший от докучливых гостей, нападениям которых подвергалось его королевство в Пиренеях или на Луаре. Мунуза, должно быть, обладал сердцем бербера, а не араба; его ненависть была менее сильной, и, возможно, он подавил свое честолюбие. Это сделало его способным на великую любовь, ставшую единственной причиной его союза с теми. Так каждый из них заложил фундамент собственной судьбы.
Во втором акте три героя начинают действовать в подготовленной таким образом ситуации.
Абд-ар-Рахман снаряжал свои легионы, Мунуза готовил нападение, Эд собирался выступить в Берри, чтобы прогнать оттуда Карла Мартелла. Несомненно, эта деятельность трех персонажей легка для понимания.
Абд-ар-Рахман собирал армию. Каков был его план? По этому поводу мнения расходятся. Говорят, он готовил масштабную операцию в Галлии. Закончив свои приготовления, он пригласил Мунузу участвовать в походе. Последний, ссылаясь на узы, соединившие его с Эдом, отказался. Тогда эмир, опровергая версию о договоре с герцогом Аквитании, которого он на самом деле никогда не заключал, решил придать своей военной акции сразу два направления. Наказать Мунузу, а потом осуществить набег на Галлию. В реальности истине лучше соответствуют повествования, объясняющие факты по-другому.
Судя по всему, смуты в Испании еще не закончились и это обстоятельство не позволяло эмиру начать так скоро планировать широкомасштабный набег на страну франков, «Великую землю». Подобному проекту должна была предшествовать полная реорганизация всей провинции. Только одно – экстренное обстоятельство – могло подвигнуть Абд-ар-Рахмана к созыву армии, а именно предательство Мунузы. Подавление мятежа превратилось для Абд-ар-Рахмана в насущную необходимость.
Во-вторых, вторгнуться в Галлию вали побуждали еще два фактора: быстрый успех в борьбе против мятежника Мунузы и значительность сил, пришедших встать под знамена Абд-ар-Рахмана в Памплону. Эта огромная армия, чьи размеры далеко превзошли все его ожидания, наводила на мысль попытаться без дальнейших отлагательств начать завоевание. Разумеется, он и сам планировал вторжение в Галлию, но в неопределенном будущем. Легкая победа над Мунузой позволила ему скорее приступить к
джихаду, священной войне, являвшейся настоятельной потребностью, поскольку после гибели Амбизаха в этом направлении ничего не предпринималось. Можно даже задаться вопросом, не была ли призвана военная кампания Абд-ар-Рахмана спаять его разношерстные войска с помощью надежды на огромную добычу. Решения, принимаемые Абд-ар-Рахманом, всегда диктовались ситуацией. Гибель Мунузы, разгром Эда заставляют нас думать, что в душе эмира мысль о рядовом набеге моментально сменилась жаждой завоевания. Но в истории не принято забегать вперед, и, чтобы показать события в их динамике и хронологической последовательности, сначала напомним о концентрации арабских войск в Памплоне незадолго до начала весны 732 г.
Непривычное возбуждение, удивительная воинственная суматоха. Неужели арабское общество только и ждало случая устремиться на зов военачальника, нуждающегося в войнах? Устали ли эти солдаты от бездействия, превратившего их в оседлых жителей, или ими двигала алчность в большей степени, чем стремление к распространению веры? Или, если говорить менее прозаически, должны ли мы верить исламскому поэту: «То, чего жаждет цвет мира это не материальная обеспеченность, а опасность, преодолеваемая в хорошей компании, любовь, смех, разнообразие и завоевание». Или же они почитали своим долгом посвятить себя триумфу религии, уповая на следующую суру из Корана: «Не говори, что убитые за служение Богу мертвы, они живы и получают пищу из рук Аллаха».
Каковы бы ни были их мотивы, они прибыли во множестве. Воины и искатели приключений из разных стран – с гор Атласа, из африканских песков, с берегов Нила, из Сирии и Аравии. Пестрое, живописное, жестокое и решительное сборище. Важно конкретизировать это разнообразие. Как говорит Виардо, мусульманская пехота, презираемое войсковое подразделение, получавшее лишь половинный рацион и включавшее лучников, пращников и разведчиков, состояла из многочисленных мосарабов
[164] и евреев. Эти воины составляли отдельные части под командованием выборных военачальников,
campeadores. Один из них, знаменитый Руй Диас де Бивар, состоял на службе у наместника Барселоны. Идеал у них был один грабеж. К этим наемникам прибавились христианские пленники, принявшие ислам и ценившиеся за свою смелость. Часто именно они составляли личную гвардию эмира. И, наконец, многочисленные берберы. На самом деле в течение всего периода оккупации Испании на территорию полуострова вступило не более тридцати тысяч арабских воинов. Со времен высадки Тарика соотношение почти не менялось девять арабов на семь тысяч берберов. Несмотря на скрытый антагонизм, на войне они «не отходили от своего господина, как голодные собаки» и оставались самой прочной опорой арабской армии.
Тем не менее не надо думать, что все вместе они представляли собой в какой-то степени сомнительный сброд. Были введены правила приема в войско. Каждый воин должен был предстать вместе с верховым животным, оружием и запасами продовольствия на неделю. Во исполнение учения Мухаммеда: «Пусть слава наших знамен будет без порока», тщательно проверялось поведение и прошлое каждого добровольца, у него выспрашивались причины, побудившие его к поступлению на военную службу. Затем каждому предстояло привыкнуть к жесткой дисциплине. Часто приводится следующий пример: однажды, когда один военачальник делал смотр своим всадникам, он, как говорят, увидел в конце строя блеск сабли. Пустив лошадь в галоп, он убедился, что один солдат нарушил фронт. «Выйти из строя, отдать саблю, поднять голову». И ударом наотмашь срубил виновному голову.
Можно ли установить численность этой грозной армии? Не задерживаясь на этом, обратим внимание на очень щедрую оценку хронистов: «более четырехсот тысяч человек». Должно быть, заверяют нас более реалистично настроенные историки, силы завоевателей состояли из шестидесяти тысяч человек, включая семьи, а количество собственно воинов не превышало и пятнадцати тысяч. Эта оценка выглядит достаточно правдоподобной, хотя не опирается ни на какие точные данные. Тем не менее один арабский автор указывает, что в данном случае подкрепления из Африки достигли десяти – одиннадцати тысяч человек. Что же касается поддержки внутри самой Испании, то его подсчеты оказываются еще более сложными и произвольными.
Не дожидаясь, пока иссякнет поток добровольцев, Абд-ар-Рахман избрал надежное войсковое подразделение и поручил командование карательной экспедицией Гехди ибн Зийя, задачей которого был захват или казнь Мунузы. Благодаря стремительности нападения эффект неожиданности, на который рассчитывал эмир, полностью оправдал себя. При появлении передовых отрядов Гехди, у плохо подготовленного Мунузы не осталось другого выбора, кроме как укрыться в своей столице Аль-Бабе.
Название Аль-Баб, что значит «крепкая дверь», по-видимому, говорит о том, что город находился на одном из пиренейских перевалов. Конд и Шенье пришли к выводу, который, кажется, соответствует действительности, что речь идет о Пуйсерде, римском
«Castrum Liviae in Ceretania» (Замок Ливии в Каретании). Как бы то ни было, Мунуза, застигнутый врасплох внезапным появлением войск эмира, не сумел подготовиться к эффективной обороне Аль-Баба. Так что уже через несколько дней осады окруженный город остался без воды. Вынужденный отказаться от всякого сопротивления, Мунуза бежал из Пуйсерды в сопровождении Лампагии и нескольких слуг. Он покинул городские стены и пустился по хорошо известным ему тропам и расщелинам, чтобы добраться до уединенного ущелья. Видя усталость своих спутников и не желая их покинуть, он решился сделать привал. Отдых беглецов оказался коротким. Их подняли звуки
шагов и голоса, и скоро они были окружены небольшой группой солдат, посланных на их поиски. Домашние Мунузы бежали; что же касается его самого, то, как пишет кордовский Аноним, чтобы не попасть живым в руки врагов, он сбросился с высокой скалы. Арабский историк утверждает, что он поднял меч и пал, защищая ту, кого любил, сраженный двадцатью ударами копья. Гехди ибн Зийя велел отрезать голову Мунузы и взял Лампагию в плен. Получив этот двойной подарок, Абд-ар-Рахман, воскликнул: «Во имя Аллаха! Не думал я, что в Пиренеях можно добыть такую великолепную дичь».
Очарованный красотой Лампагии, эмир отправил ее к Дамасскому халифу, который взял ее в свой гарем. Такие пленницы, обычно именитого рода, были для халифа самым ценным даром и иногда делили ложе со своим господином. Шенье видит в этом факте подтверждение мнения, которого придерживаются некоторые мусульмане, что один из их халифов был женат на франкской принцессе.
В ходе всего этого конфликта не наблюдается и следа вмешательства Эда Аквитанского. Однако герцог не нарушил своего слова. Будучи уверен в силе своего нового союзника, он неблагоразумно удалился от Пиренеев, чтобы защитить свои северные земли, атакуемые Карлом Мартеллом. Продолжатель Фредегара рассказывает об этой кампании крайне немногословно: «Карл перешел через Луару, обратил Эда в бегство, собрал большую добычу и вернулся в свою страну после того, как разграбил Аквитанию дважды за один этот год». Аквитанский агиограф того времени сообщает нам больше подробностей и позволяет взглянуть на эту экспедицию следующим образом.
Карл дошел до Берри намного раньше Эда, и его солдаты, которых аквитанский автор называет варварами, разграбили беззащитную страну, не щадя даже святынь. Бурж, столица, был вынужден капитулировать после неумолимой осады. Принцепс Австразии оставил там гарнизон и перешел через Луару в тот самый момент, когда в Берри ворвался Эд со своей армией. Последовала еще одна осада этого города, который Эд без труда отвоевал, изгнав франкский гарнизон. Затем аквитанский герцог исцелил раны разграбленной страны и восстановил порядок, повсюду выказывая человеколюбие, возрождая церкви и монастыри. Но то была половина победы, и Карл снова переправился через Луару, чтобы отомстить за эту неудачу. Вероятно, Эд поспешно покинул Берри, узнав о катастрофе, поразившей Мунузу в окрестностях Пуйсерды.
Здесь заканчивается драма и начинается эпопея.
Не успела голова Мунузы упасть с плеч, как Абд-ар-Рахман овладел провинциями, которые этот бербер втянул в свой мятеж. Теперь, став полновластным хозяином Аль-Андалуса и первоклассной армии, он решил, не откладывая, перейти через границы Испании и начать поход, чтобы со всей возможной быстротой разграбить галльскую страну Арморраалика, страну воды, каковой, по утверждению Плиния, Аквитанию сделали римляне, откуда и происходит наше название Гиени.
Именно в этот момент двойной целью Абд-ар-Рахмана становится набег и месть: наказать Эда за союз с мятежником и рассчитаться за гибель своих предшественников Эль-Самха и Амбизаха.

Карта 7
Маршрут арабов.
Таковы были планы, которые волновали душу эмира в Памплоне, когда он отдавал приказ к выступлению: «Остричь волосы!» Обратился ли он, согласно обычаю, за советом к астрологам, которые, играя числами, с помощью знаний о звездах оценивали своевременность того или иного решения? Этой гипотезе ничто не противоречит. Страстное желание славно сразиться с неверными наполняло воинов жестоким весельем. Их манила
аль-ард-аль-Кабина, эта великая страна, покрытая густыми лесами, удобными для упорной обороны от захватчиков, эта Франджат за горами, богатая и почти бескрайняя. Эта огромная страна, расположенная между Пиренеями, Альпами, океаном, Эльбой и греческой империей, будила их алчность. «Остричь волосы». Так началось четвертое нашествие.
Есть все основания полагать, что Абд-ар-Рахман разделил свою армию на две группы. Те историки, которые полагают, что часть его сил погрузилась на корабли в портах Таррагоны и высадилась на побережье Септимании, чтобы соединиться с мусульманскими солдатами, расквартированными в Нарбонне и Каркассоне, опираются в особенности на кордовского Анонима.
Et fretosa at plana praecalcans, пишет он, «…и ступая по морям, как по равнинам». Эта вторая экспедиция, в свою очередь, разделилась на два отряда, один из которых угрожал Тулузе, а второй добрался до берегов Роны. «Ветер ислама, – пишет арабский рассказчик, – с этих пор начал дуть на христиан со всех сторон. Правоверные преодолели Септиманию до Роны, Альбижуа, Руэг, Жеводан, Веле и подвергли их самому ужасному разграблению. То, что пощадил меч, предавалось огню». Легенды и хроники в этот момент говорят о разрушении Отена и осаде Санса. Не похоже, чтобы эти утверждения основывались на чистом вымысле, и эти два события вполне могут относиться к интересующей нас эпохе. Тем не менее уничтожение Отена, о котором повествует хроника Муассака, выглядит некоторым преувеличением. Благодаря сопротивлению своего епископа Эббона, более удачливый Сане сумел отразить атаки сарацин, которые в ходе одной из вылазок даже были застигнуты врасплох и разбиты. Несмотря ни на что, эти второстепенные рейды не имели заметных результатов, и вскоре произведенное ими впечатление было перекрыто смятением, вызванным главной атакой, которой командовал лично Абд-ар-Рахман.
Наброситься на Басконию и Аквитанию прямо с гор – таков был план мусульманского военачальника. Предыдущие попытки вторжения в эти провинции через долину р. Од потерпели неудачу. Кроме того, Абд-ар-Рахман искал нового пути в Галлию. Выйдя из Памплоны, он пересек страну иберийских васконов, чтобы углубиться в долину Анжана и пройти Пиренеи через знаменитый Ронсевальский перевал. Аноним и хроника Муассака утверждают, что он вступил в галльскую Басконию через долину Бидуза. Можно засвидетельствовать, что арабам для перехода через Пиренеи понадобилось только одно ущелье и при этом они двигались строем в одну колонну, и это позволяет думать, что все же их количество было ограниченным. Первым итогом этой войны стало методическое опустошение небольших провинций Бигорр, Комменж и Лабур, разрушение епископских городов Олорон и Лескар и завоевание Байонны. Один арабский писатель утверждает, достаточно правдоподобно, что Эд (которого он изображает графом этой границы) пытался сдержать натиск мусульман. После нескольких стычек, иногда заканчивавшихся в его пользу, Эд, который все-таки чаще терпел поражение, вынужден был отступать из города в город и от одной реки к другой. Был разрушен Ош, уничтожены Да и Эр-сюр-Адур, сожжено аббатство Сен-Север, как и Сен-Савен вблизи Тарба. Пал База. Продвижение мусульман было столь стремительным, что Абд-ар-Рахман вторгся на территорию Бордо, пришел под самые стены города и расположился напротив этого населенного пункта на левом берегу Жиронды.
[165] Такое положение города относительно реки подтверждает наше впечатление, что город Бордо был осажден до того, как Абд-ар-Рахман развязал против Эда битву при Дордони, ставшую последним этапом их поединка.
Сколько времени продлилась эта военная акция, неизвестно; в конце концов Бордо был взят приступом. Согласно франкским хроникам, последовала ужасная резня, жители были перебиты, церкви, например св. Андрея, сожжены, в то время как монастырь Сен-Круа, находившийся за городской стеной, подвергся той же участи еще до падения города. Ни хроника Муассака, ни Исидор из Бехи, ни арабские историки не сообщают ничего подобного, утверждая лишь, что этот штурм был из числа самых кровопролитных.
Герцог Аквитании сосредоточил свои силы на правом берегу Гаронны, собрав всех, кто мог поддержать его ослабленную армию, старых друзей и соратников, ополчение, войска, наспех завербованные в соседней области. Он призывал людей защищать свои вотчины, чтобы избежать бедствий, которые сулило завоевание.
Абд-ар-Рахман не дал Эду времени укрепить свои позиции и раньше него подготовился к переправе через Гаронну. Прежде чем встретиться с герцогом Аквитании в решающем сражении, мусульманские войска поднялись по течению реки и захватили Ажан на другом берегу. Эд отважно ринулся на врага, но от его солдат было мало проку. Испугавшись, они плохо держали строй и скоро уступили натиску сарацин, бросились бежать и обрекли себя на полный разгром. Бойня была столь ужасной, что Аноним по этому поводу пишет: «Одному Богу ведомо число погибших». Эд покинул поле боя, захваченный потоком беглецов.
С этого момента Абд-ар-Рахман грабил Аквитанию в течение нескольких месяцев, не встречая ни малейшего сопротивления. Неприятель неуклонно двигался вперед, распространяя вокруг себя разорение и пожар. При подходе мусульманских банд жители покидали города, деревни и поля, а те мстили беглецам, сжигая все, что они оставляли после себя, – урожаи, фруктовые деревья, дома, церкви. Они превращали в развалины города, остервенело грабили и разрушали до основания монастыри. По-видимому, убежищем для перепуганного населения могли служить только города, способные хотя бы на слабое сопротивление. Рассказы беглецов никак не укладывались в рамки морали еще незатронутых завоеванием мест. В изобилии ходили истории о зарезанных жителях, распятых мучениках, оскверненных церквах, о безжалостном победителе, который разил, не различая возраста и пола. Ходили слухи, что после уничтожения монастыря Сен-Эмильен какой-то граф из района Либурна начал борьбу против арабов. Может быть, его приняли за самого Эда, потому что мусульмане оказали ему честь, отрубив ему голову. Об этом сообщают арабские историки, присовокупляя – добыча, состоявшая из имущества этого сеньора, была столь велика, что у каждого солдата в числе трофеев оказались топазы, гиацинты и изумруды.
И вот, посреди непрестанного кошмара, «которым Бог поразил грудь неверных», как говорит арабский автор Аль-Маккари, Абд-ар-Рахман решил продолжить свой поход. Хотя ему мешала добыча, он предложил расширить территорию похода. Вероятно, во время своего набега в Аквитанию он узнал о знаменитом аббатстве Сен-Мартен де Тур, и его богатства поразили воображение араба. Переправившись через Дордонь, Абд-ар-Рахман пустился наугад в раскинувшуюся перед ним страну. До сих пор никто не мог ему противостоять, и мы вправе думать, что в какой-то момент стремление к наживе у него уступило место мысли о завоевании. Тем более что он с легкостью опустошил окрестности Периге, Сента и Ангулема. Французские церковные анналы гласят, что он оставлял на своем пути «длинный след из огня и крови». Перигор, Сент и Ангулем пали. Мусульмане переправились через Шаранту и продолжили свой поход, «подобно буре, сметающей все, потрясая мечом, для которого не было ничего святого».
Как мог Абд-ар-Рахман ибн Абдаллах эль-Гафики предугадать, что Аллах уготовал ему гибель?
II. Созыв франкского войска
После устрашающего побоища у слияния Гаронны и Дордони, Эд бежал к Луаре. Так, через десять лет после своей победы при Тулузе в 721 г. над Эль-Самхом, герцог, в свою очередь, был разбит тем же самым врагом. Обреченный на участь Хильперика в недавнем прошлом, изгнанный, подобно ему, из собственных владений, он имел в своем распоряжении только остатки армии, причем многие из уцелевших воинов, ошеломленные случившимся, исчезли, чтобы раствориться среди местных жителей. К какому будущему готовил себя этот старый человек, окруженный горстью всадников, своих преданных басков, настоящих разбойников по призванию?…
И судьба его была настолько сурова, что ему оставалось только прибегнуть к помощи своего последнего врага, Карла Мартелла. Насущная необходимость, перевесив гордость и злопамятство, погнала его усиленным маршем в Париж, где он сообщил майордому о своем поражении и умолял его забыть об их вражде ради общего спасения. До каких преувеличений дошел аквитанец, чтобы убедить принцепса Австразии, которого беспрестанно беспокоили его северные враги и у которого было мало причин вмешиваться в события, разворачивающиеся на юге? Безусловно, объяснял он, будучи хозяевами Испании и части Галлии, контролируя реки и двигаясь по Аквитании гигантскими шагами, сарацины не замедлят атаковать границы Нейстрии. Теперь, когда ему, Эду, изменила удача, именно Карлу надлежит разбить арабов и спасти величайшее королевство франков от ярма, которому покорились готы. Карл великодушно выслушал сетования аквитанского герцога, который для вящей убедительности пообещал ему свою верность и вассальное подчинение. Хотя, по-видимому, причиной вмешательства Карла стала защита собственных границ, его прельщала новая война и знакомство с никогда ранее не встречавшимся ему неприятелем, перспектива добычи и богатства и, наконец, господство над столь давно желанной Аквитанией. Что же касается религиозных соображений, то их не было, или почти не было, разве что, может статься, желание стереть из людской памяти осквернение церквей.
Чтобы выполнить свое решение, Карл призвал свои «отряды с берегов Дуная и Эльбы» и обнародовал
banus, или
henbanus, – призыв на военную службу, это была настоящая мобилизация, превращавшая каждого подданного в солдата. Фактически у франков не было постоянной армии, когда начиналась война, приказ о выступлении в поход отдавался в форме королевского воззвания, и воинская служба, так же как и налоги, вменялась каждому как общественная обязанность. Короли никогда не набирали свое войско только из «дружин». В случае с призывом в армию равноправие было абсолютным. Всякий свободный человек, независимо от происхождения и возраста, имел право и обязанность носить оружие. Равным образом закон применялся и к старикам, он не предусматривал ни оговорок, ни привилегий, уклониться от его выполнения не мог никто. Вот как толкует его Рипуанская правда: «Если человек, призванный на службу королю, либо в войско, либо для других целей, отказывается подчиниться, с него следует взыскать штраф в шестьдесят золотых солидов». Армия объединяла в себе все население, богатых собственников, ремесленников и неимущих, а также представителей церкви. Призыв, набор в армию после обнародования королевского бана проводился графами в рамках населенных пунктов. Каждый должен был экипироваться на собственные средства и откликнуться на призыв. Тяжелая повинность, учитывая дороговизну оружия. Меч без ножен стоил три солида, хорошая кираса – двенадцать, шлем обходился в шесть солидов, в то время как метательный дротик и копье можно было купить за два. Что касается всадников, то конь стоил столько же, сколько шлем, кобыла – вдвое меньше, однако нередко конный боец имел по две или три лошади, а иногда и больше. Чтобы было с чем сравнивать, отметим, например, что обычный бык стоил два солида, а корова – один. Непомерная стоимость оружия не должна удивлять, ведь, скажем, перевязи часто украшались золотом и драгоценными камнями, а мечи – еще более дорогой отделкой.
Таким образом, призыв на военную службу заставил вырасти как будто из-под земли мощную армию, готовую к походу уже не по распоряжению
magister militium (магистр милитум),
[166] как в былые времена, а по приказу короля. Эта полная военизация народа была настолько привычной, что очень часто вместо
populus (народ) к франкам применялось слово
exercitus (войско). За примерами можно обратиться к текстам Григория Турского, Фредегара, Дю Шена и многих других авторов, а также письму папы Григория II к Карлу Мартеллу. Подобные рассуждения дают нам представление о разношерстности этого сборища и подталкивают к изучению различных элементов, которые его составляли.
При вторжении варваров римские легионы уцелели и не прекратили своего существования. Если верить Прокопию Кесарийскому, их жизнь получила продолжение. Этот византийский историк писал после середины VI в.: «Солдаты [подчинившиеся Хлодвигу] сохранили обычный для римской армии стиль военной службы, и те, которые пришли им на смену, следуют той же дисциплине и сегодня. Если они получают приказ о выступлении, то это всегда происходит в согласии с порядком, закрепленным в древнем матрикуле, а подчиняются они только тогда, когда должны выступить те, кого им велено заменить. Когда эти легионы выстраиваются во время битвы, их знамена в точности походят на те, которые были у них во время оно… Наконец, они следуют совершенно такой же дисциплине. Солдаты всегда вооружены и одеты на римский манер, а также носят обувь, характерную для войск Империи и известную под названием калиги».
Согласно Прокопию, всегда существовало два способа пополнения личного состава: наследование, если у воина оставался сын, в противном случае на его место вставал чужой человек и получал во владение либо его бенефиций, либо его жалованье. Впрочем, легионы во все времена поддерживали свое существование именно так; например, знаменитый третий легион Августа охранял Африку в течение нескольких веков.
Мы обнаруживаем присутствие легионов вплоть до интересующей нас эпохи. Один очень древний документ, цитируемый у Буке, говорит о
легионах Карла Мартелла; к тому же Рихер Реймсский часто использует слово
когорты.
В
exerticus Francorum (войске франков) с легионами соседствовало местное ополчение. Его структура представляется неясной; мы знаем только то, что в каждом населенном пункте оно находилось под командованием
maglster militium (магистр милитум). Обычно оно несло службу, связанную с поддержанием порядка и обороной, но во время серьезных войн оно выступало в поход вместе с армией.
Наконец, существовали разные германские народы, подвластные Австразии и поставлявшие ей более или менее значительные вспомогательные силы.
Общим отличительным признаком этой редкостной смеси из франков, легионов, ополчения и германцев была военная форма, достаточно похожая на одеяние римлян; признавая превосходство оборонительного оружия имперских солдат, франки переняли у них, по крайней мере частично, доспехи, состоявшие из полос кожи, застегивавшихся на спине, и заменили свой небольшой деревянный дротик более прочным и длинным металлическим. Об этом свидетельствует Рипуанская правда: «Чтобы оценить копье, которое одним ударом пронзило бы тело насквозь, нужно было метнуть его в щит с расстояния в двенадцать футов и послушать издаваемый им металлический звук». Тем не менее укажем на важное различие между армиями императоров и франкских королей. Если для первых конница была основной силой, то у вторых, как отмечают писатели эпохи Поздней империи, преобладала пехота; кажется, верхом сражались только франки. Возможно, дисциплина оставляла желать лучшего, но тем не менее король сумел подавить анархические тенденции у германских союзников и даже у галло-римлян.
Можно ли оценить боеспособность этой толпы воинов? В
«De rebus Geticis» («О деяниях готов»): Хлодвиг потерял четыре тысячи при осаде Вьенна, тринадцать тысяч в битве с остготами. Прокопий указывал, что король Теодеберт привел в Италию сто тысяч солдат. В
«De gestis Langobardorum» («Деяниях лангобардов») сообщается, что в сражении при Труцциакуме у австразийцев было тринадцать тысяч убитых. Эти цифры дают представление о том, какого порядка были размеры армии, собиравшейся по призыву на военную службу.
Унаследовав такую военную организацию, Карл Мартелл не замедлил преобразовать ее вполне революционным образом. Если взять принцип набора в армию в целом, то эта система получила заметное развитие. Буланвилье в своей книге
«Gouvernement de la France» («Управление Францией») дает следующую лаконичную формулировку: «Карл Мартелл, глава второй династии, называемой Каролингской, возвысился над королями первой династии и стал абсолютным хозяином их судьбы с помощью двух средств. Первое: его новый метод формирования армии из иностранцев или французов, которые, не имея с государством в целом никаких отношений, заботились о процветании, порядке и о сохранении древних законов только в той мере, в какой все это затрагивало их личную судьбу. Второе заключалось в прекращении собраний на Марсовых полях, где прежде проводились выборы главных военачальников, распределение должностей и где весь народ совещался, чтобы принять единодушное решение по поводу операций, которые предстояло осуществить, или руководства армией». Политика Карла Мартелла была неизменно направлена на то, чтобы привлечь к себе левдов, то есть войнов, мужчин, с помощью выгоды, и в результате он сосредоточил в своих руках самую могучую военную силу, которая когда-либо появлялась со времен римлян. Но как оплачивать своих солдат, если королевская казна полностью пуста? Карл, выступавший защитником церкви в Германии, без колебаний разорил ее внутри своего королевства. Он незаконно распорядился имуществом духовенства, не предпринимая, однако, шагов, направленных на повсеместную секуляризацию. В этом он подражал робкой попытке Дагоберта, превратившего некоторые церковные владения в воинские бенефиции. Карла подталкивала необходимость, поставившая его перед дилеммой: либо не воевать, либо сражаться на средства духовенства, и он не колебался ни минуты. Эти земли, эти разного рода бенефиции прямо или косвенно передавались левдам всех рангов, «так что поистине, – кипит негодованием Житие св. Ригоберта, – для правителей и честолюбцев самые чтимые слова – защита общего блага и святынь – стали лишь красивым прикрытием». Далее в этом произведении следует перечень бедствий, вызванных подобным кощунством. Епископ превратился в простого раздатчика духовных благ под властью воина, обосновавшегося в мирских владениях Церкви. Часто прелат выполнял свои епископские обязанности под контролем клирика, не прошедшего посвящение, но распоряжавшегося его кафедрой и доходами. Иногда церковные богатства распределялись как имущество, оставшееся без хозяина. Церковная власть утратила силу, дисциплина была подорвана, критика со стороны епископа вызывала презрение, а заблудшие монахи или священники жили, предаваясь распутству, какого не знавали и в миру. Разграбленные церковные дома и их бесприютные обитатели довершают картину, набросанную летописцем на фоне нищеты, ненависти и беспорядка. Картина несколько мрачновата, но это не помешало Карлу Мартеллу снять нескольких архиепископов с их кафедр и заменить их «своими людьми»; так, его племянник Гуго стал архиепископом Руана, епископом Парижа, Байе и одновременно аббатом Жюмьежа. И можно было видеть, как на епископские престолы всходили воины, не умевшие даже читать, которые обосновывались в богатых епископских дворцах вместе со своими женщинами, солдатами и охотничьими собаками Едва успев выстричь длинные рыжие волосы кружком у себя на черепе, они уже мнили себя епископами! Хроника Сен-Дени более снисходительна по отношению к этой узурпации имущества клира: «После этого подвига (битвы при Пуатье) он (Карл) по просьбе и желанию прелатов забрал у церквей десятину, чтобы одарить своих всадников, которые отстояли христианскую веру и королевство. Он пообещал, что, если Бог продлит ему жизнь, он вернет им церкви и щедро возместит этот дар и все остальное». В этом вопросе мы не разделяем мнения данной хроники.
Карл располагал могущественной армией, почитавшей за честь следовать за ним и состоявшей из заядлых бойцов, забияк, способных покорить Европу «силой своего оружия». Тем не менее недопустимо думать, как это часто бывает, что по численности эта армия уступала арабской Кордовский. Аноним категоричен:
Sed ubi gens Austrasiae mole membrorum praevalida, «но когда австразийцы, превосходившие по численности своих воинов…». Это мимоходом подтверждают и анналы Аниана
Collecto magno exercitu (собрав огромное войско).
Как полагают, Карл собрал свою армию за те три или четыре месяца, которые Абд-ар-Рахман провел, грабя Аквитанию, а затем отправился в поход.
По всей вероятности, Карл вместе со своими войсками переправился через Луару в Орлеане. С этим мостом, открывавшим путь в Аквитанию, он был хорошо знаком. Мы уже видели, как он дважды преодолевал его как грабитель, почему бы теперь ему было не воспользоваться им в роли спасителя! За два столетия до него тем же путем в погоне за Аларихом
[167] прошел другой завоеватель, Хлодвиг, и одержал победу в другом, не менее загадочном, сражении в округе Пуатье – битве при Вуйе, Вулоне или каком-то другом населенном пункте.
Каков был план принцепса Австразии, когда он вступил на землю «римской страны»? Шпион и пленник, эти два извечных источника сведений, информировали аквитанцев о целях грозного эмира. Всадники Эда, несомненно, осведомили Карла о намерении Абд-ар-Рахмана уничтожить базилику блаженного Мартина, в глазах вали – символ многобожия, которое, по мнению мусульман, присуще христианству, – стереть ее с лица земли, для начала завладев ее сказочными богатствами.
Действительно, эта церковь, самая знаменитая и почитаемая во всем христианском мире, была «галльскими Дельфами», золотым городом Запада. Св. Мартин умер в Кандэ в благословенном 397 г., и его прах был погребен на христианском кладбище, расположенном к западу от города туронов, Цезародунума. В то время останки святого почивали в небольшой часовне, крытой соломой. По-видимому, эта часовня вызвала негодование св. Перпетуя, шестого епископа Тура; он повелел выстроить просторную базилику, которая вознесла к небу свое сверкающее великолепие в пятистах пятидесяти шагах от городской стены. И с 4 июля 489 г., дня ее освящения, каждый год к ней стекалось множество христиан, жаждавших обрести в могущественной помощи этого заступника прощение своих прегрешений и исцеление телесных болезней. «Св. Мартин, который воскресил троих мертвецов, исцелял прокаженных, калек, лунатиков и одержимых», можно прочитать в руководстве для паломников к могиле св. Иакова в Кампостеле.
Защита этого аббатства, безусловно, была первейшей задачей австразийского майордома, который, направляясь к нему, стремился как можно скорее вступить в схватку со своим противником. Ради этого он выбрал наиболее логичный путь: двигаться наперерез неприятелю с тем, чтобы преградить ему дорогу. Исходя из этого принципа, единственным путем из Орлеана для него была римский тракт, который, идя вдоль реки, достигал Тура, пресекая Амбруаз. Достигнув этого города, Карл оказался всего в одиннадцати или двенадцати галльских лье от Тура. Стратегическая позиция на пересечении двух важных путей, выбор которых определялся сведениями, полученными в результате рекогносцировки. Кто доставил их Карлу Мартеллу? Мы предполагаем, что в этот момент основная часть неприятельских войск была еще далеко. Во всем районе орудовало лишь несколько разрозненных банд, которые подобно передовым отрядам, предваряли основные силы армии эмира. Мы, как поясним в дальнейшем, твердо убеждены, что столкновения с этим авангардом имели место в районе Тура, но это были всего лишь мелкие стычки, простая проба сил. Вероятно, такие столкновения происходили на пространстве между Туром, Пуатье и Боссэй, а также и за его пределами. Войска Абд-ар-Рахмана рассеялись повсюду, чем, с нашей точки зрения, объясняется многочисленность населенных пунктов, претендующих на место в списке пострадавших от этого бедствия, причем ученые чаще всего исходят из найденного там оружия, топонимов или преданий.
Таким образом, для Карла Мартелла естественнее всего было предпочесть дорогу, ведущую в Порт-де-Пиле, где он мог найти брод и лодки, чтобы переправиться через реку Крез, названную так, по слову одного поэта,
[168] за свою небольшую глубину… На самом деле, здесь, как и во многих других местах, существовала созданная римлянами коллегия или товарищество перевозчиков, называемых
Utriclarii за свои лодки, формой похожие на бурдюки.
Эта дорога, приведшая Карла к реке, некогда пресекала наши современные районы Блере, Ле Фо, Монтелан и Ла Сель-Сен-Аван. Продолжая свое движение по нулевому меридиану Пуатье – Тур, Карл, переправившись через Ингранд, вступил на земли пиктонов, чтобы разбить лагерь между Вьенной и Клайном, на том самом месте, которое мы можем с уверенностью назвать полем битвы при Пуатье.
Глава VII
Досье
Неумолимое движение арабской армии продолжалось с исключительным динамизмом, таким, что его можно сравнить с «лесным пожаром, гонимым самумом», стремительно катящимся к этому сражению, которое, противопоставив силе – силу, должно было положить конец исламской экспансии в Галлии. Но, если кто-то склонен свести битву и внезапное прекращение мусульманских нашествий к простому совпадению, мы на это скажем, что, возможно, «достигнув вершины кривой, эта сила, подверженная, как и все человеческое, колебаниям амплитуды, должна была пойти на убыль и исчерпать себя в точке падения, подобно паводку, воды которого, разлившись по слишком обширному пространству, возвращаются в свое русло».
Тем временем, грабя и сжигая все на своем пути, воины Абд-ар-Рахмана вторглись в Пуату, чтобы снова резать и убивать.
Они ворвались в эту расселину, в это ущелье Пуату, зажатое по линии запад-восток между вершинами вандейского Бокажа и гор Марше, в «проход», соединяющий бассейны Аквитании и Парижа, и, таким образом, вступили в коридор, который мог привести их прямо к аббатству Сен-Мартен. Естественный путь вторжения, веками притягивавший римлян, вандалов, свевов, вестготов, франков.

Карта 8
Римские дороги в Пуату
По
«via I, Mediolanum Santonum» эмир направился к городу пиктонов, последнему препятствию, преграждавшему доступ к великой базилике. Эта была римская дорога, уводившая из Сента прямиком в сердце известнякового ущелья. Она проходила через земли ланд и леса, столь же мрачные, сколь и безмолвные, внушительное однообразие которых
еле-еле нарушали редкие дома, дававшие кров немногочисленному населению. Необработанные земли, унылая местность, едва способная прокормить редкие стада коз и овец. Здесь не было соблазнов, способных отвлечь или задержать армию, которая в этом случае снова двигалась в походном строю – впереди, на расстоянии полудня пути, разведчики, затем основные силы и, наконец, арьергард с повозками; в одних ехали женщины и дети, а другие представляли собой настоящие сундуки, нагруженные добычей и пленниками, превратившимися в рабов.
В этих условиях агрессору, несомненно, требовалось три или четыре дня, чтобы оказаться в виду Пиктавия;
[169] это название заменило городу, древней крепости галла Дурация, его прежнее имя Лимонум.
Возвышаясь на каменистой изогнутой гряде, образовавшейся в месте слияния Буавра, бобровой реки, и глубокого, спокойного и полноводного Клайна, Пиктавий имел вид почти острова. Отрог, удобный для возведения крепостной стены и обороны, опоясанный двумя долинами и увенчанный отвесными скалами. Превосходная позиция, если не считать ограниченности обзора.
Это как будто ненарушимое спокойствие было защищено еще и стеной в две тысячи шестьсот метров, очень длинной для того времени и, как утверждают, увенчанной ста двадцатью семью башенками. Эта стена, построенная после 285 г., довершила и увеличила древнюю римскую крепость. Надежная защита, обеспеченная тремя слоями кладки из каменных блоков, промежутки между которыми были заполнены щебнем и известковым раствором.
Аббатство и бург Сен-Илэр, построенные за городской стеной на возвышенном участке – горе Горжен, – напротив, были очень уязвимы. Базилика была сооружена при Хлодвиге как признание благодеяний св. Илария Пиктавийского, который, помимо прочего, вызвал появление над монастырем огненного шара, послужившего королю франков ориентиром в его походе навстречу армии Алариха. Новая церковь была покрыта мозаиками как снаружи, так и внутри. В ней таились несметные сокровища: серебро, золото и драгоценные камни; этот храм веры ревниво хранил останки чтимого святого, гробница которого была объединена с алтарем.
Сен-Илэр, находившийся с краю плато, сделался приманкой для арабов. Великолепная добыча, не защищенная крепостной стеной, способная удовлетворить их жажду добычи и стремление уничтожить языческое святилище.
Скоро аббатство было окружено горланящим войском. Разгром был полным. Ценности были погружены на повозки. Монахи или
famuli,[170] избежавшие бойни, были уведены в плен, и дело разрушения довершил огонь. И еще долго этой ночью пожар озарял небо, высвечивая крепостные стены и потрясенный город, оставшийся недвижным, с его каменными домами под черепичными крышами.
Все хроники, все тексты явным образом признают факт разграбления и разрушения Сен-Илэра. Это неоспоримое событие, отмечающее собой начало последней фазы кампании, стоит включить в тот небольшой положительный итог, который мы предполагаем подвести.
Какое решение должен был принять вали Испании после этого легкого успеха, этих колоссальных грабежей? Осадить и разрушить город или, что еще проще, оставить его в полной изоляции и обогнуть, чтобы продолжить свое завоевание?
Некоторые авторы разрешают эту дилемму, утверждая, что город был захвачен. Диго в своей «История Австразии», следуя примеру некоторых арабских писателей, утверждает: «Объединившись, все эти варвары разграбили Пуатье». Более того, то же самое можно прочитать в отрывках из французских хроник и анналов: «И подошли к городу Пуатье, который таким же образом взяли и разрушили». Насколько нам известно, один Марконье повторил эту версию в брошюре, опубликованной им в 1824 г.,
«Битва при Туре», в которой Карл Мартелл разбил сарацин. Там же можно встретить следующую фразу: «Абдираман, хозяин Пуатье».
По мнению Гизо, выраженному в его «Истории Франции», имела место осада, а штурм окончился неудачей, а у Гаксота в «Истории Франции»: «Затем ураган обрушился на Пуатье, но город устоял».
В поддержку этого тезиса следует привести все без исключения хроники и всех историков, которые когда-либо затрагивали четвертое мусульманское нашествие. Мы можем воспользоваться плодами их трудов: что касается нас, то мы присоединимся к мнению, согласно которому Пуатье остался невредимым, попытавшись выяснить почему. Для этого необходимо прежде всего принять самую общепризнанную теорию, принадлежащую графу-майору Лекуантру, который энергично возражает против того, как трактуется экспедиция Абд-ар-Рахмана. Крупномасштабный набег – вот и все, что она собой представляла.
Майор Лекуантр показал, что отрывок из
«De gestis Langobardorum» («Деяний лангобардов»), который ранее связывали с битвой при Пуатье, в действительности относится к сражению при Тулузе и повествует о победе Эда над Эль-Самхом в 721 г. Иначе обстоит дело с текстом, входящим в Житие Григория II. Фактически в обоих речь идет о сарацинах:
Deinde post decem annos, cum uxoribus et parvulis venientes (Спустя десять лет, с женами и детьми пришли). Через десять лет… это означает, через десять лет после высадки арабов в Испании в 711 г. Однако только эти два текста и позволяют нам говорить о том, что у арабов были захватнические намерения. Доказать это предоставим майору Лекуантру:
«Но прежде всего недоверие к утверждениям историков вызывает то, что эта экспедиция вовсе не носила характера завоевательной кампании; она была слишком стремительной для того, чтобы победители могли обеспечить себя опорными пунктами, которые позволили бы им удержать страну.
На самом деле, говорит нам кордовский Аноним, Абдираман начал с подавления мятежа в Серданье, осадив бунтовщиков в их крепости; ему удалось вынудить ее к сдаче, только когда благоприятная погода сделала горные дороги проходимыми для его осадных машин. Действительно, вскоре город был взят, и эмир, видя у себя под началом значительную армию, решил отомстить зачинщику мятежа, Эду Аквитанскому.
Чтобы добраться до его страны, ему предстоял долгий путь через Памплону и горы басков.
Войдя в Галлию, он почти без боя овладел Бордо, где нанес ужасное поражение Эду. Разграбив город, он двинулся к Пуатье, где разорил Сен-Илэр, и был на пути к Сен-Мартену, самому богатому аббатству в Галлии, когда повстречал Карла Мартелла. Старинные тексты говорят только о грабежах и пожарищах, а не об осадах. Единственным городом, куда, по свидетельству хроник, вошли сарацины, был Бордо, ворота которого им открыла победа над Эдом.
Когда же, напротив, сарацины впервые вошли в Галлию с намерением там обосноваться, они начали с осады Нарбонна и, овладев им, разместили там свой гарнизон. Более того, подойдя к Тулузе, они блокировали город и штурмовали его с помощью всевозможных машин.
В кампании 732 г. мы ничего подобного не замечаем; как нам представляется, она исходно была задумана как карательная экспедиция и переросла в гигантский набег. Опьяненный легкими успехами, зачарованный богатствами, сокрытыми в аббатстве Сен-Мартен, и надеясь ими овладеть, Абдираман зашел слишком далеко и нашел свою гибель».
Плохо оснащенные и к тому же не слишком сведущие в осадном искусстве, арабы могли лишь отказаться от осады города, который не дал бы им ничего, кроме бесполезной задержки в их стремлении расширить
дар-аль-Харб, область военных действий, манящую своими богатствами. В этом решении нет ничего необычного: ведь мусульмане имели обыкновение обходить препятствия, преграждавшие им путь, что в их глазах никогда не выглядело признанием своего бессилия. Абд-ар-Рахман, опытный военачальник, не мог не понимать, что только быстрота действий обеспечивала успех его предприятию – активность в завоевательной войне является основным слагаемым победы. Неподвижность осады противоречит этому принципу.
Можно допустить, что вали отказался от штурма города, явная мощь которого произвела на него впечатление.
После
аль-федира, молитвы на рассвете, воины снова пустились в путь, следуя вдоль нулевого меридиана, по прямой соединяющего Пиктавий с городом туронов.
С момента выступления эмира правоверных тревожила одна проблема, связанная с топографией мест, по которым шла римская дорога.
Via проходила между стеной города и краем плато, которое круто обрывалось в небольшую долину реки Буавр. И в этом тесном, ограниченном пространстве, не достигавшем и сотни метров в ширину, должна была двигаться армия вместе с семьями, имуществом, повозками с добычей и пленниками. Сама по себе теснота значила немного, но проход полностью контролировался защитниками города. Стоило им начать в этом узком месте атаку со своего высокого отрога, и образовался бы затор с огромными потерями среди сарацинской конницы.
Однако долгое время армия двигалась вдоль Буавра под городскими стенами, и в нее не было выпущено ни одной стрелы.
Эмир обоснованно рассчитывал на невмешательство солдат крепости, которые не предприняли ничего во время разрушения Сен-Илэра. Однако они были защитниками и покровителями страны, где вера расцвела с беспримерной пышностью, защитниками страны, где рядом с каждым источником и родником можно было найти маленькое изображение Пресвятой Девы.
Какие соображения склонили пуатевинцев к бездействию? Возможно, пугающие рассказы укрывшихся в городе беженцев отбили у них желание задерживать поблизости от себя мусульманские силы. Пуатевинцы, конечно, мужественные, но, безусловно, не безрассудные, опасались ужасного и беспощадного гнева арабов и рассчитывали только на то, чтобы дать их смертоносному потоку иссякнуть, не пытаясь его остановить. Возможно и то, что, зная о неминуемом вмешательстве Карла, они предпочитали дождаться более надежного момента. Наверное, был отдан приказ «Не стрелять!». Впрочем, готов ли был город выдержать осаду, спровоцировав проходящего мимо неприятеля? Не думаем. С конца VII в Пуатье находился под управлением франкских графов, присутствие которых было, скорее, пагубным, чем полезным. Деятельность этих бесцветных представителей наследников Хлодвига была скоротечной и неэффективной и ограничивалась исключительно политической сферой, сводящейся к несправедливости и поборам. В этот период жители города утратили воинственный дух.
Если, как пишет Ибн Хальдун, «прошлое и будущее похожи как два глотка воды», мы вправе решиться на сопоставление некоторых странных проявлений пассивности.
Защитники Пуатье не сделали ничего, чтобы помешать агрессору, точно так же, как впоследствии Карл Мартелл не стал преследовать разбитого и отступающего неприятеля.
Когда Абд-ар-Рахман, выйдя из леса Мульер, вырвался на простор между обширными и ветреными долинами Вьенны и Клайна, наш запас точной информации не увеличивается заметным образом: разграбление Сен-Илэра и пощада для Пуатье – вот и все неоспоримые факты этой военной кампании, явная задача которой – грабительский набег осуществлялся ради конечной цели – аббатства Сен-Мартен. Но загадки, которые нам остается разгадать, оказываются весьма трудноразрешимыми.
Оставаясь верными своей линии, мы в этой главе оставим без внимания современную эволюцию исторической науки, отдав предпочтение традиционному обзору, то есть перечислению событий непреложной необходимости для того, кто желает удовлетворить свое любопытство относительно самой туманной из трех битв при Пуатье… В некотором смысле остановить на время «ускорение Истории», о котором говорил Даниэль Алеви, чтобы заострить свое внимание на этом единственном дне, прискучившем и непостижимом.
Придется ли нам и дальше перемещать по карте украшенное острие зеленого знамени Пророка или же, напротив, задержать арабов в этой стране, богатство которой могло бы на какое-то время приостановить их движение? Выйдя из леса, изобилующего самой разной дичью, косулями и оленями, кабанами и лисами, дикими кошками и волками, они взирали на эту страну культуры и винограда, разведение которого постоянно развивалось со времен римлян. Их алчности оказались доступны стада быков и коров, иногда лошадей, ослов и изредка мулов. Раздолье для грабежа.
В этом пейзаже римская трасса, главная артерия основательной сети дорог, которые подобно лучам звезды сходились в столице пиктонов, гипнотизировала и раздражала их внимание. Шириной, по крайней мере, в четыре метра, с желобом, облицованным красивыми камнями, скрепленными цементом, эта дорога очень долго тянулась вдоль правого берега Клайна, чтобы запнуться у «Старого Пиктавия»,
[171] запнуться, потому что Брива представляла собой первое препятствие, преграждавшее путь от Вьенны к Сенону,
[172] или, точнее, к Фине. Говоря о «Vêtus Pictavi», необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность, так как на месте расположения этого мертвого города никогда не
проводилось методичных раскопок. Тем не менее, по-видимому, он имел форму параллелограмма, поднимавшегося уступами между Клайном и холмами, что возвышались над долиной Вьенны, ширина которого у разных авторов колеблется от четырехсот метров до километра.
Первоначально «Старый Пиктавий» представлял собой всего лишь
mansio, настоящую почтовую станцию, какие у римлян было принято устраивать на большом расстоянии друг от друга вдоль главных дорог,
mansio, где помимо ночлега можно было найти лошадей, чтобы продолжить свой путь.
Эта станция росла, пока не превратилась в своеобразную крепость с гарнизоном. Помешала ли она движению арабов? Взяли ли они ее приступом или Абд-ар-Рахман никогда не посылал туда своих всадников?
Если бы он это сделал, то переправился бы через Вьенну в районе Фина, вероятно, вброд, а может, и на лодках. А тем, кто допускает, что он покинул земли пиктонов, нужно согласиться с тем, что в этом случае он прошел через Ингранд, который веками служил границей между областями Пуату и Тура.
Действительно, название Ингранд синонимично древней границе между народами. Границы, которая поддается четкому определению по небольшому ручью, вытекающему из Уаре и впадающему во Вьенну к северу от деревни Ингранд.
Чтобы удовлетворить арабских авторов и вместе с ними тех, кто помещает битву в предместья Тура или его ближайшие пригороды, нам придется еще продлить наше путешествие.
Мусульманские ученые превращают события, приведшие к сражению, в операцию классического набега, имеющего свой прилив и отлив: «Наперекор франкам, люди Абд-ар-Рахмана напали на город Тур, чтобы предаться насилию и грабежу; но после того, как их вождь пал, правоверные отступили вместе со своей добычей».
Тем не менее они подробно рассказывают о жестокости предполагаемых боев в предместьях этого города, который, находясь под защитой своих стен, устоял: «Подобно разъяренным тиграм, они упивались кровью и грабежом, что обратило на них Божий гнев и стало причиной их несчастья».
Еще они подчеркивают масштабы сражения, разразившегося у городских ворот, говоря: «Пересекая равнину, где оно произошло, можно было слышать шорох от крыльев ангелов, которые бдели и молились на месте, навеки освященном гибелью стольких истинно верующих».
Но даже исполненный вдохновения путешественник не смог бы услыхать шелест ангельских крыльев ни в Туре, ни в его окрестностях; по всей вероятности, от такой локализации битвы нужно отказаться. Какие доводы против нее обычно выдвигаются?
Прежде всего говорится о том, что арабские историки, писавшие свои труды вдали от нашей страны и значительно позже описываемых событий, были совершенно несведущи в географии Галлии. Все эти повествования были составлены не ранее XIII или даже XV в., как, например, произведения Ибн Аль-Асира или Аль-Маккари. Возможно, в их памяти запечатлелась лишь конечная цель экспедиции – Тур и его аббатство. Тогда почему Турская базилика, которая, как и Сен-Илэр, находилась вне городских стен, была разграблена арабами? К тому же трудно понять, каким образом враждебные армии могли в течение семи дней чего-то ждать, стоя лицом к лицу, в то время как битва уже бушевала у самых ворот христианского храма.
Обычно большим авторитетом в изложении событий пользуются авторы христианских хроник. Тем не менее именно мусульманские историки вдохновили Бальзака в
«Лилии» и Боссюэ с его «знаменитой битвой под Туром 725 г., в которой Карл Мартелл одержал победу над огромной армией Абдирамана», это фраза из его «Рассуждения о всеобщей истории». И если мы сознательно пускаемся в область чистой фантазии, то исключительно с целью составить максимально полное досье. Еще к этим просвещенным людям следует добавить Шатобриана, который более расплывчато и осторожно говорит о равнине между Туром и Пуатье.
Поль-Эмиль де Верон, французский историограф, умерший в 1529 г., дает нам полностью вымышленный рассказ о битве, который послужил отправной точкой для исследований Шелмелю, а затем Марконье, которые дают сражению четкую локализацию – равнины Сублене и Ате между Амбуазом и Лошем. Манускрипт, написанный неким Сидом Оснином Бер Артоном и якобы существующий в Нуэстро Сеньора де Лас Куэвас в Андалузии, хотя никто никогда его не видел, придает последний штрих достоверности свидетельству, которое никто не принимает всерьез. Брошюра под названием
«Битва при Туре, в которой Карл Мартелл победил сарацин» не представляет абсолютно никакого исторического интереса. Здесь мы в царстве чистейшего вымысла.
В хрониках и анналах Франции мы обнаруживаем другое место, названное «Sanctus Martinus de Bello» или Сен-Мартен-ле-Бо. На него же указывает существующая в Туре традиция. Маан, а затем Шалмель в «Похвальном слове Карлу Великому», Жан Буше в «Анналах Аквитании», Ле Рагуа, наставник герцога Мэнского, сына Людовика XIV и мадемуазель де Монтеспан, в своей «Уроках об истории Франции», аббат Секле дю Фреснэ в «Картинах всеобщей истории» единодушно утверждают, что битва состоялась в области Тура. А в Кратком изложении военных донесений при Старом порядке мы также находим: «Тур при сарацинах, 726». В завершение этого уже длинного списка процитируем еще Родериха Хименеса: «Сражение произошло в окрестностях Тура».
По излагавшимся выше причинам ни один из этих авторов нас не привлекает, тем более что наши хронисты и летописцы предоставляют нам иную информацию, которая кажется нам неоспоримо более близкой к истине. Прежде чем перейти к их текстам, исключим историков, выражающихся слишком расплывчато, чьи комментарии можно свести к одной фразе: «На обширной равнине между Туром и Пуатье». Это касается Глотца, «Общая история средних веков», иезуита Марселлена Фуанье, «История приморских Альп» («Наказание поджидало его у ворот Турени»), президента Эно, «Новая краткая хронология истории Франции» («В сражении между Туром и Пуатье сарацины были разбиты»), Де Марля и, может быть, некоторых других, кроме Жоржа Ру, который, придавая большее значение дате, чем собственно месту, отказывается от выбора между Туром и Пуатье. Расплывчатостью также грешат Зеллер, Седилло и Итти.
Наше исследование было бы неполным, если бы мы не рассказали о территории, раскинувшейся между Сен-Мором и Вильпердю, чье название, как говорят, призвано подтверждать гипотезу о населенном пункте, разрушенном в ходе битвы. В этом районе существует менгир, называемый «арабским». Этот камень, разумеется, был установлен задолго до этого сражения, но предание объясняет его название тем, что битва произошла на этом самом месте. С нашей точки зрения, речь здесь идет, скорее, о какой-то из многочисленных стычек, сопутствовавших самой битве.
Увы, мы должны отвергнуть и замечательные уточнения гг. Левиллана и Самарана (Нире-ле-Долан), майора Лекуантра (Нентре), Мюссе (ланды Мире), построенные на ошибочной интерпретации манускрипта № 10837.
В том попятном движении, которое мы с тех пор совершаем, лучше всего было бы остановиться на тезисе, который в 1955 г. поддержал Марсель Бодо в своем сборнике статей, посвященном г-ну К. Брюнелю. Следуя г-ну Бодо, мы опять же не выходим за пределы земель туронов. Предоставим ему возможность разъяснить свою теорию на страницах
Bulletin de la Société; des Antiquaires de l'Ouest (Бюллетень общества любителей древностей Запада) за четвертый триместр 1955 г. Разве не таково непреложное требование нашего досье?
«Бревиарий XIII в., хранящийся в библиотеке Эвре (Leroquais, Bréviaires, t. II, p. 103–105) и происходящий из аббатства Нуайе (община Нуатр, Индр-э-Луар) на берегу Вьенны в нескольких километрах от Пор-де-Пиле, включает текст службы по св. Грациану, бретонскому епископу нормандского происхождения. Этот текст уже публиковался по копии Дома Юссо, который, в свою очередь, воспроизводил утраченную рукопись, содержавшую несколько вариантов. Его можно найти в издании Археологического общества Турени (1873, р. 708–710), сразу после картулярия аббатства Нуайе, опубликованного аббатом Шевалье. Текст рассказывает о том, как Грациан возвращался из путешествия в Рим в то самое время, когда неверные опустошали Аквитанию, и добрался до Тура как раз тогда, когда враг грозил вторгнуться в его окрестности. Епископ отправился ему навстречу и был убит вместе с несколькими спутниками, среди них был и святой Авантин, тело которого после ухода захватчиков было перенесено в Вивон. Грациан был похоронен прямо на месте, на берегу Риоля вместе с сопровождавшим его ребенком, в двух милях от церкви в Сивре-сюр-Эсве (кантон Ла Хайе-Декарте, Индр-э-Луар). Впоследствии его мощи были перенесены на ближнее кладбище Сепме».
Марсель Бодо сдержанно предлагает эту локализацию, уязвимость которой вскрывает тот же
«Bulletin des Antiquaires de l'Ouest».
«Фактически нельзя удержаться от мысли, что смерть Грациана выглядит, скорее, как очень неравная стычка между группой паломников и отрядом сарацинских разведчиков, патрулировавших территорию недалеко от основных сил, чем на эпизод самого сражения. А текст и не стремится представить дело иначе. Он даже не сообщает об этом крупном событии, которое тем не менее должно было в тот момент произвести какой-то отклик. Даже фраза по поводу св. Авантина,
qui post abscessum eorumdem hostium pago pictavo delatus in castrum quod Vivonna nuncupatur… tumulatur (чье тело после ухода врагов из пуатевинской области перенесено было в замок, что зовется Вивон… для погребения), хорошо показывает, что смерть святых отделена от бегства арабов из Пуату некоторым периодом времени. Правда, после захвата лагеря Абд-ар-Рахмана и его смерти отступление, скорее всего, было стремительным».
Наконец, чуть ниже в той же статье из
«Bulletin»:
«По поводу этой локализации мы считаем необходимым оставаться на позициях г-на Фердинанда Лота, о которой Марсель Бодо не упоминает. По его мнению, уже само слово
suburbium (предместье) отметает Мюссэ-ла-Батай в силу его удаленности от Пуатье; впрочем, говорит он, "какой может быть интерес в том, чтобы поместить сражение туда или сюда? Для истории в целом – никакого"».
Это требует комментария. Предприняв данную попытку исследования, мы служим не истории в целом, а лишь извечной и естественной жажде знания. В конечном счете разве нормально отсутствие хотя бы одной работы, нацеленной на популяризацию и синтез, которая отразила бы нынешнюю стадию изучения и современные исследования битвы при Пуатье так, чтобы в итоге подчеркнуть известное и раскрыть неясное? Под таким предлогом мы решительно заявляем в дополнение к нашим предыдущим утверждениям – сражение столкнуло армии под небом земли пиктонов.
Примиряющее мнение Рейно может служить точкой соприкосновения для двух гипотез, Тура и Пуату, – удобная классификация, но нам она совсем не по душе, настолько она смахивает на мелочный и беспредметный спор. Слишком уж это напоминает дискуссии о рождении Декарта.
В «Нашествии сарацин на Францию» Рейно предлагает привлекательное решение, говоря, что «встреча двух армий произошла у ворот Тура, предместья которого уже были разграблены; в битве, имевшей место в окрестностях этого города, сарацины потерпели крах, но окончательной их гибель стала у стен Пуатье».
На самом деле, позволительно высказаться чуть более энергично. Все гипотезы, построенные вокруг Тура, черпают вдохновение у арабов. Повторим, мы отдаем предпочтение большинству наших хроник и анналов, которые в данном случае невозможно обвинить в пристрастности. Куда эффектнее в смысле того, чтобы польстить новой династии, было бы представить дело так, будто ислам был остановлен у самого подножия величайшего и богатейшего символа всего галльского христианства, аббатства Сен-Мартен. Почему наши хронисты придерживаются более скромного «около Пуатье»? Лишь потому, что хранят верность истине. Совершенно очевидно, что слово «Тур» здесь звучало бы гораздо более впечатляюще.
Древнейшим рассказом является продолжение работы псевдо-Фредегара, написанной в 736 г. под влиянием Хильдебранда. Она не дает ни малейшего намека на место сражения. Точно так же лишен этой подробности и текст, который долгое время приписывался Исидору из Бехи, но на самом деле принадлежит кордовскому или толедскому Анониму.
Annales Metenses priores (Большие мецские анналы), относящиеся к 805 г., опираясь на предшествующие редакции, добавляют то самое, чего нам недоставало:
Juxta urbem Pictavem (Возле города Пуатье).
В IX в. хроника Фонтанеля или Сен-Вандриля, источником для которой, по-видимому, послужила хроника Муассака, дает то же
in suburbio Pictavensi (в предместье Пуатье), в то время как анналы Мюрбаха сообщают – ad Pectaves (около Пуатье). Аналогичное уточнение можно видеть в анналах Аниана, Цезаря Барония, церковных анналах Франции и многих других текстах, вроде летописи Санкт-Арнульфа, аламаннских анналов или хроники монастыря св. Рихария.
Так что большинство древних и современных историков помещают битву в район Пуатье, а многие из них конкретизируют – между Вьенной и Клайном. Мы не решаемся и далее погружать вас в эту путаницу имен – Мабийона, Мишле, Леви-Провансаля, Лависса, д'Анкетиля, Виардо и многих других, не менее известных.
Если принять эту свободную локализацию, можно перейти к поиску следующего элемента, которому мы хотели бы придать дополнительную, непреложную точность.
Эту деталь к нашим достоверным фактам добавляют арабы. (Вопреки мнению Ибн Хайяна, наше одобрение получает Ибн Идари.)
Речь идет о римской дороге, которая до того поразила воображение фанатиков Мухаммеда, что превратилась в немаловажный декоративный элемент. В спешке отступления она была для них сборным пунктом, Эль-Балат (мощеной дорогой), так что, при всей неопределенности рассказов о битве, мусульманские писатели называют ее:
Балат эш Шуада, «дорогой мучеников за веру». Здесь можно спорить по поводу различных толкований слова
«Балат». Выражение
Балат эш Шуада встречается только с XI в. и исключительно у андалузских писателей. Прочие средневековые арабские ученые ограничиваются тем, что просто говорят: мусульмане вместе со своим вали погибли в битве как мученики ислама. Согласно этим авторам, термин
Балат, напоминающий о римской дороге, переводится как мощеная дорога или тракт. Рейно, Уар, Форьель, Сегуин и Мерсье предпочитают первый вариант, в то время как Дозю, Леви-Провансаль и испанские историки Лафуенте у Алькандара и Кодера останавливают свой выбор на втором.
Специалисты единодушно опровергают заявление Ибн Хайяна, который связывает
Балат эш Шуада со сражением при Тулузе, перенося при этом битву при Пуатье в Тур. Марсель Бодо кратко формулирует общее мнение: «Нетрудно согласиться с отрывком из Ибн Идари по поводу Дороги мучеников,
Балат эш Шуада, чтобы сделать вывод – это событие имело место на мощеной дороге, что соответствует логике, указывая на римский тракт, а именно тот, который вел из Тура в Пуатье». Дежа, Рейно, Леви-Провансаль, Левиллан недвусмысленно привлекают внимание к этому же факту.
С настоящего момента мы должны отказаться от неправомерной интерпретации слова «мученик». Некоторые на основании этого термина берут на себя смелость поместить битву в окрестности галло-римского кладбища, расположенного на возвышенности Сен-Илэра. «Martiricum», на старофранцузском «martroi» действительно означает некрополь. Однако арабы не только не могли видеть этого «мартирикума, подходя к месту», но, кроме того, они никогда не применили бы выражение
эш Шуада (от
мат шадад, «он умер мучеником») к кладбищу галло-римлян, которых считали многобожниками и идолопоклонниками.
Таким образом, нам не остается ничего, кроме как ограничить свои блуждания между Инграндом и Пуатье пространством вблизи римской дороги. Можно ли еще сузить территорию поля боя?
Ла Палис наивно заявил, что враги могли столкнуться, только находясь на одном берегу реки, которая в этом случае не разделяла бы их. А это означает две возможные территории: между Инграндом и Сеноном или между Сеноном и Пуатье.
Прежде всего брод. Неужели мы допустим, что ночью перед битвой армиям Абд-ар-Рахмана удалось, оторвавшись от противника, переправиться через такую реку, как Вьенна, напротив Сенона? Помимо глупой неосторожности, это было бы подвигом, абсолютно неосуществимым в темноте и в виду вражеской армии, причем ее ответные действия на подобную дерзость даже не имели бы значения. Сражение желательно было начать следующим утром. Это было совершенно необходимо иметь в виду. Отрывок из Жития св. Леодегария позволяет нам оценить всю трудность, которую представляла переправа через реку:
«Когда в 681 г. останки епископа Отена, казненного по приказу Эброина, были перенесены в Пуату, сопровождавшая их процессия на некоторое время задержалась в Ингранде и затем снова двинулась в путь, а епископ Пуатье, Ансвальд, узнав о ее приближении, распорядился, чтобы из его епископского города Антран принесли вина для подкрепления бедных людей, следовавших за мощами. Затем погребальное шествие прибыло в Сенон, но ветер был столь яростным, а Вьенна столь бурной, что перевозчики посоветовали отказаться от попытки переправиться через реку».
Более того, нет ни одного указания, которое когда-либо позволило бы поместить сражение между арабами и франками в этот сектор. В том, что касается подобной переправы через реку, мы присоединяемся к мнению майора Лекуантра; мы убеждены, что армии, коль скоро они вошли в соприкосновение, не могут ни двинуться вперед, ни отступить. А это вынуждает нас сказать, что основные силы Абд-ар-Рахмана не могли миновать Сенона. При этом мы отличаем основную армию от отрядов, рассыпавшихся по всей округе и вызвавших военные эпизоды вроде того, о котором выше упомянул М. Бодо.
Наконец, раз уж хроники единодушно твердят: «вблизи Пуатье или в окрестностях Пуатье», нужно иметь еще более веские основания, чтобы вывести битву дальше за Сенон. Тогда становится более понятной долгая неподвижность, предшествовавшая битве. Оказавшись в буквальном смысле зажатым между двумя реками, каждый из противников не решался сделать выпад, ища возможностей для отступления на случай поражения. По всей вероятности, для Карла Мартелла это было полной катастрофой: у него за спиной была Вьенна. Даже после своего поражения мусульмане, как более маневренные, были в менее стесненном положении. Эти соображения почти заставляют нас предположить, что арабы ворвались в Пуатье, а франки переправились в Сенон одновременно. Лишь такое совпадение позволило бы объяснить переправу Карла через Вьенну и спокойные приготовления, предшествовавшие столкновению.
Вернемся назад и рассмотрим развитие событий под этим углом зрения. До того как эмир до основания разрушил Сен-Илэр, на правом и левом берегу Вьенны появилось множество более или менее значительных разведывательных отрядов, прочесывавших территорию в направлении Тура. Некоторые из них, переправившись вброд через Буавр напротив Сен-Илэра, направились по галло-римской, а затем – римской дороге из Пуатье в Сомюр. Следы этих банд в этом районе можно обнаружить повсюду. Г-н Левиллан:
«Вдоль Вьенны, в Шинуазе (Базилли, Сазилли) и по всему Верону (район между нижним течением Вьенны и Луары) до сих пор существуют островки населения этнических сарацин. В Лудинэ люди отчетливо сарацинского типа встречаются в общинах Сен-Касьян, Мартазе, Арсэй и т. д., и даже в окрестностях Монконтура…
С другой стороны, в этом районе почти повсеместно было обнаружено сарацинское оружие; оно хранится в частных коллекциях».
В числе прочих г-н Левиллан упоминает о коллекциях графа Октава Рошбрюна, покойного Габриэля де Фонтена, г-на аббата Менена. Эти сведения, предоставленные ему, как он указывает, г-ном Шарбонно-Лассей, по нашему мнению, ясно доказывают факт оккупации страны, но эта оккупация не могла иметь места после битвы.
Остальные всадники, все еще до сражения, вернулись на нулевой меридиан, безусловно, очень задолго до стычки при Сепме, если в нее верить, в то время как в самом районе битвы один мусульманский отряд оставил после себя очень красивую легенду; она дала название повороту «пяти мавров» на дороге, прорезающей кустарники между Вуней и Бонней-Матур вдоль берега Вьенны.
На этом самом месте несколько воинов из армии Абд-ар-Рахмана, разумеется, пятеро, нашли средство удовлетворить свою жажду наживы – лодку. Они позаимствовали ее, переплыли через реку и, неожиданно потревожив покой аббатства Савиньи, славно пограбили в нем. До такой степени, что вывезли из святого места даже колокола. Увы, челнок был так нагружен, что пошел ко дну посреди реки, увлекая в пучину грабителей и плоды их разбоя. Грабители тотчас утонули.
И ходят слухи, что во время бури или сильного волнения на Вьенне, при дуновении ветра или в грозу можно услышать идущий из самой глубины реки беспрестанный колокольный звон.
Не приходится сомневаться, что сам Абд-ар-Рахман приказал своим всадникам двигаться впереди него.
После их выступления, войдя в обширное пространство в форме треугольника меж Туром, Пуатье и Боссэй, где ему было суждено встретить свою гибель, он не без удивления обнаружил прямо перед собой франков.
По очевидной необходимости мы вернули битву в те самые рамки, которые ей чаще всего приписывают. За описанием театра военных действий обратимся к Диго.
«В Пуату находятся два места, одно из которых носит название, а другое – прозвище Батай (Битва); первое – на северо-северо-востоке, второе – на северо-северо-западе. Расположение последнего настолько точно описано историками XI в., что, сочтя его ареной события, от которого происходит его название, ошибиться невозможно. Таким образом, по аналогии сразу можно допустить, что второе место было прозвано Батай только потому, что напоминало о событии такого же рода».
Заявляя, что армии Абд-ар-Рахмана ворвались в Пуатье, Диго продолжает:
«Территория между Пуатье и этим
mansio (Старый Пуатье) образует пространство наподобие мыса, или выступа суши, омываемого с востока Вьенной, а с запада – Клайном. Обе эти реки текут по узкому руслу, глубоко врезаясь в ложбину, ограниченную с обеих сторон достаточно высокими обрывами: мыс, омываемый обеими реками, образует и венчает собой вершину треугольника, максимальная ширина которого в основании не превышает 10 500 туаза, а у вершины – всего 1000. По правой границе от Пуатье до Старого Пуатье наберется 13 500 туаза, или почти семь современных почтовых лье. Приблизительно на полпути находится лес Мольере, который до того суживает долину, что с этого момента она не достигает и 3000 туаза; но, оказавшись на уровне Диссей, она раскидывается в обе стороны на 5000 туаза; затем, ближе к Старому Пуатье, ее ширина неуклонно уменьшается; ее постоянно перерезают заросли кустарника, в VIII в., возможно, более значительные, чем в наши дни…
Франки долго держали врага на уровне Мюссе, прозванного ла Батай».
Леви-Провансаль в своей «Истории мусульманской Испании» в двух словах поддерживает это же самое мнение:
«[Битва имела место] поблизости от римской дороги, связывавшей Шательро с Пуатье, примерно в пяти километрах к северо-востоку от этого последнего города, вероятно, на месте, которое до сего дня называется Мюссэ-ла-Батай».
Если допустить, что Карл Мартелл в полной тишине переправился через Вьенну у Сенона, что кажется несомненным (каким бы ни было место битвы «ad Pectavis» – около Пуатье).
Если предположить, а это общепризнанный факт, что по численности франкская армия уступала неприятелю.
Если согласиться, а это очень вероятно, что Карл был прекрасным полководцем, тогда мы сможем утверждать вместе с Дюфуром:
«В этом месте ширина долины составляет не более 2300 туаза; и если вычесть из нее площадь или ширину двух склонов, доминирующих над берегами Вьенны и Клайна, место, пригодное для маневра армий, в ширину не превышает и 1200 туаза, и эта цифра включает полосу кустарника размером в 500 на 1000 туаза. Карл Мартелл мчался навстречу Абдираману; он вынудил его остановить поход на Тур: однако на всем этом пути не было места, где задуманное удалось бы ему лучше, чем здесь».
И Дюфур перечисляет следующие соображения:
– предводитель франков завладел единственным подступом к реке;
– этот подступ был защищен выгодно расположенным древнеримским
mansio;
– сарацинская армия была чрезвычайно ограничена в пространстве для маневров своей конницы, которая в результате оказалась менее эффективной в бою;
– наконец, Карл имел достаточно времени, чтобы занять высоты, господствовавшие над этим ущельем.
Иными словами, битва произошла именно на этом месте, поскольку Карл, прибывший вовремя, чтобы переправиться через Вьенну, будучи великим полководцем, выбрал именно этот, устроивший его участок.
Значит ли это, что проблем больше нет и тайна раскрыта? Мы на это вовсе не претендуем. Слабость этой теории проистекает из указания
«ad Pectavis», «in suburbia» «Pictavensi» или еще
«juxta urbem Pictavem» в Мецских анналах. Эти конкретные свидетельства гласят, что сражение имело место в самых предместьях Пуатье или его ближайших окрестностях. Левиллан попытался смягчить категоричность хроник. Он согласился прежде всего с
«ad Pectavis» из анналов Мюрбаха.
«Летописец Мюрбаха, находясь в этом далеком эльзасском аббатстве, мог приблизительно поместить битву, произошедшую в Пуату на более или менее значительное расстояние от Пуатье, в окрестности этого города, даже если не учитывать, что иногда в текстах франкской эпохи
pagus (область) фигурирует под тем же названием, что и его главный город. Кроме того, допустимо думать, что в умах людей, незнакомых с местностью, где разворачивалась эта военная акция, могла возникнуть путаница между Пуатье, главным городом, и Старым Пуатье, менее известным населенным пунктом, хотя во франкскую эпоху он еще обладал достаточным значением и располагался как раз около римской дороги из Пуатье в Тур».
А вот это, очень заманчивое, предположение о смешении Пиктавия и Старого Пиктавия вполне могло иметь место.
Г-н Левиллан придерживается более или менее широкого толкования в применении к слову «suburbium».
«В
Vita Sadalbergae читаем:…coenobium puellarum in suburbio Linguicae urbis".
[173] Издатель взял на себя труд заметить, что слово suburbium здесь имеет значение округа (pagus) или диоцеза. В этом случае, напомним то, что сообщает нам подлинная хартия св. Элигия: "Ego… in suburbio Lemonscensi intra fundo agri solemniacensis Deo auctore construxit". Солиньяк находится в двенадцати километрах к юго-востоку от Лиможа.
Слово suburbianum используется в различных текстах в таком же широким значении; приведем нижеследующие примеры, поскольку они дают нам возможность узнать, какое расстояние отделяет указанное место от города.
Annales qui dicuntur Einhardi (Королевские франкские анналы),787: «Et in suburbano Mogontiacense in villa quae vocatur Ingilunheim,quia ibi hiemaverat et natalem Domini et pascha celebravit» (И в предместье Майнца в вилле, что зовется Ингельхеим, зазимовал и Рождество отпраздновал). Ингельхеим находится в двадцати километрах к западу от Майнца.
Vita Goaris confessons: «…Infra terminum Wasaliacinse suburbano Trevico» (в пределах Вазалиацинса, что в предместье Трира). Речь идет об Обер-Везеле на Рейне вверх по течению от Сен-Гоара; Обер-Везель находится в девяноста километрах по прямой от Трира».
Прервем этот, еще достаточно длинный, перечень г-на Левиллана, который недалек от того, чтобы убедить нас, когда утверждает: «Это один из случаев, когда слово
"suburbium" применяется ко всей административной территории, округу (pagus) или диоцезу, который зависит от города: таким образом, какое-то место может находиться в двадцати, пятидесяти или даже ста километрах от главного города, округа (pagus), или епископального города; тем не менее о нем будет говориться "in suburbia" или "in suburbano"».
Таким образом, в результате мы получаем право искать место столкновения двух армий между Пуатье и Туром, не покидая, однако, пределов Пуату.
Таков, можно сказать, истинный баланс наших знаний и предположений. Разумеется, эта локализация неопределенна. Быть может, однажды более удачливые исследователи получат возможность подвести Карла Мартелла к самым стенам Пуатье, по примеру Пюви де Шаванна, не являвшегося историком, чье полотно украшает главную лестницу отеля города Пуатье.
Что же касается нас, гипотеза Мюссе вполне удовлетворила наше любопытство. Придет ли нам в голову перестать величать «битвой при Пуатье» сражение при Нуайе-Мопертюи, которое ознаменовало собой поражение и бесчестье нашего доброго короля Иоанна 19 сентября 1356 г.?
[174]
Наконец, есть еще одна мелочь, которая побуждает нас привести несколько дополнительных доводов в поддержку данной теории, так сказать, для напоминания. Но сразу же отметем гипотезу, согласно которой название Мюссе происходит от Мусы, арабского военачальника.
В этом главном опорном районе кое-какую информацию дала нам почва в результате случайных находок или скромных раскопок, которые там предпринимались. Шестьдесят лет тому назад лесорубы срубили огромный дуб, у подножия которого они нашли скелет и кое-какое оружие. Исследователи не только заявили, что эти останки и оружие являются сарацинскими, но, более того, на этом самом месте находился мусульманский лагерь. Речь шла о месте под названием Пинайль, безлюдные вершины которого, очищенные от леса, изрезанные оврагами и рвами, возвышаются помимо других селений над небольшой деревушкой под названием Монтгаме.
Аргументы были столь слабыми, что мы не считаем нужным их здесь повторять.
Мухаммед сказал: «Хороните мучеников там, где они умерли, вместе с их одеждой, ранами и кровью. Не омывайте их, ибо в день суда раны их будут благоухать мускусом».
Основываясь на факте гибели Абд-ар-Рахмана в бою и местном предании было проведено исследование места, расположенного по пути из Сенона в Жюме, которое называется Гробница молодого дуба или Ров короля.
Легенда такова: «Здесь как истинно верующий погиб под ударами франков Абд-ар-Рахман. Гурия спустилась с небес, чтобы извлечь его душу через смертельную рану, после которой он был похоронен своими приближенными на том самом месте, где пал. Высокие тополя качаются над Рвом короля, шелест их листьев подобен шороху ангельских крыльев, в то время как Аллах без конца убаюкивает душу Мученика».
В гробнице были найдены лишь кости и скелеты, ногами обращенными на восток, и это позволяет предположить, что, скорее всего, речь здесь идет о мусульманах.
Напомним об открытом вблизи Сенона необычайно большом кладбище, наводящем на мысль о том, что здесь похоронены франки, погибшие в сражении. Среди могил, извлеченных из земли, можно найти крючья, пряжки, цепи и другие детали доспехов.
Этот аргумент кажется сомнительным. Наконец, по всем окрестностям фермы, называемой Батай, страх перед арабами, таящийся в глубине души у жителей, остается столь живучим, что породил легенду о Ветре смерти. В октябре он дует по субботам в той долине, которая когда-то стала свидетельницей столкновения Востока и Запада. Ни один смельчак не решился что-либо построить на этом проклятом месте. Если кто-то случайно, не зная того, пересекает эту небольшую ложбину со своим стадом в тот час, когда ветер переходит в вихрь, горе его скоту или ему самому. На любое живое существо нападают неизлечимые болезни, а недоверчивые автомобилисты теряют колеса своих машин и гибнут в ужасающих авариях.
Октябрьская суббота. Даже легенды несут в себе частицы правды. В том, что касается датировки битвы при Пуатье, из четырех элементов, способных обеспечить этой дате точность, абсолютно несомненны только два, суббота и октябрь. Действительно, покров тайны, окутывающий это сражение, связан не только с его местом, но еще с годом и днем.
Перед нами три теории:
Горячие сторонники 732 г., которые отказываются признать свои школьные воспоминания мистификацией и не позволяют себе подрывать уверенность великого народа. Предоставим г-дам Левиллану и Самарану труд выразить мнение целого ряда авторов, начиная с Фюстеля де Куланжа, Диго, Мишле, Лависса или Пиренна. Их очерк включает исследование знаменитой рукописи № 10837 и, в частности, до крайности немногословной приписки:
II ID OCT. PUCNA IN NIRAC.
«Очевидно, имеется противоречие: дата, 14 октября, приходится не на субботу; в 732 г. субботой были 4, 11, 18 и 25 октября; впрочем возможно, что переписчик этих примечаний принял за II цифру V, неудачно написанную в документе, с которым он сверялся; действительно, подобные ошибки нередки; если с этим согласиться, то нужно будет датировать это прославленное сражение субботой 11 октября 732 г.».
Ясно, что мы должны отвергнуть эту гипотезу, поскольку Нирак не принадлежит к Пуату. Но, с точки зрения г-д Левиллана и Самарана, эта дата знаменовала собой лишь начало битвы. По их мнению, разгром арабов после этого сражения совершился у Мюссе.
Рассмотрим то, что авторы предлагают в связи с этой последней фазой сражения, фактически единственной, на которой мы могли бы остановиться.
«Вот доказательство того, что битва имела место в субботу 25 октября 732 г.
В анналах Ибн эль-Адхари (или Ибн Идари), которые Дози опубликовал в Лейдене в двух томах (1848–1851), можно найти не только тот отрывок, о котором вы упоминаете (речь идет об ответе майору Лекуантру): "Он [Абд-ар-Рахман] со многими воинами встретил мученическую смерть в месте, называемом Улицей или Дорогой мученика", но еще и вот этот "Правление Абд-ар-Рахмана. Этот военачальник вторично стал наместником в месяце сафар 112 г. и оставался им два года и семь или восемь месяцев Он нашел мученическую гибель во вражеской стране в месяц рамадан 114 г."
Однако в соответствии с таблицами перевода:
Месяц сафар 112 г. по Хиджре 25 апреля.
Месяц рамадан 114 г. по Хиджре 25 октября.
В 730 г сафар начался 25 апреля, а рамадан – 23 октября 732 г., наместничество Абд-ар-Рахмана продлилось два года шесть месяцев, если считать от 25 или 26 апреля 730 г., а поскольку Абд-ар-Рахман умер во время рамадана 732 г., он неминуемо был убит в сражении, произошедшем 25 октября, в день, который в том году выпадал на субботу. Это подтверждает данные анналов Сент-Амана "in mense octobn" (в октябре месяце) и свода так называемых анналов Мюрбаха "die Sabato" (в субботний день)».
Эта убедительная демонстрация очевидного заставляет нас задуматься над правомерностью дат, которые нам предлагают 725 г. Боссуэ, 726 г. Краткого изложения военных донесений при Старом порядке и анналов Фульды, которые уточняют – 22 июля, 727 г. служебника ев Грациана, или 734 г. комментатора продолжателей Фредегара, который перешагивает через 730 г., о котором говорится в «Выдержках из хроник и анналов Франции». Семьсот тридцать четвертый год на мгновение задерживает наше внимание Аноним относит начало эмирата Абд-ар-Рахмана к времени после 15 марта 731 г, однако мы не имеем возможности заподозрить, что он здесь ошибся или что эта дата была изменена каким-то переписчиком если к июлю 711 г, дате высадки Мусы в Испании, прибавить сумму лет и месяцев всех эмиратов вплоть до наместничества Абд-ар-Рахмана в том виде, в каком их дает этот автор, мы получим несколько дат до и после середины марта 731 г. При том что Абд-ар-Рахман правил Испанией в течение трех лет, его поражение и смерть следует датировать не октябрем 732, а 734 г., или 116 г. по Хиджре (10 февраля 734-31 января 735)…
Аноним уверяет нас, что Абд-ар-Мелик сменил Абд-ар-Рахмана в 772 г. испанской эры (734 по обычному летосчислению) и 116 по Хиджре (10 февраля 734-29 января 735). Таким образом, мы выявляем третью тенденцию, которая относит битву к 733 г., это мнение Поля Дешана и главным образом Марселя Бодо, аргументацию которого можно вкратце изложить следующим образом.
Широкораспространенное убеждение в том, что битва имела место в 732 г., основывается на указаниях анналов Мюрбаха и Сент-Амана, подхваченных различными франкскими хронистами и арабскими компиляторами XVII в. Но два главных франкских источника, хроника Муассака и свидетельство Хильдебранда, дают пищу для сомнения; первый текст, хотя он и утверждает, что нападение Абд-ар-Рахмана началось в 732 г., после этого перечисляет, не называя дат, события, которые должны были бы захватывать и следующий год: «Сбор большой армии Абд-ар-Рахманом, кампания против зятя герцога Аквитании, созыв войска герцогом Эдом, осада Бордо, разграбление Аквитании мусульманами, эпизод с золотым ковчежцем в виде руки
[175] и вмешательство Убейды эль-Кайси, эмира Африки, нападение на Пуатье, разгром и сожжение монастыря Сен-Илэр, поход на Тур, просьба герцога Аквитании о помощи к Карлу Мартеллу, созыв Карлом Мартеллом огромной армии, включавшей австразийские, нейстрийские и бургундские части, и, наконец, решающее сражение между двумя войсками».
Согласно второму тексту Карл вернулся во Фрисландию только в 734 г.
Выглядит по меньшей мере правдоподобным, что те, кто указывает на 732 г. как на дату битвы, ошибочно интерпретировали свои источники и приписали первоначальной фазе кампании всю совокупность последующих событий.
В ответ два самых древних арабских свидетельства, принадлежащих Аль-Хакаму и Ибн-Идари, относят поражение и смерть Абд-ар-Рахмана к 115 г. по Хиджре, то есть к 733–734 г. Эту дату подтверждает и Житие св. Евхерия, епископа Орлеанского, составленное в VIII в.; этот епископ был отправлен в ссылку вскоре после победы Карла Мартелла над арабами, и, сопоставляя различные варианты, М. Бодо показывает, что это изгнание могло произойти только после 732 г.
Мы знаем, что битва имела место в «октябрьскую субботу». Ибн Идари, со своей стороны, уточняет, что она произошла в рамадан, который в 733 г. начался только 14 октября. Таким образом, это могла быть лишь суббота 17, 24 или 31 октября.
Если же допустить, что смерть св. Грациана наступила в тот момент, что и битва, то можно добиться еще большей точности: поскольку поминальная служба об упокоении мученика Грациана состоялась раньше дня св. Луки, то есть до 18 октября, М. Бодо вправе сделать вывод о том, что Карл Мартелл разбил арабов в субботу 17 октября 733 г.
Мы же, со своей стороны, убежденные его железной аргументацией, думаем, что отныне нам придется свыкнуться с этой новой датой.
Где истина, где тень и где свет? Не уступает ли волнение Абд-ар-Рахмана и Карла накануне битвы тому трепету, который испытывает современный историк?
Глава VIII
«Дорога мучеников»
Кордовский Аноним в своем рифмованном или, точнее, насыщенном ассонансами рассказе на варварской латыни поведал об этой битве через двадцать два года после того, как она состоялась. Из множества христианских хроник и арабских повествований рассказ испанского летописца – единственный, в котором можно найти нечто вроде ее описания, поражающего варварством и неясностью. Некоторые, как, например, аббат Клуэ, предполагают, что основой для хроники Анонима послужили военные песни того времени. Впрочем, в поддержку этой гипотезы и в качестве примера ему удалось привести песню, относящуюся к поражению, нанесенному саксам Хлотарем, и сатиры, составленные после поражения, которое претерпел Эд от Карла Мартелла.
Этому заключению аббата Клуэ противоречат два соображения. В рассказе Анонима мы не находим и следа того ритма, которого следовало бы ожидать, если речь шла бы о компиляции военных песен. С другой стороны, частые в этом повествовании ассонансы, породившие вышеуказанное предположение, встречаются и во всех остальных частях обширной хроники Анонима. Этот рассказ послужит каркасом нашему изложению; выходя за рамки схемы Анонима, мы постараемся соблюдать осторожность с полным уважением к его замыслу и плану.
Ожидание
Ubi dam per septem dies utrique de pugnae conflictu se exeruciant. «После того как в течение семи дней происходили яростные стычки».
Это любопытное ожидание, предшествовавшее главному сражению, присутствует у всех позднейших по отношению к этому хронисту историков. Как представляется, лучше всего передал эту неделю выжидания, использованную для наблюдения, прощупывания противника и подготовки, Форьель в своей «История Южной Франции»:
«Абд-ар-Рахман и Карл целую неделю оставались напротив друг друга, в лагерях и в столкновениях, откладывая начало решающих военных действий со дня на день, с часа на час, ограничиваясь угрозами, ложными выпадами, мелкими стычками…»
Армии изучали друг друга, командиры не решались дать сигнал. Можно ли найти причину? Неприятели испытывали друг к другу взаимную ненависть и страх или лишь обоюдное удивление, вызванное разницей в облике, одежде и оружии? Была ли их нерешительность продиктована этими чувствами? Это долгое наблюдение с обеих сторон свидетельствовало о том, что враги не знали, чего хотят. Нет сомнения, что, страшась исхода решающей битвы, оба противника готовились к ней особенно тщательно. Карл ожидал прибытия своих отставших частей и, как указывает Фердинанд Лот, поддержки от отрядов, спешно собираемых в Пуату, Турени и Анжу в соответствии с франкским принципом местного набора на воинскую службу. Абд-ар-Рахман силился собрать свои разрозненные банды, грабившие округу.
Молленхауэр выражает еще одно мнение по поводу предшествовавшего сражению отрезка времени: «Нужно осознать, что для того, чтобы дать сражение, необходимо поле битвы. В густом лесу с редкими тропами невозможны были более значительные маневры. Таким образом, для командиров обеих армий речь шла о том, чтобы прежде всего найти столь необходимое поле, которое вместило бы их воинов. Характерно то, что источники информации говорят о почти семи днях ожидания. Определенно речь шла, скорее, о необходимости удобного места, чтобы построить две громоздкие армии в боевом порядке, чем о недостатке решимости или мужества». Подобная гипотеза представляется нам очень малоправдоподобной.
Итак, неделя многочисленных трений, которая, как кажется, не принесла арабам никакого запаса знаний даже при их привычке тщательно изучать диспозицию неприятеля и подражать ему, следуя императиву главное – осторожность, ничего нельзя оставлять на волю случая.
Sese postremo in aciem parant. Аноним продолжает: «Они подготовились к решающему сражению».
Позиции в битве
На седьмой день, в субботу 17 октября 733 г.,
non longe a Pictavts (неподалеку от Пуатье).
«Арабы и мавры первыми вышли из своих шатров на крик муэдзинов, созывавших людей на молитву», читаем у Зеллера.
«В этот самый момент (Житие Григория II)
[176] в лагерь христиан были доставлены три корзины евлогий,
[177] посланные им папой Григорием в знак благословения», а затем принцепс Карл выстроил свои войска в линию, в то время как на равнине в полном порядке развернулись сарацины.
Красочный вымысел, опоэтизированная реставрация, создающая некую атмосферу, но ее следует перевести на более прозаический язык армии в боевом порядке встают лицом к лицу. Прежде чем два войска столкнутся, позволим себе некоторые рассуждения
относительно их снаряжения и вооружения.
Чтобы не изменять своим детским воспоминаниям, сначала приведем кое-какие привычные примеры описания арабских легионеров, такими, какими их могли бы увидеть франки. Между прочим, читаем: «Эти смуглые люди в белых тюрбанах, в белых бурнусах, с круглыми щитами, тонкими саблями и легкими дротиками», или еще: «Австразийские франки с любопытством взирали на этих южных людей, смуглолицых, с яркими черными глазами, в длинных белых одеяниях», которые «клубились подобно ветру, раздувавшему у них за спинами просторные бурнусы, и размахивали короткими копьями над своими красными тюрбанами».
У Зеллера мы почерпнем самый знаменитый штамп: «С одной стороны – мешанина белых бурнусов, восточных драпировок. Арабы из Дамаска и Багдада… блистали под финикийскими украшениями, под сирийскими шелками… под кокетливыми тюрбанами из персидского муслина. Арабы из Хиджаза и Йемена… обвязывали свои грубые бурнусы веревкой из верблюжьей шерсти вокруг головы; их богатством была прекрасная лошадь, родословную которой они знали, с огнем в глазах, с блестящим крупом, стройная и нервная, как и ее хозяин; или же они прибывали верхом на своих быстрых дромадерах… потрясая своими пальмовыми луками. Бербер, высокорослый горец, с более смуглым лицом… важно ехал на какой-нибудь крепкой атлаской лошадке». Генерал Маргарон еще добавляет колорита, напоминая о том, что помимо лошадей арабы использовали в качестве верховых животных верблюдов.
Эти описания более применимы к костюмам и оружию первых арабских завоевателей, нежели к одеянию участников битвы при Пуатье. С течением времени снаряжение видоизменялось. Стремясь уподобиться христианам, мусульмане заимствовали щит, кирасу, металлический шлем и копье, способное пронзить тело насквозь. Однако нужно полагать, что арабские воины всегда сохраняли нечто от той легкости, которая отличала их первоначально. Тем не менее мы вправе и подивиться этому факту, если припомним бедуинское проклятие: «Будь ты проклят, как франк, который надевает доспехи из страха смерти». И все-таки необходимо отвергнуть тюрбаны, головные уборы персидского происхождения, долгое время остававшиеся достоянием ученых и монахов. Тем более что их очень трудно удержать на голове во время галопа. Что же касается бурнуса, западного одеяния, неизвестного на Востоке, то равным образом нам придется отказаться и от него. Но мы готовы оставить участникам битвы их сверкающие кривые сабли, висящие на шее, их мечи – гарант их права, луки и пики, а также знамена, украшенные стихами из Корана.
Они похвалялись легкостью, подвижностью, стремительным аллюром своих коней, выносливостью лошадок с Неджда. Генерал Бремон подчеркивает в связи с этим одно противоречие: «Этот неутомимый галоп после дороги длиной в тысячи километров вызывает скептическое отношение. В 1812 г. лошади Нансути
[178] с июля плохо выдерживали нагрузку, и Наполеон выражал недовольство этим. Нам известно о марокканской кавалерии, которая, должно быть, до чрезвычайности напоминала конницу Абд-ар-Рахмана. Ни одна из этих лошадей не могла пройти галопом расстояния в тысячу метров за отсутствием соответствующей тренировки; от их можно было добиться джигитовки галопом на протяжении двух-трех сотен метров, после чего лошади выдыхались».
Если посмотреть под этим углом зрения, завязывающаяся битва превратится в несущественное столкновение.
Мы полагаем, что можем противопоставить этой теории обоснованные доводы генерала Пенсара, кавалериста и превосходного специалиста во всем, что касается арабов.
Джигитовка – это развлечение, не подчиняющееся никаким правилам, ее участники дают свое представление в полном беспорядке. Их задача состоит в том, чтобы заставить лошадей, разгоряченных до предела непрестанными ружейными залпами всадников, выложить все свои силы. Ничего подобного не происходило во время атаки, тем более что во времена Абд-ар-Рахмана в сражениях использовалось только холодное оружие.
Атака, в отличие от джигитовки, регулировалась дотошными предписаниями и чаще всего разворачивалась на очень ограниченной (поскольку она не была подготовленной) территории. Действительно, на поле битвы имелись всевозможные препятствия, которые внезапно появлялись на пути, в виде изгородей, деревьев, рытвин и рвов. Поэтому атака часто начиналась с манежного галопа, чтобы достичь своего размаха только на последних ста метрах. В конце этого короткого пробега лошадь, возможно, и задыхалась, что привычно для верхового животного, которое ощущает мышечную усталость только пару минут, после чего его дыхание приходит в норму. Убедительные примеры тому нам дает поло. Когда атака заканчивалась, за ней следовала статичная фаза поединков, после чего всадники отходили назад, освобождая место для новой волны. Так что эта тактическая игра и эти предположения позволяют нам верить в возможность кавалерийского сражения, которое бы длилось несколько часов.
Что же касается высказывания о том, что лошади, совершившие тысячекилометровый пробег, уже не обладают выносливостью, необходимой для того, чтобы выдержать напряжение битвы, то мы верим в это тем меньше, что у каждого всадника было по нескольку верховых животных.
Генерал Пенсар еще думает, что наших лошадей нельзя сравнить с теми, которые жили в эпоху Средневековья, точно так же как не следует сопоставлять стойкость арабских и франкских воинов с возможностями наших современных солдат. Антара, поэт VI в., особенно почитаемый Мухаммедом, оставил нам следующее похвальное слово своему боевому коню, и этот панегирик может снять определенные сомнения: «Я всегда верхом на сильном коне высокого роста, покрытом шрамами, против которого не прекращают выступать, сменяя друг друга, воины».
Вполне можно допустить, что арабская конница обладала реальной силой, поддержкой которой Красе заручился против парфян, и осознать значение лошади, закрепленное в одной из коранических сур, несущей на себе отпечаток эпического духа:
Запыхавшимися боевыми конями,
Которые выбивают огонь копытами, взметая прах,
Которые врываются в ряды противника.
А впрочем, к чему упорствовать, доказывая возможности лошадей в битве при Пуатье? В той же мере можно планомерно подвергнуть сомнению все конные сражения истории.
Другой вопрос, вызывающий недоумение, – стремена. Нет никаких оснований, говорит майор Лефевр де Ноетт, полагать, что арабам они были известны. Лишь одним веком позднее мы находим конную статую Карла Великого, на которой эта деталь отсутствует. По утверждению майора, никому не была известна и подкова, которую начали использовать только в IX в. в Иль-де-Франс, где она и была введена.
Таким образом, в разговоре о битве следует отказаться от выражений вроде: смять, стремительно атаковать и обратить в бегство, когда речь идет об арабской коннице.
Александр де Сен-Фалль в своей книге: «От Мухаммеда до Готфрида Бульонского» опровергает майора де Ноетта. Он напоминает, что армия великого Тайцзуна уже почти век была оснащена стременами, несравненным изобретением, позволяющим всаднику совершать бесконечно более продолжительные и менее утомительные рейды и довести атаку до уровня физического удара, деморализуя тем самым противника. Арабы, соприкоснувшиеся с китайцами в этих далеких странах, не замедлили осознать причину этого неотразимого натиска два кожаных ремешка и две легкие для изготовления металлические скобы, так что уже через несколько лет кавалерия. Муавии располагала этой новой разновидностью конской сбруи Сен-Фалль видит в этом заимствовании причину успеха арабской экспансии, которая из пустынь Египта донесла ислам до самого Гибралтара. Равным образом он полагает, что еще приблизительно через двадцать лет со стременами познакомились и всадники Карла Мартелла.
Какая сила противостояла последователям Мухаммеда? Если верить историкам, толпа пеших людей и достаточно значительные конные части в столь тесном строю, что вспоминается фраза Жуанвиля:
[179] «Если бы кто-то бросил им перчатку, она бы не нашла места, чтобы упасть на землю, на протяжении полулье». Поль Эмиль говорит: «Пехота была выстроена в длинную линию, солдаты жались друг к другу, чтобы не пропустить сарацин».
Войско было компактным и неоднородным, так как историк Родерих Толедский упоминает в составе этого войска даже гепидов. Описание, которое дает Зеллер, хотя и красочно, но все же более реалистично, чем его же представление об арабах «Франки с их огромными, как у всех германцев, руками, обтянутыми перекрещенными пурпурными лентами, потрясали секирами своих отцов (топор на короткой рукояти, оружие, как метательное, так и рубящее), а главное, загнутым крючком ханг, которым врага зацепляли, пронзали и повергали к ногам победителя. (Ханг или ангон, дротик с привязанной к нему веревкой, использовался как гарпун.) Самые бедные и самые дикие, выходцы из Гессена и Франконии, надевали на плечи медвежьи и зубровые шкуры; самые богатые, питавшиеся со стола влиятельных вождей или жившие среди трудолюбивых галльских колонов, носили тяжелые кольчуги, нагрудники из стальных пластин, римские шлемы и галльские тартаны тысячи цветов, которые производились в Ванне. Саксонские добровольцы полагались на свое национальное оружие – огромный двуручный меч, знаменитый сакс… Аламанн и бавар держались стойко благодаря своему длинному и тяжелому копью, сделанному из кола, добытого в герцинском лесу. И, наконец, еще более дикие воины, прибывшие из самых дальних пограничных областей Германии, красившие свое орудие и тело в черный цвет. У этих не было ничего, кроме храбрости, ивового щита, толстой пихтовой пики и тяжелой дубовой дубины».
Это пестрое воинство было описано арабскими историками, которые уверяют, что армия Карла состояла из людей, говоривших на разных языках, тогда как Аноним, рассказывая о них, обозначает их общим термином «европейцы». Лишь Дом де Вик и Дом Весетт утверждают, что в составе этой армии были исключительно франки и бургунды без всякой поддержки со стороны германцев.
В этот самый момент, когда обе армии находятся в боевом порядке, стоит ли нам следовать Полю-Эмилю де Верону, изображающему, как Карл и Абд-ар-Рахман обращаются к своим воинам с пространными речами в соответствии с традицией Тита Ливия в самом чистом виде, и нужно ли верить Бернару де Жирару, который приписывает Карлу Мартеллу вот такое воззвание: «Неверные встретят людей Франции, которые подвергнут их испытанию. Бог поможет им и воспретит им раздоры. Оправдайте же это доброе мнение».
Есть и менее сомнительное предположение, пусть оно и не строится на каком-то определенном основании; оно позволяет допустить, что, согласно кораническому закону, Абд-ар-Рахман начал с того, что предупредил людей, которых собирался атаковать, предложив им принять религию Пророка или заплатить дань. Слова Мухаммеда категоричны: «Призови их на путь твоего Господа умело, благоразумно, кроткими и убедительными увещаниями».
Но сделал ли это благочестивый Абд-ар-Рахман?
«Бодро сражаясь, северные народы, не уступая и оставаясь недвижными, как ледяная стена, убивали арабов ударами своих мечей».
Атака
Нельзя отрицать, что инициатива первой атаки принадлежала Абд-ар-Рахману, и не менее определенным представляется то, что франкская армия выдержала это нападение, не дрогнув. Сражение длилось до самой ночи, но к которому часу следует отнести его начало? Можно допустить, что с момента восхода солнца прошло достаточно продолжительное время, необходимое для построения, предшествовавшего сражению. Тогда можно предположить, что было около полудня, и это полностью отвечает исторической логике. Мухаммед внушил своим последователям принцип: избегать битв до
аль-зора,[180] второй дневной молитвы, которой завершается утро. Его тактическим планом было: до вечера удерживать равновесие в битве, чтобы затем возобновить сражение со свежими частями, до того сохранявшимися в резерве, и в результате ошеломить неприятеля мощной заключительной атакой. Или же, на случай поражения, чтобы бегство происходило под покровом ночи.
Можно утверждать с полной уверенностью, что, как только полуденная молитва была завершена
(аль-зор), арабы начали генеральное наступление с криком:
«Ахадум, ахадум!» (нет Бога, кроме единственного), для разнообразия иногда заменяя его другим военным кличем:
«Аллах акбар!» (Аллах велик!) Это был стремительный бросок на ряды франков, призванный разъединить их с тем, чтобы потом, по выражению кавалеристов, «дробить щебень». Неистовый и яростный натиск, можно не сомневаться. Повторим еще одно высказывание Жуанвиля: «велик был грохот, ужасен шум». Нужно представить себе эту массу исступленных всадников, которые с воплями устремляются на врага. Эти воины исполнены отваги, одушевления и презрения к смерти, ища в упоении битвы предощущения наслаждений Рая, этого сада на седьмом небе. «Рай перед вами, позади – Ад»: суеверное исступление влечет мусульман в самое жаркое место рукопашной схватки. Не все ли равно, сколько человек погибнет, и людские потери в этой армии ужасны.
Бросая вызов таким образом, арабы попытались применить против франков свою испытанную тактику – устрашить врага, раздробить его этим таранным ударом и свести общую атаку к многочисленным поединкам. На этой второй стадии единоборства для сарацина дело заключается в том, чтобы напасть на группу, осыпав ее в упор градом стрел, а затем очень быстро отступить, увлекая в погоню за собой более тяжелого всадника, к которому араб скоро возвращается и сражается, пользуясь преимуществом. Итак, нападение и бегство, призванные распылить силы противника и вызвать у него смятение. Этот своеобразный боевой дух у арабов в крови и отвечает их приемам верховой езды и ловкости лошадей. Тактика отлива и прилива, в основе которой подвижность и скорость, атака и притворное отступление.
Армия Карла Мартелла противостояла этому первому сокрушительному удару, недвижная, как ледяная стена. Европейские воины, закаленные двадцатью годами беспрерывных войн, не поддавались страху и сохраняли стойкость под градом мусульманских стрел. Сарацинское полчище разбилось об их стену. Тщетно мавры пытались посеять смятение среди тяжеловооруженных франков, которым, по-видимому, способствовала еще и излюбленная у германцев диспозиция битвы. Тацит писал, что обычно каждый отряд выстраивался в форме треугольника и соединялся с другими так, чтобы образовать общий угол,
cuneus.
Таким образом, войско Карла противопоставило врагам фронт, ощетинившийся железом, из-за которого, напоминая глухой рев, раздавался крик воинов, усиленный эхом от их полых щитов. И ужасная секира поднималась, чтобы обрушить на нападающих страшные удары.
Арабы неустанно появлялись и исчезали, перестраивались и бежали, чтобы снова возвратиться. Их конница стремилась любой ценой вклиниться между франкскими линиями, изматывая их своими ударами, затем, по-видимому, отказывалась от этого намерения и скрывалась из виду, чтобы появиться снова с еще большей силой.
Таким образом, в свете военного искусства арабов и франков, рассказ Анонима о начальной фазе битвы при своей удивительной лаконичности выглядит неопровержимой истиной или, по крайней мере, правдоподобен.
«…Но когда сильные своей телесной мощью люди Австрии (Австразии) с нацеленным в сердце железным оружием в руках нашли короля и убили его, ночь положила конец битве…»
Контратака
Вероятно, что этот второй этап битвы был отмечен истощением сил у арабов и растущей уверенностью у их противников. Арабы были разочарованы, даже в смятении, очутившись перед лицом неприятеля, который, казалось, отказывал им в том, что они считали «типичной» битвой. К тому же франки плохо понимали врага, который отступает и бежит; может быть, они даже его недооценивали. Так что австразийские всадники вышли из состояния бездействия и, оставив оборонительную тактику, в свою очередь, начали атаку. Тяжелые эскадроны Карла пришли в движение. Для араба абсолютно не могло быть и речи о том, чтобы ждать удара. Он избегал контакта, он размыкал строй и продолжал свою тактику поддразнивания одиночными выпадами. Тогда, скорее всего, этот бой был напряженным и торжественным, а чаша весов склонялась то на одну, то на другую сторону, участвовавшую в битве. Впечатляющее описание Г. Пертца, возможно, не так уж абсурдно, хотя и страдает преувеличением:
«Люди падали тысячами, и кровь лилась потоками, но это не приносило никому решающего успеха; солнце снова осветило своими лучами эту бойню, которая все не прекращалась; австразийский меч, с которым умело управлялась железная рука, со свистом разрубал тела воинов, вонзался в мягкие ткани, пробивал себе дорогу сквозь прочные кирасы и бронзовые шлемы…»
Чтобы воссоздать атмосферу, нужно дать некоторые крупные планы этого дня:
«…падает с лошади на полном ходу с лицом, раскроенным обломками шлема, с ранами на лбу и щеке, с выбитыми передними зубами.
…Некоторые арабы желают умереть мучениками за веру, они читают молитву, берут свои мечи и, сломав ножны, бросаются на неприятельские ряды, чтобы встретить смерть.
…они бросают оружие, чтобы снять с шеи кривую саблю, срубая голову одним ударом, а потом еще и еще одну».
Все покрывает металлический и глухой лязг:
«…мозг и кровь льется как дождь, и сраженные воют и кричат "Господи, помилуй"».
Как утверждает хроника Сен-Дени, Карл набросился на сарацин как голодный волк на овец,
«auffi comme lileux fameilleux fe fiert entre les brebis».
Исход битвы решили два фактора, неравные по своему значению. О первом, то есть о нападении франков на арабский лагерь, Аноним молчит. Об этом нам сообщает псевдопродолжатель Фредегара – те Хильдебранд.
«На этих воинственных людей он обрушился с помощью Христовой и опрокинул их шатры…»
Сарацинский лагерь в опасности
Эту фразу, которую позднее копирует летописец Сен-Дени, воспроизводит в своей хронике и Адемар Шабаннский. Все последующие историки соглашаются с тем, что франки
tentoria eorum subvertit (опрокинули шатры). Как нам представляется, нет оснований подвергать рассказ Фредегара сомнению. Нам удалось найти только одно возражение со стороны генерала Бремона, который полагает, что описанный им маневр можно отнести к битве при Тулузе, поскольку именно с ней он связывает это повествование. Но это несколько неубедительный аргумент.
Однако мы отказываемся следовать рассказам, которые дали этому сюжету дальнейшее развитие. Одни говорят об искусной диверсии, осуществленной Карлом, которому таким образом удалось сломить уверенность арабов, тогда как почти все остальные приписывают эту заслугу Эду и его аквитанцам, которые предприняли атаку с фланга или тыла. Некоторые арабские писатели, связывали свой крах в этой битве с перемещением части конницы, отправившейся на защиту лагеря. Разумнее предположить, что благодаря военной хитрости ринувшийся в атаку христианский отряд наткнулся лишь на пустое место и привел к проникновению в лагерь, который очень скоро был частично захвачен. Картина масштабного нападения и грабежа не отвечает реалиям следующего дня, поскольку в воскресенье шатры были найдены франками в том же порядке, что и накануне, и все на том же значительном пространстве.
Это была лишь незначительная диверсия, однако, без сомнения, ее было достаточно, чтобы в какой-то степени застопорить битву; ее психологический эффект охладил пыл арабов, часть которых отступила для защиты своей добычи, оказавшейся, как они думали, в опасности. Если следовать арабскому историку Аль-Маккари, последствия этой удачной акции выглядят совершенно правдоподобными, так как он приписывает Абд-ар-Рахману беспокойство следующего порядка: «Не без опасения он (Абд-ар-Рахман) собирался дать сражение франкам. Его пугала распущенность, проникшая в его ряды вследствие огромных богатств, которые тащили с собой его воины. В какой-то момент он хотел даже приказать им пожертвовать частью своей добычи, чтобы надежнее защитить остальное; но он боялся раздражать их в час решающей битвы, принудив их к отказу от своих сокровищ, стоивших стольких лишений. Он положился на свою удачу и храбрость, и, – добавляет автор, – эта снисходительность не замедлила привести к самым пагубным последствиям».
Следовательно, с точки зрения франков, – к счастливому обстоятельству, посеявшему смятение и некоторую неразбериху у мусульман. Как известно, мусульманские военачальники в любых ситуациях расплачивались собственной головой. Тщетно Абд-ар-Рахман прилагал усилия, чтобы возобновить сражение в лагере, оказавшемся уязвимым местом. К началу ночи он нашел свою гибель в схватке, еще более жаркой, чем просто рукопашная.
Был ли он убит ударом аквитанского копья, сразила ли его стрела или настиг смертоносный дротик? Рассказы множатся до бесконечности, опираясь на одно лишь воображение. В Житии св. Феофана можно прочитать, что эмир пал, сраженный рукой самого Карла Мартелла, пронзившего его острием меча. Вот это, как мы разъясним в дальнейшем, и стало тем самым обстоятельством, которое определило исход битвы. С этого момента, как писал Родерих Толедский, «австразийцы крупного телосложения, с железными руками, с грудью колесом, уничтожали арабов».
«…Скоро ночь встретила конец битвы, и они опустили свои мечи с разочарованием».
Конец сражения
Ночь положила конец хаосу беспорядочной битвы, которая, вероятно, обернулась в пользу Карла. Тем не менее в том, что «арабы были спасены гонгом», уверенности нет. Сегуин утверждает, что они прекратили сражение по крику:
«Эль Балат!», (дорога) – сигнал к сбору, требовавший немедленного отклика. Подробность, несколько рискованная в силу своей конкретности. Тем не менее если бы сарацины приняли решение отступить без дальнейшего промедления, то это прекрасно соотносилось бы с реальностью. Чтобы отступление было успешным, необходимо было, чтобы оно началось во время последних вспышек битвы. Как и требовала логика, арабы быстро покинули поле битвы, чтобы их отход не был обнаружен франками. Ничто не дает основания для рассказов, которые нам довелось прочитать:
«Тогда можно было видеть, как на равнинах Пуату племена Хиджаза, Йемена и Неджда обратили свое оружие против своих и яростно терзали друг друга».
«Ночью беспорядок и отчаяние довели различные племена из Йемена и Дамаска, Африки и Испании до того, что они подняли оружие друг на друга, а остатки их рассеялись».
Этой картине битвы, которую мы попытались нарисовать, недостает обрамления. Едва ли можно говорить о римской дороге и арабских шатрах. Здесь часто оказывается больше вымысла, чем исторических подробностей. Достаточно процитировать, например, «подтвержденное доказательствами исследование места, где произошла битва при Туре» генерала Маргарона. По всей вероятности, никогда за всю свою карьеру этот офицер не имел под своим командованием таких дисциплинированных войск, какими располагали Абд-ар-Рахман и Карл Мартелл, и он заставляет их перестраиваться как на больших тактических учениях: «Прежде всего я допускаю, что Карл Мартелл прибыл на левый берег Луары как раз вовремя, чтобы прикрыть Тур и преградить Абдираману подход к реке…» Принудительно «разделив и подразделив» сарацинскую армию на четыре воинских корпуса по сто тысяч человек в каждом, генерал Маргарон располагает ее двумя линиями между Шательро и Туром, «правый фланг – у Гартемпе и Креза, а левый – неизвестной протяженности, но охватывающий Мирбо». Не менее точен наш автор и в отношении франкской армии: «Первый корпус, переправившись через Крез, достиг Шатильона и Лоше. Второй корпус, перейдя через Крез в Пор-де-Пиле, прибыл в Кормери и Монбазон. Третий корпус переправился через Вьенну у острова Бушар и прибыл в Азэ-ле-Ридо. Четвертый корпус (шестьдесят тысяч человек) занял линию, образованную Крезом и Вьенной, и установил связь с тремя остальными корпусами, закрепившимися на Индре». И вот мы подходим к завершающему столкновению: «Остановившись на мысли, которую бесконечно подтверждают почва и другие соображения, я сознаюсь, что склонен искать основное поле битвы при Туре на прилегающих равнинах Атэ и Сублене, напротив плато Сен-Мартен-ле-Бо, Круа де Блере и Сенонсе, на этих равнинах, столь удобных для масштабных кавалерийских маневров». Далее автор повествует обо всех перипетиях сражения, попеременно демонстрируя читателю проявления хитрости и силы, превозносит героическую вылазку гарнизона и решающее вмешательство Эда и его аквитанцев. К несчастью, мы вынуждены предоставить автору забавляться своими оловянными солдатиками и ласкающей уверенностью, поскольку, когда мы приступаем к заключительному, совершенно негативному, эпизоду сражения, наиболее благоразумным определенно представляется возвращение к рассказу Анонима:
«На следующий день франки увидели огромный лагерь арабов и их шатры по-прежнему на том же месте. Они не знали, что лагерь безлюден, и предполагали, что внутри находятся готовые к битве сарацинские фаланги. Карл выслал разведчиков с заданием. Оказалось, что армии исмаилитян отступили. В полном порядке и тишине они бежали ночью. Однако европейцы еще опасались, что те прячутся на дорогах и готовят засады. И были поражены, когда, осторожно обойдя вокруг лагеря, они никого не обнаружили. И поскольку эти прославленные люди вовсе не заботились о погоне, они, лишь разделив между собой трофеи и добычу, счастливые, вернулись каждый в свою страну».
Таким образом, в воскресенье, как и накануне, Карл построил свою армию в боевом порядке, чтобы снова попытать счастья в бою. Определенно, как пишет генерал Бремон, франки «должно быть, не имели прочной уверенности в своей победе», несомненно, они просто чувствовали, что она не за горами, и были готовы продолжить сражение. Не подлежит сомнению тот факт, что они не вели непосредственного наблюдения за неприятелем и находились в полном неведении относительно его ухода; Аноним объясняет это следующим образом:
Ночью все [арабы] тихо отступили,
Чтобы вернуться домой
Перед европейским воинством – арабский стан в первозданном порядке, но этот лагерь нем и недвижен. Ни движения, ни звука, еще меньше – возбуждения и суеты, предшествующей сражению. Франки слушают и смотрят, их наполняет неуверенность и удивление. Период ожидания заканчивается, и они высылают шпионов. Шатры пусты, но еще долгое время австразийцы шарят и высматривают по всей округе, желая расстроить то, что считают военной хитростью.
Но битва действительно окончилась, и можно думать, что Карл, став победителем в силу выхода противника из игры, был разочарован этим неудавшимся сражением.
У этой удивительной ситуации есть только одно объяснение: битва прекратилась не за отсутствием сражающихся, а за отсутствием арабского военачальника, который был убит. Вот главный фактор, сыгравший решающую роль в этом сражении. Лишившись Абд-ар-Рахмана, арабы отказались от борьбы и предпочли бегство. Битва, которая, бесспорно, должна была длиться в течение нескольких дней, прервалась уже на начальном этапе. Смерть Абд-ар-Рахмана сделала внезапное прекращение битвы неизбежным. Мусульмане, которых это событие привело в замешательство вместо того, чтобы взбудоражить, решили бежать, оставив в качестве последней хитрости свои шатры и добычу. Если говорить об этой последней уловке, то суть ее заключалась в том, что беглецы не применили военного принципа Мухаммеда: «Когда вы отступаете из неприятельской страны, не оставляйте там ни лошадей, ни скота, ни фуража, ни пищи, ничего такого, что враг мог бы использовать для своей обороны». Таким же отступлением завершилась и битва при Тулузе после гибели Эль-Самха.
Что же тогда удивительного в том, что Карл не понимал причины своей победы; по его впечатлению она не была одержана им на поле боя, и он никогда и не думал связывать ее с единственным обстоятельством – кончиной Абд-ар-Рахмана?
Должно быть, несколько лет спустя, когда Хильдебранд навязал второму продолжателю Фредегара мысль о нападении на арабский лагерь как о решающем моменте битвы, он руководствовался все тем же желанием дать объяснение этой победе. Эта идея была подхвачена некоторыми историками, вроде Жирара. По нашему мнению, эта теория так же сомнительна, как и гипотеза Жоржа Ру: «Эти могучие пехотинцы, несомненно, построенные в каре, не позволили ураганной джигитовке расстроить свои ряды. Видя это, арабы не стали настаивать. Их наступление прекратилось, и, унося с собой плоды своих грабежей, они спокойно отступили, вполне довольные и сытые». Равным образом мы не можем следовать гипотезе майора Лекуантра: «Возможно даже, что к тому моменту, когда они [арабы] оставили франков с носом, они уже отослали в сопровождении охраны самую драгоценную часть добычи».
Говоря в двух словах, мы думаем, что для обеих сторон цель битвы была одинаковой – уничтожить противника. Арабы не думали об отступлении ни одной минуты. Что же касается гипотезы, по которой франки все время интуитивно знали, что на их глазах разворачивается просто грабительский набег вроде того, что уже имел место в долине Роны, то мы отказываемся с этим соглашаться. Смерть Абд-ар-Рахмана стала для Карла счастливым и главным по важности событием, единственной (одной вполне достаточно) причиной победы, только победы неполной, которая все же, как водится, принесла с собой дележ огромной добычи, оставленной арабами в целости и сохранности.
Раздираемые подозрением и алчностью, франки долго кружили вокруг лагеря, вид которого будил их любопытство. Должно быть, он был устроен по образцу кочевых лагерей бедуинов: множество красных шатров с черными полосами, поддерживаемых многочисленными подпорками и прикрепленных к земле неисчислимыми оттяжками и колышками. Каждый шатер, прямоугольный по форме, состоял из скрепленных полос материи, опиравшихся на сваи длиной от двух до четырех метров. Основными материалами служили лен, верблюжья или козья шерсть, алжирский ковыль, пальмовое волокно. Разумеется, попадались шатры залатанные или дырявые, или, напротив, шелковые и ярко расцвеченные.
Мтсаа, очень большие с девятью стойками,
мсебаа с семью опорами и, наконец, более мелкие, согласно статусу своего владельца. Лагерь, в который решились войти франки, был не чем иным, как деревней из
мхаумов.[181]
«В шатрах, все еще стоявших, вводя в заблуждение, находились упряжь, ткани, колесницы, сосуды, кухонная утварь, сундуки, полные оружия, всякое имущество, трупы и раненые», пишет Александр де Сен-Фалль; и Зеллер: «Добыча, захваченная арабами в Бордо, скорее всего, была значительной. Историки победившей стороны говорят о ней с поистине восточными преувеличениями».
«И франки разделили ее по древнему обычаю», – чеканно высказывается Аноним.
Описание разгрома лагеря можно найти во многих хрониках. Это событие изображается либо с охотой, как в хронике Сен-Дени: «Он взял все их палатки и все их снаряжение и завладел всем, что у них было, он и его люди», – либо более сухо, как в хронике Фонтанеля: «Завладев их вещами…»
Руководство для паломников к могиле св. Иакова Кампостельского и Рейно в «Нашествии сарацин во Францию» дают представление о том, что представляла собой эта добыча. Золото в изобилии, серебро и драгоценные камни, редкие металлы в монетах или других изделиях, ткани, самые разные предметы, вроде золотых купелей, серебряных блюд, распятий, потиров, золотых браслетов.
Таким образом, участь этих вещей изменилась. В своем фантастическом набеге мусульмане не смогли исполнить сорок первого стиха из восьмой суры Корана: «Знайте, что из всего, что ни берете вы на добычу, пятая часть Богу, посланнику и родственникам его, сиротам, бедным, путешественникам».
[182] При отступлении арабская армия утратила четыре пятых своих военных трофеев, которые должны были достаться ей, а мирные люди «Дар-аль-Ислама» лишились «доли Аллаха», отводившейся им, чтобы сделать войну выгодной и для них. Судьи, моралисты, поэты, ученые были разочарованы поражением этой армии.
Однако в Житии св. Пардульфа мы читаем: «Одним из самых счастливых итогов этого дня было освобождение огромного количества пленников, которых гнали за собой сарацины и которых бросили».
И верно, пленники составляли часть добычи. Их можно было легко продать или оставить для своих собственных нужд. Они ценились в зависимости от своего возраста, силы, внешности и пола. Их нельзя путать с военнопленными нашей эпохи. Когда христианин оказывался в плену, ему связывали руки за спиной, и он превращался в ассира, связанного человека. Пленник становился рабом на службе у господина, который мог заставить его работать, продать, побить и даже убить. Его положение стоило того, чтобы называть его мамлюком, подвластным. Иногда, если он выказывал рвение, от него требовали перехода в ислам, что обеспечивало ему свободу, но с сохранением некоторых обязанностей по отношению к бывшему хозяину. Вольноотпущенник именовался маула, то есть тот, кто находится под чьим-то покровительством. Но если христианин отказывался принять ислам, на него надевали кандалы и использовали на сельскохозяйственных или каких-то других работах, которые могли приносить доход.
В завершение этих сцен грабежа, без сомнения, жестоких и сумбурных, позаимствуем у Форьеля эту горькую фразу: «Они [франки] разделили между собой имущество несчастных аквитанцев, которые от этого лишь сменили врага».
Неужели эта продолжительная и плодотворная операция отбила у Карла мысль о погоне? Тот факт, что франки не стали преследовать отступающих арабов, весьма примечателен. Некоторые немногочисленные авторы утверждают, что Карл шел за арабами по пятам; Александр де Сен-Фалль, Годефруа-Демомбин и Конд говорят, что франки гнались за арабами до самого Нарбонна. Некоторые историки присоединяются к мнению, что в погоню за ними бросился один герцог Аквитанский, это, например, хроника Сигеберта, хроника Сен-Дени и в числе прочих Марсель Бодо, который писал в 1955 г.: «Если следовать кордовскому Анониму, ночная эвакуация арабского лагеря вынудила Карла Мартелла отказаться от преследования, но все же есть основания полагать, что герцог Аквитании поступил иначе».
Действительно, мы следуем мнению Анонима, Франкских анналов, Форьеля, Диго, Рейно, Лота и многих других, которые отрицают всякую попытку франков в этом направлении. Их утверждение кажется нам справедливым, а вот те соображения, на которые они опираются, выглядят более ребяческими. Согласно Анониму: «Эти народы вовсе не заботились о погоне». Рейно, как и генерал Маргарон, предполагает, что Карл Мартелл опасался ловушки. Форьель и Людовик Дюфор де Лонгевю ограничиваются тем, что говорят, один – что франки не хотели гнаться за арабами, а другой – что они не могли.
Генерал Бремон упрекает европейцев за отсутствие воинственности; что же касается Диго, то он предлагает нам весьма любопытное объяснение. «Карл не хотел пускаться в погоню за беглецами, в то время уже стоял октябрь, погода, вероятно, была плохой, и майордом, без сомнения, боялся подорвать здоровье своих солдат, принудив их двигаться форсированным маршем, всегда опасным в это время года, но необходимым, чтобы нагнать стремительно отступающего врага».
Какие причины могли вынудить этих смелых и суровых воинов, жестоких и отважных, отказаться от преследования арабов? Безусловно, главным здесь было потерянное время. Грабеж, продолжавшийся ночью и утром, позволил беглецам отойти на такое расстояние, что теперь они были недосягаемы. С другой стороны, какой интерес вступать в истерзанную и обескровленную Аквитанию, неспособную дать даже самой незначительной добычи? Для Карла цель была достигнута, ему оставалось только вернуться домой, унося с собой добычу.
Оставил ли он позади себя поле битвы, усеянное трупами, как пишет Годефруа-Демомбин? Если следовать историкам, которые вслед за Павлом Дьяконом варьируют количество павших арабов от трехсот до трехсот восьмидесяти пяти тысяч человек, тогда как Карл потерял убитыми только пятнадцать сотен, то нам придется сделать такое предположение. В поддержку данного мнения можно процитировать хроники Сен-Дени и Сигеберта, хроники и анналы Франции, анналы Аквитании, аббатства Секле дю Фреснэ, президента Эно, Пертца и других. В том, что касается нелепости этих цифр, от критиков нет отбоя. Мы не видим необходимости их оспаривать: действительно, эти цифры, которые приводят все историки, продиктованы им автором Жития св. Григория из
Liber Pontificalis; сам же он почерпнул их из письма, более раннего по отношению к битве при Пуатье, направленного герцогом Аквитанским Григорию II, занимавшему папский престол с 715 по 731 г., и надо полагать, что они относятся к событиям 721 г. и битве при Тулузе, что, впрочем, не делает эти подсчеты более обоснованными.
Хроника Фонтанеля, не менее решительная, хотя и не более точная, составленная анонимным автором, умершим в 834 г., объявляет об уничтожении сарацин: «Он уничтожил их до последнего, так же как и их короля».
Аноним, более сдержанный в своих суждениях: «…убивают арабов ударами своих мечей», не оставляет и намека на избиение, о котором говорит Ибн Идари: «Абд-ар-Рахман стал мучеником, как и большая часть его воинов». Конд: «Христиане устроили ужасную резню», или еще Диго, Форьель и Альфан: «Абд-ар-Рахман остался на поле битвы, и только бегство спасло его поредевшую армию от полного уничтожения».
Само собой разумеется, многие авторы категорически отрицают подобные заявления: «Хроники последующих веков, – пишет Зеллер, – могли безнаказанно приукрашивать все, что связано с этой темой, и на досуге приумножать число неверных, павших от карающего меча христиан». Так считают Рейно, Лот, Бремон и другие, не говоря о тех, кто сохранил благоразумное молчание. Всякие подсчеты представляются весьма затруднительными. Генерал Пинсар полагает, что битва, продолжающаяся несколько часов с применением исключительно холодного оружия, может завершиться гибелью только одной-двух тысяч воинов, включая раненых, которыми зачастую жертвуют. Очевидно, что нам следует отвергнуть мысль о великом побоище, иначе бы Карл ни единой минуты не сомневался в своей победе в виду поля битвы, заваленного телами врагов. Значит ли это, что битва представляла собой всего лишь малозначительную стычку, и нужно ли полагать, что эта армия, появившаяся некогда в Пуату, наутро исчезла, оставив не больше следов, чем фантастическое воинство, о котором повествует баллада Зедлица? Почти все историки, включая и нас, придают этому военному столкновению большое значение, однако и в наше время некоторые авторы с яростью атакуют эту идею.
Безусловно принимая мнение некоторых арабских историков, таких, как Ибн Хайан и Ибн эль-Аффиз, которые говорят о сражении, не имевшем большого военного значения, генерал Бремон настроен очень скептически – так же, впрочем, как Дом де Вик и Дом Весетт в XVIII в., которые утверждают, что битва не стала решающей. Жорж Ру, уже более современный историк, считает ее локальной стычкой. Неопределенность места, где она произошла, не может служить доводом в пользу этих авторов.
Что же касается нас, то мы полагаем, что столкновение было недолгим, интенсивным и очень серьезным. В доказательствах, подтверждающих это предположение, недостатка нет. Первыми нас поддерживают арабские авторы. Названное ими место битвы, «дорога мучеников за веру», несомненно, указывает не на мелкую стычку, а уже упоминавшийся Ибн Идари говорит о гибели большого числа правоверных. Аль-Маккари еще более категоричен: «Подобно разъяренным тиграм, они упивались кровью и грабежом, что обратило на них гнев Аллаха и стало причиной их несчастья». Никаких признаков того, что Аль-Маккари недооценивал божественную кару.
Примечательно одно совпадение. Анонимный автор одной из очень древних наших хроник, от которой осталось лишь несколько фрагментов, пишет: «Ангелы и святые взирали на эту ужасную битву с небес», в то время как один арабский прозаик объясняет – мы снова цитируем его: «Пересекая равнину, где оно произошло, можно было слышать шорох от крыльев ангелов, которые бдели и молились на месте, навеки освященном гибелью стольких истинно верующих…» Единство во мнениях, которые не подразумевают простой стычки. То же единодушие в рассказах Анонима и Хильдебранда, живших в одно и то же время, один – в Кордове или Толедо, другой – в Париже.
Но наши доводы были бы весьма шаткими, если бы исчерпывались на этом. Карл сам встал во главе своей армией и ради этого сначала остановил войну в Германии. Важный шаг, предпринятый перед лицом бесспорной угрозы, нависшей над его границами. Он бы не принял подобного решения, если бы покой страны нарушала лишь неопределенная банда грабителей. Фактически все заботы Карла и все его усилия были связаны с германскими землями. Начиная с Хлодвига меровингские короли, как в прошлом римские императоры, занимали по отношению к германцам оборонительную позицию. Карл, исполненный того же духа недоверия, постоянно воевал с этими беспокойными народами, которые хотел сдержать. Это соображение заставляет нас правильнее оценить значение внезапного прекращения уже начатой войны, сделанной им, чтобы встретить лицом к лицу опасность, которую он считал более серьезной. Более того, похоже, что одновременно он издал указ о созыве на воинскую службу (бан). Вести, принесенные ему Эдом Аквитанским, были настолько малоутешительными, что тот беспрекословно признал свою зависимость от Карла. С учетом известных нам обстоятельств, разве не был этот шаг продиктован нависшей опасностью? Совершая его, Эд вовсе не считал, что стал жертвой рядового набега, тем более никогда не возникало такого ощущения у Карла. Современники событий сильно расходятся во мнениях с историками будущего.
Нам остается лишь защититься от встречного аргумента, поддерживаемого г-ном Берлем; это отсутствие оссуария или могильника на месте битвы. «Тем не менее, Бог знает, раскапывали ли его археологи!» – пишет он. Однако, как мы уже говорили об этом выше, тщательных раскопок никто и никогда не предпринимал. Долгое время все исследования были предоставлены местным любителям. Но можно ли надеяться найти в большом количестве останков убитых воинов? Исследование, посвященное меровингским кладбищам в актах по истории Пуатье, вышедшее из-под пера Рене Луи 3 мая 1952 г., раскрывает тщетность этих изысканий.
«Действительно, как в Средние века происходило погребение
павших солдат после битвы? Представляется, что имело место различие между военачальниками, князьями, хозяевами крупных земельных владений, тела которых их родственники, вассалы и слуги иногда переносили очень далеко, чтобы похоронить с почестями в церкви, часовне или монастыре, и рядовыми воинами, пехотинцами или низшими чинами, останки которых погребали в братских могилах или оссуариях, вплотную друг к другу с благословениями, молитвами и пением духовенства. Тела, закопанные в землю в подобном беспорядке, не могли сохраняться долго. Именно поэтому, несмотря на упорные и неоднократные раскопки, ни разу не было найдено кладбища, которое можно было бы связать с определенной средневековой битвой. По моему мнению, оно никогда и не будет найдено, потому что их никогда и не существовало. Никто и никогда в те далекие времена не обременял себя устройством отдельной могилы для каждого убитого воина, как это делалось с огромными затратами в современный период при сооружении фронтовых "военных кладбищ". Предположить существование подобных кладбищ в Средние века означает впасть в досадный анахронизм. С этой точки зрения, Песнь о Роланде, когда она описывает кладбище воинов, погибших в Ронсевальском ущелье, дает, как мне кажется, верное представление о том, что предпринималось в подобных случаях в XI в. и, без сомнения, задолго до того и еще немалое время спустя. Французы под командованием Карла собирают трупы своих товарищей по оружию, убитых в сражении, и устраивают для них общий могильник, над которым епископы, аббаты, монахи, каноники и священники торжественно совершают чин отпущения грехов».
Определенно, мы думаем, что многочисленные тексты, относящиеся к битве, оставляют общее впечатление ее значимости, и мы отказываемся верить, что самые выдающиеся историки в течение двенадцати веков давали себя одурачить.
Следуя хронике, предоставим Карлу Мартеллу вернуться в свои государства
cum triumpho gloriae (с триумфальной славой). В работах некоторых историков, в числе которых г-да Левиллан и Самаран, Марсель Бодо и Сюзан Оноре, содержится намек на легенду, не использованную нами в очерке о месте битвы Однако, как мы полагаем, она достойна упоминания в нашем рассказе и именно здесь.
Возвращаясь в Австразию сразу же после битвы, Карл-де остановился в часовне св. Екатерины во Фьербуа, то есть по пути. Там он по обету оставил свой меч. Через семь веков Жанна д'Арк, направляясь в Шинон к Карлу VI, тоже сделала остановку в часовне св. Екатерины. С глубочайшим вниманием она прослушала три мессы и причастилась Святых Тайн. Позднее, встретившись с королем, она отказалась от предложенного ей меча и попросила послать за тем, который лежит в земле под алтарем капеллы во Фьербуа и на котором выгравировано пять крестов. Некий оружейник выполнил ее желание и нашел меч на указанном Жанной месте. Он взял меч в руки, и в тот же миг спала покрывавшая его ржавчина, и клинок сделался таким чистым, как будто его только что отполировали.
И вот, по фантастической эстафете Истории, меч Карла Мартелла в руке Жанны д'Арк освободил Орлеан. Вслед за тем меч исчез. Говорят, Дева спрятала его, когда внутренний голос подсказал ей, что она попадет в руки англичан.
Это народное предание слишком красиво, чтобы не рассказать о нем. Что же касается дорог, по которым отступали арабы, то у нас будет возможность поговорить и о других легендах.
Глава IX
Великие годы
Итак, Карл переправился через Луару, не беспокоясь о судьбе побежденных. По словам Жития св. Пардульфа, он вел с собой многочисленных пленников, главным образом женщин и детей. Некоторые из них были оставлены на месте, в Пуату, и, безусловно, предназначались местным солдатам. (Легенде угодно, чтобы именно им мы были обязаны секретом изготовления шабишу. Более того, предполагается, что они везли с собой абрикосы, которые и положили начало знаменитым плантациям Монгаме!)
Другие пленники, менее удачливые, были переправлены в Тур, чтобы, как говорят, встретить там печальный конец в месте, которое сегодня называется «улицей Мавров». Похоже, там до сих пор можно видеть яму, в которую их сбросили. Есть версия, рисующая их участь более благожелательно. Для жительства им был отведен район у слияния Луары и Вьенны, и особенно деревни Узим, Авуан, Савиньи и Бомон-ан-Верон, в основе которых, возможно, лежат лагеря арабских пленников или беглецов.
Однако, составляя неотъемлемую часть добычи, большинство из них было доставлено в Австразию. На самом деле они были источником обогащения, которым не стоило пренебрегать. Подобно тому, как мы уже рассматривали участь христианского пленника, бросим взгляд на положение пленника-сарацина.
Между ними много общего. Франкам рабы-арабы пришлись по вкусу, совершенно так же, как и невольники из славян, германцев и язычников Северной Европы.
На службе у хозяина пленников, закованных в тяжелые цепи, заставляли обрабатывать землю или же, в зависимости от их качеств, продавали, били и пытали. Разумеется, они не могли ни владеть, ни наследовать, ни вступать в брак с христианскими женщинами, даже если это были рабыни. Решившись на подобный поступок, последние лишались церковного погребения.
Впоследствии наладилась настоящая торговля пленниками. В то время начался процесс выкупа сарацинских пленников либо их родителями, либо друзьями, либо правителями, или же благодаря благочестивым мусульманам, завещавшим на это свои средства. Все они просто следовали предписанию Пророка: «Освобождайте братьев своих из цепей рабства». Каким образом происходила передача? Пленников доставляли в Арль, Марсель или Нарбонн, чтобы там продать арабским посредникам. Иногда их отдавали сарацинским воинам, которые совершали набеги на наше побережье. Так их выкуп оплачивал военные действия.
Теперь мы должны отправиться по следам арабских беглецов, спасшихся от смерти и плена. В рассказе Анонима мы видим их отступающими в порядке и тишине. По своему обыкновению сарацинские банды рассыпались в разные стороны, чтобы избежать сутолоки многолюдного отступления или, возможно, просто чтобы выбрать разные дороги, которые казались им более легкими. Следы их отступления мы можем обнаружить благодаря рассказам, легендам, топонимам, находкам оружия, а также по факту существования и в настоящее время островков этнических сарацин. Однако есть одна оговорка. Не исключено, что некоторые группы, которым не удалось присоединиться к армии Абд-ар-Рахмана, чтобы принять участие в битве, после нее поселились в этой стране, и это как раз может относиться к тем, чьи следы и приметы обнаруживаются в районе Лудена, Сен-Касьяна, Мартезе и окрестностях Монконтура. Совершенно очевидно, что население этой области явно сарацинского типа. Можно допустить, что беглецы или отставшие продолжили свой род и основали настоящие колонии. Этим можно объяснить изобилие Моренов, Сарразенов, Морино, Морелей, Нуаре, Негро и прочих Мори, которые населяют Пуату. Конечно, здесь речь идет только о насмешливых прозвищах, превратившихся в фамилии и принадлежащих смуглолицым людям с черными, иногда курчавыми волосами. Действительно, в этой провинции до сего дня бытуют фамилии, относящиеся к периоду до XIV в. Обычно допускается, что после битвы арабы перегруппировались на равнине Невий, к югу-западу от Мюссе на левом берегу Клайна. Топонимов там просто море: дорога Сарацин, Арабский родник, Сарацинский колодец, Сен-Мор (Св. Мавр) и даже Батай (Битва). Стянувшиеся туда банды рассыпались, по всей вероятности, в западном направлении, распространившись по вересковым зарослям Гатине, по районам Туара, Брессуира и Шатильона-сюр-Севр. Это предположение подтверждает сарацинское оружие, украшающее собой некоторые коллекции, особенно де Фонтенов: кинжал из окрестностей Брессуира и еще один из района Туара. Пять экземпляров оружия, найденные в Де-Севре, можно возвести к одному и тому же источнику.
И сколько еще легенд, которые тоже подтверждают факт этой арабского заселения. В Верхнем Бокаже рассказывают о любвеобильном Фарфаде, о Сен-Савер-Живре, а главное – легенду о Пироме,
[183] так часто используемую в качестве довода при установлении места битвы.
На следующий день после битвы беглецы разбили лагерь на лесистых холмах Туш-Нуарон, около Мулена в Де-Севре. Безусловно, они отступали по римской дороге Пуатье-Нант, проходящей внизу примерно в трехстах метрах от этого места. Возможно, остановиться именно там их побудил родник, называемый с тех пор «Сарацинским источником». Тем более что прямо под холмом струится небольшой ручей Уэн. На такое решение сарацин, несомненно, натолкнула пересеченная местность, которая могла служить им убежищем. С этих пор днем они прятались, а ночью грабили, чтобы выжить. И предание говорит нам: живя в вечной тьме подземелий, они из-за неудобства своего положения стали совсем как гномы. Скоро отважные жители стали бояться этих существ, считая их бесами – демоническими гномиками, которые частенько наведываются на эту дьявольскую дорогу, где лукавый ловит несчастных, решившихся по ней пройтись. Заканчивается легенда не чем иным, как описанием средства, при помощи которого можно избавиться от этого дьявольского рода. Впрочем, способ этот результата не давал.
Таким образом, можно считать, что часть беглецов укрылась в этом своеобразном параллелограмме, вершинами которого служат Невий, Луден, Шатильон и Шамденье. Однако мы не видим никакого противоречия в том, что они могли и выйти за пределы этой произвольно ограниченной нами части Пуату.
В качестве цели похода самой значительной части отступающей армии называют Нарбонн, крепость, способную обеспечить прекрасное укрытие беглецам. По-видимому, арабы не решались двинуться в Испанию по дороге, проходящей через Аквитанию, наверное, опасаясь реакции населения, но вероятнее всего, чтобы с помощью этой уловки ускользнуть от возможной погони. Мабийон считает, что они спустились в Лимузен, а оттуда рассеялись по соседним областям. Именно эту версию подтверждает легендарный отрывок из Жития св. Пардульфа, аббата Гуере. На обратном пути исмаилитяне подошли к монастырю Пардульфа, человека Божьего. Он, заботясь более о святом месте, чем о собственной жизни, пал ниц и молился. Обращаясь к Богу, он взывал: «Уничтожь их, Господи, развей этот народ, который приносит войну, не позволь им преодолеть монастырскую ограду». И тотчас же арабов поразила слепота, и они долго стояли, крича на своем языке. Потом они снова отправились в путь, который должны были проделать. Благодаря своей отваге служитель Божий остался победителем.
И снова здесь следует предположить, что воины обосновались южнее, у Обюссона. В самом деле, появление знаменитых гобеленов считается заслугой арабов. Хотя бегство сарацин было поспешным, они по-прежнему грабили земли, через которые шли, действуя точно так же, как в Аквитании в начале своего вторжения. Предавая огню монастыри и другие святые места, они бросали в пламя людей, пишет Мабийон. По мере приближения к своей стране их дерзость росла. Так, они опустошили Керси, Руэг и, в конце концов, напали даже на Жеводан и Велэ. Они перебили множество жителей, которых предавали мучительной смерти, не различая ни пола, ни возраста. В своей ярости они убили Теодофреда, аббата Монастье в Велэ.
Наконец, влача за собой пленников и добычу, они достигли Септимании.
Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не напомнили о другом аспекте арабского отступления. Речь идет о гипотезе, сформулированной Клерком и Моннье, которые отстаивают очень правдоподобную теорию. Вся Бургундия, пишут они, была оккупирована арабскими отрядами, отступавшими после Пуатье. Иногда, по-прежнему согласно этим двум историкам, сарацины заключали союзы с бургундскими сеньорами, не желавшими подчиняться Карлу Мартеллу Далее мы изучим последствия этого замечания.
Как бы то ни было, судьба армии Абд-ар-Рахмана теперь полностью ясна. Пленники, беженцы в Пуату и в Бургундии и, наконец, уцелевшие, полные злобы, которую испытала на себе Септимания. Последние отзвуки вторжения отгремели, улеглись, и Карл «вернулся с победой в свою землю».
Однако еще рано делать выводы о битве, которая, как мы увидим, в действительности продолжалась до 739 г. Мы склонны утверждать, что она тянулась в течение шести лет с короткими перерывами. Как нам представляется, прежде чем спорить о ее значении, необходимо проследить деятельность Карла Мартелла в последние годы его жизни.
Продолжатель Фредегара, Мецские анналы, хроника Адемара Шабаннского и некоторые другие заявляют, не называя причин, что на следующий год, как только можно было начинать кампанию, Карл бросил свои войска на Бургундию. Мы уже упоминали о завоевании этой провинции арабами после Пуатье. Равным образом говорили мы и о тайных связях между ними и мелкими местными княжествами, образовавшимися на развалинах меровингского государства. Лишь смерть епископа Оксера Саваря в 715 г. остановила процесс формирования независимой Бургундии. Начиная кампанию против этой области, Карл преследовал двойную цель – завоевание и «зачистку» сарацин, которые ее захватили, и эти два замысла шли рука об руку. Изгнав арабов из этого королевства, он сам сделался его хозяином, установив там свою власть, которую до того времени бургундцы не признавали.
В данном случае он в глазах всех выглядел не как завоеватель, а, скорее, как освободитель, продолжающий дело уничтожения мусульман, начатое на равнинах Пуатье.
«Как Карл сам покорил Бургундию» – это заглавие второго продолжателя Фредегара. Последуем же за хрониками и анналами.
Карл вторгся в Бургундию; при его приближении враги покинули область и шаг за шагом отступили, как вышедшая из берегов река, которая возвращается в свое русло. Он как победитель вошел во все города Верхней Бургундии. Лион открыл свои ворота. Сарацины, по-видимому, устрашенные одним именем этого человека, спустились по Роне и разграбили ее берега, а затем отошли в свою провинцию, освободив все ранее захваченные ими земли. Таким образом, Карл заставил признать свою власть, и бургундцы легко уступили обосновавшемуся у них майордому. Можно еще прочитать, что этот захват власти представлялся им законным и естественным. Это была первая попытка прибрать к рукам Юг, причем опорными пунктами служили Невер, Отен и Лион, где рухнула власть строптивых епископов.
Тогда Карл начал свое завоевание; он вверил управление страной
leudes probatissimi (испытаннейшим левдам), поручив им распоряжаться финансами и удерживать провинцию. Они поставили в городах и на границе опытных воинов и поручили им защищать Бургундию и одновременно подавлять возможные мятежи. Он созвал ассамблею знати и заключил договор с бургундскими магнатами, в котором те признали его владычество.
Однако укажем, что потребовалось двести лет, чтобы выгнать сарацин, укрывшихся в горах Юры. По-видимому, их выкурили оттуда только походы Берольда Саксонского в 1016 и 1018 гг. Все подробности этой долгой оккупации можно найти в Ежегоднике Юры, изданном в 1856 г.
Карл собирался напасть на Прованс, когда восстание фризов, вновь взявшихся за оружие, потребовало его возвращения в Австразию. Закончился 734 год: на завоевание Бургундии понадобился год или около того.
«Не снимая доспеха», Карл направился на Рейн – его целью была Фрисландия. Эта страна, гораздо более значительная, чем сегодня, тянулась вдоль берегов Северного моря, уходя за Эльбу.
Она была разделена Эном на восточную и западную Фрисландию с довеском в виде островка батавов. Действительно, фризы переправились через верхний рукав Рейна и заняли кантон, принадлежавший древней Батавии, главными городами которой были Утрехт и Дурстеден. Это была «Фрисландия этой стороны», как называют ее историки Средних веков.
Эта часть Фрисландии стала основным в Германии полем деятельности миссионеров, пользовавшихся поддержкой Карла.
Таким образом, Карл продолжал политику своего отца и в числе прочих оказывал покровительство монаху Виллиброрду, возведенному его усилиями на епископскую кафедру Утрехта.
Проповедь Евангелия в Германии еще носила характерные черты раннего христианства. Против языческих идолов, почитание которых сводилось к скрупулезно соблюдаемым запретам, столь велик был внушаемый ими ужас, молодые монахи применяли упорство и спокойную отвагу. Так, благодаря Виллиброрду сошел со сцены национальный бог фризов, когда язычники увидели, как англосаксонский монах безнаказанно ест священное животное и нарушает покой чтимых мест. Фанатику не свойственно служить божеству, лишенному силы. Тем не менее политика или национальная рознь воспрепятствовали, по-видимому, уже совершившемуся обращению: мы уже видели, как герцог Радбод вынул ногу из крестильной купели, когда его заверили, что франки будут его соседями в раю. Соперничества этих народов на войне продолжалось и в области веры; но затем еще нужно было упорно бороться с идолопоклонничеством, чьи приверженцы воспользовались смутными временами, образумить христианских неофитов, снова впавших в языческие суеверия. Этим объясняется растущая роль юного Винфрида, избранного помощником Виллиброрда за свое горячее рвение и ораторские таланты, который в равной степени убеждал наивных идолопоклонников и искушенных в политике государей.
Именно по причине известности его успехов Григорий II вызвал его к себе в Латеранский дворец и возвел его в сан регионального епископа – пожаловав ему неограниченные полномочия – в обмен на клятву беззаветно служить Римской церкви и выступать против ее врагов. Вдохновитель евангелизации, которая шла заодно с усилением франкского влияния в Германии, представитель первой Церкви, столь тесно связанной с Римом, Винфрид, отныне получивший по воле папы имя Бонифация, был радушно встречен Карлом Мартеллом. Григорий II горячо рекомендовал Бонифация в письме к Карлу,
excellentïssimo filio nostro (превосходнейшему сыну нашему) – удивительное наименование.
И верно, как не подчеркнуть странность позиции Карла, который на юге дает отпор исламу, на севере теснит язычество и не меньше угнетает Церковь на своей собственной территории? Прагматизм и проницательность.
Но Фрисландии было непросто согласиться принять на себя ярмо религии и франков. Христианство представлялось фризам дополнительным проявлением несвободы. Несмотря на добродетели проповедников Евангелия, враждебность к новой вере выплескивалась в войнах против франков. Защита идолов и древних суеверий нередко бывает только предлогом.
В данном случае война 735 г. была развязана, скорее всего, из-за затруднительного положения Карла, который был занят к югу от Луары, а затем в Бургундии и находился вдали от этой своей границы. Фризы были слишком неспокойным и непокорным народом, чтобы не воспользоваться сложившейся обстановкой. Ссылаясь на ниспровержение своих идолов и разрушение храмов, они взялись за оружие. Неутомимый Карл напал на них. Будучи воином до мозга костей, он начал войну против фризов их собственными средствами.
Послушаем продолжателя Фредегара:
Cum Frisionibus ultra alto mare pugnavit, «он сражался с фризами в открытом море». Действительно, Карл снарядил флот, спустился по Рейну и вышел в открытое море у побережья Австразии. Достигнув берегов Фрисландии, он высадил свою армию на сушу и вторгся в глубь страны. Разрушая храмы, выжигая священные леса и идолов, он опустошил острова Вестерган и Остерган. Наконец, он встал лагерем на реке Бурден. Именно там он дал решающее сражение герцогу Поппону, наследнику Радбода, умершего в 719 г. В этом столкновении Поппон, душа восстания, потерпел сокрушительное поражение и погиб. Эту участь с ним разделило множество мятежников, а Карл безнаказанно разрушил все памятники их идолопоклонства.
После этой одновременно морской и сухопутной экспедиции Карл вернулся в Австразию, по-видимому, увезя с собой все плоды этой кровопролитной кампании: заложников и добычу. Настало ли ему, наконец, время двинуть свою армию на вожделенный Прованс и сарацин, которых он мечтал снова разгромить? Судьба распорядилась иначе, и он был вынужден изменить свой план. После кампаний в Бургундии и Фрисландии в конце 735 г., Карл обратил свой взор на Аквитанию.
«Ослабев от старости и поразившего его недуга», скончался Эд.
По-видимому, незадолго до смерти он успел еще раз разбить арабов в ущельях Пиренеев. Он оставил двоих сыновей, Гунальда и Гаттона. О том периоде нам рассказывают продолжатель Фредегара, Петавийские анналы и анналы аббатства св. Назария, и другие.
Узнав о смерти герцога Аквитании и боясь, как бы эта провинция не ускользнула от его власти, Карл снова переправился через Луару и, дойдя до Гаронны, овладел замком Блай, расположенным на правом берегу. Затем он пересек реку и осадил Бордо, который пал, так же как и соседние крепости. Чтобы окончательно ослабить Аквитанию, майордом вел военные действия вплоть до 736 г. Сыновья Эда, плохо подготовленные и застигнутые врасплох, как могли, сопротивлялись, зная, что от этого зависит их участь. Тем не менее Гаттон попал в плен, а Гунальд был вынужден покориться.
Руководствуясь, скорее, желанием поддержать мир в столь обширной стране, чем собственной воздержанностью, Карл, вечный воин, не отнял у двух братьев их государство. Он потребовал от Гунальда клятвы верности себе и двум своим сыновьям, Карломану и Пипину. Так Аквитания признала майордома своим полновластным господином. В этом договоре, как пишет автор Мецских анналов, речь шла только о Карле и его роде. Никакого упоминания о еще правившем тогда Теодорихе IV. Примечательный факт, проложивший Пипину Короткому дорогу к трону.
Освобождение Гаттона было последним жестом Карла перед уходом из Аквитании.
Новым театром военных действий стал для Карла Прованс – в то время главный предмет его притязаний. Арабы пустили корни в этой стране, и, что необычно, ее население, казалось, вовсе не пеклось о своем освобождении.
По-видимому, они предпочитали радушно принять арабов, нежели северных варваров. Сарацины, отличавшиеся веротерпимостью, удовольствовались введением хараджа,
[184] тщательно соблюдая права сеньоров и привилегии городов. Они не грабили, чтили римские памятники. Только Церковь не мирилась с этим владычеством, лишившим ее всех монастырских угодий.
Таким образом, все в этой провинции выглядело спокойным, тем более что она по большей части избежала влияния Абд-аль-Малика, девяностолетнего старика, нового вали Испании.
Назначенный халифом Хишамом после смерти Абд-ар-Рахмана, он не выполнил своих обязательств, встав во главе правительства мусульманской Испании. Он не устоял перед чарами власти. Деспотичный и никчемный, он вскоре был смещен.
Его опале способствовала неудачная кампания против вестготов, которые, объединившись с римлянами, снова вышли из-под контроля вали и удерживали часть Северной Испании. Абд-аль-Малик, подстегиваемый халифом, решился начать войну; но он не смог оттеснить своих противников и даже вынужден был вернуться по собственным следам, потеряв часть армии в ущельях и проходах.
На Провансе злоупотребления Абд-аль-Малика никак не отразились. Гораздо больше его населению пришлось пострадать из-за прихода франков, которые не могли удержаться от поджогов, истребления виноградников и рубки деревьев.
Карл действительно пересек Бургундию, чтобы убедиться в покорности этой страны, и, пройдя через Лион, напал на Прованс. Анналы почти не сообщают нам подробностей этого похода. Вероятно, что в ходе вторжения Карл Мартелл добился конкретного результата, в большей степени благодаря ужасу, который внушала его армия, чем серьезным сражениям. Он с легкостью овладел Марселем, и то была тяжелая утрата для сарацин, лишившихся преимуществ этой выгодной позиции. В Средние века Марсель – возможно, единственный морской город, о котором мы хорошо осведомлены. Судя по всему, в ту эпоху он был крупным портом. Будучи таким же многонациональным, как и в наши дни, он без всякой дискриминации давал приют евреям, сирийцам, грекам и готам, численность которых возводила Марсель в ранг очень значительных городов.
Арль, в прошлом принадлежавший герцогу Аквитании, и, безусловно, Авиньон сдались принцепсу франков. И похоже, что в ходе этой же кампании арабы вновь захватили эти два важных города, расположенных на Роне и соседствующих с Нарбонном. Таким образом, Карл моментально сделался хозяином всей страны. В Провансе он действовал так же, как и в Бургундии, насадив там такую же систему организации и обороны.
В конце концов его армия вернулась в Австразию с грузом сокровищ. То был легкий успех, но зато быстротечный, фактически сведшийся к простым стычкам. Герцог Маурон, провансальский магнат, контролировавший область Роны, вместе с другими наместниками поднял восстание, в котором приняли участие некоторые представители бургундской знати. Маурон был намерен избавиться от этой новой опеки. Союзников долго искать не пришлось: он призвал сарацин. Второй продолжатель Фредегара сообщает нам: «Неверные переправились через Рону, и под чужими именами
(insidiantibus nominibus), путем уловок и обмана, некий Маурон со своими приспешниками занял крепость и ограбил Авиньон, впустив туда сарацин, которые собрали армию». Таким образом, Маурон надеялся прочно обосноваться в области от низовий Роны до Альп.
Однако по времени эти события совпали со сменой правительства, произошедшей в Испании. Халиф, недовольный поведением Абд-аль-Малика, заменил его Окбой ибн эль-Хаджаджем. Эта ситуация странно напоминает ту, что предшествовала смещению Эль-Хайтама и приходу к власти Абд-ар-Рахмана. Окба приказал бросить своего предшественника в темницу и правил полуостровом самым безупречным образом; поощряя рвение мусульман, он подготовил новую экспедицию в Галлию. «Лучшие дни, которые выпадают правоверным, – сказал он им, – это дни сражения, дни, отданные священной войне: это путь в Рай; не называл ли себя Пророк Сыном меча? Не гордился ли он тем, что желал отдыхать в тени знамен, отбитых у врагов ислама? Победа, поражение и смерть в руках Аллаха; он раздает их, как ему угодно. Кто был разбит вчера (при Пуатье), торжествует сегодня». Он собирался перейти через Пиренеи. Восстание Маурона ускорило его поход и, главное, изменило его направление.
Овладев Авиньоном, сарацины разрушительными волнами разлились по всей округе. Помимо хроник, уже упоминавшихся в настоящей главе, об этом нам рассказывают анналы Муассака и Фонтанеля.
Приступив к созданию новой армии, Карл поставил во главе авангарда своего брата Хильдебранда, приказав ему спешно напасть на Авиньон и завладеть им, пока сарацины не успели укрепить город, получив подкрепление. Действительно, Авиньон был хорошо защищен благодаря своему расположению и крепостным стенам. Находясь на холме у слияния Роны и Дюранса, он занимал прекрасную оборонительную позицию. Усиленным маршем Хильдебранд подошел к стенам города, по дороге смяв банды, разорявшие окрестные деревни. Заняв холмы и пригороды, он разбил лагерь и осадил город. То, как он занял эту позицию, подробно описывается у второго продолжателя Фредегара, который добавляет: Карл, прибывший вслед за ним, в свою очередь, напал на город, окружил его специальными осадными орудиями и крепче сжал кольцо. «Как было в Иерихоне, – говорит летописец, – под крики врагов и звуки труб, благодаря осадным машинам и канатам они преодолели стены города». Наконец, город был взят, и тогда ему пришлось вынести все муки, которые ожидают вражеский стан после штурма. Нам рассказывается о ярости победителей, которые не разбирали ни друзей, ни врагов. Сарацины были перебиты все до единого, город разграблен и предан огню.
Не удовольствовавшись восстановлением порядка и своего владычества посредством этой бойни, Карл пожелал напасть на арабов на их территории. Он переправился через Рону, пересек Нарбоннез и направился прямиком к Нарбонну, вынудив наместника этого города запереться в нем со своими войсками. Началась методичная осада, причем Карл учел особенности расположения города. Действительно, его пересекает рукав Ода, который через озеро впадает в Средиземное море. По этому коридору корабли могли заходить в город. Таким образом, осажденные беспрепятственно получали подкрепление морем. Карл принял все меры, чтобы помешать врагам. Он не упустил ничего и укрепил берега этой реки, чтобы преградить доступ к городу.
Ситуация опьяняла майордома – ведь в тот момент он держал в руках все арабские силы Септимании во главе с наместником Юсуфом ибн Абд эль-Рахманом, известным просто как Асима.
В это самое время в дело вмешался Окба ибн эль-Хаджадж. Он погрузил на корабли свою армию под командованием одного из своих приближенных, Омара ибн Халеда или Армораша. Когда флот прибыл в порт Нарбонна, выяснилось, что путь ему преграждают укрепления Карла. Тогда войска высадились на соседних пляжах, устремившись на помощь Юсуфу по суше.
Тогда Карл оставил часть своих воинов осаждать город, а с остальными смело бросился навстречу Омару. Они столкнулись в долине Корбьере, в нескольких километрах к югу от Нарбонна, около древней резиденции вестготских королей, а точнее, на небольшой речке Берр, которая впадает в Средиземное море между Нарбонном и прудом Левкат. На наших глазах происходит своеобразное повторение битвы при Пуатье. Это яростное и жестокое сражение завершилось со смертью Омара, павшего в этом бою. Этот общий удел всех незадачливых арабских военачальников, начиная с Эль-Самха, вызвал замешательство в рядах сарацинских войск, уже потрепанных в битве. Это была огромная бойня: «Те, кто спаслись, – пишет продолжатель Фредегара, – пытались бежать морем. Они плыли по пруду с соленой водой, куда устремлялись сплошным потоком. Но франки, у которых были барки и метательное оружие, нападали на них и топили».
Добыча, найденная во вражеском лагере, была значительной, и, если угодно, именно эта битва в долине Корбьере, на Берре или при Нарбонне, окончательно закрепила за Карлом прозвище «Бича сарацин».
Но осада Нарбонна продолжалась. Карл Мартелл, устав от сопротивления осажденных, решил свернуть лагерь, оставив лишь те силы, которые требовались для поддержания блокады. Вероятно, он, привыкший так стремительно завершать свои экспедиции, был обескуражен продолжительностью этой операции.
Тогда Карл со своей победоносной армией снова пересек провинцию в обратном направлении – и за свою неудачу у Нарбонна он рассчитался с христианами. Может, стоит надеяться, что его поведение было лишь предосторожностью на случай возвращения сарацин. Он методично опустошил Септиманию, разрушил Безье и Агд, а затем двинулся к Магелону, приморскому городу, находившемуся в руках сарацин, которые использовали его как базу для пиратского промысла. Карл стер этот город с лица земли. В Ниме он обрушил стены, сжег ворота и попытался спалить амфитеатр. «Как будто вражескую крепость взорвали», – негодует Гизо. Но пламя, следы которого можно видеть еще и сегодня, не могло повредить огромным скамьям амфитеатра, спаянным твердым, как камень, цементом. Правда, необходимо указать, что амфитеатры в то время служили цитаделью. Наконец, чтобы обеспечить покорность провинции, он взял в разных городах огромное множество заложников.
И хроника подводит итог: «Восторжествовав над вражеской армией, с всегдашней помощью Христа, Господа победы и спасения, он вернулся в землю франков, сердце своего королевства».
Больше никогда Карл не предпринимал новых попыток захватить Нарбонн, а Септимания была окончательно завоевана только его сыном Пипином.
Причиной тому были новые трудности и новые войны, которые всегда отвлекали его внимание, когда он находился на гребне победы.
Определенно нам не уклониться от сравнения, которое напрашивается, несмотря на свою банальность. В течение последних лет своей жизни и после битвы при Пуатье Карл напоминал паука, притаившегося в центре своей паутины.
Из Парижа он стремительно бросался в любую из четырех сторон света, куда его призывали соображения безопасности или необходимость защиты своей власти. Его активность невероятна с точки зрения удаленности мест, где она осуществлялась, – Бургундия, Фрисландия, Аквитания, снова Бургундия, потом Прованс, а теперь Саксония.
Без сомнения, причиной того, что установление мира на своей австразийской границе он счел более своевременным, чем дальнейшую борьбу против все еще неспокойного Прованса, были набеги и восстание саксов. Действительно, в этой обширной Германии отступничество одного народа могло вызвать общее восстание. Как мы уже отмечали, эту северную войну приходилось постоянно начинать сначала, а Карл, казалось, больше стремился к победе, чем к прочному установлению своей власти. Правда, жестокость его нападений всегда вызывала у побежденных жажду мести. В его оправдание можно сказать, что, безусловно, слишком много событий требовало его присутствия то на одной, то на другой границе, позволяя ему вести войну лишь стремительными набегами. Возможно, сложность его задачи определял дух германских народов, с которыми он боролся.
Итак, Карл переправился через Рейн в месте его слияния с Липпе. Как смерч он прошелся по Саксонии, покорил ее гордый и непокорный народ и обложил его данью. Ему были переданы заложники. Эта экспедиция была классической и успешной. Продолжатель Фредегара, Мецские и Петавийские анналы не сообщают нам других подробностей.
Тем временем в королевстве произошло важное событие. Мы не хотели включать его в рассказ об этих военных кампаниях, опасаясь, как бы они не затмили его и не отвлекли внимание читателя.
В 737 г. в Шелле, на восемнадцатом году своего правления, умер король Теодорих IV, сын Дагоберта Юного. Его смерть при неизвестных обстоятельствах осталась почти незамеченной, и вовсе не в ней заключается серьезность совершившегося факта. Карл Мартелл не назначил преемника Теодориха. Он продолжал править один, не принимая королевского титула, может быть, не решаясь на это. Но, главное, оставляя незанятым трон, который он, несомненно, готовил для своего потомства, Карл хотел незаметно приучить франков к мысли об уходе их королей с политической сцены. Мы присутствуем при последних конвульсиях первой королевской династии.
Скоро и роль Карла Мартелла была сыграна, как мы знаем, в 739 г.; и упоминавшиеся выше хроники и анналы, а также Павел Диакон рассказывают нам о последнем походе майордома. На это раз его гнев снова навлек на себя Прованс. Герцог Маурон, этот уже знакомый нам арльский патриций, после тщательной подготовки снова встал во главе значительной партии. Он не сложил оружие и снова привел в Септиманию сарацин. Усиленные новыми войсками, прибывшими из Испании, они начали свои вылазки на противоположный берег Роны.
Карл послал в Прованс новую армию под командованием Хильдебранда, за которым шел по пятам. Авиньон, захваченный Мауроном, был снова отвоеван. Сам патриций, разбитый и обращенный в бегство, укрылся «среди неприступных скал, защищенных морем и горами». Мятежники, прижатые к морю, были с легкостью истреблены. Снова появившись в Марселе, Карл еще раз привел в порядок управление Провансом. Согласно хронике Вердена, в ходе именно этой кампании Карл получил помощь от Лиутпранда, короля лангобардов. Льюис подтверждает: «Только помощь лангобардов с моря не дала майордому потерять Прованс».
[185]
Отныне эта страна, как и Бургундия, в полной мере признала власть Карла Мартелла. Помятые сарацины оставили Арль и ушли за Рону. С тех пор они больше не тревожили этих провинций, которым докучали в течение стольких лет.
И псевдо-Фредегар подводит итог этой кампании следующими словами:
«Приобретя всю эту империю, вышеназванный государь Карл вернулся победителем, никто не начинал войны с ним. Вернувшись в страну франков, он заболел в своей вилле Вербери за рекой Исрой».
Глава X
Завещание
В королевстве франков, воссозданном и защищенном от внешних угроз, как будто воцарилось полное затишье. Угнетенная Германия смирилась со своим ярмом. Бавария, Швабия, а также Фрисландия и Саксония покорились и платили дань. Волна спокойствия словно разлилась по великим провинциям «Regnum Francorum» (королевства франков), Австразии, Нейстрии и Бургундии, а обескровленная Аквитания, управляемая Гунальдом, хранила верность. Карл пребывал в покое; возможно, ему недоставало поводов для триумфа, или, что еще более определенно, он пришел в состояние морального упадка, внушенного физическим изнурением.
В 740 г., как пишут хроники, «Карл в мире правил своими государствами и не водил свою армию ни в одну из сторон света». В 741 г. мы уже не наблюдаем той военной суеты, которая кипела в прошедшую эпоху. Воля бойца ослабела; Карл дошел до того, что отказал Григорию III, умолявшего его о помощи против лангобардов.
Но какими знаками почтения и покорности папа сопроводил эту просьбу! Одного за другим он направил к принцепсу франков два посольства, которые, согласно хронике Муассака и Мецским анналам, передали Карлу ключи от гробницы св. Петра и часть его вериг. Это символическое подношение сопровождали богатые подарки. Если бы Карл взял на себя защиту Святого престола от лангобардских армий, то никогда вознаграждение, полученное им за свои военные усилия, не было бы более щедрым и внушительным. Фактически в награду папа обещал Карлу возвести его на место отныне бессильной императорской власти и предложил ему титул римского патриция. И, по-видимому, посланники принесли с собой еще и указ римского сената со сходными предложениями. Во имя народа Рима сенаторы принимали верховную власть Карла над этим городом.
Эта миссия, присланная главой христианского мира, безусловно, представляла собой зрелище, достаточно непривычное для франков. Карл принял посольство с пышностью, прекрасно осознавая почет, оказанный его власти Церковью и римским народом.
Какие причины побудили Карла отказать понтифику в содействии? Его дружеские чувства к Лиутпранду, лангобардскому королю, чьи достоинства он, как утверждают, ценил? Недовольство титулами «патриция» и «консула», которыми его почтили, хотя его власть была поистине королевской, и он бы предпочел именоваться «императором» или «августом»? Нежелание защищать мирские богатства Церкви, которые ему самому случалось присваивать? Вероятнее всего, ослабление его сил, перед которым честолюбие оказалось бессильным.
Таким образом, майордом не оказал никакой помощи Святому престолу, соблюдая строгий нейтралитет между папой и Лиутпрандом. Он ограничился отправкой в Рим посольства во главе с Гримоном, аббатом монастыря Корби, и Сигебертом, монахом из Сен-Дени. Эти два инока доставили понтифику письма, которые не дошли до наших дней. Без сомнения, Карл постарался склонить противников к заключению мира и предложил свое посредничество.
В том же году Карл принял еще одно посольство из Рима и делегацию от своего союзника Лиутпранда, объяснявшую его позицию. Он так и не стал вмешиваться. Заметим лишь, что этот демарш папы указал дорогу его наследникам, которые повели в Италию франкские войска.
Этот отказ стал последним событием политической жизни принцепса франков. Карл умер в Кьерси 22 октября 741 г. Эта дата, которой мы обязаны второму продолжателю Фредегара, вызывает некоторые возражения, хотя эта информация исходит от родного брата Карла Мартелла. Небольшое сообщение рукописи № 10837, анналы Сент-Амана и Петавийские анналы называют другой день – 15 октября. Можно заподозрить их в ошибке; однако некролог Сен-Дени называет днем кончины Карла 16 октября, и вполне возможно, что дата 22 октября в действительности относится к его погребению. Очень вероятно, что смерть его наступила неделей раньше.
Как часто бывает, в этом же самом 741 г. со сцены ушло сразу три великих деятеля этой эпохи: Григорий III, преемником которого через четыре года стал Захария; Лев III Исавр, которому наследовал Константин V Копроним, и Карл Мартелл, завещание которого предполагало раздел королевства, что было в обычае у королей.
Что же касается нас, историков этой короткой эпохи, Карл передал нам прежде всего итоги своей битвы, битвы при Пуатье – отравленный подарок, повод для яростных споров. Какие последствия имела его победа и какую роль отводят разные авторы этому военному столкновению?
Для удобства при обсуждении разделим второстепенные итоги, те результаты, которые никто и не думает отрицать, и главный «результат», то есть спасение Галлии и христианского мира, совершенное Карлом Мартеллом у Пуатье.
Таким образом, прежде всего рассмотрим один за другим все побочные последствия, приписываемые битве.
С точки зрения хронологии первым следствием победы Карла было спасение аббатства Сен-Мартен, которое в результате избежало грабежа и уничтожения. А ведь мы уже видели, какое значение следует придавать этому святому месту, первому в Галлии. Аббатство, сверкающее сокровищами, центр притяжения, не имеющий себе равных, уцелел.
Другим непосредственным итогом, вероятно, было облегчение, испытанное населением, избавившимся от завоевателя, который слишком уж охотно разрушал, мучил и убивал. Разумеется, это непременное следствие всех сражений; тем не менее в данном случае арабская оккупация продолжалась в течение одного долгого года, а жить в постоянном страхе нелегко. После 733 г. и именно по причине битвы при Пуатье жителям Аквитании или Пуату больше никогда не приходилось испытывать на себе разрушительной силы арабских армий. Напротив, это Карл Великий направил свои войска на арабскую сторону Пиренеев. Однако следует заметить, что Аквитания была до крайности истощена вторжением, до такой степени, что после этого периода отмечается резкий спад товарообмена между этой южной провинцией и областями к северу от Луары. Так, можно говорить о полном прекращении добычи и продажи аквитанского мрамора, который распространялся вплоть до Парижского региона. Аббат Лестокуа сообщает нам об этом в своей работе («Последствия сарацинского вторжения на юг Франции»).
Этот вывод не должен заслонить нам последствие, на которое указывается в анналах Санкт-Арнульфа и хронике Фонтанеля: Аквитания была завоевана Карлом. Г. Пертц в связи с этим делает более точные выводы и говорит о временном присоединении Аквитании к Франкскому королевству, смягчая тем самым утверждения аббата де Шона, который заявляет, что битва надолго загасила националистические устремления аквитанцев. Даже если сражение при Пуатье и не положило конец стремлению двух сыновей герцога Аквитанского к независимости, то тем не менее оно изменило военную и политическую позицию Карла
Мартелла.
Действительно, после столкновения с арабами мы наблюдаем в поведении принцепса франков перемену, как будто это сражение открыло ему новые перспективы. До 733 г. майордом, целиком находясь во власти страха перед Нейстрией, всегда готовой вспыхнуть, ограничивал поле своей деятельности пространством между Луарой и крайними точками Саксонии и Баварии. После этого времени все пошло совершенно по-другому. Его победа свалила дерево, загораживавшее собою лес. Она окончательно освободила его от страхов и комплексов. Для него она стала обретением подлинной уверенности, освобождением, которое позволило ему задуматься о более честолюбивых устремлениях. Теперь он свободно колесил по всему государству, размеры которого прежде, кажется, подавляли его. Впрочем, при этом Карл, несомненно, также стремился к войне с арабами, как и к восстановлению огромной франкской державы. Он стремился продолжить дело, начатое при Пуатье, дело, которое, кажется, увенчало его лаврами великого полководца. Вот почему, по нашему мнению, знаменитая битва закончилась только в 739 г. Бесспорно, она принесла Карлу славу, которая, выйдя за границы Галлии, окружала его имя даже за Альпами. Действительно, Григорий III обратился со своим призывом не к майордому, ведущему нескончаемые войны и с трудом сдерживающему натиск германских народов. И не как к покровителю Бонифация, а как к новому человеку, одержавшему победу при Пуатье, в Аквитании, в Бургундии и установившему свою власть над берегами Средиземного моря, куда долгое время христианам был путь заказан. Именно к этому государю и только к нему папа мог заставить себя направить унизительное посольство. Эта попытка установления отношений между Карлом Мартеллом и Святым престолом подготовила приход к власти Пипина Короткого, который, желая столкнуть династию Меровингов с трона, не попросил ни совета, ни помощи у народа франков, или своих сторонников, или епископов и магнатов. Он обратился за поддержкой к папе Захарии. И счастье улыбнулось ему, так как, и этим фактом нельзя пренебрегать, битва при Пуатье укрепила позиции Пипинидов как среди равной им австразийской знати, так и среди их собратьев-соперников в Нейстрии.
В этой веренице последствий, которые считаются второстепенными, нельзя оставить без внимания один итог стратегического порядка. Как представляется, битва с арабами продемонстрировала необходимость увеличения конных войск. Впрочем, в дальнейшем ее боеспособность преувеличивалась, пока дело не дошло до той катафрактарной
[186] конницы, чье участие в третьей битве при Пуатье, при Нуайе-Мопертюи завершилось для нас так плачевно.
[187]
Таковы результаты события, которое многие считают самым поразительным из всех, что произошли в Галлии со времен завоеваний Хлодвига. Но теперь речь идет о том, чтобы дать оценку мнению, выражаемому рядом историков, которое можно резюмировать следующей фразой Седилло. «Именно здесь, – пишет он, говоря о битве, – решилась судьба Запада». Нужно ли вместе с Диго верить, что это было решающее событие, и утверждать, как Шатобриан: «Это одно из величайших событий истории: если бы сарацины победили, мир был бы исламским».
Во все времена энтузиасты и убежденные приверженцы этого мнения не жалели хвалебных слов в адрес битвы. Анри Мартен, Гизо и Дюкудре вместе с Дегуи-Вюрмзером, аббатом Лельевром, Аното, Малле, Эгреном, Рейно присоединяются к нижеследующему утверждению Левиллана и Самарана: «Это одно из основополагающих событий мировой истории».
Процитировать их всех невозможно, но все они с уверенностью выражают это чувство значимости битвы, чувство, которое для них столь естественно, что они не подвергают его рассмотрению, а просто объявляют как некую истину: «Битва при Пуатье – памятная дата нашей истории» (П. Гаксот).
Стоя на перепутье между этими историками и другими, настроенными более скептически, Зеллер заканчивает свой рассказ об этом сражении гораздо более осторожно: «Это была битва, которая, по мнению одних, спасла Запад и христианскую цивилизацию, а, по мнению других, была лишь эпизодом в этой войне из набегов и выпадов, которой арабы изводили Галлию и Юг». А Анри Пиренн решительно прокладывает путь тем, кто методично старается развенчать то, что они называют мифом. В 1935 г. в своей книге «Мухаммед и Карл Великий» Пиренн написал: «Это сражение не имело того значения, которое ему приписывают. Оно не сравнимо с победой, одержанной Аэцием над Аттилой. Оно отмечает собой конец одного набега, но в действительности ничего не завершает. Если бы Карл был разбит, это сказалось бы только на масштабе грабежа».
Таким образом, Пиренн выразил мнение, которое мы можем пояснить, сформулировав его следующим образом: событие 733 г. у Пуатье обозначило крайнюю точку мусульманской экспансии и начало отступления арабов, но причина этой остановки и перемены никак не связана с тем, что Карл Мартелл победил в самой битве.
Чтобы настаивать на истинности этого тезиса, который в числе прочих поддерживают Лависс, Бремон, Берль, Ру и Жюлиан, необходимо прежде всего опровергнуть всякую значимость этого столкновения, а затем найти глубокие причины, приведшие к тому, что ислам выдохся. Мы уже отмели те доводы, которые часто приводят с целью свести к минимуму роль битвы. Все они, кроме одного, представляются нам негативными. Таким образом, перед нами снова встает вопрос о рукописи № 10837.
Монах-переписчик, автор записей на календаре св. Виллиброрда, не упомянул о битве при Пуатье. Однако он сообщает обо всех важных событиях периода правления Карла Мартелла. Следовательно, напрашивается один вывод: это был лишь малозначительный инцидент, не поразивший воображения современников.
Это соображение не выдерживает серьезной проверки. В действительности ради простоты мы не указали, что в этой рукописи восемь записей, а не четыре. Отбросим вторую и последнюю, которые можно считать позднейшими.
В этих двух записях, как и в третьей, четвертой и седьмой, содержится намек на траурные даты, связанные со смертью Кольха, Плектруды и Карла Мартелла (что, впрочем, не дает нам права заявлять, что кончина Дагоберта III в 715 г., Хлотаря IV в 719 г. или Теодориха IV в 737 г. не имели ни малейшего значения, на том основании, что данный монах о них не упоминает).
Как бы то ни было, кажется поразительным, что три другие записи сообщают, причем исключительно, о сражениях Карла за власть. Здесь речь идет только о поединке между Австразией и Нейстрией и больше ни о чем. Довод, опирающийся на факт молчания монаха, рушится сам собой, тем более что свидетельства современников, о которых мы уже говорили выше, в полной мере отдают должное битве при Пуатье.
Мы не уверены в том, что большее значение нужно придавать другому факту – безмолвию арабских авторов, на которое ссылаются, желая оправдать эту же самую теорию и свести на нет значение битвы. Г-н Готье удивляется тому, что у таких историков, как Ибн Хайан и Ибн эль-Аффиз, имеются лишь очень краткие упоминания об этом сражении, и незамедлительно делает вывод, что: «для них битва при Пуатье была незначительным эпизодом, а не решающим сражением, затрагивавшим дальнейшую судьбу магрибского ислама». Немного поспешное заключение. Наши хроники упрекают за восхваление эпизода, не стоившего этих усилий; однако в анналах аббатства Лорш и Сент-Аман, в Аламаннских и Лаубакских анналах, в анналах аббатства св. Назария и пр. можно видеть такое же сухое упоминание, как у арабских авторов: «732 – Карл сражался в Пуатье с сарацинами в субботний день». Стоит ли делать из этого вывод о том, что данные хронисты не придавали победам Карла большого значения? Впрочем, мы обнаружим, что толковать молчание или принимать без всякой критики утверждения мусульманских историков проще всего. Как кажется, в XIII–XIV вв. они были влиятельными людьми и, как говорят, могли иметь в распоряжении документы в достаточно большом количестве, чтобы проследить историю своего народа. Но эти соображения представляются нам недостаточными, чтобы целиком на них полагаться. Разве нельзя предположить у этих средневековых арабских историков малой толики той пристрастности, которую так охотно приписывают нашим авторам анналов, или частички той этнической неприязни, в которой нас так часто обвиняют? Однако разумнее полагать, что нескончаемые трудности, которые возникли у них вскоре после битвы, затмили ее значение.
Еще утверждают, что этому вооруженному столкновению недостает двух элементов, чтобы относиться к нему серьезно. Г-н Берль, говоря о битве при Пуатье, этой «непризнанной знаменитости», объявляет, что мы не в состоянии установить точное место сражения, и удивляется тому, что на месте этой «вселенской битвы» не было воздвигнуто ни часовни, ни даже простой стелы. Значит ли это, что, как он и заявляет, жители Пуату, франки, вместе с Церковью, не видели необходимости в увековечении события, которое не считали значительным?
В ответ мы предложим ему сравнение этой битвы с другой, хорошо нам известной, – это сражение Хлодвига с вестготами в 507 г.
Ее главными действующими лицами были Хлодвиг, крестник св. Ремигия, которому Григорий Турский приписывает истинную помощь с небес, и Аларих, язычник, богохульник, отрицавший по примеру Ария божественную природу Иисуса. Эти военачальники столкнулись, чтобы решить судьбу Галлии, установить, чем она станет в дальнейшем: Готией или Францией? Естественно, Церковь должна была придавать особое значение этой битве. И неудивительно, что, прославляя победу Хлодвига, она облекла ее ореолом чуда. Ночью над монастырем Сен-Илэр появился блистающий огненный шар, чтобы осветить дорогу Хлодвигу, которому на следующий день удалось переправиться через Вьенну вброд благодаря чудесной лани, указавшей ему путь. Наконец, из-под копыт его коня пробился родник, что сделало возможным крещение его воинов, еще язычников.
От памятной часовни нет и следа, и еще предстоит найти место, которое можно было бы связать с этим сражением 507 г., значение которого никто и не думает приуменьшать.
Впрочем, г-н Берль сам умерил силу своих аргументов, отметив несостоятельность хронистов, работавших после Григория Турского, а также нищету и молчание римского католичества в VIII в. И «все-таки», пишет он.
Упорно отстаивая тезис о «мифе», г-н Берль предполагает, что арабские всадники, даже закрепившись в Аквитании, почти не представляли опасности для христианства в Пуату, ибо были не в состоянии искоренить столь искреннюю веру. И любопытное заключение: «И в этой области кажется, что битва при Пуатье обрела свое огромное значение, которое ей приписывает традиционная история, только позднее».
А вот это представляется вполне естественным. Современники всегда оценивают значение какого-либо события, исходя из своих сиюминутных интересов, даже если, как в данном случае, речь идет об освобождении их территории в результате своеобразной победы европейцев над завоевателями, принадлежавшими к другой расе. Лишь у историков будущего достаточно материала, чтобы выстроить более объективное суждение, впрочем, чаще всего они имеют тенденцию приуменьшать значимость события. Однако в случае битвы при Пуатье дело обстоит иначе.
Итак, мы анализируем ряд спекуляций, к которым можно добавить еще одну: понятие набега. Майор Лекуантр очень хорошо показал, что четвертое вторжение сарацин в Галлию первоначально было не более чем грабительским рейдом. Из этого следует, что если бы битва при Пуатье не состоялась, или ее результат был обратным, то итогом стал бы лишь более масштабный грабеж, а не заселение страны арабами.
Этому утверждению, построенному на догадках, можно противопоставить другие гипотезы, проистекающие из того же понятия набега.
Кратко изложим обстоятельства, которые привели Абд-ар-Рахмана в окрестности Пуатье. Карательная экспедиция против Мунузы переросла в кампанию против Эда и Аквитании. Успех арабских армий побудил Абд-ар-Рахмана глубже вторгнуться в Галлию. Мы уже отмечали эволюцию замыслов эмира, эволюцию, продиктованную обстоятельствами. Так что мы не далеки от мысли, что битва при Пуатье могла сыграть ту же первостепенную роль, что и сражение, развернутое Тариком на равнине у реки Гвадалеты. Действительно, эта победа арабов отдала в их руки королевство, куда они пришли, скорее, грабить, чем завоевывать. Обещания и посулы графа Юлиана не убедили их. Впрочем, именно поэтому Тарик был послан из Африки, чтобы прозондировать почву. Его набег и полученный опыт оказались успешными, поскольку завоевание Испании стали «финансироваться» фактически королем готов.
Можно ли представить себе иной исход, если бы при Пуатье победил Абд-ар-Рахман? Был ли Карл Мартелл, совсем как Родерих в Испании, единственным противником, способным дать отпор претензиям арабов?
Можно ли полагать, что Абд-ар-Рахман отказался бы закрепиться в стране, которая отныне зависела бы от его милости? Возможно ли, чтобы вали, известный своим благочестием, пренебрег своей священной обязанностью любой ценой расширять границы войны за счет неверных и особенно в этот период, когда победы и свершения стали для арабов жизненной необходимостью?
Кроме того, сами германские народы определенно породили беспорядок, благоприятный для закрепления арабов, которое стало бы не более чем формальностью, не считая всегда возможной, как доказала нам История, поддержки на местах. Таким образом, арабы получили бы богатую ресурсами страну, которую удерживали бы с помощью воинских подкреплений, прибывших из Африки и до вторжения в Галлию сосредоточенных в Испании и Септимании.
Но скорее всего эти предположения непозволительны. У ислама больше не было достаточных сил, чтобы прочно закрепиться во вновь завоеванной стране.
Причина? Серьезные внутренние проблемы в арабском мире переросли в восстание хариджитов. Здесь, согласно Лависсу, Итти, Ру, Берлю и Жюлиану, мы касаемся глубинной, если не единственной причины остановки продвижения ислама на Западе. Их мнение можно резюмировать следующим образом: распри, раздиравшие ислам в ту эпоху, являются единственным обстоятельством, которое можно назвать в объяснение затишья, а затем и отката мусульманского завоевания; значит, любым другим событием можно пренебречь, и нам не остается ничего, кроме как отрицать значение битвы при Пуатье, которая, как пишет Берль, «одновременно маскирует и подтверждает» хариджитский мятеж.
Каким он был?
Хариджизм представляет собой ересь, и начало ей было положено вскоре после смерти Мухаммеда в схватке, противопоставившей друг другу двоих людей, которые оспаривали право наследовать Пророку. Али, которого поддерживали шииты, встретился на поле боя с Муавией и его приверженцами-суннитами. После безрезультатной битвы при Сиффине, в Верхней Месопотамии, два противника условились о компромиссе. Но некоторые из соратников Али, недовольные этим согласием, покинули него, разом отвергнув шиитские и суннитские принципы. Эти мятежники приняли имя хариджитов, «отделившихся». Таково было начало, скорее, коалиции, чем настоящей доктринерской партии. Следуя древним племенным представлениям, хариджиты утверждали, что не имеет значения, кому взять на себя управление халифатом, требовали равенства для всех народов, протестовали против всякого компромисса между Али и Муавией, а в конце концов отвергли законность притязаний обоих.
Впоследствии появилось и хариджитское учение, которое проповедовали интеллектуалы. Дойдя до логического предела, непримиримое и малоконструктивное, оно выродилось в анархию. Хариджиты были разбиты и сошли с политической сцены. Намного позднее в Северной Африке их учение было горячо подхвачено зенетами, кочевавшими по горам и пустыне. Они не признавали власти Омейядского халифа и были прирожденными противниками всего того, что приносит цивилизация. Позаимствуем у Эммануила Берля их исповедание веры: «Хариджизм оправдывал их ненависть к производительному труду, к оседлой жизни, их желание разрушать и похищать создания чужих рук. Эти ярые пуритане разрушали дом, когда им требовался камень, и срубали дерево, когда им нужна была охапка хвороста. Хариджизм убедил их, что, поступая так, они служат делу истинного Бога. Поэтому они жгли урожаи, леса, вызывая тем самым пересыхание долин».
Их естественные противники, санаджахи, оседлые жители побережья, испытали на себе их зависть и гнев.
Восстание грянуло в окрестностях Танжера в 740 г. и началось с первой крупной битвы, называемой битвой «благородных», между хариджитами и арабскими властями. В 741 г. – еще одно сражение, затем снова – в 742 г. при Кайруване и в 747 г. в том же районе.
Должно быть, бунт продолжался около шестидесяти лет и прекратился только в конце VIII в. Таким образом, для Магриба это действительно было немаловажное и катастрофическое событие. Но оно началось только в 740 г. и в тот период, когда арабские армии уже столкнулись с неудачами. До сих пор завоевания и победы не позволяли этим людям воевать между собой, а общность интересов сплачивала. Антагонизм двух народов, берберов и арабов, мог возродиться только в обстановке бездействия и поражений.
Вялая политика дамасского двора, отсутствие энергии некоторых наместников мусульманской Испании, военные неудачи других стали причиной этого крупного восстания, которое и без Пуатье или экспедиций в Прованс, безусловно, зародилось бы подобно сапрофиту в недрах арабской империи.
Выразим суть нашей мысли: битва при Пуатье, длившаяся шесть лет, стала важным катализатором восстания хариджитов. (Тем не менее, возможно, что победа Абд-ар-Рахмана или удачная военная акция на Берре лишь отсрочила бы его начало.) Есть довод, позволяющий утверждать, что в 738 г. силы арабов, что бы кто ни говорил, были еще значительными. Как мы уже видели, Окба легко собрал мощную армию, о настроениях которой нам рассказывает Аноним: «Сарацины, горя нетерпением отмстить за свои неудачи, пробудились от своей праздности», и еще: «…воинственная арабская и африканская молодежь, которая не желала ничего, кроме как вкусить набегов и завоеваний». Эти характеристики показательны. Динамичные и успешные кампании мешали санаджахам оценить прелести «прогрессивного падения», которое есть оседлый образ жизни, а зенеты находили другие пути реализации своего разрушительного рвения. По нашему мнению, этот тезис подтверждает берберская пословица: «Я и мой брат – против моего двоюродного брата, а я и мой двоюродный брат – против чужака».
Тогда кажется, что стоит вернуть битве при Пуатье ее значимость и по примеру Жака Пиренна сделать сдержанный вывод: «В Галлии эта волна разбилась у Пуатье, где Карл Мартелл противопоставил ей все свои силы. Отныне судьба ислама была определена. Неудачи в Европе отнесли его центр тяжести в Переднюю Азию. Как и во времена восточной античности, Месопотамия, оттеснив на задний план Средиземноморье, снова взяла на себя роль главной артерии международной экономики. Из этого неизбежно должен был последовать глубокий кризис».
По поводу этого неоспоримого результата битвы при Пуатье Анатоль Франс горько сетует: «Это было отступление цивилизации перед варварством». Не является ли это одним из тех парадоксов, которые так охотно подчеркивал наш писатель? Этот лозунг, очень в духе некоторых снобов от истории, неубедителен. Расцвет ислама относится к более поздней эпохе, и можно полагать вместе с Седилло, что «это была лишь молния, блеснувшая между варварством и упадком». Арабы были не в состоянии угнаться за поступью времени, и следствием этого стало социальное, экономическое, а также интеллектуальное разложение. Наша задача состоит не в поиске причин, а в констатации вслед за Седилло и в противовес Анатолю Франсу: «Итог отрицателен. В конечном счете арабская цивилизация больше отстала от западной, чем продвинулась вперед. Повинен в этом не араб, а Коран. Бесплодие ислама – это рок».
Победа Карла Мартелла не исказила сути цивилизации и не изменила ход нашей истории. На самом деле, не в ней заключается причина, обусловившая падение Меровингов, она его лишь ускорила. Последние, во всяком случае, система, которую они представляли, уже утратили свое значение. Успех Карла только позволил ему распоряжаться троном, который пустовал в час его смерти.
«Он собрал своих воинов, – пишет продолжатель Фредегара, – и среди них и с их согласия управлял королевством как собственной вотчиной».
Здесь напрашивается отступление о семейной жизни и потомстве Карла Мартелла, объясняющее все то, что касается его наследства. Его первая жена Ротруда, умершая в 724 г., подарила ему двух сыновей Карломана и Пипина, а затем дочь по имени Хаделога.
В 725 г. он вернулся из одного из походов вместе с Суннихильдой и ее матерью. Очень скоро, устав от этой последней, он выслал ее под каким-то предлогом, не забыв предварительно лишить ее всего имущества. В результате ей пришлось покинуть Галлию, гоня перед собой ослицу, навьюченную всем ее жалким скарбом. Она удалилась в Италию, где и умерла. Ее дочь Суннихильда произвела на свет сына, Гриппона или Гриффона.
Карл был отцом еще четырех других детей: Ремигия, ставшего архиепископом Руана, Бернарда, который получил титул графа, Иеронима и, наконец, дочери, Хильтруды, сделавшейся супругой Одилона.
Удерживая в памяти пример Пипина Геристальского, можно было ожидать сложностей в наследовании. Но Карл, умирая, сделал уступку церковному учению о браке. «По совету своей знати» он лишил незаконных детей права на долю наследства.
Старшему сыну Карломану он передал титул майордома Австразии со всеми ее угодьями, Швабией, Тюрингией и другими германскими странами, подвластными франкам, кроме Баварии.
Пипину он отвел Нейстрию, Бургундию и Прованс. Аквитания избежала этого раздела, оставшись независимым герцогством, но тем не менее признавала главенство Пипина. Гриффон получил только несколько поместий, разбросанных по государствам его братьев.
Это распределение вызвало осложнения. Гриффон восстал и в конце концов был заточен в Шевремон. Освобожденный впоследствии Пипином, он снова попытался подтолкнуть саксов и баваров к мятежу. Этот инцидент не имел продолжения.
Что касается Карломана, то в 747 г. он передал управление Австразией Пипину, поручив ему в придачу своего сына Дрогона. Затем в сопровождении свиты сеньоров, следовавших за ним, чтобы оказать требуемое уважение, он отправился в Рим. Папа Захария постриг его в монахи. Тогда Карломан приказал выстроить для себя монастырь в окрестностях Рима на горе Сократ.
Впоследствии стремление к еще большему уединению заставило его удалиться в монастырь Монте-Кассино, где он, став верным последователем устава св. Бенедикта, скончался. Пипин остался один на том пути, который вел к королевской власти и империи. Усилия Карла Мартелла не оказались тщетными, и его право, право сильного, пользовалось большим признанием, чем в случае Пипина Геристальского, так как его в меньшей степени подвергали сомнению. Зная об ошибках своего отца и помня о хаосе, воцарившемся после смерти Пипина, Карл обрел средство, способное дать его власти более прочное основание, в силе оружия. Пипин Геристальский всегда представал в образе защитника; его сын стал завоевателем – по необходимости, но еще по своему характеру, суровому, несгибаемому и жестокому. Без жалости он приносил жертвы военной необходимости, так что под влиянием его завоеваний у франков сформировалось новое общественное право: отныне с этими народами обращались как с побежденными, тогда как воины и их командиры стали послушным орудием абсолютного владыки. Эта военная революция стала возможной благодаря созданию системы «бенефициев»
[188] в обмен на военную службу. Чтобы претворить свой план в жизнь, Карл воспользовался жестоким и тираническим средством – разграблением имущества Церкви, однако это был единственный путь, приемлемый для завоевателя, ценящего лишь средства к укреплению своего величия и не берущего в расчет ничего прочего. Как пишет Жилермоз: «Отныне размеры вассальных пожалований привлекают не только лиц небольшого или среднего достатка, но даже магнатов».
Таким образом, Карл Мартелл восстановил повиновение, подорванное упадком древних королей, и вновь привлек подданных к государю с помощью эффективного и нового института, основанного на взаимных обязательствах покровительства и службы.
Дело скороспелое, немного непрочное, несмотря на фантастическую активность Карла. Тем не менее по смерти он оставил Пипину Короткому великолепие и могущество, добытые силой и оружием. Это было наследство великого и талантливого полководца.
И вот в знойный, торжественный и сосредоточенный день нашей истории, день возвращения праха Наполеона, ему, как непререкаемому таланту, была отдана дань уважения. На эспланаде Инвалидов, запруженной жителями Парижа, высились статуи королей и военачальников, прославивших Францию: Гуго Капета, Жанны д'Арк, Франциска I, Генриха IV, Тюренна, Дюгеклена, Байярда и всех тех, кем мы восхищаемся.
И среди тех, кто созидал Францию, между Хлодвигом и Карлом Великим стоял принцепс франков, Карл Мартелл.
Битва при Пуатье в источниках
Второй продолжатель Фредегара
(текст написан по инициативе Хилъдебранда, брата Карла Мартелла)
Как (Карл) побил и победил саксов, герцога Аквитанского и Абдирамана, короля сарацинского.
По прошествии года Карл собрал неисчислимую рать, переправился через Рейн, миновал страну аламаннов и свевов и дошел до Дуная, он перешел через него и завоевал страну болгар. Покорив эти земли, он пустился в обратный путь с множеством сокровищ, некоей женщиной и ее дочерью Соннехильдой, в это время герцог Эд уже не соблюдал условий договора. Получив известие об этом, Карл собрал войско, перешел через Луару, обратил в бегство самого Эда, захватил большую добычу (враги дважды грабили страну), вернулся в свою землю.
Эд, оказавшийся побежденным, стал искать помощи от принцепса Карла и народа франков у коварного народа сарацин. Выступив вместе со своим королем Абдираманом, они перешли через Гаронну и достигли Бордо. Сжигая церкви, избивая жителей, они достигли Пуатье, где предали огню базилику св. Илария. Какое горе говорить об этом! И вознамерились уничтожить обитель блаженного Мартина. Принцепс смело и воинственно повел свое войско и напал на них. С помощью Христовой он опрокинул их шатры и обрушился на них, чтобы окончить битву избиением. Он умертвил их короля, разбил и уничтожил их армию, сразился и одержал верх. Так отпраздновал победу над врагами.
В начале следующего года король Карл, блистательный воин, с помощью уловки вторгся в земли бургундов. Его слава, испытанная в боях, и умение его воинов усмирять мятежные и неверные народы позволили ему установить границы своей страны, когда был заключен мир, он отдал Лион своим верным. Он утвердил договоры, которыми были закреплены подати, и уверенно вернулся с победой.
Между тем умер герцог Эд. Получив эту весть, уже поименованный принцепс Карл посоветовался со своими людьми и вторично переправился через Луару, он подошел к Гаронне, взял Бордо и занял замок Блай, он завоевал эту область, покорив сопредельные с этим замком города и земли. Он вернулся победителем с миром, благодаря помощи Христа, Царя царей.
Аминь.
Хроника Изеса
Обнаружена г-ном Делилем, хранителем департамента рукописей Национальной библиотеки
Год 715.
Через 9 лет после прихода сарацин в Испанию их король Сема
[189]осадил и взял Нарбонн, мужчин этого города он предал смерти, а женщин и маленьких детей пленил и увел в Испанию.
В том же году он три месяца осаждал Тулузу, пока он вел осаду, Эд, принцепс Аквитании, выступил против него с армией из аквитанцев и франков, когда началась битва, большинство сарацин обратилось в бегство и было убито.
Аннубиза, король сарацин, с сильной армией осадил и захватил Каркассон и хотел взять Ним. Он отправил заложников в Барселону.
Год 753 – Ансемунд, гот по происхождению, вернул Пипину, королю Франции, Ним, Магелон, Агд, Безьер.
Хроника Фонтанеля
(составленная неизвестным автором, умершим около 834 г.)
В том же году Карл продолжил войну в Гаскони против принцепса Эда, тиранически захватившего власть Рагенфред, целый и невредимый, умер после четырнадцати лет тирании.
На другой год (732-й от Рождества Христова) Эд, герцог Аквитании, видя свое поражение и не имея больше сил, чтобы защищать свою родину от Карла, позвал к себе на помощь коварный народ сарацин. Со своим королем Абдираманом они переправились через Гаронну и подошли к Бордо там они сожгли Божии церкви, убили множество христиан и потом направились к Пуатье. Они сожгли базилику св. Илария и с рвением пустились в путь, чтобы уничтожить аббатство св. Мартина. Против них принцепс Карл выстроил свою армию у города Пуатье и бесстрашно обрушился на них, призвав в помощь Христа. Он истребил всех сарацин до последнего вместе с королем.
Он взял их имущество и восславил имя Господне, вся Аквитания тогда была покорена, и Карл вернулся с победой в свои земли.
Лаубакские анналы
731 – Карл воевал с Эдом в Гаскони.
732 – Война Карла с сарацинами.
733 – Солнечное затмение.
Отрывок из Кордовского Анонима
Абдираман, увидев, что многолюдие его армии наполняет землю, пересек горы Тарраконы, ступая по морям как по равнинам, разграбил все внутренние франкские земли. На своем пути он стольких поразил мечом, что в конце битвы, начатой Эдом по ту сторону Гаронны или Дордони и закончившейся его бегством, число убитых и умирающих было известно лишь Богу.
Тогда Абдираман, бросившийся в погоню за герцогом Эдом, разрушая дворцы и сжигая церкви, решил разорить церковь Тура.
Тогда консул Австрии (Австразии), глубинной части Франции, по имени Карл, с молодости исполненный воинственного духа и искусный в военном деле, получив предупреждение от Эда, напал на них в лоб.
После семи дней яростных сражений оба лагеря были не уверены в исходе битвы и готовились к решающей схватке. Они бились с жаром, эти люди севера, они разили в лицо, они оставались недвижимы, как стена, стояли невозмутимо, не дрогнув, с мечом в руке, как ледяной вал, и их мечи пронзали арабов. Но когда, сильные своей телесной мощью, люди Австрии с нацеленным в сердце железным оружием в пылающих руках нашли короля и убили его, ночь положила конец битве.
Разочарованные, они тогда снова вложили мечи в ножны. Назавтра в виду огромного лагеря арабов они приготовились к бою, они обнажили мечи, и ранним утром европейцы
(europenses) увидели палатки лагеря на том самом месте, где их поставили сарацины. Они не знали, что лагерь безлюден, и предполагали, что внутри находятся готовые к битве сарацинские фаланги, они выслали разведчиков с заданием. Те же показали, что армия исмаилитян бежала.
В полном порядке и тишине они бежали ночью, чтобы вернуться восвояси. Однако европейцы еще опасались, что сарацины прячутся на дорогах и готовят засады. Каково же было их удивление, когда, осторожно обойдя вокруг лагеря, они не обнаружили никого! И поскольку эти народы вовсе не заботились о погоне, они ушли, нагруженные добычей, и с торжеством вернулись в свое отечество.
Хроника Сен-Дени
Как Карл Мартелл убил в одном бою 385 000 сарацин и присвоил себе церковную десятину.
Год 732.
Когда герцог Эд увидел, что разбит и унижен принцепсом Карлом и не в силах отомстить, если не прибегнет к иноземной помощи, он заключил союз с сарацинами Испании и позвал их к себе на подмогу против Карла и христианства. Тогда сарацины выступили из Испании вместе с одним из своих королей по имени Абдираман, с женами и детьми и всем имуществом, в столь большом количестве, что никто не мог их сосчитать даже приблизительно они везли с собой все необходимое, все свое имущество, как будто должны были с этих пор поселиться во Франции.
Они перешли через Жиронду, вошли в город Бордо, перебили людей, сожгли церкви, разграбили всю страну.
Они двинулись дальше, до самого Пуатье, уничтожили все так же, как сделали это в Бордо, сожгли церковь св. Илария, что вызвало глубокую скорбь. Оттуда они отправились к городу Туру, чтобы разрушить церковь св. Мартина, город и всю округу.
Там со всей возможной быстротой им навстречу вышел славный принцепс Карл он выстроил свою армию в боевом порядке и напал на них как голодный волк на овец. Во имя Господа нашего он побил множество врагов христианской веры как говорят хроники, в этой битве он убил 385 000 сарацин и их короля по имени Абдираман. Именно тогда его впервые назвали Мартеллом, подобно тому, как молот разбивает железо, сталь и другие металлы, он в битве сминал и сокрушал своих врагов и все прочие народы.
Чудеснее всего было то, что он в этой битве потерял только 1500 своих воинов. Он взял все шатры врагов и все их снаряжение и завладел всем, что у них было. Этот подвиг позволил ему забрать у церквей десятину, чтобы одарить своих всадников, которые, по просьбе и желанию прелатов, отстояли христианскую веру и королевство. Он пообещал, что, если Бог продлит ему жизнь, он вернет им церкви и щедро возместит этот дар и все остальное.
Действовать подобным образом его заставили великие войны, которые он был вынужден вести, и постоянные нападения его врагов. Герцог Аквитании Эд, приведший во Францию народ сарацин, этот сверхъестественный бич, действовал так, что примирился с государем Карлом и впоследствии убил всех сарацин, уцелевших в этой битве, которых смог разыскать.
Хроника Вердена
Ex chronico verdunensi (Hugonis abb Flavtmae)[190]
715 г.
Карл, которому по милосердию Божию удалось бежать из тюрьмы, где он был в заключении в возрасте 27 лет дважды или трижды встречал на поле битвы королей, от которых вырвал власть. Наконец, на третьем году своего правления, примерно за 13 дней до апрельских календ 717 г., он победил Рагенфреда, принцепса франков. После своей победы он уступил ему город Анжер, затем опустошил Саксонию, Баварию, вошел в Прованс и дошел до Марселя, завоевал страну басков, опустошил Фрисландию, разорил Алеманнию. За это он был назван Тудит (кузнец), что значит «кузнечный молот», поскольку он размозжил все соседние королевства, подобно тому, как с помощью молота куют из железа всякие вещи.
Еще он сражался с сарацинами недалеко от Нарбонна и перебил их во множестве.
Когда же Карл снова завоевал Прованс и взял Алерию, он с помощью Лиупранда, короля лангобардов, изгнал их из этих мест.
Два письма папы Григория III к Карлу Мартеллу
(В. Codex Carolinus, в Monumenta Germaniae historica Epistolae Merovtngici et Carohni aevi)
Папа Григорий III просит Карла Мартелла, майордома, о помощи против лангобардов (739 г.)
Папа Григорий господину майордому Карлу, достойнейшему из своих сыновей.
Наше глубокое горе и слезы снова
[191] принуждают нас написать твоему вели, мы твердо верим, что ты являешься возлюбленным сыном благословенного Петра, князя апостолов и нашего, и что из почтения к нему ты подчинишься нашей просьбе защитить. Церковь и народ Божий мы более не можем сносить гонений и угнетения от народа лангобардов. Они отняли у нас все светильники,
[192] принадлежавшие самому князю апостолов, даже те, которые были поднесены ему вашими предками или вами. Причина оскорблений и притеснений лангобардов состоит в том, что после Бога мы видим своего защитника в вас. Вот почему Церковь св. Петра разорена и являет картину запустения.
Но мы дали самые точные сведения обо всех наших горестях посланнику, доставившему настоящее письмо, он, один из твоих верных, должен донести их до слуха твоего величия.
И ты, сын мой, можешь быть уверен в признательности князя апостолов Петра теперь и в будущем, когда все предстанут перед нашим всемогущим Господом, так что посвяти себя защите его Церкви и нашей персоны, приложи все усердие к тому, чтобы вступить в бой, дабы все народы узнали о твоей вере, твоем превосходстве и любви к князю апостолов, блаженному Петру, к нашей персоне и к его народу, видя твою ревность и образ действия при их защите, именно так ты можешь стяжать славу и жизнь вечную.
(В. Codex Carolinus, в Monumenta Germaniae historica Epistolae Merovingici et Carolini aevi)
Папа Григорий III порицает майордома Карла Мартелла за то, что тот не воспрепятствовал королям лангобардов Луитпранду и Хильдебранду снова устроить грабеж на землях Равенны и Рима, он сообщает ему о том, что герцоги Сполето (Тразимунд) и Беневента (Годескалк) подвергаются нападениям этих королей по причине своей любви к Церкви, он просит у него помощи через посредство своего посланника Антхата.
Папа Григорий господину майордому Карлу Мартеллу, своему достойнейшему сыну.
Наше сердце охвачено печалью, и наши глаза днем и ночью полны слез, когда повсюду мы видим Церковь Божию, оставленную своими чадами, на которых она возлагала надежды на отмщение. Мы пребываем в трауре и сетованиях, видя, что то немногое, что осталось в предыдущем году на полях Равенны для утешения Христовых бедняков и содержания в порядке освещения церквей, сегодня полностью уничтожено огнем и мечом по вине Луитпранда и Хильдебранда, королей лангобардов. Такие же несчастья они причинили и причиняют нам каждый день на римских землях. Они послали сюда множество армий, уничтожили все деревни святого Петра и завладели скотом, который там оставался.
Хотя мы и обращались к вам, превосходнейший сын, мы до настоящего времени не получили никакого утешения. Но мы прекрасно видим, что между тем как вы позволяете этим королям отправлять к вам свои послания, их ложные обвинения встречают у вас лучший прием, чем истина, исходящая от нас. Мы опасаемся, как бы на вас не легло обвинение в грехе при дворе этих королей нас оскорбляют и говорят: «Пусть Карл, в котором вы видите свое прибежище, приходит со своей франкской армией, пусть они помогут вам, если смогут, и пусть они вырвут вас из наших рук». О, какое горе пронзает наше сердце при этих упреках, при виде столь могущественных чад, которые не прилагают никаких усилий, чтобы защитить свою духовную мать, Святую Церковь, и народ Божий! Возлюбленный сын мой князь апостолов вполне мог бы властью, данной ему Богом, защитить свой дом и свой народ и отомстить своим врагам, но он испытывает сердца своих верных чад.
Не верьте лживым известиям этих королей. Они вас обманывают, когда пишут вам, что герцоги Сполето и Беневента в чем-то виноваты перед ними. Если они преследуют этих герцогов, то лишь за то преступление, что в прошедшем году те не выказали никакого желания нападать на нас из своих герцогств и по их примеру разорять богатства Святых Апостолов. Грабить верующих, вот как возражали эти герцоги: «Мы не направим своих ударов против Святой Церкви и народа Божия, ибо мы заключили с ними мир и получили клятву самой Церкви».
Именно поэтому меч королей обрушил свою ярость на этих герцогов.
На самом деле, эти герцоги оказывали и до сих пор оказывают им покорность согласно древнему обычаю. Но короли, раздраженные этим отказом, ищут случая их погубить так же, как и нас, и завоевать их земли. Именно поэтому они внушают вам лживые вещи, чтобы унизить этих благородных герцогов, и поставить на их место преданных им злодеев, и, главное, силой одолеть Церковь Божию, расточить вотчину блаженного Петра, князя апостолов, и обречь его народ на пленение.
Тем не менее, чтобы удостовериться в истине, пошлите на эти места какого-либо верного человека, которого нельзя было бы совратить подарками, чтобы он своими глазами увидел наши гонения, унижение Церкви, разорение нашей вотчины, слезы паломников и со всей точностью доложил вам об этом.
Мы заклинаем твое милосердие, о христианнейший сын, перед лицом Господа, его Страшным судом и спасением твоей души, окажи помощь Церкви св. Петра и его народу, чтобы как можно скорее оттеснить этих королей подальше от нас и заставить их к себе вернуться. Не отвергни нашей просьбы, не откажись выслушать наших молений. И пусть блаженный Петр тоже не закроет перед тобой врата в Царствие Небесное. Мы заклинаем вас Богом живым и истинным и святыми ключами гробницы блаженного Петра, которые мы направили вам в знак покорности, не предпочесть дружбу лангобардских королей дружбе князя апостолов. Пусть же все народы будут прославлять и благословлять вашу веру и ваше славное имя, и мы сами удостоимся сказать вместе с пророком: «Пусть Господь услышит моление твое в день судный, пусть имя Бога Иакова будет тебе защитой».
Антхат, верный ваш, доставивший эти письма, лично скажет вам, Ваше Величие о том, что видел своими глазами и что мы ему приказали.
Мы снова молим вас перед лицем Бога, свидетеля и судии, о милосердии, дабы вы облегчили наши страдания и без промедления отправили нам послание с благоприятным ответом, чтобы с душой, преисполненной радости, мы день и ночь возносили к Господу свои молитвы за вас и ваших приверженцев у гробницы благословенных Петра и Павла, князей апостольских.
Аль-Бухари
Избранные хадисы, переводы, введение и примечания Ж – X. Буске (G.-H. Bousquet), бывшего профессора факультета права в Алжире (Grasset, 1964).
Для изучения ислама хадисы являются источником первостепенного значения. Они отображают деятельность самого Пророка и его учение в виде цепи свидетельств, восходящих к его окружению. Хотя их историческую ценность можно оспаривать, мусульманское предание строится на них в той же мере, что и на Коране. Именно поэтому можно вместе с Ж.-X. Буске удивляться тому, что известнейшее собрание хадисов,
Сахих Эль-Бухари, не было переведено намного раньше. Вот отдельные хадисы, которые представляются нам наиболее характерными.
Умеренность в добродетели
«Что касается дел, то она налагает на вас только то, на что вы способны».
[193]
Единство Бога
«Кто умер, приписывая Богу равных, будет послан в огонь, кто умер, не приписывая Богу равных, будет послан в Рай»
(Op. cit., р 37.).
Отношение к евреям и христианам и их священным книгам
«Согласно Убайдаллаху ибн Абдаллаху ибн Отбе, Абдаллах ибн Аббас сказал: «О собравшиеся здесь мусульмане, как происходит, что вы вопрошаете людей Писания, тогда как ваша Книга, данная в откровении вашему пророку, сообщает вам более свежие знания от Бога, и эта книга, которую вы читаете, не получила исправления? Бог возвестил вам, что люди Писания изменили запись его слов и что своими руками они изменили смысл Книги, говоря, что такой она пришла к ним от самого Бога, чтобы таким способом приобрести
вещь за бесценок. Итак, полученное вами знание разве не воспрещает вам вопрошать этих людей? И во имя Бога, разве видим мы хотя бы одного из них, кто вопрошал бы вас об откровении, которое они получили?»
[194]
«Кто поверил в Иисуса, а затем в меня, получит двойное вознаграждение».
[195]
Мухаммед и другие пророки
«Положение Пророков, предшествовавших мне, можно уподобить положению человека, построившего дом, он его отделал и украсил, не поставив лишь одного кирпича в угол. Обойдя вокруг него (дома), люди говорят: «Почему ты не поставил этот кирпич? Разумеется, тот кирпич – я, и я же печать Пророков».
[196]
Откровение
«По словам Аиши, матери правоверных, когда Аль-Харис-бен-Хишам сказал Пророку (мир ему и благословение): "О Посланник Божий, как приходит к тебе откровение?", тот ответил: "Временами оно приходит ко мне подобно звону колокольчика, и это для меня мучительнее всего. Затем Откровение прерывается, и только тогда я постигаю то, что передал мне ангел. Иногда же ангел показывается мне в человеческом обличье он говорит мне, и я запоминаю то, что он мне сказал"».
Аиша добавляет: «В некоторые дни, когда был сильный холод, я видела, как святейший Пророк получал Откровение в тот момент, когда оно прекращалось, лоб Пророка покрывался испариной».
[197]
«Аиша сказала: "Одна из милостей, оказанных мне Аллахом, в том, что Посланник Божий (мир ему и благословение) умер в моих покоях, в день, который он посвятил мне, и (его голова была) между моим плечом и подбородком. Кроме того, Аллах позволил, чтобы моя слюна смешалась со слюной Пророка в час его смерти. Воистину Абдеррахман вошел в мою комнату, держа в руке
сивак (мисвак),
[198] в то время как я поддерживала святейшего Посланника. Видя, что он смотрит на сувак, я поняла, что он его хочет. "Хочешь ли ты, – сказала ему я, – чтобы я его тебе дала?" Кивком головы он показал мне, что это так. Я ему дала его, и поскольку он сильно страдал, я спросила, не хочет ли он, чтобы я его пережевала для него. Кивком головы он дал мне знак жевать. И я это сделала. Перед ним был бурдюк. Он окунул в него руки, а потом провел ими по лицу, говоря:
"Нет Бога, кроме Аллаха, смерть с ее муками". Наконец, он поднял руку и сказал: "Среди достойнейших", затем он испустил последний вздох и уронил руку"».
[199]
«Согласно Аише, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) умер, когда Абу Бакр был в Ас-Сунхе Омар встал и сказал: "Во имя Аллаха, святейший Посланник не умер". Аиша добавляет, что затем Омар вскричал: "Во имя Аллаха, мне никогда не приходило в голову, что может быть иначе Аллах непременно его воскресит Да отрубят руки и ноги тем, кто утверждает, что он мертв". Абу Бакр пришел к святейшему Посланнику, открыл его лицо и поцеловал, а затем сказал: "О ты (за которого я бы отдал в качестве выкупа) своего отца и мать, ты был прекрасен в жизни, как ты прекрасен и в смерти. Во имя Аллаха, который держит мою душу в своей руке, Бог никогда не даст тебе вкусить смерти дважды". Затем, выходя, обратился к Омару со следующими словами: "Успокойся, о ты, который клянешься". И как только Абу Бакр произнес эти слова, Омар сел. Тогда, восхвалив Бога и воздав ему благодарение, Абу Бакр сказал: "О люди, для тех, кто почитал Мухаммеда, Мухаммед мертв. Для тех же, что почитал Аллаха, – он всегда жив и не умрет"».
[200]
Как нам представляется, этот хадис с особенной пронзительной остротой отражает смятение правоверных перед лицом смерти Пророка и различие в позициях Омара и Абу Бакра, сохранившего непоколебимую веру и преуспевшего в трудном деле управления общиной и сохранения ее единства после смерти Мухаммеда.
Нравы
Хадисы с ошеломляющей профана точностью фиксируют малейшие детали повседневной жизни и плотную завесу запретов. Например «Когда некто из вас пьет, пусть он не дышит в сосуд. Когда он отправляется в отхожее место, пусть он не прикасается к члену правой рукой и пусть не обтирается правой рукой».
[201]
Этот формализм может показаться ребячеством, на самом же деле он продиктован желанием сохранить чистоту, и другие хадисы, для цитирования которых у нас не хватит места, настаивают на необходимости этого стремления, всегда более предпочтительного, нежели просто ритуал.
Необходимо также подчеркнуть запрет на изображение лиц, который так затрудняет задачу историка в том, что касается иконографии.
«Ангелы не входят в дом, где есть собака или изображение лица».
[202]
«Того, кто нарисует лицо живого существа, следует подвергнуть пыткам, а затем заставить его наделить его [изображение] дыханием жизни, но ему это не удастся».
[203]
Отвращение к плугу
«Видя лемех плуга и некоторые земледельческие инструменты, Абу Омама Аль-Бахили сказал: "Я слышал, как Посланник Божий (мир ему и благословение) произнес следующие слова: "Он не войдет в жилище семьи, без того, чтобы Аллах не позволил войти туда (и) унижению"».
[204]
Ж-X Буске обоснованно настаивает на важности этого хадиса, перекроенного преданием и особенно размышлениями Ибн Хальдуна. Возможно, это презрение к земледелию и обусловило крах арабского завоевания.
Священная война
Именно в этом вопросе христианская традиция хуже всего понимает ислам и обвиняет его в фанатизме. Однако Аль-Бухари пишет:
«Война это обман».
[205]
Или еще:
«О мусульмане, не стремитесь к встрече с врагом, просите у Аллаха мира. Но когда вы столкнетесь (с неприятелем), будьте стойкими и знайте, что рай лежит под сенью мечей».
[206]
И наконец:
«Аиша ибн Талха сообщает, что Аиша, мать правоверных, сказала: "О Посланник Божий, мы видим, что
джихад (священная война) есть лучшее из занятий. Не можем ли и мы, женщины, участвовать в джихаде?" – "Нет, – отвечал он, – но лучший из джихадов есть паломничество, совершенное благочестиво"».
[207]
Ж.-X. Буске добавляет, что есть еще одно очень хорошее мусульманское высказывание, согласно которому высший джихадзаключается в победе над собственными страстями.
[208]
Завоевание Северной Африки и Испании
По Ибн Аль-Хакаму
Это самый ранний из известных нам рассказов о завоевании Его автор родился в 803 г. (187-й по Хиджре), у его отца, юриста и знатока традиций, было четверо сыновей – все знатоки традиций. Но семья эта подверглась преследованию со стороны халифа Аль-Ватика, поскольку отказалась согласиться с тем, что Коран рукотворен и может быть обвинен в несовершенстве, что и стало причиной ее гибели Ибн Абд аль-Хакам умер в 870–871 (257), по мнению Гато, у которого мы заимствуем биографию Аль-Хакама, оставленная им «Китаб Футух Миср» является заказной компиляцией, которую он, вероятно, продиктовал своим ученикам. Нижеследующий перевод принадлежит Слейну.
[209]
Амр-ибн-аль-Ас просит (у халифа) Омара-ибн-аль-Хаттаба разрешения на поход в Ифрикию.
Амр хотел снарядить экспедицию в Магриб и написал Омару письмо, в котором говорилось: «Бог сделал нас хозяевами Триполи, который всего в семи днях пути от Ифрикии, желает ли повелитель правоверных повелеть нам отправиться туда в поход? Заслуга этого завоевания будет принадлежать ему, если Аллах дарует нам победу». На эту просьбу Омар дал следующий ответ: «Эту землю не следует называть Ифрикия, ее нужно именовать эль-Моферрека-т-эль-Радера (далекий изменник), пока я жив, я запрещаю приближаться к ней или совершать туда поход!», или, согласно другой дошедшей до нас традиции: «пока вода моих век увлажняет мои глаза».
Что произошло в Ифрикии.
Когда (халиф) Осман лишил Амра-ибн-аль-Асу поста наместника Египта, чтобы отдать этот титул Абдаллаху-ибн-Са'ду, последний отправил мусульманскую конницу в далекий поход по обычаю, установленному еще при жизни Омара, и эти войска атаковали и разграбили приграничные области Ифрикии. Ибн-Са'д написал Осману, что эта земля находится совсем близко к мусульманской территории и что он желал бы получить разрешение начать там войну. По совету своих приближенных Осман пригласил людей принять участие в экспедиции против Ифрикии, и, собрав тех, кто откликнулся на его призыв, он поставил их под командование Аль-Хариса-ибн-аль-Хакама, который должен был привести их в Египет и предоставить в распоряжение Абдаллаха-ибн-Са'да. Тогда последний отправился в поход на Ифрикию. В то время африканское правительство размещалось в городе под названием Картаджина (Карфаген) и подчинялось королю по имени Джирджир (Григорий), который в прошлом управлял этой страной от лица Геракла (Ираклия), но впоследствии взбунтовался против своего господина и начал чеканить динары со своим собственным изображением. Его власть распространялась от Триполи до Танжера.
Джирджир выступил навстречу Ибн-Са'ду и в последовавшей битве сложил голову, как утверждают, под ударами Абдаллаха-ибн-аз-Зубайра. Его армия обратилась в бегство, и отряды, разосланные во все стороны Ибн-Са'дом, вернулись с богатой добычей. Видя эти события, вожди народа Ифрикии предложили Ибн-Са'ду некоторую сумму с тем, чтобы он покинул страну. Приняв это предложение, он вернулся в Египет, не оставив в Ифрикии наместника и не основав там кайрувана.
[210] Абу'ль-Асвад, что из людей Ибн-Лахии, сообщает, что Овайс рассказал ему следующее: «Мы сопровождали Абдаллаха-ибн-Сада в его экспедиции против Ифрикии, и он разделил между нами добычу, предварительно отделив пятину. Каждый всадник получил на свою долю по три тысячи динаров, две за коня и одну за себя, а каждый пехотинец получил по тысяче. Один из пехотинцев умер в Дат-аль-Хаммане, и после его смерти его семья получила тысячу динаров».
Аль-Лайс-ибн-Са'д сообщает, ссылаясь на более чем одного человека, что, когда Абдаллах-ибн-Са'д совершил поход в Ифрикию и убил Джирджира, каждый всадник получил три тысячи динаров, а пехотинец – тысячу. Другой египетский шейх добавляет, что каждый из этих динаров стоил по динару с четвертью. Осман-ибн-Салех и другие говорят, что армия Абдаллаха-ибн-Са'да насчитывала двадцать тысяч человек.
При дележе добычи дочь Джирджира досталась одному из ансаров (жителей Медины). Он посадил ее на верблюда и пустился с ней в обратный путь, сочиняя на ходу следующие стихи.
Дочь Джирджира, ты будешь ходить пешком, когда придет твой черед.
В Хиджазе тебя ждет твоя хозяйка,
Ты будешь носить воду в бурдюк Кобы (в Медине)
Услышав эти слова, она спросила, что этот пес имеет в виду, и, узнав смысл, бросилась наземь с верблюда, который ее вез, и сломала себе шею.
Согласно Ибн-Лахии, Ифрикию завоевал Абдаллах-ибн-Са'д, но другие говорят, что он сделал лишь первый шаг. Увидев монеты, лежавшие перед ним в чаше, он спросил у африканцев (афарика), откуда у них это серебро, и один из них начал ходить из стороны в сторону, точно что-то ища, и, найдя оливку, принес ее Абдаллаху и сказал: «Вот чем мы добываем серебро». – «Каким образом?» – спросил Абдаллах. «У греков, – отвечал этот человек, – оливок нет, и они приезжают к нам покупать масло за эти деньги».
Афарика получили свое название, потому что были детьми Фарика, сына Бизера Фарик завладел землями между Баркой и Ифрикией, и Ифрикия (Африка) была так названа именно в его честь.
Абдаллах-ибн-Са'д послал Абдаллаха-ибн-аз-Зубайра возвестить (халифу) о завоевании Ифрикии. Осман с восхищением выслушал рассказ Ибн Зубайра о битве и других событиях, отметивших эту экспедицию. Потом он сказал ему: «Мог бы ты повторить эту новость публично и точно так же, как ты рассказал о ней мне?» Ибн аз-Зубайр ответил утвердительно, и халиф, взяв его за руку, отвел его на кафедру (мечети) и сказал ему: «Расскажи им то, что сообщил мне». Ибн-аз-Зубайр тогда сказал речь, которая привела их в восхищение.
Это завоевание Ифрикии имело место в 27 году (647–648 по Р. X.).
Договор между Абд-эль-Азизом и Теодомиром[211]
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Написанное адресовано Абд-аль-Азизом Мусой ибн Нусайром Тудмиру ибн Аддушу.
Этот последний приобрел мир и принял обещание, чему свидетели Аллах и его Пророк, что его положение и положение его близких никак не изменится, что его суверенное право не будет оспариваться, что его подданные не будут убиты, взяты в плен или разлучены со своими женами и детьми, что они не будут терпеть беспокойств, исповедуя свою веру, что их церкви не будут ни сожжены, ни лишены культовых предметов, которые в них находятся, все это до тех пор, пока он будет исполнять наложенные нами на него повинности. Мир даруется ему при условии передачи следующих семи городов: Орихуэла, Балтана, Аликанте, Мула, Виллена, Лорка и Элло. Кроме того, он не должен ни давать приюта кому-либо, бежавшему от нас, и нашему врагу, ни чинить препятствий тому, кому будет даровано наше прощение, ни таить секретов или сведений, относящихся к нашему врагу, если они будут ему известны. Он и его подданные будут ежегодно платить подушную подать, включая динар специями, четыре – уксусом, два – медом и два – маслом. Написано в месяце раджаб 94 года по Хиджре (апрель 713 г.)
Битва при Пуатье
Глазами Абд аль-Хакама[212]
Убайда облек властью в Испании Абд-ар-Рахмана ибн Абдаллаха аль'Акки. Это был добродетельный человек, который устремился в поход против страны франков, самых далеких врагов Испании. Он завоевал большую добычу и победил своих противников. Помимо других вещей он захватил золотую «ногу», инкрустированную жемчугом, рубинами и изумрудами. Абд-ар-Рахман велел разломать ее, отделил пятину, а остальное разделил между сопровождавшими его мусульманами. Убайда узнал об этом и в припадке яростного гнева написал ему угрожающее письмо Абд-ар-Рахман ответил: «Даже если бы небо и земля представляли собой одно плотное тело, Милосердный смог бы извлечь оттуда тех, кто его боится».
Он пустился в новое завоевание, но погиб как Мученик ислама вместе со всеми своими соратниками в 115 году (733–734), согласно Яхье, который узнал об этом от Аль-Лайта.
Хронология
ЗАПАД
570 – Бритты взяли Ванн, завоевали Ренн и Нант
613 – Казнь Брунгильды
622-629 – Победа Ираклия над персами, которые покинули пределы Империи
629-639 – Правление Дагоберта
641 – Смерть Ираклия
650 – Закрепление болгар в Добрудже
656 – Смерть Сигеберта III, короля Австразии
657 – Смерть Хлодвига II Ему наследует сын, Хлотарь III
662 – Хильдерик II, король Австразии
673 Смерть Хлотаря III В Нейстрии и Бургундии ему наследует Теодорих III
686 – Пипин Геристальский, майордом
687 – Победа Пипина при Тертри
714 – Смерть Пипина
715 – Разгром Плектруды в Кюизском лесу
717 – Победа при Венси Плектруда открывает ворота Кельна
722 – Война с саксами
725 – Война с баварами
728 – Кампания против саксов и баваров
17 октября 733 – Битва при Пуатье
737 – Смерть Теодориха IV Меровингский трон пуст
737-739 – Победоносные войны Карла Мартелла в Провансе
739 – Карл Мартелл покоряет Швабию
739 – Воззвание Григория III к Карлу Мартеллу
741 – Смерть Карла Мартелла Смерть Льва Исавра Папой становится Захария
742 – Рождение Карла Великого
743 – Хильдерик III, последний Меровинг
747 – Отречение Карломана
751 – Пипин Короткий избран королем, Хильдерик III свергнут
ИСЛАМ
570 – Рождение Мухаммеда
Около 610 – Начало проповеди Мухаммеда
622 – Хиджра Мухаммед уходит в Медину
630 – Взятие Мекки
632 – Смерть Мухаммеда
633-644 – Арабы завоевывают Сирию, Ирак, Верхнюю Месопотамию, Армению, Персию, Египет и Киренаику Основание Басры, Аль-Куфы и Аль-Фустата
650 – Создание коранической «Вульгаты»
654 – Завоевание Сиджистана и Герата Оккупация Родоса
655 – Смерть последнего Сасанида, завершение завоевания Персии 655 – Смерть Османа, гражданская война, хариджиты
660 – Муавия основывает в Дамаске халифат Омейядов
661 – Убийство Али
670 – Аннексия Туниса, основание Кайрувана
673 – Первая осада Константинополя арабами
692 – Новая кампания в Африке сопротивление берберов
696 – Чеканка первой мусульманский золотой монеты Арабский становится административным языком
710 – Завершение завоевания Берберии Великая мечеть в Дамаске
711 – Арабы в Испании и долине Инда
714-730 – Арабские рейды во франкскую Галлию
717-718 – Вторая осада Константинополя арабами
717-722 – Халифат Омара II
719 – Завоевание арабами Септимании
721 – Поражение арабов под Тулузой
724 – Захват Сардинии, Корсики и Балеар арабами
725 – Взятие Каркассона и Нима арабами
730 – Захват Авиньона арабами
17 октября 733 – Битва при Пуатье
Библиография
КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ
История франкской Галлии. Битва
I Общие работы
II Хроники и анналы
III Анналы и работы по церковной истории
IV Карл Мартелл Нейстрия Австразия Провинции
V Сарацинские вторжения в Галлию
VI Работы, относящиеся к битве
VII Отдельные сюжеты
VIII География
История арабов
I Общие работы
А) Основные арабские источники
Б) Европейские работы
II Мухаммед и ислам
III Завоевание Испании
IV Первые халифы и их завоевания
История Франкской Галлии. Битва
I. Общие работы
1 Anquetil,
Histoire de France, t. I, Paris, 1836
2 Arnold,
History of the later Roman Commonwealth, t II New York, 1846
3 Boulainvillers (Comte de),
Histoire de l'ancien gouvernement de la France La Haye, 1727
4 Bourdillon (F. W.),
Toute l'Histoire de France Londres, 1897
5 Calmette,
Le monde féodal
6 Chateaubriand (Vicomte de),
Analyse raisonnée de l'Histoire de France, t. VI Paris, 1836.
7 Funck-Brentano,
Les Origines Paris, 1925.
8 Fustel de Coulanges,
Histoire des tnstttutiones politiques de l'ancienne France.
9 Gibbon,
History of the Decline and Fall of Roman Empire.
10 Girard (Bernard de),
Histoire général des Roysde France Paris, 1615.
11 Glotz,
Histoire de Moyen Age, t. I.
12 Guizot,
Histoire de France depuis les temps les plus reculés, t. I. Paris, 1872.
13 Hallam,
L'Europe au Moyen Age Paris, 1837.
14 Halphen (L.),
Les Barbares Paris, 1936.
15 Lavisse (E.),
Histoire de France depuis les origines jusqu'en 1789 Paris, 1903.
16 Lavisse et Rambaud,
Histoire général du IVe siècle à nos jours Paris, 1891.
17 Marçais,
Histoire du Moyen Age, t III Paris, 1944.
18 Martin (H.),
Histoire de France, t I Jouvet et Cie édit., Paris
19 Mézeray,
Histoire de France, t. I. Paris, 1643.
20 Michelet,
Histoire de France, t. I. Paris, 1893.
21 Montesquieu,
De l'Esprit des Lois.
22 Moss (H. st I. B),
La Naissance du Moyen Age Paris, 1937
23 Gaxotte,
Histoire des Français. Paris, 1957
24 Petau,
Abrégé chronologique de l'histoire universelle sacrée et profane. Paris, 1862
25 Pirenne (Henri),
Charlemagne et Mahomet. Paris, Bruxelles, 1937
26 Ducoudray,
Histoire de Moyen Age. Paris, 1887
27 Degouy-Wurmser,
Histoire de France Paris, 1924
28 Hanoteau (G.),
Histoire de la Nation française Paris, 1930
29 Lehèvre (Abbé),
Histoire de la France catholique Paris, 1926
30 Brehier Aignn,
Histoire de l'Église Paris, 1938
31 Weit (Gaston),
Histoire universelle, t II Paris, 1957
32 Saint-Phalle (A.),
De Mahomet à de Godefroy de Bouillon, t II Poitiers
33 Schegel (F. V.),
The Philisophy of History London, 1847
34 Simonde de Sismoudi,
Histoire des Français, t II Paris, 1921
35 Vincent de Beauvais,
Speculum Historiale Douai, 1624
36 Birot (P.) et Dresh (J.),
La Méditerranéeet le Moyen-Orient Paris, 1956
37 Bossuet,
Discours sur l'Histoire universelle
38
Histoire littéraire de la France par les Bénédictins de Saint-Maur, t. IV и t. XXII.
39 Victor Hugo,
Littérature et philosophie mêlées I Philisophie.
40 Brémond (Ch.) и Monod (G.),
Histoire de l'Europe au Moyen Age.
41
CambridgeMedieval History (The) Cambridge, 1913
42 Hode (M. de La),
Histoire de révolutions de la France. La Haye, 1738.
43 Joinville,
Histoire de Saint Louis Paris, 1868
44 Silvio (Andrea),
Historiae Franc Merov Synopsys Paris, 1632
45 Lot (F.),
Naissance de la France Paris, 1948
46 Schramm (P E.),
Histonsche Zeitung Munich, 1952
II. Хроники и анналы
47
In Dom Bouquet, réédition Delisle Paris, 1869
Rec Histoire de France.
a) Adon (év de Vienne), Les Six Anges du monde, t. II
b) Annales de Fulda, t. II
c) Anonyme de Moissac, t. II
d) Chronique de Saint-Arnould de Metz. t. II
e) Chronique de Saint-Wandnlle, t. II
f) Chronique Verdunensis,t. III
g) Gesta Rerum Francorum, t. II
h) Vie de saint Théodulf, t. III
48
In Martene et Durand,
Veterum Senpt Mem Hist
a) Amplissima collectio Paris, 1729
b) Chronique de Ri poil, t. IV
c) Chronique de Sigebert de Gembloux,t. V
49. In Dom de Vie et dom Vaisette,
Histoire générale du Languedoc Toulouse, 1856.
a) Ancienne Chronique d'Uzès.t II
b) Annales d'Aniane, t. II
c) Chronique d'Uzès. t. II. (Fonds latin,Bibl Nat,ms. 4974)
50.
InMonumenta G er Hist Script , coll Pertz
a) Annales Petaviani, t. I
b) Annales Titiani, t. I
c) Annales Laubacenses, t. I
d) Annales de Saint-Amand, t. I
e) Chronique de Moissac,t. I
f) Monumenta Epternacensia, t. XXIII.
g) Saint-Gall (Le moine de), t. II.
h) Aegidn Aurevallensis Gesta Epicorum, Leodiensium, t. XXV
i) Nigellus (Ernoldus), t. II.
51
InMonumenta Germ Hist Merov , éd Krusch Hanovre, 1888 a) Continuateurs de Frédégaire, t III
52
InGesta Sanctorum Patrum Fontanellensi, éd R J P Laporte Paris, 1936
a) Annales Metenses priores
53.
InEpitome Imperatorum, Taihalm (P. J.) Paris, 1885
a) Anonyme de Cordue
54.
InMonumenta Germ Hist Epist Merov et Karol , éd Gundlach Berlin, 1892
a) Codex Carohnus, t I
55
InScriptores Rer Germ, éd Lwenfeld Hanovre, 1874
a) Gesta Abbatum Fontanellensium
b) Gilles (N),
Les Annales et Chroniques de France Paris, 1538
c) Paul Emile (Veron),
De Rebus Gestis Francorum Paris, 1548
d) Viard,
Les Grandes Chroniques de France Paris, 1937
e) Valois (A),
Rerum Francorum Paris, 1658
f) Gaguin,
Rerum gallicarum Annales Francfort, 1577
g) Chabannes (Adhémar de),
Chronique Paris, 1897
III. Анналы и работы по церковной истории
56 Anastase le Bbhothécaire,
Histona ecclesiastica ex Theophano, in Théophane éd Niebuhr, 1839
57 Baronius (César),
Annales ecclesiasticae Lucques,1742
58 Fliehe (F),
La Chrétienté médiévale, coll Cavaignac Paris, 1929
59 Bède,
Histona ecclesiastica, in Migne, t VI
60 Flodoard,
Histona Eccles Rem Libn quat, in Migne, 135
61 Liber Ponificalis, in Migne,
Patrologie latine, 128
62 Mansi,
Sacro Conc Nove Amphssima collectio, Florence, 1766
63
Octavi seculi Eccles Script, in Migne,86
IV. Карл Мартелл. Австразия. Неистрия. Провинции
64 Breysig,
Der Zeit Karl Leipzig, 1868
65 Chaume (Abbé),
Les origines du duché de Bourgogne, t I Dijon, 1925
66 Clément (N),
Les Roys et les Ducs d'Austrasie Épinal, 1617
67 Codera,
Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominaciön musulmana Institut d'Études catalan, 1909
68 De Vie et Vaisette,
Histoire général du Languedoc Toulouse, 1856
69 Faunel,
Histoire de la Gaule méridionale, t III Paris, 1836
70 Paul Diacre d'Aquilée,
HistoriaLangobardorum, in
Mon Germ Hist Hanovre, 1878
71 Pertz (H.),
Histoire du maires du palais Haguenau, 1827
72 Digot (A.),
Histoire de royaume d'Austrasie Nancy, 1863
73 Zotenberg (H.),
Histoire général du Languedoc, t II Paris, 1876
74 Gérard,
Histoire de Francs d'Austrasie
75 Dufour,
De l'ancien Poitou et de sa capitale
76 Hérault (A.),
Histoire de Chdtellerault Châtelleraut, 1927
77 Boissonade,
Histoire du Poitou, 8e éd Poitiers, 1941
78 Crozet (R.),
Histoire du Poitou Paris, 1949
79 Auzias,
Aquitainecarolingienne Toulouse, 1937
V. Сарацинские вторжения в Галлию
80 Reynaud,
Invasion des Sarrasins en France Paris, 1837
81 Lot (F),
Les Invasions des Bai bares et le peuplement de l'Europe Vol I Arabes et Maures Paris, 1942
82 De Rey (G),
Invasion des Sarrasins en Provence Paris, 1876
83 Vtngtnner (A),
Sairasins en Lyonnais Lyon, 1862
VI. Работы, относящиеся к битве
84 Baudot (M),
Recueils des travaux offerts à M Clovis Brunei, vol I, Société École des Chartes, 1955
85 Creasq (Su Edwards),
Fifteen decisive battles of the world from Marathon to Waterloo London, 1914
86 Deschamps,
Melanges d'histoire du Moyen Age offerts à Louis Halphen
87
Encyclopedia Britannica, см «Poitiers»
88 Honoré (Suzanne),
Le Monde colonial illustré, juillet 1939 «Pouiquoi les Français ne sont pas musulmanes aujourd'hui»
89 Lecointre (Cdt Cte), «La Bataille de Poitiers Histore et légende de celleci»,
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1er trim 1939
90 Levillain et Samaran,
Bibliothêue École des Chartes, vol XLIX, juillet-décembre 1938, «Lieu et date de la bataille de Poitiers»
91 Margaron (Gai),
La Bataillede Tours, 1824
92 Mercier (Ernest), «La Bataille de Poitiers et les vraies causes du recul de l'invasion arabe»,
Revue historique, 3e année, t VII, 1878
93 Mercier (Maurice) и Seguin (A), «Charles Martel et la Bataille de Poitiers»,
Revue africaine, no 87, 1944
94 Mollenhauer, «Die Schlacht dei Karl Martel»,
Pariser Zeitung, 21 juillet 1943
95 Taillet (R.), «Légende de Pyraume»,
Bulletin de Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e trim 1938
96 Mousset,
Journal des Débats du 25 mai 1939
97 Saint-Hypohte (De),
Notice sur les Batailles de Vouillé, Moussay, Maupertuis, Moncontour Fonds poitevin no 452, Bibliothèque de Châtellerault
98 Saint-Genin (Victor de), Manuscrit de 1904 Fonds poitevin 72 bis,Bibliothèque de Châtellerault
99 Gaxotte (P.),
Le Figaro, 11 octobre 1960
100 Lot (Ferdinand),
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t XXVI, 1948, nos 1-2
101
Mémoires de la Société archéologique de Touraine, 1873, p 708-710
VII. Отдельные сюжеты
102 Ardant du Picq,
Études sur le combat Paris, 1904
103 De Lisle,
Notices et extraits des manuscrits Paris, 1891
104 Duchesne (Abbé),
Études sur le «Liber Pontificalis» Paris, 1887
105 Levison (W), «A propos du calendrier de saint Willibrord»,
Revue bénédictine, t L, 1938 p 37-41
106 Pagi (Antoine),
Critica historico-chronologica in universo, Annales eccles Anvers, 1705
107 Guide de Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
108 Bédier (J),
Les Légendes épiques Paris, 1929
109 Monod,
Bibliographie de l'histoire de France
110 Anb de Cordue,
Chronologie (fragments), публикация Dozy, Leyde 1849-1851
111 Albornoz (Sanchez),
La Caballenaaraba (Hist Mil, Vie Cong Int Se Hist)
112 Massignon,
Annuaire du monde musulman Paris, 1929
113 Meyer (P),
Notices et extraits des manuscrits Paris, 1888
114 Lot (F),
L'Art militaire et l'Armée au Moyen Age en Europe et dans le Proche-Orient Paris, 1946
VIII. География
115 Redet,
Dictionnaire topographique de la Vienne
116 Calmette,
Atlas historique
117 Shrader (F),
Atlas historique
118 Welsh,
Annales de Géographie, t II, 1892, et XVI
r 1907
119 Longuemar (De),
Géographie du département de la Vienne (carte hydrographique) Poitiers, 1869
120 Delaporte (L), Dnoton (E), Piganoil (A), et Cohen (R),
Atlas historique Paris, 1937
121 Westermannus,
Atlas zur Weltgeschichte Berlin, 1963
История арабов
I. Общие работы
а) Основные арабские источники
1 Abd al-Hakam,
La Conquêtede l'Afrique du Nord et de l'Espagne, ред и перев A Gateau Alger, 1942
2 Abou'1-Fida,
Mukhtaçar tankh al-bachar, 2 vol Constantinople, 1869–1870 частичный перев на латин Fleisher,Leipzig, 1931
3 Athir (Ibn al-),
Al-Kamil fit-tarikh, частичн. перев. Е.Fagnan
(Annales du Maghreb et de l'Espagne) Alger, 1901
4 Baladhon (A1-),
Foutoûh al-boulddn, перев на нем. О. Rescher, 2 vol Leipzig, 1917
5 Bokhan (A1-),
Les Traditions islamiques, перев на фр О Houdas et W Marçais, 4 vol Paris, 1903-1914
6 Khalodun (Ibn),
Kitdb al-Ibar, 7 vol., 1284 Hégire частичн перев Slane
(Histoire des Berbères), 4 vol. Alger, 1852-1856
7 Makkari (А1-),
Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne, англ. адапт. Р de Gayancos
(The History of the Muhammedan dynasties in Spain), 2 vol Londres, 1840-1843
8 Nowain (En-),
Nihdyat al-'arab, частичн перев на фр Slane в приложении к Ibn Khaldoun,
Histoire des Berbères.
9 Taban (АГ),
Annales, 15 vol Leyde, 1879-1901
b) Европейские работы
1 °Caetani (L),
Annali dell'Islam, t I Milan, 1905
11 Lammens, «La république marchande de La Mecque en l'an 600 de notre ère», в
Bulletin de l'Institut égyptien, 1910
12 Lammens, Le Berceau de l'Islam Rome, 1914
13 Lammens, «La Mecque à la veille de l'Hégire», в
Mélanges de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, 1928
14 Lammens, «La cité arabe de Taïf à la veille de l'Hégire»,
Mélanges, 1922
15 Lammens, L'Arabie occidentale à la veille de l'Hegire Beyrouth, 1928
16 Musil (A),
ArabiaPetraea Vienne, 1908
17 Musil (A),
Manners and customs of the Rwala Bedouins New York, 1928
18 Nielsen (D),
Handbuch der altarabischen Altertumskunde I
Die altarabische Kultur, 1 vol изд Copenhague, 1927
19 Noldeke (Th),
Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden Leyde, 1879
20 Von Oppenheim,
Die Beduinen T I Die Beduinenstamme in Mesopotamien und Syrien Leipzig, 1939
21 Robertson Smith,
Kinship and marriage in early Arabia, 2d ed, London, 1903
II. Мухаммед и ислам
22 Buhl,
Das Leben Muhammeds, Leipzig, 1930
23 Gaudefroy-Demombynes,
Les Instituions musulmanes Paris, 1921
24 Gaudefroy-Demombynes,
Mahomet Paris, 1957
25 Gnmme (H),
Mohammed, 2 vol Munich, 1904
26 Masse (H),
L'Islam Paris, 1930
27 Muir (W),
The life of Mohammed from original sources, 4 vol, 4th ed, ed T H Weir Edinburgh, 1912
28 Noldeke (Th
), Geschichte des Qorans, 3 vol Leipzig, l909-1926
29 Sprenger,
Das Leben und die Lehre des Mohammen, 3 vol, 2e éd Berlin, 1869
30 Tor Andrae,
Mohammed, sein Leben und sein Glaube Gottingen, 1932
31 Watt (W M),
Mahomet, перев Odile Mayot, Paris, 1962
III. Завоевание Испании
32 Ibn al-Qoutiya,
Histona de la conquista de Espana, перев J Ribera, Collecciôn de obras arabicas de histona, R Academia de la Histona, t II Madrid, 1926
33 Altamira (R.),
Histona de Espana y de la civilizacidn espanola, 4 vol Barcelona, 1911
34 Ballesteros y Beretta,
Histona de Espana, t II и III. Barcelona, 1920-1922
35 Dozy (R.),
Histoire des Musulmans d'Espagne, revue par Lévi-Provençal Leyde, 1932
36 Gonzales Palencia (A.),
Histona de la Espana musulmana, 3e ed Barcelone, 1932
37 Lane-Pool (St),
The Moors in Spain, 2d ed London, 1920
38 Lévi-Provençal,
Histoire de l'Espagne musulmane, t I, Paris, 1950
39 Saavedra,
Estudio sobre la invacidn de los Arabes en Espana Madrid, 1892
IV. Первые халифы и их завоевания
40 Arnold (T. W.),
The Preaching of Islam, 2d ed London, 1913
41 Amelmeau (E.), «La conquête de l'Egypte par les Arabes», in
Revue historique, t CXIX, CXX, 1915
42 Butler (J.),
The Arab Conquest of Egypt and the last thirty years of the roman dominion Oxfored, 1902
43 De Goeje,
Mémoire sur la conquête de la Syrie, 2e éd Leyde, 1900
44 Gautier (E.-F.),
Le Passé de l'Afrique du Nord Les siècles obscurs, nouv éd Paris, 1952
45 Julien (Ch.-A.),
Histoire de l'Afrique du Nord, t II, éd revue et mise à jour par R Le Tourneau Paris, 1964
46 Lammens, «Le triumvirat Abou Bakr, Omar et Abou Obaida»,
Mélanges de la Faculté orientale de Beyrouth, IV
47
Le Strange, Palestine under the Moslems London, 1890
48 Laurent (J.), «L'Arménie entre Byzance et l'Islam, depuis la conquête arabe jusqu'en 886».
Bibliothèque des Écoles d'Athènes et de Rome, t. CXVII Paris, 1919
49 Masse (H.), «La Chronique d'Ibn A'tham et la conquête de riînquia», dans
Mélanges Gaudefroy-Demombynes, Le Caire, 1935
МЕРОВИНГИ

Примечания
1
Имеется в виду Герберт Орильякский (ум. 1005), известный ученый и церковный деятель раннего Средневековья, в 999 г. ставший Папой Римским под именем Сильвестра II. –
Примеч. ред.
(обратно)2
Григорий Великий – Папа Римский в 590–604 гг. Его богословская деятельность оказала огромное влияние на христианскую мораль западноевропейского Средневековья. –
Примеч. ред.
(обратно)3
Doughty,
Arabiadéserta, книга, так и не переведенная полностью ни в одном из изданий. Мы использовали избранные отрывки, опубликованные в 1949 г. в изд. Payot Lawrence,
Les Sept Piliers de la Sagesse, перев. Mauron,Petite Bibliothèque Payot (2 т.).
(обратно)4
Цит. соч., p 59
(обратно)5
Lawrence, S. P., I, p. 254.
(обратно)6
Henri Pirenne,
Mahomet et Charlemagne, 1937. Мы использовали издание Club de Libraires, Saverne, 1961, см. особенно р. 91.
(обратно)7
То есть Римской империи –
Примеч ред
(обратно)8
Особенно, Sauvaget,
Introduction à l'Histoire de l'Orient musulman (изд., опубликованное в июле 1946 г.)
(обратно)9
Arabia déserta, p. 287.
(обратно)10
S. P., I., p. 106.
(обратно)11
Цит. по Montet,
Introduction au Coran, Payot, 1958, p. 16.
(обратно)12
Многое можно сказать о принятой у арабистов орфографии, основанной исключительно на фонетике, а значит, очень неустойчивой. Здесь мы следуем G. Marçais,
Le Monde oriental de 395 à 1081, p. 159.
(обратно)13
Cp. на эту тему,
Do Kamo, Leenhardt, изд. 1947, p. 173.
(обратно)14
S. P, I, p. 180.
(обратно)15
S. P, I, p. 260.
(обратно)16
S. P,H, p. 297.
(обратно)17
Marçais,
op cit., p. 172.
(обратно)18
J.-C. Risler,
La Civilisationarabe, 2e изд., Paris, 1962, p. 44,
везде.
(обратно)19
Montet,
Le Coran, Introduction, p 19. См. также книгу Gaudefroy-Demombynes,
Mahomet, 1957, из которой мы многое почерпнули, особенно в том, что касается доисламских институтов.
(обратно)20
Ср. особенно Jacques Pirenne, Les
Grands Courants de l'histoire universelle, t II, p. 3.
(обратно)21
IbnSéoud.? 9-10.
(обратно)22
M. Rodinson,
Histoire universelle, t II, Encyclopédie de la Pléiade, P. 17.
(обратно)23
Op. cit., p 3-4
(обратно)24
Для которого Христос является лишь человеком.
(обратно)25
Согласно которому во Христе присутствует только одна природа.
(обратно)26
Ираклий – византийский император в 610–641 гг. –
Примеч. ред.
(обратно)27
Ор. cit. , р 8
(обратно)28
S.
P., I, р 34-36
(обратно)29
См. по этому поводу любопытную работу Dinet и El. Hadj Shman ben Ibrahim,
La Viede Mohammed, Larose, 1961.
(обратно)30
Gaudefroy-Demombynes,
op cit , p 58.
(обратно)31
Id., а также El. Hadj Shman ben Ibrahim,
op cit., p. 14 и сл.
(обратно)32
Глава 61. ряды сражающихся, стих 6, стр. 1051. Здесь и далее Коран цитируется в переводе с арабского Г. С. Саблукова
(Коран, 3-е изд., Казань, 1907, репринт 1990). В оригинале цит. по Montet,
Le Coran – Примеч. пер.
(обратно)33
Op. cit., p 58.
(обратно)34
R. Blachère,
Le Probleme de Mahomet, Paris, P. U. F., 1952, p. 29.
(обратно)35
W.-M. Watt,
Mahomet, Paris, 1962, Petite Bibliothèque Payot, p 11.
(обратно)36
Gaudefroy-Demombynes,
op cit., p.63.
(обратно)37
Blachère,
Le Probleme de Mahomet.
(обратно)38
Watt,
op cit.
(обратно)39
Op. cit., p 62.
(обратно)40
Глава 7 преграды, стих 158, стр 313 –
Примеч. пер.
(обратно)41
M. Rodinson,
op. cit., p. 34.
(обратно)42
Глава 53 звезда, стихи 2–6, стр. 997 –
Примеч. пер.
(обратно)43
Глава 53 звезда, стихи 9-11, стр. 999 –
Примеч. пер.
(обратно)44
Глава 53 звезда, стихи 17–18, стр. 999 –
Примеч. пер.
(обратно)45
Глава 81 обвитие, стихи 22–25, стр. 1129 –
Примеч. пер.
(обратно)46
Le Probleme de Mahomet, p. 40,
везде.
(обратно)47
Watt, op
cit, p 15,
везде.
(обратно)48
Ibid., p 43.
(обратно)49
Gaudefroy-Demombynes,
op cit , p 66.
(обратно)50
Noldeke,
Geschichte des Qor'dns,2-e изд. Leipzig, 1909–1938.
(обратно)51
Blachère,
Le Coran, Maisonneuve, Paris, 1949, t II, p 9.
(обратно)52
Blachère,
Le Probleme de Mahomet, p. 42.
(обратно)53
Blachère,
Coran, II, p 9.
(обратно)54
Глава 96 сгустившаяся кровь, стихи 1–5, стр. 1153 –
Примеч. пер.
(обратно)55
Sliman,
op cit , p 45.
(обратно)56
Ibid.,p 72.
(обратно)57
Ibid.
(обратно)58
Op. cit., p 85.
(обратно)59
Ibid., p 76.
(обратно)60
Ibid., p
77.
(обратно)61
Op. cit., p 79-80
(обратно)62
H.
Gnmme, Mohammed, Munich, 1904.
(обратно)63
Watt, p. 35.
(обратно)64
Gaudefroy-Demombynes,
op cit , p 86.
(обратно)65
Глава 53 звезда, стих 23 стр. 999 –
Примеч. пер.
(обратно)66
Gaudefroy-Demombynes,
op cit , p 88.
(обратно)67
В действительности византийцы монофизитами не являлись. Монофизитство было осуждено IV Вселенским собором. –
Примеч. ред.
(обратно)68
Особенно Gaudefroy-Demombynes, p 93,
везде.
(обратно)69
Супруги Мухаммеда –
Примеч. ред.
(обратно)70
Первоначально так называли скальные расщелины и овраги, возникшие в результате эрозии в долине Мекки. Они образуют естественные островки, годные для проживания обособленных групп (см. Gaudefroy-Demombynes, p 101).
(обратно)71
См., особенно, Gaudefroy-Demombybes,
Les Institutions musulmanes, Paris, 1921
(обратно)72
Возможно, в результате разрушения колодца в Марибе По этому поводу см, кроме Gaudefroy-Demombynes,
op cit , Georges Marçais,
Mahomet et l'exParision de l'Islam, в кн.
Histoire de Moyen Age, t III, PUF, Paris, 1944, p 170,
везде.
(обратно)73
Op. cit., p. 106
(обратно)74
Цит. по Gaudefroy-Demombynes,
op cit , p 124.
(обратно)75
Под этим понимается одна пятая часть добычи, отводившаяся Пророку.
(обратно)76
Watt,
op cit ,p 123,
везде.
(обратно)77
Gaudefroy-Demombynes,
op. cit., p. 142.
(обратно)78
Ibid., p 145.
(обратно)79
Ibid, p 149
(обратно)80
Уотт говорит о трех сотнях коней только у мекканцев и приблизительно о таком же количестве у кочевников.
(обратно)81
Gaudefroy-Demombynes,
op cit, p. 152.
(обратно)82
Ibid , p. 160.
(обратно)83
Watt,
op cit , p 152., 65 Watt,
op cit , p 152.
(обратно)84
Watt, op
cit., p 172
(обратно)85
J. Sauvaget,
Introduction à l'histoire de l'Orient musulmane, 2e ed, p 115.
(обратно)86
См. особенно Е. Amehneau, «La conquête de l'Egypte par les Arabes» в кН.
Revue historique, 1915.
(обратно)87
Risler,
La Civilisationarabe, p. 44.
(обратно)88
A. Gateau, в Revue tunisienne, N 6, p 233, 1931.
(обратно)89
Семилетняя война (1756–1763 гг.) – война, в которой участвовали почти все европейские государства. Главными причинами конфликта были противоречия Англии и Германии, а также завоевательные планы прусского короля Фридриха II –
Примеч. ред.
(обратно)90
E.-F Gautier,
La Passéde l'Afrique du Nord, les siècles obscurs, Payot, 1952, p. 103.
(обратно)91
Цит. по E Amehneau,
op cit, p 225.
(обратно)92
Aubier, Paris, 1946
(обратно)93
Payot, Paris, 1964
(обратно)94
Maurice Claudel,
Les Premières Invasions arabes dans l'Afrique du Nord, Paris, 1900
(обратно)95
Издание Gateau в кн.
Revue tunisienne.
(обратно)96
Перевод Slane, с 1852 г., 4 vol., Alger
(обратно)97
Хиджра – переселение Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Йасриб Медину –
Примеч. ред.
(обратно)98
Здесь мы следуем лекции G. Marçais,
op cit., p. 191.
(обратно)99
Sédillot,
Histoire des Arabes, p 129.
(обратно)100
Вопреки мнению авторов, монофизиты, как и православные, исповедуют догмат о Троице. Их расхождение с православием связано с христологическим догматом и не имеет никакого отношения к триадологии. –
Примеч. пер.
(обратно)101
E. Amehneau, «La Conquête de l'Égypt par les Arabes», в Revue historique, t CXIX, année 1915, p. 309. Цифры Масперо приведены на стр. 304.
(обратно)102
И снова мы следуем лекции Амелино, цит. ст., Revue historique, no 120, p 1–2, которая кажется нам в этом вопросе наиболее предпочтительной, чем работа Марсэ.
(обратно)103
Очевидно, здесь речь идет не о городе в Халдее, а о другом, расположенном к северу от Мемфиса, на месте которого сегодня находится часть старых кварталов Каира.
(обратно)104
Марсэ говорит о четырех тысячах, а Амелино – о пяти.
(обратно)105
Butler,The Arab Conquest of Egypt and the last thirty years of the Roman dominion, Oxford, 1902
(обратно)106
J. Maspéro, L'Armée Byzantine en Egypte, p 31-39
(обратно)107
Амелино силится снять с него обвинение в предательстве, настаивая на его популярности в Александрии и на том факте, что переговоры с арабами в то время казались единственным спасением. Марсэ в этом отношении отличается большей строгостью.
(обратно)108
Здесь мы продолжаем следовать Марсэ, дополняя предоставляемую им информацию за счет
Les Institutions musulmanes Годефруа-Демомбина, Paris, 1921, p 145.
(обратно)109
Здесь мы следуем изданию Ибн Хальдуна под редакцией Slane, t I, App I, арабскую графику которого мы соблюдаем (р 303–304).
(обратно)110
Ibid., App 11, p 314.
(обратно)111
С.-A. Julien,
Histoire de l'Afrique du Nord, t II, 2e éd, revue par R Le Tourneau, p 14 и сл.
(обратно)112
Slane,
op cit , Ан-Нувайри по Эз-Зухри, р 317.
(обратно)113
Slane,
op cit, I, p 315–316.
(обратно)114
Slane, p 318-319
(обратно)115
E.-F. Gautier, op.
cit., p 252. См. также С.-A. Julien,
op. cit., p. 14
(обратно)116
Здесь не может быть речи о том, чтобы погрузиться в подробности этой гражданской войны. Напомним ее существенные особенности Осману наследовал Али, представитель старшей ветви хашимитов и семьи Пророка. Младшая ветвь Омейядов отказалась признать его, как и Аиша, вдова Мухаммеда, которая со своими приверженцами была разбита в сражении Верблюда. При Сиффине Али, вероятно, одержал бы победу, если бы не измена хариджитов («отделившихся») и талант Муавии, который вынудил его согласиться на посредничество Адроха, а затем на отказ от своих прав. Для приверженцев Али, шиитов, его убийство в 661 г. сделало из него мученика, они так и не признали его свержения и продолжают искать Мухаммеду наследника в его роду. Таким образом, суннитов, верных традиции (сунна), хариджитов, которые нашли в Северной Африке многочисленных сторонников, и, наконец, шиитов поразила настоящая схизма. Непосредственным следствием этих нескончаемых войн стала пауза в завоевании, разрушение Мекки и Медины, осквернение Каабы, уже упоминавшееся перемещение столицы ислама в Дамаск, а отдаленные плоды неисчислимы и все еще дают о себе знать в современном арабском мире.
(обратно)117
Julien,
op. cit., p 14.
(обратно)118
Диван – налогово-финансовое ведомство в мусульманских странах. –
Примеч. ред.
(обратно)119
G. Marçais, histoire de Moyen Age, t. III, p. 200.
(обратно)120
Julien,
op. cit., p 16.
(обратно)121
Slane, op
cit, p 308.
(обратно)122
Slane, p 312.
(обратно)123
Julien, р 16.
(обратно)124
Ан-Нувайри у Slane, I, p 330–331.
(обратно)125
Op. cit., p 16.
(обратно)126
В частности, Julien,
op. cit. p. 17.
(обратно)127
Slane, p 333.
(обратно)128
Александр Македонский –
Примеч. пер.
(обратно)129
Ibid.
(обратно)130
Здесь мы следуем переводу Гато в
Revue tunisienne, 1931, p 257–258.
(обратно)131
Цит по Julien, op
cit,p17.
(обратно)132
Slane, p 338.
(обратно)133
E.-F. Gautier,
Le Passé de l'Afrique du Nord, p 271.
(обратно)134
Цит. по Julien,
op. cit., p 23.
(обратно)135
Slane, p 340.
(обратно)136
Slane, p 341.
(обратно)137
Mahomet et Charlemagne.
(обратно)138
Slane, p 341.
(обратно)139
Gautier,
op cit , p 276.
(обратно)140
Цит по Gautier, p 277.
(обратно)141
Julien,
op cit , p 27.
(обратно)142
Slane, p 344.
(обратно)143
Витица – ветготский король в 702–709 гг –
Примеч. ред.
(обратно)144
Абд эль-Азиз взял в жены Эгилону, вдову Родериха, и некоторые хронисты утверждают, что он поплатился жизнью за то, что слишком послушно следовал советам своей жены.
(обратно)145
Григорий Турский (кн. VIII) указывает, что один рыбак, найдя тело молодого человека в Марне, сразу же признал в нем останки Хлодвига II по «украшавшим его голову длинным косам, которые еще не успела расплести вода».
(обратно)146
Клотильда (ум 548) – королева франков, супруга короля Хлодвига. В 524 г двое сыновей Хлодвига, захватив в плен ее внуков, предложили Клотильде самой выбрать – либо внуки будут острижены и лишены тем самым отличия королевского сана, либо их убьют. Старая королева выбрала второе. –
Примеч. ред.
(обратно)147
Lors fu primes apelez Martiaus par son nom car auffi, comme h martiaus débnfe (et froiffe) le fer et l'acier et tous les autres métaux, auffi froiiïait-il et bnfait-il par la bataille tous les anemis et tout les autres nations.
(обратно)148
Maires du palais Слово
maire означало
magister officiorum обязанность, несовместимую с саном священника или епископа. У разных авторов она обозначается выражениями
magister palatu, praefectus aulae, rector aulae, gubernator palatu, major domus moderator palatu provisor palatu, и все они подразумевают некую власть, независимую от «двора». «Первоначально майордом был герцогом или военачальником, избрание которого было прерогативой народа, как и выбор короля. Этот институт создавал в государстве две независимые высшие власти. Одна из них должна была – и это случилось – восторжествовать над другой.
(обратно)149
Меровей – король салических франков, правивший около сере дины V в. –
Примеч. ред.
(обратно)150
Хлодион – первый известный король салических франков, около 432–435
гг. правивший территориями в районе Камбре и Турне. –
Примеч. ред.
(обратно)151
Хильдерик III – франкский король из династии Меровингов в 743–751 гг. –
Примеч. ред.
(обратно)152
Рода Каролингов, вытеснившего династию Меровингов.
(обратно)153
Брунгильда – вестготская принцесса с 566 г. супруга франкского короля Сигиберга (561–575
гг.). После гибели своего мужа в 575 г. управляла Австразией за несовершеннолетнего сына Хильдеберта II, стала регентшей после смерти своего внука Теодориха в 613 г, но была предана восставшей знатью, не желавшей подчиняться властолюбивой вестготке, выдана нейстрийскому королю Хлотарю II и казнена вместе со своими правнуками. –
Примеч. ред.
(обратно)154
Хлотарь II – король объединенного Франкского государства в 613–529
гг. –
Примеч. ред.
(обратно)155
Левдами, или дружинниками, назывались люди вождя, которому они присягнули на верность Левды, или «верные», короля чаще всего назывались «атрустионами» и входили в дружину короля.
(обратно)156
Личный советник на службе у магната.
(обратно)157
Этот последний действительно был сыном Пипина и Альпайды, несмотря на распространенное заблуждение, делающее его сводным братом Карла. Степень их родства и вообще его происхождение было установлено Левилланом «Les Nibelungen historique»
(Annales du Midi, 1937, p 337 и 1938, p 5), который исправил ошибки Шома (Chaume,
Origine Bourgogne, I, p 82–83).
(обратно)158
Представляется, что первоначально это легендарное прозвище принадлежало Пипину Геристальскому, деду первого каролингского короля.
(обратно)159
Нире скорбный. –
Примеч. пер.
(обратно)160
Франкский король Хлотарь I (511–561 гг.) вместе с его братом королем Хильдебертом I (511–558 гг.) в 524 г. убили своих племянников, сыновей короля Хлодомера –
Примеч. ред.
(обратно)161
Хильперик I – франкский король Нейстрии в 561–584
гг. –
Примеч. ред.
(обратно)162
Человек, одаренный от природы, на латыни
ingeniosus
(обратно)163
Наместник провинции и вождь правоверных.
(обратно)164
От арабского
мост'арб, «арабизированный» – этим словом обозначали испанских христианин, говоривших на арабском языке и подчинявшихся власти мавров Христианская литургия восточного происхождения также называлась мозарабской. В Испании она сохранялась до XI в., когда ей на смену пришел римский обряд. Но в XVI в. кардинал Хименес снова ввел ее в одной из капелл кафедрального собора Толедо, где она совершается и поныне, так же как и в шести других церквах города.
(обратно)165
В Средние века Гаронна не имела других названий, кроме Жиронды.
(обратно)166
Должность главнокомандующего в эпоху поздней Римской империи. –
Примеч. ред.
(обратно)167
Аларих II – король вестготов (ок. 475–507
гг.), убитый в сражении с франкским королем Хлодвигом в 507 г. После этой битвы власть над Южной Галлией перешла к франкам. –
Примеч. ред.
(обратно)168
Морис Роллина.
(обратно)169
Пуатье.
(обратно)170
Челядь, прислуживавшая в монастырях за плату, исполняя работы, уводившие монахов слишком далеко от служения Богу.
(обратно)171
В 742 г двое сыновей Карла Мартелла, Пипин и Карломан, завладев Лошем во время военных действий против Гунальда Аквитанского, сына Эда, разделили между собой Франкское королевство возле «Старого Пиктавия».
(обратно)172
У слияния Клайна и Вьенны. Этот город, роль которого при римлянах не вызывает сомнений, при галлах сумел стать главным населенным пунктом всей области.
(обратно)173
Ed Krusch, M G H, in-4,
Scriptores rerum merovingicarum, t V, p 56
(обратно)174
19 сентября 1356 г. в местечке Мопертюи армия англичан под командованием Эдуарда принца Уэльского наголову разгромила французское войско во главе с королем Иоанном II. Поскольку битва проходила в округе города Пуатье, ее по традиции именуют «Битвой при Пуатье». –
Примеч. ред.
(обратно)175
Во время своей кампании в Аквитании Абд-ар-Рахман захватил значительную добычу и помимо прочих вещей золотой ковчежец в виде руки, инкрустированный жемчугом, рубинами и изумрудами. Эмир приказал разломать его и заранее выделил часть, причитавшуюся его воинам. Убейда эль-Кайси узнал об этом и направил Абд-ар-Рахману письмо с яростными угрозами, на которое тот ответил: «Даже если бы небо и земля представляли собой одно плотное тело, Милосердный смог бы извлечь оттуда тех, кто его боится».
(обратно)176
Биографом Григория был не Анастасий Библиотекарь, как долго считалось, а его неизвестный современник.
(обратно)177
Освященный хлеб –
Примеч. ред.
(обратно)178
Нансути, Этьен-Мари-Антуан, граф де (1768–1815) – французский генерал в правление Наполеона I Бонапарта. –
Примеч. ред.
(обратно)179
Жуанвиль, Жан де (1227–1317) – сенешал Шампани, друг и биограф французского короля Людовика IX Святого, участник седьмого крестового похода. –
Примеч. ред.
(обратно)180
Молитва
(намаз) совершалась пять раз в день
аль-федир на заре,
аль-зор в полдень,
аль-аср в три часа,
аль-магреб на закате солнца,
аль-аха глубокой ночью.
(обратно)181
Сегодня мы бы сказали «палаточным городком»
(обратно)182
Цит. по Коран, перев. Г. С. Саблукова, 3-е изд., Казань, 1907, репринт 1990, глава VIII добыча, стих 41, стр. 333 –
Примеч. пер.
(обратно)183
Легенда о Пироме опубликована г-ном Робером Тайле в
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e trim 1938.
(обратно)184
Настоящий налог, взимавшийся с владений, оставленных побежденным победителями. Как правило, арабы стремились поддерживать различие между собой и неверными. Они предписывали покоренным народам не иметь оружия, не носить одежды, отведенной мусульманам, выказывать завоевателям почтение, не говорить оскорбительных слов о религии Пророка. При соблюдении этих условий завоеванный народ мог сохранять свои обычаи, законы и юрисдикцию, свободно совершать богослужения по своему выбору и даже обрабатывать свою землю на условиях аренды.
(обратно)185
Naval Power and Trade in Mediterranean, Princeton, New Jersey, 1951
(обратно)186
To есть тяжеловооруженной.
(обратно)187
Автор имеет в виду битву при Пуатье в 1356 г., когда английские лучники перебили французских тяжеловооруженных рыцарей –
Примеч. ред.
(обратно)188
Бенефиций – земельное владение, передаваемое за воинскую службу. –
Примеч. ред.
(обратно)189
Эль Самх.
(обратно)190
Автор хроники полностью игнорирует битву.
(обратно)191
Намек на предыдущее письмо от 739 г., содержавшее просьбу и не дошедшее до наших дней. См. Jähe, reg 2259 (1732) et Buhmer-Muhlbacher, reg. 41 p. J.
(обратно)192
CI Epp 2 II 68. Композиция из светильников. (Marteus die falsche General-Konsession Konstantius des Grossen, s 92).
(обратно)193
Al-Boucharie. L'Autentique tradition musulmane. P. 1964.
(обратно)194
Op. cit., p 42
(обратно)195
Op. cit., p 49
(обратно)196
Op. cit., p 52
(обратно)197
Op. cit., p 53.
(обратно)198
Речь идет о кусочке дерева, используемом вместо зубочистки.
(обратно)199
Op. cit., p 89
(обратно)200
Op. cit., p 196-197
(обратно)201
Op. cit., p 156
(обратно)202
Op. cit., p 154
(обратно)203
Op. cit., p 116
(обратно)204
Op. cit., p 251
(обратно)205
Op. cit., p 209
(обратно)206
Op. cit., p 209
(обратно)207
Op. cit., p 140
(обратно)208
Op. cit., P 140
(обратно)209
Slane.,
Histoire de Berbères par Ibn Khaldoun, t. I, App. № 1, p. 303, 304, 305, 306, 307 (§ III–IV).
(обратно)210
Так у арабов назывался укрепленный лагерь.
(обратно)211
Levi-Provençal,
Histoire de l'Espagne musulmane, Paris, 1950, p 32–33.
(обратно)212
Revue tunisienne (1931–1935), В N 8e Z 4848.
(обратно)Оглавление
От издательства
Пролог
Место для Бога
Глава I
Исторические шансы ислама
Глава II
Мухаммед
Глава III
Внезапное нападение
Глава IV
Новые завоевания
I. Ифрикия
II. Аль-Андалус
Глава V
Вторая династия
Глава VI
Подготовка к войне
I. Абд-ар-Рахман ибн Абдаллах эль-Гафики
II. Созыв франкского войска
Глава VII
Досье
Глава VIII
«Дорога мучеников»
Глава IX
Великие годы
Глава X
Завещание
Битва при Пуатье в источниках
Второй продолжатель Фредегара
Хроника Изеса
Хроника Фонтанеля
Лаубакские анналы
Отрывок из Кордовского Анонима
Хроника Сен-Дени
Хроника Вердена
Два письма папы Григория III к Карлу Мартеллу
Аль-Бухари
Хронология
Библиография
История Франкской Галлии. Битва
История арабов
*** Примечания ***
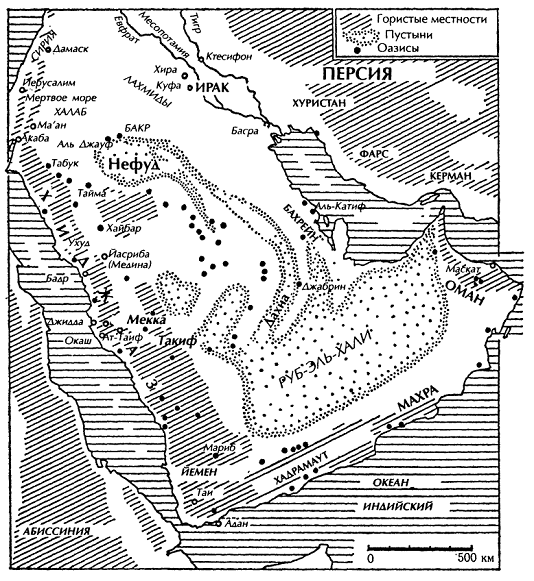 Карта 1
Аравия до Мухаммеда
Карта 1
Аравия до Мухаммеда
 Карта 2
Этапы завоевания Магриба (VII и VIII вв.)
Карта 2
Этапы завоевания Магриба (VII и VIII вв.)
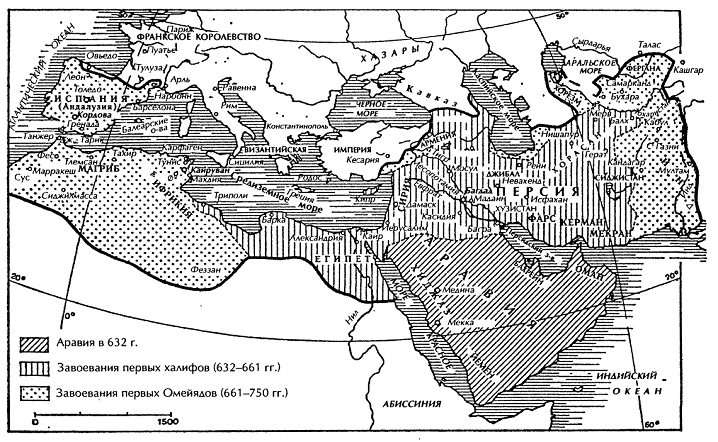 Карта 3
Завоевания ислама до падения Омейядов
Карта 3
Завоевания ислама до падения Омейядов
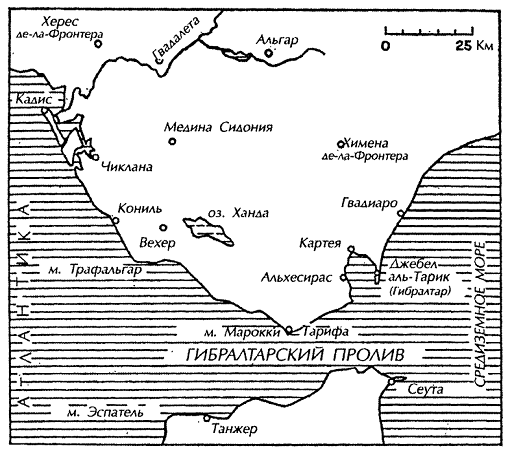 Карта 4
Южная оконечность Испании
Карта 4
Южная оконечность Испании
 Карта 5
Галлия около 714 г.
Карта 5
Галлия около 714 г.
 Карта 6
Нире в Пуату
Карта 6
Нире в Пуату
 Карта 7
Маршрут арабов.
Карта 7
Маршрут арабов.
 Карта 8
Римские дороги в Пуату
Карта 8
Римские дороги в Пуату
