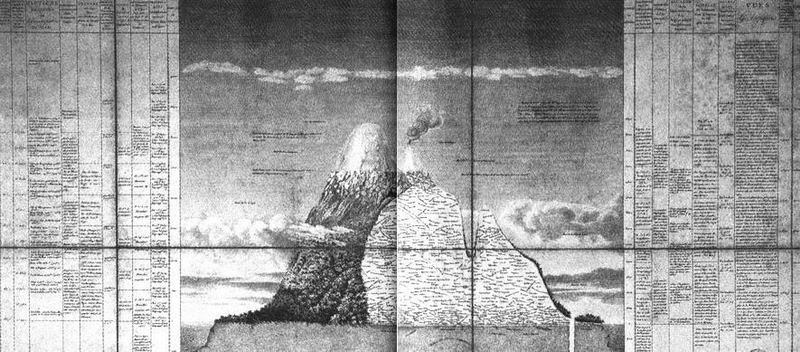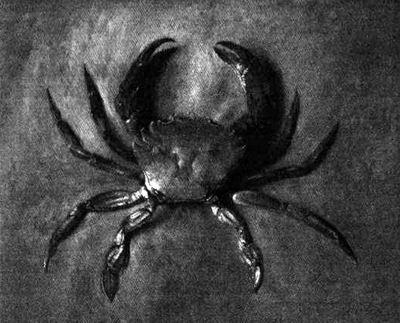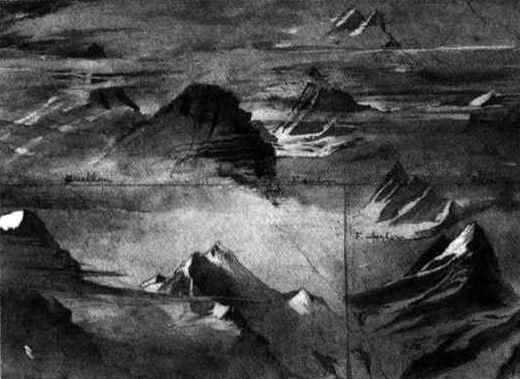Аллен де Боттон
Искусство путешествовать
Посвящается Мишель Хатчисон
Отправление
I. Предвкушение
Места:
Хаммерсмит, Лондон, Барбадос
Гид:
Ж. К. Гюисманс
1
Трудно сказать, когда именно в тот год наступила зима. Закат осени был постепенным и незаметным — так зачастую подкрадывается к человеку старость. Изменения накапливаются исподволь, и внешне все очень долго остается как раньше. Неожиданно происходит резкий скачок — и безжалостная реальность вступает в свои права. Так было и тогда: сначала вечера стали прохладнее, затем зарядили дожди, налетел холодный ветер с Атлантики, стало сыро, начался листопад, часы перевели на зимнее время. Теплая осень не собиралась сдаваться без боя: время от времени выдавались деньки, когда можно было выйти на улицу без пальто, когда небо сияло почти летней незамутненной голубизной… Впрочем, все это очень напоминало хорошо известные в медицине ложные симптомы выздоровления, которые частенько проявляются на разных стадиях заболеваний у пациентов, которым смерть уже вынесла свой приговор. К декабрю зима уже не только заняла вражескую территорию, но и успела хорошенько окопаться на новых позициях. Над городом повисло зловещее, стального цвета небо, как на картинах Мантенья или Веронезе — отличный фон для приведения в исполнение распятия Христа или же для того, чтобы провести день с утра до вечера, не высовывая носа из-под одеяла. Ближайший парк превратился в унылое вязкое болото, освещавшееся по вечерам исхлестанными дождями фонарями. Как-то раз, проходя по чавкающей вязкой дорожке, я вдруг вспомнил, как каких-то несколько месяцев назад, жалуясь на нестерпимую жару, я пришел сюда в парк, чтобы поваляться на траве, как разулся, чтобы ощутить прикосновение босых ног к этому зеленому ковру. Я вспомнил, как это прикосновение к земле придало мне сил, как я почувствовал какую-то внутреннюю свободу — словно обрел право более свободного перемещения в пространстве. Именно лето с его открытыми дверями и окнами стирает привычную границу между «внутри» — дома — и «снаружи» — на улице. Именно летом я могу почувствовать себя в большом мире точно так же уютно и комфортно, как в собственной спальне.
Теперь же парк предстал передо мной в ином обличии: чужая, даже враждебная земля, насквозь пропитанная водой и бесконечно поливаемая нескончаемым дождем. Любые грустные мысли, любое унылое настроение, любая осторожная догадка насчет того, что счастье или, например, понимание между людьми в принципе невозможны, — все это мгновенно находило эмоциональное подтверждение и поддержку в окружавших меня и, по-моему, тоже насквозь промокших красных кирпичных стенах и в низко нависшем надо мной небе, слегка подсвеченном снизу оранжевыми лампами уличных фонарей.
Вышеперечисленные погодные условия, равно как и череда неприятных событий, произошедших в моей жизни в то время (явившихся нагляднейшим подтверждением правоты знаменитой максимы Шамфора, согласно которой человеку следует каждое утро проглатывать по живой жабе, с тем чтобы быть уверенным в том, что на протяжении предстоящего дня ему не придется столкнуться с чем бы то ни было более омерзительным), словно сговорившись, заставили меня потерять бдительность и поддаться очарованию нежданной гостьи — объявившейся в один прекрасный день в моем почтовом ящике ярко иллюстрированной рекламной брошюрки под названием «Зимнее солнце». На обложке этого шедевра рекламной индустрии красовалась шеренга пальм, выстроившихся вдоль кромки пляжа с белоснежным песком, отороченного с противоположной стороны каймой бирюзового моря. Фоном для этого милейшего пейзажа служили покрытые густой зеленью холмы, где, как я немедленно догадался, утомленный тропической жарой путник мог найти убежище в тени источающих благоуханные ароматы и увешанных экзотическими плодами деревьев на берегу какого-нибудь очаровательного ручейка, срывающегося с каменного уступа живописнейшим водопадом. Эта фотография, равно как и те, что следовали за нею на страницах брошюры, напомнила мне виды Таити, которые Уильям Ходжес привез с собой из путешествия, совершенного вместе с капитаном Куком. На тех картинах были изображены тропические лагуны, на берегах которых, нежась в лучах мягкого заходящего солнца, весело и беззаботно резвились местные девушки. Выставленные в Королевской академии в Лондоне суровой зимой 1776 года, картины вызвали у столичной публики стоны зависти и спровоцировали у многих зрителей неудержимое желание побывать в этом земном раю. Пожалуй, та давняя выставка Ходжеса и стала образцом для демонстрации жаждущей тепла, солнца и комфорта публике бесчисленных тропических идиллий, включая и ту, что была запечатлена на глянцевых страницах «Зимнего солнца».
 Уильям Ходжес. Вновь на Таити, 1776 г.
Уильям Ходжес. Вновь на Таити, 1776 г.
Составителям брошюры каким-то дьявольским образом удалось угадать, насколько легко подпадут их читатели и потенциальные жертвы под очарование этих фотографий. Ощущение было такое, словно эти магические пейзажи способны лишить человека разума и парализовать его свободную волю и способность критически осмысливать увиденное. Как мало оказалось для этого нужно: всего-навсего несколько сделанных с излишне длительной выдержкой снимков, запечатлевших пальмы, голубое небо и золотистый песок. Люди, вполне способные в обычной жизни скептически оценивать чужие предложения и вести себя благоразумно и осторожно, оказывались беззащитными перед очарованием тропических пейзажей: вселявшийся в них оптимизм, казалось, граничил с первобытной доверчивостью и простодушием. Желание немедленно перенестись в земной рай, появлявшееся у людей при просматривании этого рекламного буклета, являлось, с одной стороны, трогательным, а с другой — вопиющим примером того, как серьезные решения, важные планы (а то и судьбы) выстраиваются людьми под воздействием простейших, абсолютно безыскусных образов того, что принято называть счастьем. Я наглядно убедился в том, как человек может отправиться в долгое, разорительно дорогое для него путешествие после минутного созерцания картинки с пальмой, изящно изогнувшейся под напором тропического бриза.
В общем, я решил немедленно поехать на Барбадос.
2
Нашу жизнь объединяет присущее человеку стремление к обретению счастья. Пожалуй, наиболее наглядно реализацию этого стремления демонстрируют как раз совершаемые нами путешествия — во всем их многообразии, во всей парадоксальности и эмоциональной насыщенности. Именно они выражают — пусть и не слишком очевидно — наше понимание того, какой именно, по нашим представлениям, должна быть жизнь, та самая жизнь, которая не укладывается в рамки повседневной работы и борьбы за выживание. При этом поездки и путешествия нечасто оказываются материалом для рассмотрения тех или иных вопросов философского характера. Впрочем, мы и вообще редко задумываемся над тем, что не относится к сугубо практическим проблемам и требует по-настоящему глубокого осмысления. На нас постоянно обрушивается поток советов и рассуждений о том, куда нам следует съездить; гораздо реже мы задумываемся и говорим о том, почему или как нам нужно ехать в то или иное место, — и это несмотря на то, что искусство путешествовать самым естественным образом ставит перед нами целый ряд далеко не простых и не тривиальных вопросов, изучение которых может, пусть и в достаточно скромной степени, приблизить нас к пониманию того, что великие греческие философы подразумевали под изящным и вместе с тем торжественным термином «эвдаймония» — высшее состояние ума, уподобление человеческой жизни божественному существованию.
3
Один из этих вопросов касается взаимоотношений между предвкушением путешествия и реальностью поездки. В свое время мне в руки попал экземпляр опубликованного в 1884 году романа Жориса Карла Гюисманса «Наоборот». Герой этой книги — изнеженный, неспособный к самостоятельным действиям аристократ-мизантроп герцог Эссент — долго мечтал о том, чтобы съездить в Лондон. По ходу излагаемых от его лица рассуждений читатель знакомится с весьма пессимистичным анализом различий между тем, чего человек ждет и что ожидает увидеть в том или ином месте, и тем, что его ждет на самом деле, когда он туда приезжает.
Герой повествования Гюисманса герцог Эссент жил один, без семьи, в роскошном особняке в окрестностях Парижа. Из дома он старался выходить как можно реже, с тем чтобы сократить до минимума количество контактов с окружающим миром и в первую очередь — с глупостью и уродством населяющих его людей. Как-то раз, еще в юности, герцог прогулялся до ближайшей деревни, провел там несколько часов и почувствовал, что уже тогда испытываемое им презрение к большей части представителей человеческого рода стало ощущаться лишь сильнее. С тех пор он практически не покидал пределов своего поместья и проводил день за днем на диване в кабинете, предаваясь чтению классиков мировой литературы и весьма едким и язвительным размышлениям о судьбах человечества. В одно прекрасное утро герцогу удалось удивить самого себя: он с немалым удивлением обнаружил, что воспылал желанием побывать в Лондоне. Судя по всему, это желание сформировалось в нем, пока он сидел у камина, проглатывая страницу за страницей очередного тома Диккенса. Картины английской жизни вставали перед его взором, как наяву, желание лично окунуться в эту жизнь казалось непреодолимым. Впрочем, герцог и не собирался бороться со своими прихотями и желаниями: он немедленно приказал слугам собирать вещи и готовиться к отъезду. Оделся он, разумеется, именно так, как подобало для этой поездки: в серый твидовый костюм, высокие, почти по колено, кожаные сапоги на шнуровке и шляпу-котелок. Набросив на плечи плащ-накидку из голубой инвернесской шотландки, герцог поспешил на станцию и первым же пригородным поездом приехал в Париж. До отправления поезда в Лондон оставалось несколько часов. Чтобы потратить это время с толком, герцог первым делом направился в английский книжный магазин Галиньяни, расположенный на улице Риволи. Там он, разумеется, купил себе подробный путеводитель по Лондону издания Бедекера. Лаконичные фразы и чеканные формулировки путеводителя, словно магические заклинания, погрузили его в очарование британской столицы. Чтобы спокойно просмотреть купленную книгу, герцог перебрался в расположенный по соседству винный бар, большую часть клиентуры которого традиционно составляли жившие в Париже англичане. Атмосфера в баре была просто диккенсовской: герцогу ничего не стоило, представить себе, как в таких же уютных светлых комнатах проводят свои дни крошка Доррит, Дора Копперфильд и Руфь — сестра Тома Пинчера. Один из посетителей напомнил ему сразу двух персонажей Диккенса: седой шевелюрой и румянцем — мистера Вигфильда, а острыми чертами бесстрастного лица и неподвижными, словно бесчувственными, глазами — мистера Талкингорна.
Проголодавшись, герцог Эссент прогулялся до английской таверны, расположенной на улице Амстердам по соседству с вокзалом Сен-Лазар. Здесь, в зале ресторана, было сумрачно и накурено. Вдоль барной стойки выстроились краны для разлива пива, подававшегося с ветчиной, коричневой, как дека старой скрипки, и с лобстерами цвета расплавленного свинца. 3а небольшими деревянными столиками сидели высокие, крепко сложенные англичанки с несколько мужеподобными лицами, с огромными, как штукатурные шпатели, зубами, красными, как яблоки, щеками и длиннющими руками и ногами. Герцог Эссент нашел свободный столик и заказал себе тарелку супа из бычьих хвостов, копченую пикшу, порцию ростбифа с картошкой, пару пинт эля и ломоть стильтонского сыра.
Все вроде бы шло как по маслу, но чем ближе подходило время отправления лондонского поезда, чем реальнее становилась перспектива поездки в Англию, тем с большей силой накатывали на герцога апатия и уныние. Он представил себе, каких трудов будет стоить ему сама поездка; как еще до того, как сесть в вагон, ему придется добираться до вокзала, договариваться с носильщиком; как потом он будет мучиться в незнакомой гостиничной кровати, стоять в очередях, мерзнуть и терзать свое слабое тело прогулками по тем самым местам, которые уже так блестяще описал Бедекер в своем путеводителе. Эти образы и размышления очень быстро привели герцога к простой и вполне предсказуемой для него мысли: «Зачем куда-то ехать, если человек может замечательно путешествовать, не вставая с кресла. Разве я сейчас внутренне уже не в Лондоне? Вокруг меня — лондонская погода, лондонские запахи, люди, еда и даже посуда и столовые приборы. Что нового увижу я в Лондоне, добравшись туда наяву? Что ждет меня там, кроме новых разочарований?» Сидя за столиком в английском ресторане, герцог Эссент предавался размышлениям: «Наверное, на меня что-то нашло, наверное, я поддался какому-то нелогичному эмоциональному порыву, когда отверг образы, порожденные моим послушным вышколенным воображением, и, как деревенский дурачок, купился на то, что поездка за границу может оказаться интересным, познавательным и полезным делом».
В общем, герцог Эссент заплатил по счету в ресторане, вышел на улицу и первым же пригородным поездом вернулся в свое поместье — вместе со всеми чемоданами, коробками, саквояжами, свертками, зонтиками и тростями. Больше он из дома не выходил.
4
Всем нам знакомо это ощущение: путешествие, совершаемое на самом деле, оказывается совсем не таким, каким мы его себе представляли. Представители школы пессимистов, почетным отцом-основателем которой по праву мог бы считаться герцог Эссент, утверждают, что этот феномен является лишь частным проявлением более общего закона: с их точки зрения, реальность по сравнению с воображаемым миром всегда оборачивается не чем иным, как чередой разочарований. Попробуем несколько скорректировать это излишне категоричное суждение и будем исходить из того, что реальность не хуже, чем вымышленный мир, что она просто другая.
В один ясный безоблачный февральский полдень — по прошествии двух месяцев ожиданий и предвкушений — мы с М., моей компаньонкой по этому путешествию, приземлились в аэропорту Грэнтли Адамса на Барбадосе. От самолета до невысокого здания терминала мы шли пешком. Прогулка оказалась короткой, но ее вполне хватило для того, чтобы ощутить последствия случившейся за время перелета революции в климате и в первую очередь — в температуре окружающей среды. Буквально за несколько часов я перенесся в царство жары и влажности, причем жарко и влажно здесь было так, как у нас дома не бывает даже в самое знойное лето.
Ничего из того, что я увидел вокруг себя, не соответствовало моим ожиданиям, что, впрочем, может удивить лишь того, кто понятия не имеет, что именно я ожидал здесь увидеть. Должен признаться, что за несколько недель, прошедших в изучении рекламных буклетов и расписания полетов, в моем воображении выкристаллизовались и словно окаменели три неподвижные картинки-слайда, которыми в общем-то и исчерпывались мои представления об отдыхе на Барбадосе. Первым из этих стоп-кадров было изображение пляжа с пальмами на фоне спускающегося за океанский горизонт солнца. Вторым сформировавшимся в моем мозгу образом был гостиничный домик-бунгало, через распахнутые стеклянные двери которого виднелась комната с деревянным полом и кроватью, застеленной белоснежным бельем. Третьим образом Барбадоса было для меня лазурное небо.
Разумеется, надави на меня кто-нибудь в этом отношении — я легко согласился бы с тем, что на этом острове должно быть что-то еще. Мне просто не требовались другие элементы для того, чтобы создать о нем собственное представление. Я вел себя, как зритель в театре, который без труда соглашается, что разыгрываемое перед ним действо происходит в Шервудском лесу или Древнем Риме, пусть даже место действия обозначается всего-навсего нарисованной на заднике веткой дуба или одним-единственным наброском дорической колонны.
Тем не менее, когда я все-таки прилетел на Барбадос, мне пришлось согласиться, что мое о нем представление будет тотчас же дополнено множеством до тех пор не интересовавших меня элементов. Так, например, я сразу же увидел огромное сооружение — нефтехранилище с безошибочно узнаваемым желто-зеленым логотипом компании «Бритиш Петролеум». Затем настал черед небольшой фанерной будочки иммиграционной службы — рабочего места сотрудника паспортного контроля, облаченного в безупречно чистый, с иголочки, коричневый костюм и неторопливо, с явно искренним удивлением разглядывавшего паспорта прилетевших туристов с видом ученого, исследующего страницы древнего манускрипта, случайно обнаруженного им где-то в дальних закоулках огромной библиотеки (очередь из прилетевших, кстати, тем временем растянулась на весь зал прилета и уже змеилась по края летного поля). Над лентой транспортера я заметил рекламу какого-то местного рома, над стойкой таможни висел портрет премьер-министра, у выхода из здания аэропорта приютился обменный пункт, а снаружи на меня просто обрушился многоголосый гвалт взывавших к потенциальным клиентам таксистов и туристических агентов. С одной стороны, новые впечатления и образы никогда не были мне в тягость. С другой — я вдруг понял, что чем больше вокруг этой новизны, тем труднее мне будет увидеть тот самый Барбадос, образ которого уже давно был создан моим воображением. Именно в нем — в моем воображении — время и пространство между аэропортом и гостиницей не были заполнены абсолютно ничем и представляли собой полную пустоту. В моем воображаемом Барабадосе между последней строчкой маршрута перелета (звучавшей для меня мелодично, почти как стихи: «рейс 2155, прибытие в Барбадос в 15:35») и дверью гостиничного номера повис полнейший вакуум. До прилета я об этом как-то не задумывался, и теперь обрушившиеся на меня впечатления вызвали в душе подспудный протест. Меня раздражало буквально все: потертая резиновая лента багажного транспортера; мухи, танцующие в воздухе над переполненной пепельницей; здоровенный вентилятор под потолком зала прибытия; белое такси с приборной доской, обтянутой искусственной леопардовой шкурой; бездомная собака, роющаяся в груде мусора прямо за зданием аэропорта; рекламный щит, обещавший «роскошные кондоминиумы», установленный на перекрестке с круговым движением; какая-то фабрика, называющаяся «Бардак Электроникс»; шеренга домов с красными и зелеными жестяными крышами; полоска резины на средней стойке кузова какой-то машины, на которой мелким шрифтом было выведено: «Фольксваген, Вольфсбург»; ярко цветущий куст, названия которого я не знал; гостиничный холл со стойкой администратора и шестью настенными часами, показывающими время в разных уголках мира, и даже открытка, закрепленная булавкой на доске объявлений, с опозданием на два месяца поздравляющая проходящих мимо постояльцев с Рождеством. Лишь через несколько часов после прибытия я смог, наконец, воссоединиться с уже давно существовавшим в моем воображении гостиничным номером. Впрочем, и здесь не обошлось без разрушающих иллюзию сюрпризов: так, например, я совсем не предполагал, что кондиционер в этой комнате будет таким большим и таким бросающимся в глаза. Не такой я представлял себе и ванную комнату, которая оказалась отделана пластиковыми панелями и снабжена объявлением-предупреждением, настоятельно рекомендовавшим постояльцам экономить воду.
Если нам самим свойственно забывать о том, насколько велик и разнообразен мир по сравнению с тем, каким мы его себе представляем, то нет смысла обвинять произведения искусства в том, что они производят за нас ту же работу по упрощению реальности и выборке из нее лишь того, что является действительно важным — по крайней мере, для автора произведения.
Собственно говоря, художник проделывает за нас то, чем обычно занимается наше воображение. Так, например, в книге, описывающей то или иное путешествие, может быть коротко сказано, что рассказчик целый день добирался до города Х и, переночевав там в средневековом монастыре, обнаружил, что весь городок на рассвете укутан густым туманом. На самом же деле путешествие, продолжающееся на протяжении целого дня, состоит из бесчисленного множества всякого рода действий, событии и наблюдений. Для начала мы садимся на поезд, при этом каждый переваривает съеденный незадолго до этого завтрак. Обивка сидений в вагоне, отмечаем мы, серого цвета. Мы выглядываем в окно, затем вновь осматриваемся в вагоне. Мысли, так или иначе связанные с поездкой, роятся в нашей голове. Мы замечаем багажную этикетку, наклеенную на чемодан, лежащий на багажной полке над сиденьем напротив. Мы негромко постукиваем пальцами по раме окна. Сломанный ноготь на указательном пальце цепляется за какую-то шероховатость. Начинается дождь. Капли воды прокладывают себе дорогу по наружной поверхности покрытого слоем пыли стекла. Мы вдруг спохватываемся, не забыли ли билет дома. Затем мы вновь выглядываем в окно: на улице по-прежнему идет дождь. Наконец поезд трогается. Он проезжает по железному мосту, после чего вдруг почему-то вновь останавливается. На окно садится муха. И при всем этом мы едва-едва дошли до второй минуты в многочасовом списке событии и впечатлений, спрессованных на книжной странице в одну обманчиво простую и короткую фразу: «он ехал весь день».
Писатель или рассказчик, который стал бы «грузить» нас таким количеством деталей и ненужных мелочей, сам сошел бы с ума быстрее, чем его читатели и слушатели. К сожалению, жизнь зачастую ведет себя как самый занудный и неразборчивый рассказчик, подсовывая нам бесконечные повторы, ложные намеки, бессмысленные акценты и ведущие в никуда сюжетные линии. Жизнь настаивает на том, чтобы мы созерцали «Бардак Электроникс», сосредоточились на каком-то поручне в везущей нас машине, хорошенько запомнили бездомную собаку, рождественскую открытку или ту муху, которая сначала села на краешек, а затем в самую середину переполненной окурками пепельницы.
В этом и кроется объяснение одного весьма любопытного феномена: важные и имеющие большую ценность события и впечатления легче воспринимаются и проживаются не в реальности, а в предвкушении или же в обработанном искусством виде. Ожидание и предвкушение, равно как и художественное воображение, помогают разуму опускать и игнорировать ненужные детали. Именно благодаря им мы выбрасываем из памяти или просто не обращаем внимания на долгие периоды тоски и однообразия, сосредоточиваясь при этом на самых важных мгновениях жизни. Именно ожидание и творческое восприятие придают жизни, не приукрашивая ее и не вводя нас самих в заблуждение, ту самую жизненность, насыщенность и четкость, которых ей порой так не хватает в рассеивающей внимание шершавой серости реальности.
Лежа на кровати в первый вечер на Карибах, я вспоминал перелет и путь от аэропорта до гостиницы (в кустах под окнами стрекотали цикады и раздавались таинственные шорохи), и мало-помалу мое недовольство происходящим стало уступать место спокойствию и вполне комфортному ощущению реальности. В этом отношении память порой оказывается столь же эффективно действующим инструментом, как и ожидание: она упрощает прожитую реальность, выбрасывает из нее лишнее и производит отбор того, что представляет собой какую-то ценность.
Настоящее можно сравнить со старым, давно просмотренным фильмом, из которого память и ожидание отбирают для демонстрации лишь несколько стоп-кадров. Из моего девяти с половиной часового перелета на Барбадос в памяти сохранилось лишь шесть или семь статичных картинок. До сегодняшнего дня дожила буквально одна из них: поданный стюардессой поднос с завтраком. Из всех впечатлений, полученных в аэропорту, сохранилась только очередь на паспортный контроль. Откладывавшийся в памяти слой за слоем пережитый опыт довольно быстро спрессовался в весьма компактное и хорошо структурированное повествование: я и сам не заметил, как, отбросив все лишнее, стал просто человеком, прилетевшим сюда из Лондона и поселившимся вот в этой гостинице.
Уснул я довольно рано и на следующее утро уже встречал свой первый карибский рассвет — впрочем, за рамками этой короткой фразы, естественно, осталось множество мелких поступков, действии и впечатлении.
5
Задолго до своей так и не состоявшейся поездки в Англию герцог Эссент хотел побывать в еще одной стране — в Голландии. Он представлял себе эти места такими, какими они представали на картинах Тенирса и Яна Стена, Рембрандта и Остаде. Он ожидал увидеть патриархальную простоту и безудержное, даже мятежное веселье. Его воображение рисовало маленькие мощеные дворики, окруженные кирпичными стенами, и бледных девушек, разливающих молоко по кружкам. И вот наш герой отправился в путешествие. Он побывал в Харлеме и Амстердаме — и остался весьма и весьма разочарован. Нет, великие живописцы не обманули его — были в этой стране и простота, и веселье, встречались и очаровательные дворики и служанки, разливающие молоко. Но эти жемчужины просто терялись в густой мешанине самых обыкновенных картин и образов (обыкновенных ресторанов, каких-то учреждений, одинаковых домов и безликих полей), которые никому из голландских художников и в голову не пришло запечатлевать на холсте. Таким образом, впечатления от поездки в реальную страну оказались странным образом менее яркими и выразительными, по сравнению, например, с прогулкой по голландским галереям Лувра, в которых ознакомиться и даже постичь квинтэссенцию подлинной красоты Голландии можно буквально за несколько часов.
В конце концов, герцог Эссент осознал парадоксальность своего восприятия, когда понял, что в гораздо большей степени чувствует себя в Голландии — то есть гораздо более тесно входит в контакт с теми элементами голландской культуры, которые приводили его в такое восхищение, — когда наслаждается созерцанием излюбленных голландских сцен, типажей и пейзажей в музейном зале, чем когда путешествует по столь горячо любимой им стране в сопровождении двух слуг и с шестнадцатью местами багажа.
6
В то утро я проснулся рано. Набросив гостиничный халат, я сразу же вышел на веранду. Восходящее солнце подсвечивало бледное серо-голубое небо. После ночного шуршания и стрекотания все живое, включая, кажется, и ветер, словно погрузилось в глубокий сон. Было тихо, как в библиотеке. Прямо от окон гостиницы, отделенный от нее лишь шеренгой кокосовых пальм, начинался пляж, полого спускавшийся к морю. Я перелез через невысокие перила веранды и пошел по песку. Природа была на редкость миролюбива и благостна. Казалось, словно, создавая этот залив и этот пляж в форме подковы, она как будто извинялась за свою суровость, проявленную в других уголках света, и решила продемонстрировать именно здесь всю свою роскошь и щедрость. Деревья дарили тень и приятный напиток, морское дно было устлано ковром из ракушек, мягкий песок цвета выцветшей на солнце пшеницы мягко продавливался под ногами, а воздух — даже в тени — обволакивал меня плотным махровым покрывалом тропической жары, такой непохожей на хрупкое тепло Северной Европы, которое в любую секунду, даже в разгар лета, словно готово без боя отступить перед куда более свойственным ее широтам прохладе и сырости.
Буквально у самой линии прибоя я наткнулся на шезлонг. Сев в него, я прислушался: у самых моих ног негромко плескались набегающие волны — словно какое-то огромное, но при этом добродушное животное осторожно лакало воду из большущей миски. Первые проснувшиеся птицы замелькали в воздухе, весело перепархивая с дерева на дерево. Вдруг я осознал, что передо мной открылся тот самый вид, который запечатлен на обложке рекламного буклета: пляж изящной дугой протянулся вдоль всей кромки бухты, прямо за ним поднимались к небу зеленые холмы, а первый ряд кокосовых пальм — одна меньше, другая больше — склонился в сторону бирюзового моря. Ощущение было такое, словно пальмы пытались обмануть друг друга и изогнуться так, чтобы поймать листьями как можно больше солнца.
 Якоб Исаакс ван Рёйсдаль. Вид Алкмаара, ок. 1670–1675 гг.
Якоб Исаакс ван Рёйсдаль. Вид Алкмаара, ок. 1670–1675 гг.
Тем не менее это описание лишь в малой степени и далеко не точно отражает то, что происходило внутри меня в то утро: мое внимание отвлекали от созерцания этой красоты самые разные мысли, заботы и переживания. Так, например, я лишь наскоро отметил про себя появление в верхушках пальм первых проснувшихся птиц, но куда больше занимало меня при этом охрипшее после долгого перелета горло, досада по поводу того, что я не успел предупредить одного из коллег о своем отъезде, пульсирующая от перемены давления кровь в висках и становившаяся все более острой потребность посетить, наконец, уборную. В те минуты я уже сделал для себя одно открытие, которому не придал должного значения: не желая того, я привез с собой на остров самого себя.
Как же, оказывается, легко забыть себя, когда разглядываешь живописные картинки или читаешь хорошо составленное описание того или иного места! Дома, разглядывая рекламные фотографии Барбадоса, я совершенно забыл, что мои глаза неразрывно связаны как с телом, так и с разумом, которым придется путешествовать вместе со мной, куда бы я ни собрался. Между тем, взяв с собой в путешествие разум и тело, человек рискует воспринять то место, куда так стремились попасть его глаза, совсем иначе, не так, как он того ожидал. Дома я имел полную возможность сосредоточиваться на фотографиях номера в гостинице, на изображениях пляжа или неба и не обращать внимания на то сложное, полное противоречий существо, для которого все эти наблюдения, равно как и сама возможная поездка, являются не чем иным, как всего-навсего маленьким этапом на пути к выполнению куда более значимой и сложной задачи — проживанию собственной жизни.
Мои разум и тело немедленно дали о себе знать, заставив сделать поправки на их восприятие и оценку того места, где я оказался. Так, например, тело всячески жаловалось на то, что ему не удалось выспаться. Ему было жарко, ему докучали мухи, и, кроме того, оно испытывало определенные трудности с перевариванием пищи из гостиничного ресторана. Разум же тем временем приступил к вздыбленному тревогой и беспокойством подробнейшему рассмотрению таких вопросов, как накатывавшаяся отпускная скука, беспричинная печаль и мое весьма шаткое материальное положение.
Судя по всему, вместо ожидаемого нами в предвкушении путешествия долгого состояния безмятежности и практически безмятежного счастья мы — а в первую очередь наш разум — оказываемся способны испытывать это чувство в течение весьма короткого промежутка времени. Благостное восприятие окружающего мира, накладывающиеся друг на друга приятные воспоминания о прошлом и не менее приятные мечты о будущем, отсутствие тревог и опасений — все это продолжается не более десяти минут кряду. Затем на нашем внутреннем горизонте обязательно появляются мрачные тучи тревоги и всякого рода переживаний — точь-в-точь, как на западное побережье Ирландии накатывают один за другим атмосферные фронты, несущие холод и дожди. Былые победы и достижения уже не кажутся нам достаточно убедительными, будущее предстает в виде сплошных проблем и трудностей, а роскошный пейзаж, раскинувшийся перед нами, вдруг словно становится невидимым, как и все, что окружает нас в эту минуту.
Неожиданно для себя я обнаружил неразрывное единство между тем унылым меланхоликом, каким я был дома, и человеком, каким я предстал на этом тропическом острове. Это единство выглядело особенно и странным по сравнению с разницей в погодных условиях и в окружавших меня здесь и дома пейзажах, в самом воздухе, который здесь, на Барбадосе, был словно соткан из других, по-настоящему живительных газов и напоен совершенно иными — сладостными и пряными — ароматами.
 Пляж на острове Барбадос
Пляж на острове Барбадос
Чуть позже утром того же дня мы с М. взяли по шезлонгу и сели в тени пальм прямо у веранды нашего домика. Над заливом сиротливо проплывало одинокое облачко. М. надела наушники и приступила к составлению комментария к очередному изданию «Самоубийства» Эмиля Дюркгейма. Я ничего не делал и просто разглядывал окружавшее меня пространство. Со стороны могло показаться, что я нахожусь там, где находится мое тело, полулежавшее в откинутом шезлонге. Тем не менее то самое «я» — обладающая разумом и сознанием часть меня — на самом деле покинуло физическую оболочку, с тем чтобы не на шутку обеспокоиться собственным будущим, а именно попереживать по поводу того, будут ли включены завтраки в стоимость номера. Два часа спустя, сидя за угловым столиком в гостиничном ресторане со здоровенной порцией папайи перед собой (завтрак и местные налоги включены), то самое «я», которое покинуло тело, покоившееся в шезлонге, вновь сменило дислокацию, на этот раз даже покинув гостеприимный тропический остров, чтобы не на шутку попереживать за судьбу одного весьма рискованного проекта, намеченного на следующий год.
У меня сложилось такое ощущение, что когда-то давно с теми представителями человеческого рода, которые постоянно жили в состоянии тревоги за свое будущее, произошла какая-то мутация. Вполне возможно, что именно эти наши предки не смогли должным образом ощутить все удовольствия жизни и сполна насладиться ими, но они, по крайней мере, выжили и сформировали характер и образ мысли своих потомков. Между тем их менее озабоченные собственным выживанием сородичи, жившие в свое удовольствие сегодняшним днем и наслаждавшиеся тем, где и как они существуют, в ходе естественного отбора встретили свой конец на рогах какого-нибудь непредвиденного, неизвестно откуда взявшегося бизона.
Невероятно трудно вызвать в памяти наше почти перманентное состояние обеспокоенности собственным будущим. Возвращаясь домой откуда бы то ни было, мы первым делом забываем, сколько времени в прошлом мы провели, переживая по поводу того, что случится в будущем. Иными словами, мы практически не удерживаем в памяти те мгновения, в которые мысленно находимся не там, где присутствуем физически. Есть некая чистота как в воспоминаниях, так и в предвкушении посещения того или иного места — именно в воспоминаниях и в ожиданиях это место обретает свою подлинную ценность.
Если верность какому-либо месту и казалась возможной при рассмотрении этого места из дома, то, скорее всего, это происходило по той простой причине, что я никогда не пытался разглядывать эти места — например, фотографии барбадосского пляжа — в течение сколько-нибудь продолжительного времени. Положи я рекламный буклет на стол и заставь себя неотрывно рассматривать тропический пейзаж с обложки в течение двадцати пяти минут — мое тело и разум непременно перенеслись бы туда, где их стали бы мучить навалившиеся извне тревоги и беспокойства. В этом случае я наверняка сумел бы почувствовать, насколько мало воздействует то место, где я нахожусь, на ту часть моего «я», которая совершает мгновенные перелеты и перемещения по всему миру одной лишь силой разума.
Пожалуй, герцог Эссент сумел бы по достоинству оценить и подмеченный, и сформулированный мною парадокс: судя по всему, мы лучше всего приспосабливаемся к жизни в том или ином месте, когда на нас не давит угроза обязательности пребывания именно там, где мы находимся.
7
3а несколько дней до отъезда мы с М. решили прокатиться по острову и познакомиться с его достопримечательностями. Мы арендовали пляжный багги — пародию на «мини» — и поехали в холмистую часть острова, которую местные жители называют Шотландией. Сюда в семнадцатом веке Оливер Кромвель ссылал английских католиков. На самом севере острова мы побывали в Пещере животных-цветов: на самом деле это не одна пещера, а множество расположенных неподалеку друг от друга гротов, выточенных у основания прибрежных скал морским прибоем. По стенам этих полупещер плотным ковром растут гигантские морские анемоны — животные, по виду больше напоминающие растения. Они покрывают камни сплошным зеленым ковром, расцветающим желтыми цветами в те мгновения, когда анемоны открывают рты, обрамленные венчиком из щупалец.
В полдень мы развернулись и поехали на юг по направлению к обители Святого Иоанна, а по дороге завернули в ресторанчик, расположенный в крыле старого колониального особняка, который построен на вершине холма, поросшего лесом. В саду, окружавшем усадьбу, росли и гвианские курупиты — по форме плодов называемые еще деревьями пушечных ядер — и африканское тюльпанное дерево, цветы которого больше напоминали по форме развешенные на ветках перевернутые трубы или рупоры. Рекламный проспект, лежавший на столике, гласил, что поместье и сад были заложены губернатором сэром Энтони Хатчисоном в 1745 году. Строительство же обошлось ему, судя по всему, в невероятно крупную по тем временам сумму, эквивалентную ста тысячам фунтам сахара. В тенистой галерее стояли десять столиков, сидя за которыми можно было любоваться прекрасными видами сада и сверкающего вдали моря. Мы забрались в самый дальний уголок — за столик, почти спрятанный от чужих взоров пышно цветущим кустом бугенвиллеи. М. заказала себе гигантских креветок в сладком перечном соусе, я же остановил свой выбор на филе макрели с луком и травами в красном вине. Мы поговорили о колониальной системе хозяйствования и обсудили вопрос недостаточной эффективности любых, даже самых сильных кремов и лосьонов, защищающих от солнечных ожогов. На десерт мы заказали себе по карамельному крему.
Когда официант принес десерты, выяснилось, что М. досталась большая, но какая-то бесформенная порция — казалось, десерт сначала уронили на пол, а затем аккуратно переложили то, что от него осталось, в тарелку. Мне же досталось куда меньшее количество сладкой массы, при этом сохранившей безупречно правильную форму. Как только официант скрылся из виду, М. вытянула руку и схватила мою тарелку, взамен придвинув в мою сторону ту, что стояла перед ней. «Оставь в покое мой десерт», — обличающим тоном заявил ей я. «Я просто решила отдать тебе ту порцию, что побольше», — ответила мне М. с вызовом в голосе. «Ты просто хочешь забрать себе то, что получше». — «Как раз наоборот, я просто хотела сделать тебе любезность. Перестань подозревать меня во всяких гадостях». — «Перестану при одном условии: отдай мне мой десерт».
В считаные секунды мы устроили самую настоящую ссору, за которую должно быть стыдно нам обоим. Обмениваясь на словах почти шутливыми упреками по поводу десертов, мы на самом деле высказывали друг другу давно мучившие нас сомнения во взаимной совместимости и подозрения в неверности.
М. мрачно пододвинула обратно мой крем, пару раз ткнула ложкой в свою порцию и больше к десерту не прикасалась. Больше мы с нею не произнесли ни слова. Рассчитавшись в ресторане, мы поехали обратно в гостиницу. Звук автомобильного мотора удачно маскировал наше дурное настроение. 3а время нашего отсутствия в номере успели сделать уборку. Постель была застелена свежим бельем, на комоде стояли свежие цветы, в ванной лежала стопка чистых пляжных полотенец. Я взял одно из них и вышел на веранду, резко закрыв за собой сдвижную стеклянную дверь. Кокосовые пальмы отбрасывали приятную тень, узор их листьев, отсекавших солнечные лучи, при каждом дуновении ветерка рассыпался и выстраивался заново. К сожалению, никакого удовольствия от всей этой красоты я в тот момент не испытывал. Ничто прекрасное, равно как и приземленно-материальное, не радовало меня с того самого момента, когда мы с М. переругались из-за карамельных десертов. Меня совершенно не трогали ни мягкие белоснежные полотенца, ни цветы, ни прекрасные пейзажи. Настроение категорически отказывалось улучшаться и демонстративно не хотело воспринимать какие бы то ни было исходящие извне допинги и подпорки. Более того, я чувствовал себя едва ли не оскорбленным прекрасной погодой и перспективой барбекю на берегу моря, намеченного на вечер.
Случившаяся с нами в тот день неприятность — ссора, в ходе которой вкус слез смешался с ароматом лосьона для загара и сухостью кондиционированного воздуха, — стала для нас напоминанием об одном из суровых, я бы даже сказал, безжалостных законов логики, согласно которому настроение человека есть категория вторичная и подчиненная. К несчастью для самих себя, мы часто забываем этот закон, когда смотрим на изображение какого-нибудь красивого пейзажа и представляем себе, что в таком замечательном месте непременно будем счастливы, стоит нам там оказаться. На самом же деле способность человека извлекать счастье из эстетически совершенных объектов или же материальных ценностей находится в критической зависимости от степени удовлетворенности куда как более важных эмоциональных и психологических потребностей, среди которых в первую очередь следует выделить такие параметры, как спобность в понимании, в любви, в самовыражении и уважении. Никакие прекрасные тропические сады, никакие роскошные отели на самых великолепных пляжах не доставят нам радости, если мы вдруг обнаружим, что в наши отношения с любимым человеком закрались недоверие, непонимание и взаимное отторжение.
Если нас и удивляет то, насколько наше плохое настроение способно свести на нет благотворный эффект воздействия целого курорта, то это происходит лишь потому, что мы недооцениваем те факторы, которые на самом деле формируют наш душевный настрой. Сидя дома, мы готовы проклинать плохую погоду и привычную убогость окружающих нас зданий, но, оказавшись на тропическом острове, мы вдруг осознаем (почему-то непременно после ссоры в шикарном пальмовом бунгало под ярким голубым небом), что ни безоблачное небо, ни очарование нашего временного жилища сами по себе не способны ни заставить нас внутренне возликовать, ни погрузить нас в пучину уныния.
Существует разительный контраст между планируемыми нами масштабными проектами, между строительствами отелей и дноуглубительными работами в заливах — и базовыми психологическими постулатами, которые заставляют нас взяться за эти дела. Одна внезапная вспышка гнева с легкостью нивелирует все удовольствия и преимущества, предоставленные нам современной цивилизацией. Настырность и живучесть этих постулатов
восходят к стройной, аскетичной, пусть и несколько противоречивой мудрости отдельных античных философов, добровольно отказавшихся от материального благополучия и от предоставленной им возможности вести комфортную, изысканную жизнь и утверждавших, подавая голос то из бочки, то из глинобитной хижины, что ключевые компоненты человеческого счастья имеют не материальную и не эстетическую природу, а носят в первую очередь психологический характер. Подтверждением правоты этих постулатов, этого урока, преподнесенного нам древними мудрецами, стало наше с М. примирение, которое состоялось в рамках устроенного на берегу залива вечера барбекю, вся роскошь и великолепие которого не имели для нас тогда никакого значения.
8
После поездки в Голландию и так и не состоявшегося путешествия в Англию герцог Эссент больше не предпринимал попыток съездить куда-нибудь за границу. Он практически не покидал своего поместья, зато окружил себя множеством вещей, так или иначе связанных с путешествиями, а точнее, с их наиболее утонченной и изысканной фазой — с предвкушением поездки. Стены в его комнатах, как витрины туристических агентств, были сплошь увешаны плакатами и рекламными листовками, на которых были запечатлены далекие города, музеи, отели и океанские пароходы, отправляющиеся в Вальпараисо или же в Ла-Плату. В его спальне висели вставленные в рамочки расписания всех крупневших пароходных компании. Он купил большой аквариум и наполнил его морскими водорослями. Приобрел парус, кое-какие снасти и банку корабельной смолы. Эти простые в общем-то предметы обеспечили герцогу возможность почувствовать все приятные стороны долгого морского путешествия, не испытав при этом того, что делает их порой скучными и даже утомительными. От лица герцога Эссента Гюисманс говорит читателю, что «воображение способно обеспечить более чем адекватную замену вульгарной реальности объективного личного опыта». С его точки зрения, тот самый «объективный личный опыт» обычно бывает размазан и затерт, как в синхронном восприятии, так и в памяти, нашими заботами и переживаниями по поводу будущего, а наше объективное личное восприятие эстетически важных и насыщенных элементов в новой для нас обстановке, к сожалению, во многом зависит от наших же собственных переменчивых физических и психологических потребностей.
В отличие от герцога Эссента я много путешествовал. Тем не менее и в моей практике не раз и не два возникали ситуации, когда я был готов согласиться с тем, что лучшие путешествия — это те, которые человек совершает лишь в своем воображении, сидя дома и медленно переворачивая страницу за страницей напечатанное на той же бумаге и тем же шрифтом, каким обычно печатают Библию, расписание полетов Бритиш Эйрвэйс по всему миру.
II. Там, где путешествуют
Места: Придорожное кафе. Аэропорт. Самолет. Поезд.
Гиды: Шарль Бодлер, Эдвард Хоппер
1
На обочине скоростного шоссе Лондон — Манчестер посреди плоской, безликой, раскинувшейся до самого горизонта равнины стоит одноэтажное кирпично-стеклянное здание придорожного кафе. На его подъездной площадке закреплена мачта с огромным прорезиненным флагом, демонстрирующим проезжающим водителям и пасущимся в окрестных полях овцам фотографически точное изображение яичницы, пары сосисок и горки обжаренной фасоли.
Я заехал в это кафе ближе к вечеру. Небо на западной стороне горизонта уже начинало краснеть, и с крон деревьев, которыми по периметру была обсажена территория самого кафе и прилагающейся к нему парковки, сквозь бесконечный шум автострады доносилось птичье щебетанье. 3а рулем я к тому времени провел уже больше двух часов. Я ехал один, впереди на горизонте все отчетливее вырисовывались серые тучи, мимо меня проносились огни остававшихся позади городков и деревень, отделенных от шоссе засеянными травой полями. В глазах рябило от развязок и силуэтов обгоняемых машин и автобусов. Когда я вышел из машины, у меня даже немного закружилась голова. Сам автомобиль, остывая, негромко пощелкивал и потрескивал — словно там, под капотом, на кожух двигателя кто-то высыпал пригоршню скрепок. Мне пришлось вновь привыкать к ощущению твердой земли под ногами — к естественному ветру и к приглушенным звукам надвигающейся ночи.
В ярко освещенном зале ресторана было слишком тепло, пожалуй, даже душно. По стенам были развешаны большие фотографии кофейных чашек, пирожных и гамбургеров. Официантка перезаряжала автомат для продажи газировки. Я протащил влажный поднос по металлическим полозьям вдоль стойки, положил на него шоколадный батончик и поставил стакан апельсинового сока. Рассчитавшись, я сел за столик у огромного — во всю стену — окна. Огромные листы стекла удерживались в рамах толстым слоем бежевой замазки. Я с трудом поборол в себе искушение запустить ногти в эту пластичную массу. 3а окном виднелся поросший травой откос, спускавшийся прямо к шоссе. Стекло отлично гасило все шумы, и шесть рядов машин неслись по автостраде абсолютно беззвучно. Сгущались сумерки, и на расстоянии все машины уже казались одинаковыми. По крайней мере, разобрать, какого они цвета, с моего наблюдательного пункта было уже невозможно. Для меня они разделились на два несшихся в противоположные стороны потока белых и красных бриллиантов, которые растянулись в обе стороны от горизонта до горизонта.
Помимо меня, в зале придорожного кафе сидело еще несколько человек. Какая-то женщина задумчиво раскручивала за ниточку пакетик заварки в чашке с кипятком. Мужчина и сидевшие вместе с ним две маленькие девочки ели гамбургеры. Пожилой бородатый джентльмен разгадывал кроссворд. Все молчали. В помещении царила атмосфера задумчивости и, быть может, даже печали. Приглушенно звучавшая жизнерадостная музыка и голливудская, сверкающая всеми зубами сразу улыбка женщины, собирающейся вгрызться в бутерброд с ветчиной и запечатленной в этот момент на огромной фотографии, как ни странно, только усиливали это ощущение общей печали и подавленности. В центре комнаты под потолком висела вертевшаяся в потоке воздуха из вентиляционной трубы большая картонная коробка с рекламным объявлением, которое обещало покупателю любого хот-дога бесплатную порцию луковых колечек. Несчастная, перекошенная, перевернутая вверх ногами, эта коробка, судя по всему, была лишь жалким подобием той рекламной «завлекалки», которую так старательно разрабатывали где-нибудь в главном офисе компании. Судя по всему, в этом отношении мало что изменилось со времен Римской империи, когда камни, отмечавшие очередную милю — тысячу шагов, по мере удаления от столицы обретали все более вольные формы, мало походившие на образцы, изготовленные и установленные на главных дорогах в центральной части огромной страны.
С точки зрения архитектуры здание кафе было полным убожеством. Внутри помещения пахло многократно пережаренным маслом и сдобренным искусственным ароматом лимона средством для мытья полов. Вся еда там казалась какой-то жирной и клейкой, а столы «украшали» цепочки буро-красных озер и холмов — капли кетчупа, разбрызганные пообедавшими здесь и давным-давно уехавшими путешественниками. Тем не менее было в этом унылом заведении что-то щемяще трогательное. Забытое богом кафе при заправочной станции несло в себе крупицу поэзии, свойственной всякому месту, так или иначе связанному с путешествиями. Эта поэтичность, эта щемящая тоска являются неотъемлемыми спутниками портовых терминалов, залов ожидания аэропортов, вокзалов и мотелей. Эти места и царящее в них настроение всегда заставляют меня вспомнить творчество двух людей — одного писателя и поэта девятнадцатого века и вдохновленного его творчеством художника века двадцатого. Они оба, каждый по-своему, оживают для меня всякий раз, когда я оказываюсь в местах, с порога которых начинается очередное путешествие.
2
Шарль Бодлер родился в Париже в 1821 году. Уже с юных лет дома ему было неуютно. Отец умер, когда ему было пять лет, а спустя год мать вышла замуж за человека, который так и не сумел понравиться маленькому Бодлеру. Во избежание излишней напряженности в семье мальчика отправляли учиться во все новые школы-пансионы, из которых его с завидной регулярностью исключали за непослушание и нежелание следовать установленным правилам субординации. Став взрослым, Бодлер так и не смог найти себе место в буржуазном обществе. Он постоянно ругался с матерью и отчимом, демонстративно, даже с вызовом, носил театральные черные плащи и заклеил стены своей комнаты репродукциями литографий Делакруа — иллюстрациями к Гамлету. В своем дневнике он жаловался на то, что обречен страдать от «этой ужасной болезни: страха перед домом», а также «чувства одиночества, преследующего меня с раннего детства. Несмотря на то, что у меня есть семья и, более того, несмотря на наличие многочисленной компании школьных приятелей, я все сильнее ощущаю, что мне предстоит прожить жизнь в одиночестве».
Он мечтал уехать из Франции, уехать куда угодно, по возможности подальше, на другой континент, чтобы вокруг не оставалось того, что напоминало бы о «повседневной жизни», — это словосочетание было для поэта синонимом понятия безысходного ужаса. Ему хотелось переехать туда, где всегда тепло, где, в соответствии со строчками легендарного куплета «LʼInvitation au voyage»,
[1] все будет «ordre et beauté / Luxe, calme et volupté»,
[2] но он прекрасно понимал все трудности такого шага. Однажды он уже уезжал прочь от свинцового неба северной Франции и вернулся, отвергнутый тем местом, куда так стремился. Уехать он решил ни много ни мало в Индию. Трехмесячное плавание по морям и океанам уже подходило к концу, когда корабль попал в сильнейший шторм и был вынужден остановиться в порту Маврикия для ремонта. Казалось бы, этот прекрасный, поросший пальмами остров с мягким климатом и был тем раем, куда так стремился юный Бодлер. Тем не менее чувство постоянной тоски, печали и почти летаргического уныния не покидало поэта и там, и он вполне резонно предположил, что дальше — в Индии — будет только хуже. Капитан корабля всячески пытался уговорить Бодлера переменить принятое решение, но тот оставался непреклонен и настоял на том, чтобы с ближайшим же судном отправиться обратно во Францию.
В результате этой долгой поездки у Бодлера сформировалось двоякое, внутренне противоречивое отношение к путешествиям. В своем «Вояже» он весьма язвительно пародирует рассказы путешественников, вернувшихся из дальних стран.
Что увидали вы?
Нездешние созвездья,
Тревоги на морях и красные пески.
Но, как в родной земле, неясное возмездье
Преследовало нас дыханием тоски.
[3]
Тем не менее страсть к путешествиям все же сохранилась в его душе, и освободиться от нее Бодлеру так и не удалось. Едва вернувшись с Маврикия, он стал мечтать о том, чтобы съездить куда-нибудь еще. В дневнике он отмечает: «жизнь — это больница, в которой мы все — пациенты, причем каждого обуревает навязчивая идея поменяться койкой с соседом. Одному хочется помучиться от жары на кровати, установленной вплотную к батарее, другой уверен, что сразу же пойдет на поправку, как только займет место под окном». При этом он не стеснялся относить к этим одержимым странными маниями пациентам и самого себя: «Похоже, что я всегда буду мечтать оказаться там, где меня нет, и эта игра в путешествия будет вечно забавлять меня в отношениях с моей собственной душой». Иногда Бодлеру вдруг начинало страшно хотеться съездить в Лиссабон. «Там тепло, — думал он, — и там я смогу, как ящерица, набраться сил, хорошенько прогревшись под ярким теплым солнцем». Лиссабон представлялся ему городом воды, мрамора и солнечного света, располагающим к умиротворенным размышлениям и покою. Но стоило ему более или менее четко сформулировать в воображении эту португальскую фантазию, как мозг подкидывал новую мысль: «А как насчет Голландии? Не лучше ли я буду чувствовать себя там?» Затем начиналась настоящая карусель: к чему ехать в Голландию, если можно добраться до острова Ява, или, например, съездить на побережье Балтийского моря, или даже на Северный полюс. Там, например, можно было бы погрузиться в беспросветную мглу и созерцать кометы, пересекающие в разных направлениях арктический небосвод. На самом деле конечный пункт любой поездки не имел для Бодлера принципиального значения — его истинным желанием было не приехать куда-то, а уехать оттуда, где он находился. «Куда угодно! Куда угодно! — писал он. — Пусть даже за границы этого мира».
Бодлер относился к неутомимой жажде путешествий с глубоким уважением, считая это душевное качество присущим тем мятущимся душам, которых он именовал поэтами, — тем людям, которым были тесны привычные домашние горизонты и недоставало простора даже в путешествиях по всему миру. Настроение этих беспокойных людей менялось поминутно. Надежда сменялась отчаянием, почти детский идеализм — суровым цинизмом. Поэты, с его точки зрения, были обречены, как пилигримы, жить в рухнувшем мире и при этом упорно отказываться строить свое иное, не успевшее скомпрометировать себя, царство.
На фоне этих идей Бодлера особо следует отметить одну занятную деталь его биографии: всю жизнь его манили к себе порты, доки, железнодорожные вокзалы, поезда, корабли и гостиничные номера. В этих «перевалочных пунктах» он чувствовал себя как дома, в отличие от собственного жилища, где ему порой бывало очень неуютно. Когда парижская атмосфера начинала особенно сильно давить на него, когда окружающий мир казался «монотонным и маленьким», он уезжал «куда глаза глядят, просто чтобы куда-то уехать», стремясь как можно скорее оказаться в каком-нибудь порту или на железнодорожной станции, где он мог мысленно воскликнуть:
О, дайте мне вагон иль палубу фрегата!
Здесь лужа темная… Я в даль хочу, туда!
[4]
В одном из своих литературных эссе Томас Элиот высказал предположение, что Бодлер стал первым художником девятнадцатого века, которому удалось передать в своих произведениях красоту современных способов покорения пространства, транспортных средств и транзитных пунктов. «Бодлер… создал новый тип романтической ностальгии. Это „poésie des départs, poésie des salles dʼattente“».
[5] Этот список можно продолжить «poésie des stations-service» и «poésie des aéroports».
3
Дома, когда мне становилось грустно, я частенько садился на электричку или автобус, идущие в аэропорт, и уезжал в Хитроу. Там, со смотровой площадки галереи второго терминала или с верхнего этажа отеля «Ренессанс», расположенного прямо рядом с северной посадочной полосой, я подолгу наблюдал за бесконечной чередой взлетающих и садящихся самолетов. Это зрелище неизменно успокаивало меня и поднимало мне настроение.
В тяжелый для Бодлера 1859 год — сразу после процесса над «Цветами зла» и последовавшего за ним разрыва с Жанной Дюваль — поэт решает погостить у матери и приезжает к ней в Онфлер. Большую часть своего двухмесячного пребывания в материнском доме Бодлер посвящает созерцанию панорамы порта и швартующихся в нем кораблей. Он брал складной стул, занимал удобное место на набережной и часами смотрел за входившими в порт и выходившими из него судами. «Эти большие и красивые корабли, едва заметно покачивающиеся на тихой, практически неподвижной воде, эти суровые морские скитальцы, словно дремлющие здесь у берега на привязи, будто шепчут мне на только нам с ними понятном языке: когда же, наконец, мы поднимем паруса и отправимся в путь за лучшей долей».
С автомобильной стоянки, расположенной по соседству с 09L/27R — под таким индексом знают пилоты то сооружение, которое мы привычно называем северной взлетно-посадочной полосой, — видно, как вдали, на горизонте появляется маленькая, сверкающая, белоснежная искорка. Эта падающая звезда, неспешно приближающаяся к земле, на самом деле не что иное, как «Боинг-747». Самолет находился в воздухе двенадцать часов. На рассвете он вылетел из Сингапура, пролетел над Бенгальским заливом, Дели, афганскими пустынями и Каспийским морем. Его курс пролегал над Румынией, Чехией и Южной Германией, и лишь над бурными коричнево-серыми водами у побережья Голландии огромный самолет начал снижаться. Происходило это постепенно и почти незаметно: мало кто из пассажиров обратил внимание на перемену тона шума двигателей. 747-й пролетел вверх по течению Темзы, миновал Лондон, повернул на север в районе Хаммерсмита (примерно в это время были выпущены закрылки), заложил вираж над Оксбриджем и вновь лег на прямой курс над Слау. Постепенно и с земли становится видно, что это не точка в небе и даже не просто самолет: к огромному двухпалубному фюзеляжу пристыкованы невероятно длинные крылья с подвешенными к ним, как сережки, четырьмя двигателями. Во время дождя облако водяной пыли образует за величественно снижающимся воздушным гигантом длинный шлейф. Под крылом — пригороды Слау. Три часа дня. На кухнях и коттеджах вскипели чайники, в гостиной работает телевизор. Звук выключен, и лишь по стенам мечутся зеленые и красноватые тени. Все, как всегда, все, как каждый день. А тем временем над Слау проносится самолет, который всего несколько часов назад перелетел Каспийское море. Каспийское море — Слау: самолет становится символом свободы перемещения в пространстве и покорения мира. Он несет в себе след всех тех стран и территорий, над которыми пролетел. Свойственная ему от рождения мобильность предлагает нам воображаемый противовес всем ощущениям, связанным с застоем, смирением и неподвижностью. Еще сегодня утром этот самолет пролетел над Малайским полуостровом — даже само это название, кажется, источает ароматы гуавы и сандала. А сейчас буквально в нескольких метрах над землей, от которой он был так долго оторван, самолет кажется неподвижным. Его нос задран вверх, и он словно задумывается на мгновение перед тем, как все его шестнадцать колес задних стоек шасси обрушатся на бетон полосы, выбив при этом из своего нутра столб дыма, дающий хоть какое-то представление о скорости и весе спустившейся с небес на землю рукотворной птицы.
С параллельной полосы взлетает направляющийся в Нью-Йорк А340. Где-то над водохранилищем Стэйнс он уберет шасси и сложит закрылки. Эти механизмы не понадобятся ему до тех пор, пока он не начнет снижаться над белыми дощатыми домиками в Лонг-Бич, находящимися в трех тысячах миль и восьми часах полета над морем и облаками. Сквозь марево, которое образуется от вырывающихся из прогреваемого двигателя струй раскаленного воздуха, видны колышущиеся силуэты других самолетов, дожидающихся очереди на взлет. Самолеты прокатываются по рулежным дорожкам, их буксируют от терминала на стояночную площадку — движение здесь, на территории аэропорта, очень плотное и лишь со стороны может показаться беспорядочным. Кили самолетов, украшенные самыми разными эмблемами авиакомпаний и государственными флагами, перемещаются в разных направлениях на фоне горизонта, как паруса во время регаты.
Вдоль стеклянно-стальной стены третьего терминала выстроились четыре гиганта. Судя по знакам различий, они прибыли сюда с разных концов света: из Канады, Бразилии, Пакистана и Кореи. Несколько часов они простоят в одной шеренге, почти касаясь друг друга кончиками крыльев, а затем каждый отправится в очередное путешествие по стратосферным ветрам. Вокруг каждого подрулившего к терминалу и вставшего под загрузку самолета начинает разыгрываться настоящая хореографическая композиция. Под брюхо лайнера подкатываются грузовики, к крыльям тянутся черные змеи топливных шлангов, гармошка крытого трапа присасывается резиновыми губами к фюзеляжу в районе двери. Открываются багажные люки, и из них извлекаются на свет потертые алюминиевые контейнеры, в которых сюда, в Лондон, вполне возможно, привезли свежие тропические фрукты, которые еще буквально день-два назад свисали с ветвей деревьев, или же овощи, росшие в далеких уединенных, спрятавшихся между гор долинах. Два человека в рабочих комбинезонах подкатывают к одному из моторов стремянку, снимают защитный кожух и приступают к тщательному обследованию этого потрясающего своей сложностью и упорядоченностью мира, состоящего из бесчисленных проводов и металлических трубок. Из одной из дверей фюзеляжа на землю опускают тюк с подушками и пледами. Пассажиры сходят по трапу, даже не подозревая, что за ними наблюдает человек, для которого этот самый обыкновенный английский день уже заиграл совершенно особыми, какими-то волшебными красками.

Пожалуй, в наиболее концентрированной форме притягательность аэропорта выражается в экранах мониторов, установленных над рядами стоек регистрации. На этих экранах высвечиваются номера и пункты назначения готовящихся к отлету рейсов и исходные точки маршрутов прибывающих в аэропорт самолетов. Мониторы и отображаемая на них информация лишены какого бы то ни было эстетического самосознания: их дизайн элементарен, цвета примитивны, а шрифты, используемые для набора текста, прямо заявляют о том, что используют их только для передачи информации, но ни в коей мере не для украшения чего бы то ни было. Именно эта простота и позволяет разгуляться воображению и эмоциям. Сердце начинает биться учащенно: Токио, Амстердам, Стамбул, Варшава, Сиэтл, Рио-де-Жанейро… Экраны несут в себе не меньшую поэтическую нагрузку, чем последняя строчка джойсовского «Улисса»: это не только указание на те географические точки, в которых автор создавал свой великий роман, но и в не меньшей степени символ абсолютно космополитичного духа, выраженного простой, но весьма эффектной композицией: «Триест — Цюрих — Париж». Этот постоянный призыв, доносящийся до нас с висящих под потолком мониторов, подкрепленный настойчивым мельканием той или иной строки или курсора, позволяет нам осознать, насколько, оказывается, легко можно изменить, казалось бы, уже окончательно устоявшуюся жизнь и что для этого достаточно всего-навсего шагнуть туда, в уходящий к трапу коридор, пройти по нему и оказаться в самолете, который буквально через несколько часов доставит тебя туда, где ты никогда не был, где тебя никто не знает. Как приятно осознавать в самый обычный день, в три часа пополудни, когда на тебя накатываются волны тоски и отчаянья, что для любого из нас всегда найдется самолет, который унесет тебя куда-то далеко — как писал Бодлер: «Куда угодно! Куда угодно!» — в Триест, Цюрих, Париж.

4
Бодлера привлекали не только те места, из которых люди отправляются в путешествие и куда приезжают. В не меньшей степени его восхищали машины, предназначенные для перемещения человека и предметов в пространстве. Особенно поражали его воображение большие корабли, способные пересечь океан. Он писал о «глубоком и полном таинственности очаровании долго разглядываемого корабля». Он любил приходить в парижский речной порт Сан-Николя, чтобы посмотреть на плоскодонные каботажные баржи. С еще большим удовольствием он ездил в Руан и в Нормандию, чтобы посмотреть на стоявшие у причалов и на рейдах большие морские корабли. Он искренне восхищался достижениями технической мысли человечества. Благодаря открытиям и техническим разработкам люди смогли заставить такие большие, тяжелые и самые разнообразные по форме предметы уверенно, элегантно и предсказуемо пересекать моря и океаны. Большое судно напоминало Бодлеру «огромное, могучее, тяжелое, но при этом проворное и стремительное создание, некое храброе и великодушное животное, терпеливо сносящее все неприятности, обрушивающиеся на него в силу стремления человека реализовать все свои амбиции и тщеславные устремления».
Схожие мысли и переживания возникают при разглядывании с близкого расстояния самых крупных представителей самолетного рода. Эти гиганты тоже напоминают «крупное и могучее» создание, которое способно подчинить своей воле воздух, ни много ни мало заставив его стать себе не только источником жизни, но и твердой опорой. Когда смотришь на огромный самолет, припаркованный у терминала, рядом с которым кажутся карликами багажные тележки и обслуживающие великана механики, ощущаешь изумление и благоговение, граничащие с неспособностью воспринять любое научно обоснованное объяснение такого чуда, как способность этого великана просто сдвинуться по земле хотя бы на несколько метров, не говоря уже о том, чтобы долететь до Японии. По размерам лайнеры сопоставимы с домами — человеческими жилищами и местами, где люди работают. Сравнение никак не помогает нам понять, в чем кроется стремительность, сила и выносливость этих летающих домов. Те здания, что стоят на земле, покрываются трещинами и грозят обрушиться при малейшем перемещении грунта под ними. Они пропускают воздух, протекают в дождь и теряют части своей «обшивки» на сильном ветру.

Пожалуй, немного найдется в нашей жизни мгновений, в которые мы так переосмысливаем восприятие окружающего мира, как во время взлета самолета. Выглядывая в иллюминатор стоящего в начале взлетной полосы лайнера, мы видим окружающий ландшафт в привычных пропорциях: вот дорога, вот металлические цилиндры топливных хранилищ, вот трава, а чуть поодаль — гостиница с тонированными в цвет меди окнами. Мы всегда знали землю такой, какой видим ее сейчас: мы передвигаемся по ее поверхности достаточно медленно, даже при помощи машин. Здесь, на поверхности земли, моторы и икроножные мышцы несут нас вперед и, быть может, иногда вверх, например, к вершине холма. Здесь почти всегда в полумиле впереди, а то и гораздо ближе, найдется какой-нибудь дом или шеренга деревьев, которые перекроют нам дальнейший обзор. Вдруг, неожиданно мир начинает стремительно преображаться: осторожно, сдерживая немыслимую мощь двигателей, самолет плавно (под едва уловимый аккомпанемент тихонько позвякивающей в кухонном отсеке посуды) уходит вверх, вспарывая атмосферу и открывая нашему взору ничем не перекрытый вид на далекий горизонт. Расстояние, на преодоление которого там, на земле, ушло бы полдня, самолет пролетает буквально в мгновение ока — не успеешь оглянуться, а ты уже пересек Беркшир, побывал в Мейденхеде, проскочил через Брэкнелл и даже промчался над шоссе М4.

Легкий и стремительный взлет самолета можно без всякой натяжки назвать символом преображения, символом радикальных перемен. Эта демонстрация рукотворной силы может послужить отличным толчком для принятия какого-нибудь важного решения, коренным образом меняющего жизнь человека. Посмотрев на улетающий в небесную даль самолет, человек гораздо легче верит в то, что когда-нибудь и он сам сможет вот так же воспарить над всем тем, что так давит на него в повседневной жизни.
Наша новая, весьма выгодно расположенная точка обзора придает упорядоченность и логичность раскинувшемуся перед нами пейзажу: дороги изящно огибают холмы, реки прокладывают себе русло к озерам, от электростанций к городам тянутся цепочки опор, связанных проводами; улицы, которые там, на земле, представлялись порой бессмысленным и бестолковым нагромождением произвольно построенных зданий, отсюда, сверху, выглядят образцом упорядоченности и продуманности организации пространства. Глядя на землю из иллюминатора самолета, человек непроизвольно пытается расшифровать открывающийся перед ним ребус — словно читает хорошо знакомую книгу, переведенную на другой язык. Вот эта россыпь огоньков, наверное, и есть Нью-Бари. Вот та дорога — скорее всего, не что иное, как шоссе АЗЗ, а вон та развилка — место, где оно отходит от трассы М4. Вволю наигравшись в эту игру, поневоле задумываешься о том, какими маленькими и ничтожными кажемся мы сами и наши жизни отсюда, с высоты птичьего полета, с тех самых небес, где, по всем преданиям, находится обитель богов.
Из иллюминатора хорошо видны крылья и двигатели самолета. Моторы без всякого видимого усилия легко несут огромную машину в заданном направлении. Они терпеливо, час за часом прокачивают через себя ледяной забортный воздух, а все их нужды и потребности сведены к двум лаконичным надписям, нанесенным на защитные кожухи: одна из них настойчиво требует не наступать на крышки двигательных отсеков и не ходить по ним, другая, не менее категоричная, напоминает, что в качестве питания для данного типа двигателя можно использовать «только масло D50TFI-S4». Эти короткие послания адресованы бригаде людей в рабочих комбинезонах, которые ждут нашего прилета в четырех тысячах милях впереди по курсу.
В самолете обычно не принято много говорить об облаках, которые видны в иллюминаторе на протяжении практически всего полета. Никого не удивляет, что, например, где-то над океаном мы пролетаем мимо огромного пышного белоснежного острова, который мог бы стать отличной резиденцией для ангелов или даже для самого Бога, по крайней мере, на какой-нибудь из картин кисти Пьеро делла Франческа. Никому из пассажиров и в голову не придет вскочить со своего места и торжественно во весь голос объявить, что «мы сейчас пролетаем над облаком». А между прочим, такое событие не прошло бы незамеченным для таких уважаемых и достойных людей, как Леонардо да Винчи, Пуссен, Клод Моне и Констебль.
Та еда, которая показалась бы нам обыденной и даже до обидного безвкусной, подай ее кто-нибудь нам там, на земле, здесь, в окружении облаков, обретает новый вкус и смысл (точно так же, как и простой бутерброд с сыром, съеденный на пикнике, на вершине скалы с видом на бушующее море, кажется нам вкуснее и важнее любых ресторанных деликатесов). Получив подносик с самолетным завтраком и приступив к освоению его содержимого, мы словно одомашниваем это чуждое нам пространство: открывающийся за иллюминатором внеземной ландшафт становится все более знакомым, привычным и менее пугающим по мере того, как мы расправляемся со стылым рулетом и горкой картофельного салата в пластмассовой мисочке.
Наши забортные спутники при ближайшем рассмотрении оказываются весьма любопытными созданиями. На полотнах художников и при взгляде на них снизу с земли они кажутся горизонтально вытянутыми, почти двумерными овалоидами. Отсюда же они скорее напоминают гигантские обелиски, воздвигнутые из бесчисленных комков подвижной, нестабильной пены для бритья. Из иллюминатора самолета родство облаков с паром становится более наглядным. Эти изменчивые образования словно порождены только что прогремевшим взрывом и явно еще не приняли свою окончательную форму. При этом они выглядят вполне плотными, и при взгляде со стороны по-прежнему с трудом верится, что забраться на эти белоснежные горы и посидеть на их вершинах, обозревая окрестности, невозможно.
Бодлер лучше многих знал, что такое настоящая любовь к облакам.
СТРАННИК
— Кого ты больше всех любишь, загадочный человек?
Скажи: отца, мать, сестру, брата?
— У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.
— Друзей?
— Вы употребляете слово, смысл которого мне
до сих пор непонятен.
— Родину?
— Я не знаю, под какой широтой она находится.
— Красоту?
— Я полюбил бы ее охотно — в божественном
и бессмертном образе.
— Золото?
— Я его ненавижу, как вы ненавидите Бога.
— Гм, что же ты любишь, необычайный странник?
— Я люблю облака… летучие облака… вон они…
Облака степенно и безмолвно проносятся мимо нас. Там, внизу, остались наши враги и коллеги, те места, где нам бывает грустно и страшно, — все это выглядит отсюда, из-за облаков, россыпью крохотных черточек и царапин на поверхности земли. Теоретически мы, конечно, прекрасно представляем себе, как действует фокус, основанный на законе перспективы, но со всей наглядностью воспринимаем непреложность этого закона именно здесь, когда взираем на мир из иллюминатора самолета, прижавшись лбом к холодному стеклу. Само же воздушное судно становится нашим учителем философии и при этом — верным исполнителем воли Бодлера, выраженной в написанных им строчках:
О, дайте мне вагон иль палубу фрегата!
Здесь лужа темная… Я в даль хочу, туда!
5
За исключением полосы асфальта, по которой машины подъезжали с шоссе к придорожному кафе и уезжали обратно, ничто не связывало это место с другими объектами окружающего пространства. От территории, занятой кафе и стоянкой, не отходило ни единой дорожки или тропинки. Эта территория не являлась частью города, но при этом оставалась инородным телом и в окружающем ее загородном пространстве. Ощущение было такое, словно это придорожное кафе принадлежит какому-то иному пространству — миру, принадлежащему путешественникам, — как маяк, застывший на скале на берегу океана. Наверное, географическая изолированность и порождала ту атмосферу одиночества, которая царила в зале ресторана. Яркий свет безжалостно выдавал бледность путешественников и все изъяны на их лицах. Яркие, словно с детской площадки, стулья и столы сверкали в этом свете, как натянутая искусственная улыбка. В кафе все молчали, словно стесняясь признаться окружающим, да и самим себе, в любопытстве или каких-то других нормальных человеческих чувствах. Пустыми, словно невидящими, глазами мы смотрели друг сквозь друга, разглядывая прилавок или же созерцая сгустившуюся за окном темноту. Ощущение было такое, что ты сидишь не среди живых людей, а между неподвижных камней.
Я устроился за угловым столиком и не торопясь жевал шоколадные палочки, запивая их апельсиновым соком. Мне было одиноко, но одиночество это выглядело каким-то мягким, ненавязчивым и, я бы даже сказал, приятным. Оно не противопоставляло меня ни смеху, ни веселью окружающих — хотя бы потому, что ни смеха, ни веселья рядом со мной не наблюдалось. Я не чувствовал себя чужим в этой атмосфере — в помещении кафе, где каждый был чужим, где никто не был знаком друг с другом, где даже архитектурные решения помещения и его освещения, казалось, были созданы для того, чтобы символизировать проблемы в области межличностной коммуникации и безнадежную тоску по нормальной человеческой любви к ближнему.
Это коллективное одиночество вызвало в моей памяти образы некоторых картин Эдварда Хоппера. Его холсты, несмотря на уныние и тоску, которые выразил на них художник, вовсе не кажутся унылыми и серыми сами по себе. Они скорее позволяют зрителю увидеть некое эхо его собственных печалей и грусти. Принцип лечения подобного подобным в данном случае срабатывает как нельзя лучше. Что, как не грустные книги, лучше всего утешает нас, когда нам грустно? Куда, спрашивается, нужно ехать, когда рядом никого нет и когда некого любить? Естественно, в одинокое полупустое кафе на забытой богом заправочной станции.
В 1906 году в возрасте двадцати четырех лет Хоппер приезжает в Париж и открывает для себя Бодлера, стихи которого будут затем сопровождать его всю жизнь. Взаимное притяжение художников кисти и слова понять и объяснить нетрудно: оба в своем творчестве исследовали одиночество, современную им городскую жизнь, саму современность в широком смысле этого слова; оба находили утешение в ночном мраке, обоих манили к себе дальние страны, оба преклонялись перед теми техническими возможностями, которые предоставляло путешественнику новое время. В 1925 году Хоппер купил себе новую машину — подержанный «Додж» — и перегнал его из Нью-Йорка в Нью-Мексико. С тех пор он проводил в поездках за рулем по нескольку месяцев каждый год. При этом он практически ежедневно делал наброски и зарисовки. Он рисовал в мотелях, набрасывал что-то, сидя на заднем сиденье машины, останавливался для того, чтобы поработать на пленэре, и делал зарисовки в придорожных столовых. С 1941 по 1955 год он пересек Америку пять раз — останавливался в мотелях «Бест Вестерн», «Дель Хейвен Кэбинс», «Аламо Плаза Куртс» и «Блю Топ Лоджес». Его манили к себе мерцающие неоновые вывески, гласившие: «Есть свободные места, телевизор, ванная». Он не мог противостоять магии подъездных дорожек к мотелям, тонких гостиничных матрасов, хрустящего накрахмаленного белья, больших, во всю входную стену, окон, выходивших на автостоянку или же на крохотный, идеально обработанный — словно наманикюренный — клочок газона. Его покоряла тайна путешественников, подъезжавших к мотелю затемно и вновь отправлявшихся в путь уже на рассвете. Он любил листать буклеты с перечислением местных достопримечательностей, любил разглядывать «припаркованные» в дальних углах пустынных коридоров тележки горничных и уборщиц. Чтобы поесть, Хоппер заезжал в придорожные кафе и столовые — в «Хот Шоппе Майти Мо Драйв-Инс», в «Стейк энд Шейкс» и в «Дог энд Саддс». Бензин в бак машины он заливал на заправочных станциях, обозначенных хрестоматийно известными логотипами таких компаний, как в «Мобил», «Стандарт Ойл», «Галф» и «Блю Саноко».
И вот в этих самых обыкновенных, всем привычных и многократно осмеянных за свою серость и заурядность местах Хоппер находил поэзию: poésie des motels, poésie des petits restaurants au bord dʼune route. Его картины (и соответствующие им названия) можно классифицировать в соответствии с явно проявляемым им интересом к пяти типам сюжетов пейзажей и интерьеров, так или иначе связанных с путешествиями:
1. Отели
Номер в отеле, 1931.
Фойе гостиницы, 1943.
Номера для туристов, 1945.
Отель у железной дороги, 1952.
Окна гостиницы, 1956.
Мотель «Вестерн», 1957.
2. Дороги и заправочные станции
Шоссе в штате Мэн, 1914.
Бензин, 1940.
Шоссе № 6, Истхэм, 1941.
Одиночество, 1944.
Четырехполосное шоссе, 1956.
3. Кафе и столовые
Автомат, 1927.
Солнечный свет в кафетерии, 1958.
4. Виды из окна поезда
Домр железной дороги, 1925.
Нью-Йорк, Нью-Хейвен и Хартфорд, 1931.
Насыпь, 1932.
В Бостон, 1936.
На подъезде к городу, 1946.
Дорога и деревья, 1962.
5. Интерьеры вагонов и другого подвижного состава
Ночь в «Эль Трейне», 1920.
Локомотив, 1925.
Купе 3, вагон 293, 1938.
Рассвет в Пенсильвании, 1942.
Сидячий вагон, 1965.
Доминирующей темой полотен Хоппера является одиночество. Людям на его картинах всегда неуютно. Они не чувствуют себя в своей тарелке, они сидят или стоят в чужом для них пространстве в полном одиночестве — кто-то рассматривает записку, сидя на краешке гостиничной кровати, кто-то сидит в баре, кто-то смотрит в вагонное окно, кто-то читает книгу, сидя в кресле в гостиничном холле. Все о чем-то думают, и все выглядят очень ранимыми и уязвимыми. Ощущение такое, что все эти люди только что бросили кого-то или же кто-то бросил их самих. Они чего-то ждут, чего-то ищут — не то работу, не то секс, не то просто дружескую компанию. Ради этого они и пустились в дальний путь по незнакомым, чужим им местам. Чаще всего художник изображает своих героев поздним вечером или ночью. За окнами гостиниц и вагонов обычно темно, а угадывающийся за стеклами городской или же сельский пейзаж кажется мрачным и враждебным.
На картине «Кафе-автомат» (1927) изображена женщина, сидящая за столиком в кафе с чашкой кофе в руках. Женщина одна, за окном темно и, судя по одежде и головному убору героини, на улице холодно. Просторное помещение кафе ярко освещено, и, похоже, кроме этой женщины, в нем нет никого. Интерьер кафе оформлен в сугубо функциональном стиле: крепкий стол с каменной столешницей, основательные, тяжелые деревянные стулья, белые стены. Женщина погружена в себя и, кажется, немного напугана. Ей, очевидно, непривычно бывать одной в общественном месте. Похоже, в ее жизни что-то пошло не так. Сама того не желая, она провоцирует зрителя на то, чтобы придумать ее историю — историю потерь и предательства. Она старается успокоить дрожащие руки и не расплескать кофе в чашке. Дело происходит часов, например, в одиннадцать вечера в феврале в одном из больших городов на севере Америки
 Эдвард Хоппер. Кафе-автомат, 1927 г.
Эдвард Хоппер. Кафе-автомат, 1927 г.
«Кафе-автомат» — это картина об унынии и грусти. Тем не менее это вовсе не унылая картина — в нее вложены энергия и мощь‚ сравнимые по силе воздействия с каким-нибудь крупным, хрестоматийно известным печальным музыкальным, произведением. Несмотря на строгость обстановки и пустоту в помещении, кафе вовсе не выглядит грязной придорожной забегаловкой. Вполне возможно, что в большом зале есть и другие посетители — каждый из них так же одинок, как и эта женщина. Они задумчиво пьют кофе и, точь-в-точь как она, оторваны от окружающего мира и от окружающих их людей. Именно в таких местах возникает хорошо известный положительный, даже целительный эффект одиночества на людях, одиночества среди подобных тебе столь же одиноких людей. В придорожных кафе и столовых, в ночных кафетериях, в гостиничных холлах и станционных буфетах мы порой остро ощущаем это чувство одиночества в людном месте, которое помогает нам в какой-то момент вновь обрести ощущение единения с окружающим миром. Незнакомая, зачастую неуютная и казенная обстановка, яркий свет, чужая, не всегда удобная мебель порой помогают почувствовать облегчение, когда мы избавляемся от ложного чувства домашнего уюта и комфорта. Может быть, именно здесь легче преодолеть уныние, от которого никак не удается избавиться в собственной гостиной с привычными обоями, знакомыми фотографиями в рамочках и прочими элементами интерьера, казалось бы, призванными создавать ощущение покоя и надежности и не справившимися с возложенными на них задачами.
Хоппер приглашает нас посочувствовать одинокой женщине в ночном кафе, предлагает посочувствовать ей в ее одиночестве. Она предстает перед нами человеком достойным, умеющим держать себя в руках, разве что, быть может, чуть излишне доверчивым и немного наивным. Ощущение такое, словно она только что на полной скорости налетела лбом на острый угол мироздания. Хоппер предлагает зрителям встать на сторону этой женщины, встать на сторону
тех, кто в пути, тех, кто находится в чужом месте, а не тех, кто преспокойно сидит дома. Персонажи хопперовских картин вовсе не противники дома per se, просто так получилось, что дом, похоже, каким-то образом сумел обмануть и предать их, причем делал это неоднократно. Потрясенные этим предательством, они вынуждены бежать из дома в ночь, в темноту, в чужой город, вынуждены мчаться куда-то по незнакомой дороге. Круглосуточно работающая столовая, зал ожидания на вокзале и мотель становятся временными убежищами для тех, кто по каким-то весьма веским и благородным причинам не смог обрести дом в привычном, понятном остальным людям мире. Эти места становятся святилищами для тех людей, которых Бодлер удостоил бы почетного звания «поэта».
6
Машина несется по извилистой ночной дороге. Свет фар вырывает из темноты то саму ленту шоссе, то окрестные поля, то деревья, которыми обсажены обочины. При этом на мгновения стволы высвечиваются так четко, что становятся видны все изгибы и извилины узоров коры на каждом из деревьев. Возникает ощущение, что ты попал в больничную палату, если не в операционную — так ярко и контрастно высвечены придорожные кусты и стволы деревьев. Впрочем, в следующую секунду «операционная» погружается во мрак и пропадает в ночи где-то за задним бампером машины, а сам автомобиль продолжает нестись вперед, вырывая фарами из темноты все новые и новые участки дороги и окружающего ландшафта.
Машин на шоссе мало, лишь изредка на встречной полосе сверкают фары машин, так же стремительно несущихся в противоположном направлении прочь из ночной тьмы, от приборной панели по салону расходится едва заметное красновато-фиолетовое свечение. Неожиданно впереди в разрыве между деревьями появляется залитое ярким светом пятно: это заправочная станция, последняя по времени — перед наступлением ночи и в пространстве — перед тем, как дорога нырнет из полей и перелесков в густую лесную чащу. «Заправка» (1940). Управляющий станцией вышел из вагончика дежурного оператора, чтобы проверить показания счетчика одной из колонок. Помещение заправочной станции освещено ярко, как днем. Это видно по вырывающемуся через открытую дверь лучу света. Там, внутри, скорее всего, играет радио, вдоль стен выстроились канистры с маслом и стеллажи со сладостями, журналами, дорожными картами и тряпками для протирки окон.
 Эдвард Хоппер. Бензоколонка, 1940 г.
Эдвард Хоппер. Бензоколонка, 1940 г.
«3аправка», как и «Кафе-автомат», — картина, написанная тринадцатью годами раньше, — изображает оторванность от остального мира и одиночество. При этом по воле художника одиночество и изолированность вновь оказываются не мрачными и давящими, а скорее пронзительно заманчивыми, привлекательными, пусть даже и мучительно горькими. Откуда-то из глубины, с правой стороны холста, на зрителя, как туман, наползает пелена ночной темноты. С другой стороны к шоссе подступила непреодолимая стена ночного, непроницаемо-темного леса. Заправочная станция — словно последний сторожевой форт на границе чужого и неведомого царства ночной мглы. Именно здесь, в таком уединенном, забытом богом, месте людям гораздо легче почувствовать себя близкими друг другу, чем где-нибудь в шумном перенаселенном городе при свете дня. Кофейные автоматы и журналы — эти символы маленьких человеческих слабостей, желаний и проявлений тщеславия — противопоставляются огромному нечеловеческому внешнему миру — милям и милям ночного леса, тишину которого время от времени нарушают лишь шелест листвы да похрустывание веток под лапами пробирающихся сквозь темноту медведей и лис. Как-то по-иному — более трогательно и душевно — воспринимается и отпечатанный кричащими ярко-розовыми буквами на обложке одного из журналов призыв следовать моде и непременно красить ногти этим летом в актуальный сиреневый цвет. С такой же теплотой воспринимается и рекламная вывеска над кофейным автоматом, столь же настойчиво приглашающая вкусить аромат свежесмолотых кофейных зерен. Здесь, на границе света и тьмы, на последней остановке перед марш-броском через бескрайний ночной лес как-то острее чувствуется то, что объединяет нас с другими людьми, чем то, что нас с ними разделяет.
7
Привлекали Хоппера и поезда. Его завораживала атмосфера полупустых купе и вагонов, тишина, царящая внутри их, в то время как снаружи колеса ритмично отсчитывают все новые и новые стыки рельсов. Пейзаж, разворачивающийся за окном под этот монотонный аккомпанемент, погружает пассажира в расслабленно-задумчивое состояние, в котором мы оказываемся склонны размышлять над тем, о чем не стали бы думать в другой, более привычной и спокойной, обстановке. Женщина, изображенная на картине «Купе С, вагон 293» (1938), находится именно в таком состоянии: она вроде бы и читает книгу, но в то же время ее взгляд, похоже, время от времени отрывается от страницы, обегает внутреннее пространство вагона и задерживается на пейзаже за окном.
Путешествия по праву считаются повивальными бабками, помогающими появиться на свет самым разным мыслям. Где еще так хорошо думается, как в летящем самолете, на корабле или в мчащемся по рельсам поезде? Существует некая непреложная и даже по-своему изящная связь между тем, что оказывается перед нашими глазами, и теми мыслями, которые рождаются при этом в нашем сознании: величественные панорамные виды способствуют погружению в размышления на серьезные, принципиально важные темы; новые пейзажи порождают мысли о том, о чем человек раньше даже не задумывался. Неспешно разворачивающийся внутренний диалог с самим собой словно ускоряется под воздействием проносящегося за окном или иллюминатором пейзажа. Похоже, разум отказывается включать мыслительный аппарат на полную мощность, когда, кроме как думать, больше ему делать особо нечего. Напряженно думать по команде оказывается столь же тяжело, как, например, шутить по заказу или долго изображать иностранный акцент, говоря на родном языке. Процесс мышления идет куда лучше, когда сознанию параллельно подкидываются и другие задачи — когда мы, например, одновременно слушаем музыку или смотрим в окно на проносящиеся мимо деревья. Музыка и движущийся пейзаж за окном — эти внешние раздражители вновь и вновь заставляют сознание вернуться к тем сложным и нерешенным вопросам, которые в другой, вроде бы более комфортной, обстановке разум скорее будет склонен забыть или пропустить. Рассеянно созерцая пейзаж за окном или слушая вполуха какую-то мелодию, мы менее склонны бояться собственных воспоминаний, оценочных суждений, стремлений, рождающихся в нашем сознании оригинальных мыслей. Убаюканные внешними раздражителями, мы оказываемся готовы рассмотреть собственные суждения вполне объективно — как чужие, неизвестно откуда взявшиеся в наших головах мысли.
 Эдвард Хоппер. Купе С, вагон 293, 1938 г.
Эдвард Хоппер. Купе С, вагон 293, 1938 г.
Из всех видов транспорта поезд, пожалуй, больше всего способствует погружению в размышления: пейзаж, разворачивающийся перед пассажиром, сидящим в вагоне, не столь монотонен и однообразен, как тот, что открывается перед человеком, путешествующим на самолете или на корабле. Вид за окном меняется достаточно быстро, чтобы не успеть надоесть, и в то же время не с такой поспешностью, чтобы мы не успели идентифицировать появляющиеся перед нами объекты. Вид из окна поезда предлагает нам на миг ворваться в чью-то чужую жизнь, запечатлеть в памяти эту панораму и унестись прочь, с тем чтобы через несколько секунд оказаться свидетелем той или иной сцены, разыгрывающейся в жизни уже совсем других людей. Так, например, мы можем успеть заглянуть в окно стоящего рядом с насыпью дома и увидеть, как хозяйка достает чашку с полки кухонного шкафа. Через секунду мы увидим дворик, где на скамеечке дремлет мужчина, а затем перенесемся в парк, где ребенок с восторгом ловит мяч, брошенный ему кем-то, так и оставшимся для нас невидимым.
Когда я еду в поезде и созерцаю открывающийся передо мной равнинный пейзаж, мне как-то легко и спокойно думается о таких вещах, как смерть отца, как статья о творчестве Стендаля, которую я должен написать, и как недоверие и подозрительность, вдруг возникшие в отношениях между двумя друзьями. Всякий раз, когда сознание пытается увильнуть от возложенной на него действительно нелегкой работы, я даю ему эту передышку, на время отвлекаясь от напряженных размышлений и сосредоточиваясь на том или ином появляющемся за окном объекте. Тех нескольких секунд, в течение которых этот человек или предмет находится в поле моего зрения, обычно как раз хватает на то, чтобы где-то в глубинах подсознания сформировалось новое звено прервавшейся было цепочки рассуждений. По прошествии нескольких часов таких размышлений и грез наяву, являющихся нам в поезде, мы с легкостью возвращаемся к самим себе, то есть начинаем думать о том, что действительно для нас важно, и переживать из-за того, что действительно имеет значение. Зачастую стать самим собой оказывается легче где-нибудь в пути или в чужом городе, но вовсе не дома. Здесь, в привычной обстановке, все настраивает нас против работы над собой: мебель настойчиво шепчет, что человек не может измениться просто по той простой причине, что это не дано диванам и шкафам; домашний уют и знакомый интерьер привязывают нас к тому человеку, каким мы предстаем перед окружающими и который, вполне возможно, не имеет ничего общего с нашим настоящим внутренним «я».
Гостиничный номер — вот еще одно отличное место для того, чтобы уйти от привычного хода мысли и состояния сознания. Лежа на кровати в гостинице в номере, где стоит абсолютная тишина, нарушаемая, пожалуй, лишь гулом поднимающегося и спускающегося лифта, который время от времени доносится откуда-то из глубины здания, мы легко преодолеваем те преграды, которые наша повседневная жизнь и накопившийся опыт возводят между нами и нашим подлинным внутренним миром. Именно здесь, в незнакомой комнате, так хорошо думается о том, как проходит наша жизнь и чего мы в ней достигли. Почему-то в привычной обстановке и повседневной жизни у нас нечасто хватает на это времени и мужества. Новая обстановка — целый мир, состоящий из совершенно незнакомых деталей, интерьеров и пейзажей — помогает нам сосредоточиться на том, до чего обычно не доходят наши мысли, погруженные в привычную рутину. В этом нам помогает абсолютно все: кусочки мыла, упакованные в обертку с логотипом гостиницы, лежащие на краю ванны; шеренга маленьких бутылочек в мини-баре; меню гостиничного ресторана, услужливо обещающее доставку обеда или ужина в номер в любое время суток, и вид с двадцать пятого этажа на незнакомый город, безмолвно раскинувшийся от входа в гостиницу до самого горизонта.
 Эдвард Хоппер. Номер в гостинице. 1931 г.
Эдвард Хоппер. Номер в гостинице. 1931 г.
Лежащий на столике в гостиничном номере казенный блокнотик может оказаться той заветной тетрадью, в которой путешественник неожиданно для самого себя запишет все то, о чем давно собирался подумать, о чем давно хотел поговорить сам с собой начистоту — откровенно и без всяких недомолвок. Свидетелями этой напряженной работы мысли станут и карточка с вариантами меню для завтрака («Вывесить на дверной ручке снаружи до 3 часов ночи»), до которой у погрузившегося в размышления постояльца так и не дойдут руки, а также подсунутые под дверь листочки с прогнозом погоды на следующий день и пожелание спокойной ночи от дежурной смены гостиничных администраторов.
8
То, насколько высоко мы ценим сам процесс поездки куда бы то ни было, путешествия как такового независимо от пункта его назначения, связано, как однажды заметил критик Раймонд Уильямс, с резкой переоценкой всех ценностей человеческого существования, случившейся примерно двести лет назад — когда в результате коренного переворота в восприятии реальности путешественник, человек, знакомый с внешним миром, стал восприниматься как человек, имеющий некое моральное превосходство над тем, кто ведет оседлый образ жизни и не покидает родной дом надолго:
«С начала восемнадцатого века свойственная человеку инстинктивная симпатия к себе подобному, сочувствие к окружающим и участие начинают выводиться обществом не из практики постоянного проживания в близком соседстве и взаимодействии с себе подобными, но из опыта пребывания в одиночестве, в первую очередь во время долгих походов и путешествий. Одиночество, уединенное существование, тишина и невозможность перекинуться с кем-нибудь словом начинают расцениваться как главные условия воспитания в человеке подлинного человеколюбия в противовес холодному, отчужденному сосуществованию и каждодневному общению в рамках, навязываемых человеку сложившимися в обществе нормами и правилами».
Раймонд Уильямс. «Природа и город».
Если мы находим что-то поэтичное в заправочной станции или в придорожном мотеле, если нас манят к себе аэропорты и вагоны с вокзалами, то это происходит, скорее всего, потому, что, несмотря на все свои архитектурные недостатки и не самые комфортные условия, предлагаемые этими строениями для случайного путника, несмотря на, быть может, излишне яркую цветовую гамму и сильное, режущее глаз освещение, мы подсознательно ощущаем, что эти места предлагают нам тот материал, переработав который мы приближаемся к своему настоящему, порой уже хорошо забытому «я», учимся смотреть на привычный, кажущийся порой единственно возможным мир с совершенно иной стороны и порой даже находим в себе силы сломать сложившиеся привычки и стереотипы поведения.
Мотивы
III. За экзотикой
Место:
Амстердам
Гид:
Гюстав Флобер
1
Я вышел из самолета в амстердамском аэропорту Схипхол и, пройдя буквально несколько шагов по зданию терминала, обратил внимание на висевший под потолком указатель с информацией о местонахождении стойки регистрации транзитных пассажиров и о том, как пройти к выходу и в зал ожидания. Этот указатель меня просто поразил. Нет, на первый взгляд, в нем не было ничего особенного: просто яркий желтый прямоугольник примерно метр в высоту и два в длину, предельно простой по дизайну — пластиковая панель, вставленная в освещенный изнутри алюминиевый короб, который подвешен на стальных кронштейнах к потолку, покрытому, как паутиной, целой сетью каких-то проводов, кабелей и воздуховодов от кондиционеров. Несмотря на всю свою простоту и, я бы даже сказал, обыденность, указатель очень порадовал меня, да что там порадовал он действительно доставил мне огромное удовольствие, причем, как это ни странно, не чем-нибудь, а своей зкзотичностью. Экзотичность выражалась сразу в нескольких деталях: в удвоенной букве «а» в слове Aankomst, в непривычном для английского языка соседстве букв «u» и «i» в слове Uitgang, в использовании дублирующих английских подписей к основным словам, в слове balies, обозначающем «стойки регистрации», и в использовании лаконичных, практичных и удобных для восприятия современных шрифтов «Фрутигера» и «Юниверса».

Увидев указатель, я обрадовался прежде всего тому, что его непривычность и новизна для моего взгляда свидетельствовали: я только что куда-то приехал. Указатель стал для меня символом пересечения границы. Может быть, утверждение и покажется спорным, но я могу со всей уверенностью заявить, что на моей родине такой указатель не копировал бы точь-в-точь то, что я увидел здесь, в Голландии. Скорее всего, фон был бы не таким ярко-желтым, гарнитура была бы выбрана более мягкая и, скорее всего, несколько архаичная. Разумеется, текст не дублировался бы ни на каком иностранном языке (у нас ведь никому нет дела до трудностей, которые испытывают иностранцы в нашей стране), а следовательно, не было бы на указателе никаких двойных «а» — а ведь едва увидев эту повторенную дважды букву, я ощутил, что погружаюсь в атмосферу страны с совершенно другой историей и другим складом мышления.
Электрические вилка и розетка, смеситель в ванной, банка из-под джема или тот же указатель в аэропорту — все эти вещи могут сказать нам больше, чем вкладывали в них даже их создатели-дизайнеры. Они ни много ни мало могут поведать нам об истории и культуре того народа, который создавал их такими, какими они стали. Народ, представитель которого создавал дизайн указателей в аэропорту Схипхол, как я понял, во многом отличается от нации, к которой принадлежу я. Какой-нибудь этнограф-специалист по национальным характерам запросто возвел бы использование в информационных указателях именно выбранных шрифтов к течению неопластицизма, родившегося и пережившего расцвет в Голландии в начале двадцатого века. Повсеместное дублирование голландских надписей английским текстом, несомненно, можно было бы связать с открытостью голландцев ко всем иностранным веяниям и проследить историю такого восприятия привнесенных элементов культуры вплоть до основания Ост-Индской компании в 1602 году, а простоту и лаконичность оформления вывески можно со всей очевидностью связать с кальвинистской эстетикой, ставшей основополагающей чертой национального голландского характера, сформировавшегося в шестнадцатом веке в ходе войны за испанское наследство.
Тот факт, что информационные указатели в аэропорту могут быть такими разными в разных странах, явился для меня подтверждением простой, но весьма приятной мысли: все страны разные, и за каждой границей люди живут по-своему. Тем не менее один лишь факт отличия наших указателей от голландских не доставил бы мне такого удовольствия. Я, быть может, обратил бы на него внимание, порадовался бы тому, что отметил это явление, но радость моя была бы недолгой. В данном же случае разница между внешне очень похожими предметами стала для меня своего рода доказательством того, что в других странах многое делают так, как мне нравится, и при этом — гораздо лучше, чем в моей родной стране. Если я и назвал указатель в Схипхоле экзотичным, то лишь потому, что ему удалось деликатно, но в то же время убедительно предупредить меня, что страна, которая лежит там, за указателем «uitgang», во многих, и при этом в принципиальных для меня, отношениях окажется мне ближе и понятнее, чем родина. Иными словами, этот указатель обещал мне радость, удовольствие и счастье.
2
Само слово «экзотика» обычно соотносится с чем-то более ярким и колоритным, чем голландские вывески и указатели. Экзотикой принято считать заклинателей змей, гаремы, минареты, верблюдов, восточные базары и мятный чай, который усатый слуга разливает с большой высоты в маленькие стеклянные стаканчики, расставленные по широкому подносу.
В первой половине девятнадцатого века этот термин практически стал синонимом всего, что имеет отношение к Ближнему Востоку. Когда Виктор Гюго в 1829 году опубликовал стихотворный цикл «Восточные мотивы», он с полным правом мог заявить в предисловии: «Восток привлекает нас сейчас гораздо больше, чем когда бы то ни было в прошлом. Восток стал всеобщим больным местом — и с этим фактом автор данной книги не счел возможным не считаться».
В своих стихах Гюго коснулся всех «знаковых тем» европейской ориенталистской литературы. В книге есть буквально все: и пираты, и паши, султаны и специи, усы и дервиши. Герои Гюго пьют мятный чай из маленьких стаканчиков. Эти произведения без труда нашли своего читателя — точь-в-точь как «Тысяча и одна ночь», ориенталистские романы Вальтера Скотта и байроновский «Гяур». В январе 1832 года Эжен Делакруа уезжает в Северную Африку для того, чтобы попытаться передать восточную экзотику при помощи холста и красок. На протяжении трех месяцев — с первого дня пребывания в Танжере — Делакруа носил только местную одежду, а в письмах к брату подписывался как «твой африканец».
Даже общественные места, улицы и площади европейских городов в то время начали приобретать определенный восточный колорит. Так, например, 14 сентября 1833 года толпы людей собрались на набережных Сены в Руане, чтобы приветствовать французский военный корабль «Луксор», шедший вверх по реке по направлению к Парижу. Прибыло же судно из Александрии, где в его трюм на специально подготовленное укрепленное ложе погрузили огромный обелиск, вывезенный из храмового комплекса в Фивах. Памятник древнеегипетской культуры было решено установить на островке, разделяющем транспортные потоки в самом центре Парижа — на площади Согласия.
 Эжен Делакруа. Двери и эркеры в арабском доме (фрагмент), 1832 г.
Эжен Делакруа. Двери и эркеры в арабском доме (фрагмент), 1832 г.
Стоял на набережной среди зевак и мрачный двенадцатилетний мальчик по имени Гюстав Флобер, который в те дни больше всего на свете мечтал уехать из Руана, стать погонщиком верблюдов где-нибудь в Египте и потерять девственность в гареме, распрощавшись с детством в объятиях женщины с оливковой кожей и с нежным, едва заметным пушком над верхней губой.
Этот двенадцатилетний мальчишка всей душой презирал Руан, а заодно с родным городом — и всю Францию. Как потом вспоминал его школьный товарищ Эрнест Шевалье, в разговорах Флобер с величайшим презрением отзывался о «великой цивилизации», которой, как он считал, нечем было гордиться, кроме как «паровозами, ядами, кремовыми тортами, институтом королевской власти и гильотиной». Собственная же жизнь, по словам самого Гюстава, была «стерильной, банальной и при этом страшно тяжелой». «У меня нередко возникает желание получить право рубить направо и налево головы прохожим, попадающимся мне на пути, — изливает он душу на страницах дневника. — Мне скучно, скучно, скучно». Не раз и не два возвращается Флобер к теме однообразия и безрадостности жизни во Франции и особенно в Руане. «Сегодня мне было невыносимо скучно, — замечает он под вечер на редкость неудачного воскресенья. — Как прекрасны наши французские провинции, как милы и очаровательны те, кто так комфортно устроился жить здесь. Все их разговоры сводятся к… обсуждению налогов и дорожному строительству. Каким особым смыслом наполнено здесь само понятие „сосед“. Едва ли не важнейшей составляющей социального статуса человека является его соседство с кем-то. Об этом качестве нужно говорить везде и всюду, а само это слово писать только прописными буквами: СОСЕД».
Восток стал для юного Флобера своего рода внутренним убежищем, где он мог мысленно скрыться от окружавшего его мира, где царили посредственность и фальшивое, ложно понятое чувство гражданского долга. В своих ранних произведениях и в переписке тех лет он постоянно обращается к теме Ближнего Востока. Так, например, в «Ярости и бессилии» — рассказе, написанном в 1836 году в возрасте пятнадцати лет (сам Флобер ходил тогда в школу и мечтал о том, как было бы хорошо убить мэра Руана), — автор вкладывает свои восточные фантазии в уста главного героя мсье Омлина, который мечтает о «ярком солнце Востока, о голубом небе, о позолоченных минаретах… о караванах, идущих через пески, о прекрасных восточных женщинах… загорелых, с оливковой кожей».
В 1839 году (Флобер тогда читал Рабле и, вдохновленный его великим произведением, очень хотел научиться портить воздух так громко, чтобы было слышно на весь Руан) он написал другой рассказ, «Мемуары безумца» — произведение вполне автобиографичное, герой которого вспоминает юность, одухотворенную лишь одной мечтой — мечтой о Ближнем Востоке: «Я мечтал о дальних путешествиях по пескам юга. Я мысленно видел Восток — его бескрайние пустыни, его дворцы, его караваны с верблюдами, бредущими по пескам под перезвон медных колокольчиков… Я видел синее море, чистое небо, серебристый песок и женщин со смуглой кожей и диким, яростным взглядом, женщин, которые шептали мне слова страсти на языке гурий».
Еще два года спустя (к тому времени он уже уехал из Руана и, исполняя волю отца, изучал юриспруденцию в Париже) Флобер написал еще один рассказ — «Ноябрь», у героя которого не было ни возможности, ни желания пользоваться железными дорогами и прочими благами буржуазной цивилизации, включая услуги дипломированных юристов. Этот человек внутренне идентифицировал себя с восточными купцами: «Ах, как бы я хотел ехать сейчас верхом на верблюде. Перед тобой — красное предзакатное небо и выжженный бурый песок. Бесконечные волны барханов уходят в бесконечность, к пылающему горизонту… Вечером караванщики ставят шатры, поят своих верблюдов и разжигают костры, чтобы отпугивать шакалов, вой которых доносится из темноты, из ночной пустыни; поутру, наполнив калебасы водой из источника в оазисе, караван вновь отправляется в путь».
В сознании Флобера слово счастье заменяется синонимом — словом «Восток». В минуты уныния, которые навевали на него учеба, отсутствие красивой и романтической личной жизни, профессиональные успехи, которых ждали от него родители, погода и сопутствовавшие неблагоприятным погодным условиям жалобы местных крестьян (дождь шел две недели, и в затопленных полях под Руаном завязли и утонули несколько коров), Флобер написал своему другу Шевалье: «Моя жизнь, которую я в мечтах представлял себе такой прекрасной, такой поэтичной, такой насыщенной любовью и событиями, превращается в жизнь самого заурядного человека — однообразную, по-житейски здравую и совершенно бессмысленную. Ну, закончу я свою юридическую школу, меня допустят до судебных дел, и венцом моей карьеры станет должность уважаемого ассистента окружного адвоката в маленьком провинциальном городке — в каком-нибудь Ивто или Дьеппе… Жалкий безумец, мечтавший о славе, любви, лавровом венке, дальних путешествиях и о Востоке».
Люди, жившие в те времена на побережье Северной Африки, Саудовской Аравии, Египта, Палестины и Сирии, немало удивились бы, узнав, что для какого-то юного француза даже названия их стран стали чем-то вроде синонимов для всего хорошего, что есть в мире. «Да здравствует солнце, да здравствуют апельсиновые рощи, пальмы, цветы лотоса и прохладные павильоны с полами, вымощенными лавром, и комнатами с деревянными панелями на стенах и резными дверями, за которыми слышится шепот любви! — восклицал Флобер. — Неужели я никогда не увижу древние некрополи, над которыми по ночам, когда верблюды и караванщики отдыхают рядом с колодцем или источником, слышится вой гиен, от которого, кажется, готовы ожить мумии древних правителей?»
Так получилось, что его мечтам суждено было сбыться: отец Гюстава умер, когда Флоберу было двадцать четыре года. Неожиданная кончина отца сделала молодого человека наследником некоторого состояния, размеры которого позволили избежать, казалось бы, уже предначертанной участи и не становиться адвокатом по мелким административным делам, связанным с утонувшим на заболоченном поле крупным рогатым скотом. Осознав перемены, произошедшие в его жизни, Гюстав тотчас же стал планировать поездку в Египет. В этом деле ему активно помогал его друг Максим дю Камп — соученик, вполне разделявший страсть Флобера. Увлечение Востоком сочеталось у дю Кампа с весьма практическим взглядом на жизнь, что было далеко не лишним качеством для молодого человека, задумавшего отправиться в столь далекое путешествие.
Двое одержимых Востоком энтузиастов отбыли из Парижа в конце октября 1849 года. Корабль отчалил от марсельской пристани — и в середине ноября они уже сошли на берег в Александрии. «Когда до побережья Египта оставалось каких-то два часа, я вместе со старшиной рулевых поднялся на нос судна и увидел впереди сераль Аббаса-паши. Он возвышался над бескрайней синевой Средиземного моря, как черный купол», — пишет Флобер в письме, адресованном матери. Солнце обрушивалось на него всем своим жаром. Впервые я увидел Восток наяву пылающим под нестерпимо жаркими лучами солнца — словно расплавленное серебро разлилось по поверхности моря. Вскоре на горизонте показался и берег. Первое, что я увидел на причале, — это два верблюда, которых вел за собой погонщик. Чуть поодаль, на краю пристани, несколько арабов преспокойно ловили рыбу. По трапу мы сошли под оглушительный аккомпанемент. Такую какофонию трудно даже себе представить: повсюду — темнокожие мужчины и женщины, верблюды, тюрбаны, направо и налево раздаются пинки и удары погонщиков, причем все это сопровождается беспрестанными гортанными, режущими слух выкриками. Я жадно глотал эти звуки, краски, как какой-нибудь голодный осел, набивающий себе брюхо соломой.
3
В Амстердаме я снял номер в маленькой гостинице в районе Джордан и, позавтракав в кафе (roggenbrood met haring et uijes), пошел прогуляться по западным кварталам города. В Александрии времен Флобера экзотикой были верблюды, арабы, преспокойно ловящие рыбу в шумном порту, и гортанные крики местных жителей. Современный Амстердам предлагает внешне совершенно другие, но по сути абсолютно такие же проявления экзотики: например, здания там построены из удлиненных бледно-розовых кирпичей, связанных между собой на удивление белым раствором (кладка у голландцев получается гораздо более ровной и аккуратной, чем в Англии или в Америке, а кроме того, после постройки так и остается на виду, в отличие от оштукатуренных кирпичных стен во Франции или Германии); вдоль улиц выстроились шеренгой узкие многоквартирные дома начала двадцатого века с большими окнами-витринами на первом этаже; повсюду, буквально у каждого дома, стоящего отдельно или встык с другими, припаркованы велосипеды (чем-то это напоминает университетские городки и других странах); характерны для Амстердама и некоторая демократичная небрежность в оборудовании и оформлении улиц, отсутствие нарочито роскошных зданий, прямые улицы, то и дело пересекающие небольшие парки, что наводит на мысль о работе ландшафтных дизайнеров, когда-то проникшихся идеями социалистического города-сада. На одной из улиц, вдоль которой выстроились, как на параде, абсолютно одинаковые многоквартирные дома, я вдруг остановился около красной входной двери и почувствовал непреодолимое желание провести остаток своих дней именно в нем. Надо мной — на уровне третьего этажа — я увидел три окна, явно принадлежащих одной квартире, все не занавешенные. Стены в комнате были выкрашены белой краской и украшены одной, довольно большой, картиной, изображение на которой состояло из крохотных синих и красных точек. У стены стоял дубовый стол, большой книжный стеллаж и кресло. Мне захотелось пожить так, как живут обитатели амстердамских квартир. Мне захотелось обзавестись велосипедом и по вечерам заходить домой, вставляя ключ в скважину на красной входной двери. Мне захотелось подойти к окну без занавесок и в вечерних сумерках смотреть в окна точно такой же квартиры напротив, а затем, плотно поужинав erwentsoep met roggebrood en spek, спокойно почитать, лежа в постели в комнате с белыми стенами и белыми простынями.

Почему же мы так легко поддаемся очарованию таких мелочей, как входная дверь в дом в чужой стране? Почему можно влюбиться в страну или в город просто потому, что там есть трамваи, а люди редко вешают занавески на окна в домах? Какой бы абсурдной и преувеличенно бурной ни казалась наша реакция на некоторые мелкие (и в общем-то мало о чем говорящие) детали в заграничной жизни, на самом деле подобные ситуации хорошо знакомы любому по собственной жизни. Мы ведь порой точно так же влюбляемся в человека из-за ерунды, например, приходя в восторг от того, как он намазывает масло на хлеб. В другой ситуации нас эмоционально отталкивает человек, который, видите ли, не угодил нам всего-навсего своими предпочтениями в области дизайна обуви. Обвинять себя в легкомысленности и подверженности воздействию малозначащих факторов значит просто игнорировать тот факт, что детали порой имеют в нашей жизни решающее значение.
В тот амстердамский дом я влюбился по той простой причине, что он показался мне воплощением достоинства и скромности. Здание было явно удобным для жизни, но не пыталось выглядеть роскошным. Оно могло быть построено в обществе, исповедующем принцип финансовой умеренности. Дизайн дома являл собой воплощение точности и достаточности. Парадные входы в лондонские дома обычно пытаются предстать в торжественном образе портиков классических храмов. В Амстердаме же почему-то легко смиряются со своим утилитарным статусом и избегают всякого рода колонн и оштукатуренных откосов, вполне довольствуясь ничем не украшенной кирпичной кладкой. Понравившееся мне здание было современным в лучшем смысле этого слова — оно просто воплощало в себе порядок, свет и чистоту.
В самом приблизительном и тривиальном восприятии слова «экзотический» очарование незнакомых мест ощущается благодаря самому факту их новизны: мы приходим в восторг, обнаружив верблюдов там, где дома привыкли видеть лошадей, увидев ничем не украшенный подъезд многоквартирного дома там, где в нашей стране обязательно пристроили бы какие-нибудь колонны. Но есть в этом узнавании новизны и другое, более глубокое и утонченное удовольствие: мы так высоко оцениваем отдельные детали иностранного быта далеко не только потому, что нам они в новинку. Нет, просто порой они оказываются куда ближе нашему внутреннему восприятию мира и нашим представлениям о том, что красиво и удобно, чем все то, что может предложить нам родина.
Мои восторги по поводу жизни в Амстердаме были теснейшим образом связаны с моей неудовлетворенностью некоторыми сторонами существования в стране, где я родился и вырос. Дома мне очень не хватало подлинной современности и эстетической простоты и лаконичности. Мне претили наше английское нежелание жить в городе по-городскому и наш образ жизни и мысли, непредставимый без тюлевых занавесок.
Порой то, что мы с восторгом воспринимаем за границей как экзотику, на самом деле является именно тем, чего нам так не хватало дома.
4
Для того чтобы понять, что стало столь экзотично-притягательным для Флобера в Египте, для начала будет полезно внимательно разобраться в чувствах, которые он испытывал по отношению к Франции. То, что так привлекало его в Египте своей новизной, неожиданностью и в то же время осмысленностью, во многих отношениях было полным противоречием тому, что вызывало его плохо скрываемую ярость в родной стране. В основном это было связано с системой ценностей, убеждениями и моделью поведения французской буржуазии, которая со времени падения Наполеона являлась доминирующей силой во французском обществе, определяя тон и характер периодической печати, политику, этику и светскую жизнь. Для Флобера французская буржуазия оказалась вместилищем всех самых отрицательных человеческих качеств, таких, как снобизм, лживая и ложно понимаемая добропорядочность, расизм и невероятное помпезное самодовольство. «Мне самому порой бывает странно, насколько легко самые обыкновенные, банальные высказывания [нашей буржуазии] ставят меня в тупик или же, наоборот, выводят из себя, — жалуется он, с трудом сдерживая копящуюся ярость. — Все эти жесты, голоса, интонации — я просто не в силах выносить их. А от их примитивных и глупых высказываний у меня начинает кружиться голова… Буржуазия… — это для меня нечто непостижимое». Тем не менее на протяжении тридцати лет писатель упорно пытался понять этих людей, наиболее наглядно отразив результат этого процесса в своем «Лексиконе прописных истин» — сатирическом каталоге наиболее характерных и удивительных, с его точки зрения, предрассудков, свойственных французской буржуазии его времени.
Даже элементарная попытка хотя бы в общих чертах сгруппировать по темам статьи, вошедшие в этот словарь, поможет понять, что именно в родной Франции вызывало такое отторжение у писателя и на чем основывался его энтузиазм по поводу Египта.
Подозрительно-неодобрительное отношение к творческим людям
Абсент — яд страшной силы. Одна рюмка — и вы покойник. Журналисты пьют его, когда пишут статьи. От абсента погибло больше наших солдат, чем от бедуинских сабель и пуль.
Архитекторы — все идиоты; делая проект дома, всегда забывают предусмотреть в нем лестницу на второй этаж.
Нетолерантное отношение к жителям других стран, невежество относительно всего, что касается этих стран (и животных, там обитающих)
Английские женщины — даже не верится, что у них могут быть симпатичные дети.
Верблюд — у дромадера два горба, у бактриана — один. Или наоборот; никто и никогда не в состоянии этого запомнить.
Слоны — известны своей хорошей памятью, а также тем, что поклоняются солнцу.
Французы — величайший народ на земле.
Гостиницы — бывают хорошими только в Швейцарии.
Итальянцы — все музыканты. Все обманщики и предатели.
Джон Буль — если вы не знаете, как зовут англичанина, смело обращайтесь к нему, называя Джоном Булем.
Коран — книга, написанная Магометом. В основном в ней речь идет о женщинах.
Чернокожие — очень странно: оказывается, у них белая слюна и они даже могут говорить по-французски.
Чернокожие женщины — в постели лучше, чем белые (см. также: Брюнетки и Блондинки).
Черный — всегда следует добавлять «как эбеновое дерево».
Оазис — постоялый двор или гостиница в пустыне.
Женщины из гарема — все восточные женщины принадлежат к чьему-либо гарему.
Пальма — придает особый колорит восточным пейзажам.
Мачизм — серьезное и вдумчивое отношение к жизни.
Кулак — управлять Францией нужно твердой рукой, а еще лучше — железным кулаком.
Ружье — в загородном доме обязательно нужно иметь хотя бы одну штуку.
Борода — признак силы. Слишком большая борода вызывает облысение. Прикрывает галстук от преждевременного износа.
В августе 1846 года Флобер пишет Луизе Коле: «Я не могу воспринимать себя в полной мере серьезно, несмотря на то что на самом деле я очень серьезный человек. Просто дело в том, что я нахожу себя невероятно смешным. Разумеется, смешным не в том смысле, который вкладывается в это слово авторами простеньких фарсовых комедий. Нет, я имею в виду то смешное, что, похоже, является неотъемлемым качеством нормальной человеческой жизни и что проявляется во множестве элементарных действий и самых обычных каждодневных поступков. Так, например, я ни разу в жизни не побрился, не посмеявшись над собой при этом: по-моему, это просто на редкость дурацкое занятие. Впрочем, все это так трудно сформулировать и объяснить…»
Сентиментальность
Животные — «Ах, если бы только животные умели говорить! Многие из них, несомненно, умнее людей».
Причастие — день первого причастия — «счастливейший день в жизни человека».
Вдохновение (
поэтическое) — может быть вызвано: видом на море, любовью, женщинами и т. д.
Иллюзии — непременно следует изображать, что когда-то у вас их было много, и жаловаться на то, что все они были разбиты и утрачены.
Вера в прогресс, гордость за достижения техники и новые технологии
Железная дорога — непременно следует выражать восторг по поводу этого транспортного средства: «Между прочим, дорогой мой, вот мы с вами сейчас здесь сидим и беседуем, а я с утра уже успел съездить в город Х. Я сел на поезд, сделал в Х свои дела и на поезде вернулся обратно уже к Х часам пополудни».
Претензии
Библия — старейшая книга в мире.
Спальня — в старинном замке: Генрих IV всегда проводил ночь здесь.
Грибы — нужно покупать только на рынке.
Крестовые походы — пошли на пользу венецианскому купечеству.
Дидро — известен тем, что рядом с ним всегда упоминается Д'Аламбер.
Дыня — отличная тема для разговора за обедом: это овощ или фрукт? Англичане едят ее на десерт, что, разумеется, просто недопустимо.
Прогулка — непременно предпринять п. после обеда. Способствует хорошему пищеварению.
Змеи — все ядовитые.
Люди пожилого возраста — обсуждая паводок, бурю, грозу и т. д., они всегда уверяют, что никогда раньше такого не видели.
Ханжество, подавленная сексуальность
Блондинки — более горячие и страстные, чем брюнетки (см. также: Брюнетки).
Брюнетки — более горячие и страстные, чем блондинки (см. также: Блондинки).
Секс — слово, употребления которого следует всячески избегать. Надлежит говорить: «Состоялась интимная близость…»
5
Учитывая все это, можно сказать, что особый интерес Флобера к Ближнему Востоку вовсе не был случайным и, уж конечно, не должен рассматриваться как дань тогдашней моде. Это увлечение Востоком стало закономерным следствием становления его характера. То, что так нравилось ему в Египте, вполне соответствует основополагающим чертам личности самого Флобера. Египет словно поддерживал ту систему ценностей, которую выстроил для себя Флобер, ту систему взглядов и восприятия мира, которую окружающее писателя общество восприняло без особой симпатии.
I. Экзотичность хаоса
С того дня, как Флобер сошел с борта корабля на причал в Александрии, он почувствовал себя как дома в этом мире абсолютного беспорядка — как визуального, так и акустического. Хаотичная египетская реальность пришлась ему по душе. Флобера восторгало буквально все: крики паромщиков, гортанный клекот нубийцев-носильщиков, купцы, торгующиеся с покупателями на повышенных тонах, последние крики забиваемых куриц, рев осла, которого хлещет бичом погонщик, стоны и мычание верблюдов. Вот как описывал он свои впечатления от александрийских улиц: «Гортанные голоса местных жителей напоминают мне крики диких животных, повсюду слышится смех, мелькают белые одеяния, зубы, словно выточенные из слоновой кости, сверкают между толстыми губами под черными носами; люди ходят босиком, у всех грязные ноги, но при этом буквально на каждом виднеются какие-то бусы, ожерелья и браслеты. Ощущение такое, что тебя, сонного, просто окунули в самую гущу какой-нибудь симфонии Бетховена: духовые вот-вот взорвут твои барабанные перепонки, басы ревут, а флейты словно задыхаются, теряясь вдали; каждая деталь высвечивается ярко, выпукло, все вокруг словно впивается в тебя, заставляет обратить внимание; чем больше ты пытаешься сосредоточиться на чем-нибудь конкретном, тем меньше понимаешь, что происходит вокруг в целом… Краски здесь такие яркие,
что на них порой устаешь смотреть как будто долго в упор глядишь на горящий дом. Взгляд едва успевает метаться между минаретами, на вершинах которых сидят аисты, между уставшими слугами, в изнеможении лежащими прямо на террасах у, входа в хозяйский дом, и ажурной тенью платановых веток, которую отбрасывают деревья на стены. Звон бесчисленного количества колокольчиков с упряжи верблюдов словно врывается прямо в уши. По улицам прогоняют огромные стада бесконечно блеющих коз, а между всадниками на лошадях и навьюченными осликами тут и там снуют уличные торговцы».
 Луи Аг. Шёлковый рынок, Каир. Литография по рисунку Дэйвида Робертса
Луи Аг. Шёлковый рынок, Каир. Литография по рисунку Дэйвида Робертса
Эстетические воззрения Флобера не отличались узостью. Он признавал любую, даже самую яркую цветовую гамму — ему нравились и лиловый, и бирюзовый цвета, — вот почему египетская архитектура и ее колористическое решение пришлись ему по душе. В 1833 году вышла в свет книга английского путешественника Эдварда Лейна. Называлась она «Нравы и обычаи современных египтян». Книга имела большой успех и в переработанном автором виде переиздавалась в 1842 году. Вот как Лейн описывает интерьер типичного дома египетского торговца: «Помимо традиционных закрытых мелкой решеткой окон, часть оконных проемов забрана цветным стеклом. Его покрывают узорами или изображениями букетов цветов, павлинов и другими рисунками, пусть и несколько кричащими и безвкусными, но зато всегда радостными и яркими… Стены в комнатах оштукатурены, кое-где прямо по штукатурке довольно примитивно нарисованы условные изображения храма в Мекке, гробницы пророка или все тех же вездесущих цветов. Эти „шедевры“ обычно принадлежат кисти каких-нибудь местных художников-мусульман. Иногда, впрочем, стены по-настоящему красиво украшены цитатами из священных книг и арабских мудрецов, выполненными безупречным каллиграфическим почерком».
 Эдвард Уильям Лейн. Частные дома в Каире, эстамп, «Обзор нравов и обычаев современных египтян», 1842 г.
Эдвард Уильям Лейн. Частные дома в Каире, эстамп, «Обзор нравов и обычаев современных египтян», 1842 г.
Эта барочная составляющая египетской жизни распространилась буквально на все, включая речь египтян и их манеру выражать свои мысли даже в самых обыкновенных, заурядных жизненных ситуациях. В дневниках Флобер приводит подобные примеры: «Некоторое время назад я стоял в магазине и рассматривал выставленные на прилавке на продажу семена. Женщина, которой я только что дал какую-то мелочь, вдруг разразилась такой тирадой: „да благословит вас Господь, мой почтенный господин. Пусть Бог хранит вас на пути домой, пусть проследит, чтобы вы вернулись в родные края целым и невредимым“»… Когда [Максим дю Камп] спросил у слуги, не устал ли тот, на его вопрос последовал вот какой ответ: «Чтобы не устать, мне достаточно удовольствия предстать перед вашим взором».
Почему же хаос и разнообразие так привлекают Флобера? Все дело в том, что, по его глубочайшему убеждению, жизнь изначально представляет собой хаос, и все попытки как-то структурировать, упорядочить ее (за исключением художественного осмысления действительности) являются следствием искусственного и ханжеского отрицания нашего естества. В письме, адресованном возлюбленной писателя Луизе Коле, написанном во время поездки в Лондон в сентябре 1851 года, буквально через несколько месяцев после возвращения из Египта, Флобер рассказывает: «Мы только что вернулись с прогулки по кладбищу Хайгейт. Я и вообразить не мог, насколько это упадочническое подражание египетской и этрусской архитектуре. Как же все там чистенько и прилизано! Ощущение такое, что люди, похороненные там, даже умирали в белых перчатках. Терпеть не могу эти садики вокруг могил, эти вычищенные, выстриженные клумбочки и высаженные стройными рядами цветочки. Это сопоставление смерти и идеального искусственного порядка всегда казалось мне штампом, вырванным из какого-то бульварного романа. Если уж говорить о кладбищах, то мне больше по душе те, что по каким-то причинам пришли в запустение, те, в оградах которых зияют проломы и дыры, где могилы заросли сорняками и колючими кустами. Гуляя по такому кладбищу, можно ненароком наткнуться на отбившуюся от стада корову, которая забрела туда, чтобы пожевать свежей травы в одиночестве. Согласись, что лучше уж корова, чем стоящий на входе полицейский в форме. Какая же безумная глупость — придуманный людьми порядок!»
II. Экзотичность испражняющихся ослов
«Вчера мы сидели в кафе, считающемся одним из лучших в Каире, — пишет Флобер через несколько месяцев после прибытия в столицу. — При этом в непосредственной близости от нас — в зоне прямой видимости — мы наблюдали гадящего осла и опорожняющего мочевой пузырь мужчину в углу. Никто здесь не находит это странным, никто по этому поводу ничего не говорит». Судя по всему, сам Флобер также находил все это совершенно нормальным.
Краеугольным камнем философии Флобера являлась твердая убежденность в том, что мы являемся не просто духовными созданиями, но и живыми, а следовательно, писающими и какающими существами. С выводами, следующими из этого, может быть, несколько грубоватого и прямолинейно высказанного тезиса, по мнению Флобера, людям надлежит смириться и воспринимать их как должное. «Я не верю, что в нашем теле, состоящем наполовину из грязи и наполовину из дерьма, в теле, наделенном инстинктами, ничуть не более возвышенными, чем те, что свойственны свиньям или лобковым вшам, может быть обнаружено что-либо чистое, возвышенное и нематериальное», — говорил он Эрнесту Шевалье. Сказанное, впрочем, вовсе не означало, что человеку не свойственны какие бы то ни было возвышенные помыслы. Просто ханжество и самодовольство, присущие большей части общества в эпоху Флобера, провоцировали в писателе нестерпимое желание напомнить окружающим о несовершенстве человека и о грязных составляющих его существа. Иногда он даже готов был встать на сторону тех, кто испражняется и мочится прямо в кафе, или даже на сторону маркиза де Сада, апологета содомии, инцеста, насилия и педофилии («Я только что прочитал биографическую статью о де Саде, написанную [известным критиком] Джанином, — сообщает Флобер Шевалье. — Эта статья вызвала у меня отвращение — надеюсь, тебе не следует уточнять, что отвращение я испытал к самому Джанину, который просто сел на своего любимого конька, пустившись в разглагольствования по поводу морали, филантропии и дефлорированных девственниц…»)
В египетской культуре Флобер с величайшим удовлетворением обнаружил готовность признавать дуализм устройства мира и человеческой жизни. Эта оппозиция фиксировалась там, на Востоке, буквально во всем: высоты разума — нечистоты, жизнь — смерть, сексуальность — чистота, безумие — здравый смысл. В ресторанах люди, не стесняясь, рыгали и выворачивали наизнанку желудки. Гуляя по Каиру, Флобер кивнул проходившему мимо мальчику лет шести или семи и услышал в ответ в качестве приветствия такие слова: «да наградит вас Бог всеми богатствами и, главное, длинным членом!» Эдвард Лейн также заметил такой свойственный Востоку дуализм, впрочем, отреагировав на него скорее как Джанин, но не как Флобер: «Жителям Египта, вне зависимости от их социального статуса и, что еще более удивительно — как мужчинам, так и женщинам, свойственна недопустимая в нашем обществе вольность и, я бы даже сказал, бесстыдство в разговорах. Я замечал это качество даже за самыми добродетельными и достойными всяческого уважения женщинами. От высокообразованных людей мне доводилось слышать такие высказывания и суждения, которые, на мой взгляд, скорее могли прозвучать в стенах борделя самого низкого пошиба. Светские и вполне благовоспитанные дамы, не стесняясь присутствия мужчин, порой обсуждают здесь такие темы и называют своими именами такие действия и предметы, упоминать которые в нашей стране постеснялись бы, наверное, даже многие проститутки».
III. Экзотичность верблюдов
«Что меня здесь потрясло и восхитило больше всего, так это верблюды, — писал Флобер из Каира. — Никогда не устаю наблюдать за этими странными животными, с бестолковой, „вразвалочку“, походкой осла и изящно изогнутой, как у лебедя, шеей. Звуки, которые они издают, — это что-то невыразимое. Я потратил немало сил и времени на то, чтобы научиться имитировать крик верблюда, чтобы суметь воспроизвести этот победный рев, когда вернусь домой. Задача оказалась не из легких, придется еще много тренироваться. Сам по себе рев верблюда представляет собой причудливую смесь из какого-то не то треска, не то скрежета под аккомпанемент клекота, похожего на звуки, которые мы издаем при полоскании горла». Через несколько месяцев после возвращения из Египта в письме, адресованном одному из старых друзей семьи, Флобер перечисляет все то, что по-настоящему впечатлило его во время поездки. В список, естественно, вошли и пирамиды, и храмовый комплекс в Карнаке; попали в список и каирские танцовщицы, и некий художник по имени Хасан эль Бильбейс. «Но больше всего меня поразили верблюды (поверьте мне, я не шучу). Никто и ничто не может сравниться по грации с этим спокойным, даже меланхоличным животным. Видели бы вы, как они идут по пустыне — цепочкой, один за другим, ступая след в след друг другу, как солдаты. Их шеи всегда вытянуты, как страусиные, головы подняты, и они идут, идут, идут…»
Почему же Флобер так восхищался верблюдами? Просто он сумел увидеть стоицизм этих животных, сочетающийся с внешней нескладностью и неуклюжестью. Флобера до глубины души тронуло печальное выражение верблюжьих морд и сочетание внешней физической неловкости с невероятным упорством и выносливостью. С точки зрения писателя, жителям Египта были присущи многие черты, свойственные характеру верблюдов, — сила, которую никто не пытается приукрасить громкими и хвастливыми криками, и в то же время покорность, готовность к смирению — столь несвойственные нормандским землякам Флобера и буржуазии вообще, отличающейся в первую очередь надменностью, самоуверенностью и высокомерием.
С подросткового возраста Флобер отвергал бессмысленно оптимистичный взгляд на мир, свойственный французам. Это отрицание он позднее выразил в романе «Мадам Бовари», описывая жестокую и циничную веру в науку наиболее неприятного персонажа фармацевта Оме, — разумеется, в его слова писатель предсказуемо вложил еще более мрачные размышления и наблюдения: «А в конце дня, под вечер, — срать. Произнося это могучее слово, можно смириться с любыми несчастьями, выпавшими как на долю одного отдельно взятого человека, так и всему человечеству. Вот почему я с наслаждением повторяю его — срать, срать». Похоже, что именно эту философию, именно такое отношение к жизни Флобер сумел подсмотреть в печальных, благородных, но в то же время слегка озорных глазах египетских верблюдов.
6
В Амстердаме, на углу улиц Тведа Хельмерса и Эрнста Константина Гюйгенса, я увидел женщину — лет тридцати или около того, — которая вела велосипед рядом с собой по улице, держа за руль. Рыжие волосы убраны в пучок, длинное серое пальто, оранжевый свитер, коричневые туфли на плоской подошве и очки в строгой деловой оправе. Судя по всему, жила женщина где-то неподалеку, может быть, в том же квартале, — шла она уверенно, явно знакомой дорогой, не проявляя особого интереса к окружающему миру. В корзине, закрепленной перед рулем велосипеда, лежали буханка хлеба и картонный пакет с надписью «Goudappeltje». Разумеется, она не находит ничего необычного в том, что на пакете с яблочным соком буквы «t» и «j» стоят одна за другой, а не разделены какой-нибудь гласной. Нет для нее ничего необычного и в том, чтобы ходить в магазин, используя велосипед не то в качестве тележки, не то в качестве сумки на колесиках. Ну и, разумеется, ей столь же привычны окружающие здания с вмурованными в стены над окнами верхних этажей металлическими крюками для подъема мебели.
Интерес и разбуженное желание порождают стремление понять и разобраться, куда она идет, о чем думает, кто ее друзья. Точно так же и Флобер, добиравшийся на пассажирском речном корабле до Марселя, откуда им с дю Кампом предстояло отплыть на пароходе в Александрию, задавал себе точно такие же вопросы по поводу другой женщины. В то время как остальные пассажиры рассеянно обозревали окрестности, Флобер сосредоточенно рассматривал женщину, стоявшую на палубе. В своем путевом дневнике он написал, что она была «молодым и стройным созданием в соломенной шляпке с зеленоватой вуалью. Под шелковым жакетом на ней был короткий сюртук с бархатным воротником и карманами, в которых она постоянно прятала руки. Два ряда пуговиц плотно затягивали сюртук на ее груди, талии и частично обрисовывали линию бедер, от которой веером расходились многочисленные складки платья, облегавшего на ветру ее ноги. Женщина носила черные обтягивающие перчатки и большую часть времени проводила на палубе, облокотившись на перила фальшборта и разглядывая пейзажи по берегам реки… Мне всегда нравилось придумывать истории о тех людях, с которыми мне доводилось случайно встретиться. Неуемное любопытство заставляло спрашивать самого себя, кто они, чем живут, о чем думают, где родились, как их зовут, что им интересно в этот момент, о чем они сожалеют, на что надеются, кого любили, о чем мечтают сейчас… Когда речь заходит о женщинах (особенно молодо выглядящих), это желание становится особенно сильным. Как же быстро — признаемся себе — нам начинает хотеться увидеть незнакомку обнаженной, как нестерпимо сильно хочется нам, чтобы она обнажила перед нами и свою душу. Как же узнать, куда и откуда она едет, почему оказалась здесь, а не где-либо еще? Разглядывая ее с ног до головы, мы представляем себе возможный роман с нею и пытаемся понять, о чем же она думает и к чему стремится в глубине души. Постепенно мы начинаем мысленно рисовать себе ее спальню и еще многое, многое другое… Дело доходит даже до потертых домашних тапочек, в которые она привычно сует ноги, когда встает с кровати».
Красивый, привлекательный человек манит нас к себе. В случае с чужими, незнакомыми странами к их объективной притягательности добавляется и то, что является следствием удаленности той или иной территории и непохожести на страну, к жизни в которой мы привыкли. Если любовь — это действительно поиск в другом человеке тех качеств, которых недостает нам самим, то любовь к человеку, родившемуся и живущему в другой стране, наверное, становится следствием поиска в чужой культуре тех ценностей, которых нам недостает на родине.
В своих марокканских картинах Делакруа словно иллюстрирует предположение, что желание побывать в каком-либо месте разжигает желание по отношению к людям, уже находящимся в этом месте. Глядя на его «Алжирских женщин в их покоях» (1834), зритель может ощутить схожее с флоберовским нестерпимое желание узнать, «как их зовут, о чем они думают в этот момент, о чем сожалеют, на что надеются, кого любили, о чем мечтают…»
Легендарный сексуальный опыт Флобера в Египте был, несомненно, приобретен на коммерческой основе, но от этого не потерял своей искренности и подлинной чувственности. Случилось это в Эсне — маленьком городке на западном берегу Нила, примерно в пятидесяти километрах к югу от Луксора. Флобер и дю Камп задержались в Эсне, чтобы переночевать там, и были представлены известной местной куртизанке, обладавшей к тому же репутацией «альме» — образованной женщины. Слово «проститутка» никак не соответствовало достоинству Кучук Анем и той роли, которую она играла во встрече с французскими гостями. Флобер возжелал ее с первого мгновения знакомства: «Кожа ее имеет какой-то особенный светло-кофейный оттенок; когда она наклоняется, ее плоть сгибается, образуя бронзовые складки; ее глаза темны и огромны, ее брови черны, ноздри широки и распахнуты; у нее широкие тяжелые плечи, полная, в форме яблока грудь… Ее волнистые, непослушные черные волосы расчесаны на прямой пробор и убраны назад… Возможно, ей следовало бы обратить внимание на зубы — ее правый верхний резец явно плох».
Кучук пригласила Флобера в свое скромное жилище. Ночь выдалась на редкость холодной, с ясным небом. В дневнике писатель вспоминает: «Мы проследовали в спальню… Она заснула, держа мою руку в своей. Она храпела, язычок пламени в лампе слегка подрагивал и отбрасывал узкий треугольный луч цвета бледного металла на ее прекрасный лоб. Остальная часть ее лица оставалась в тени. Маленькая собачка хозяйки спала на моем шелковом жакете, брошенном на диван. Кучук жаловалась на кашель, и я набросил свою мантилью поверх ее одеяла… Я погрузился в неспокойный сон, полный видений и еще совсем свежих воспоминаний. Я чувствовал, как ее живот прижимается к моим ягодицам; ее бугорок Венеры — еще более горячий, чем ее живот, — жег меня, как раскаленное железо. Нашими страстными прикосновениями мы смогли многое сказать друг другу. Даже во сне она продолжала сжимать руки и бедра. Делала она это механически, как будто непроизвольно вздрагивала всем телом… Как польстило бы самолюбию любого мужчины, знай он, что, покинув это ложе и этот дом, он оставит о себе хотя бы немного более яркие воспоминания, чем другие, бывавшие здесь до него. Какой честью и наградой была бы для мужчины уверенность в том, что он сумел оставить след в сердце этой женщины».
Воспоминания и мечты о Кучук Анем не покидали Флобера на протяжении всего путешествия по Нилу. На обратном пути из Фив и Асуана они с дю Кампом вновь заехали в Эсну, чтобы заглянуть к поразившей Флобера женщине еще раз. Вторая встреча повергла Флобера в еще большую тоску и уныние, чем первая: «Безграничная грусть… Это конец; я больше никогда ее не увижу, и ее лик постепенно сотрется в моей памяти». Однако этого не случилось.
 Эжен Делакруа, Алжирские женщины в своих покоях, 1834 г.
Эжен Делакруа, Алжирские женщины в своих покоях, 1834 г.
7
Нас всегда учили с подозрением относиться к экзотическим воспоминаниям европейских мужчин, которые во время путешествий по восточным странам проводили ночи с местными красавицами. Было ли восторженное отношение Флобера к Египту чем-то большим, чем просто фантазиями и мечтами об альтернативе родной стране, так настойчиво отвергаемой им? Не был ли его энтузиазм лишь детской идеализацией всего «восточного», не растерянной в юности и плавно распространившейся и на взрослую жизнь писателя?
Какими бы смутными и неполными ни были представления Флобера о Египте в начале путешествия, прожив в этой стране девять месяцев, он мог с уверенностью заявить, что ему удалось понять и почувствовать, что такое Восток. Спустя три дня после прибытия в Александрию он начал изучать язык местных жителей и историю страны. За занятия по мусульманским традициям и обычаям Флобер платил учителю три франка в час — по четыре часа в день. Спустя два месяца он набросал предварительный план книги, которую собирался назвать «Мусульманские традиции» (этот труд так и не был осуществлен). В плане имелись разделы, посвященные ритуалам, связанным с рождением ребенка, с его обрезанием, с институтом брака, с паломничеством в Мекку, с похоронами умершего и с представлениями местных жителей о Страшном суде. Флобер заучивал наизусть отрывки из Корана по «Священным книгам Востока» Гийома Потье и перечитал все основные европейские научные труды, посвященные Египту, среди которых были и «Путешествие в Египет и Сирию» С. Ф. Волни и «Путешествия в Персию и другие страны Востока» Шардена. В Каире он подолгу беседовал с коптским епископом и исходил вдоль и поперек армянские, греческие и суннитские кварталы. Иногда его — смуглого, с бородой и усами, понимающего язык, на котором говорят окружающие, — принимали за местного жителя. Он носил длинную белую хлопчатобумажную нубийскую рубашку, отделанную по подолу красными помпонами, и брил голову наголо, оставляя лишь прядь волос на затылке, ту самую, «за которую Магомет поднимет тебя в день Страшного суда». Он написал матери, что взял себе местное имя. «Египтянам очень трудно произносить французские имена, и они придумывают для нас, „франков“, собственные клички и прозвища. Ты только представь себе: Абу Шанаб, оказывается, означает „отец усов“. Это слово, „абу“, отец, применяется по отношению ко всему, что является важным и значительным в том или ином разговоре. Так, например, торговцев, продающих те или иные товары, здесь зачастую называют, например, „отец обуви“, „отец клейстера“, „отец горчицы“ и так далее».
Подлинное понимание Египта, по мнению Флобера, вовсе не означало безоговорочного признания всех его черт и свойств. К немалому удивлению, писатель обнаружил в этой восточной стране многое из того, что так было похоже на его родной Руан. Случались порой и настоящие разочарования. Если судить о поездке по воспоминаниям, написанным спустя много лет озлобленным и язвительным Максимом дю Кампом — всегда готовым хоть как-то уколоть человека, ставшего более известным писателем, чем он, человека, с которым его так многое связывало в юности и который с годами все больше отдалялся от него, — Флоберу на берегах Нила было так же скучно, как и в опостылевшем Руане: «Флобер абсолютно не разделял моих восторгов по поводу Египта. Он всегда был невозмутим и погружен в себя. Никаких самостоятельных решений, никаких действий он не предпринимал. Путешествовать он бы предпочел — будь это возможно, — не вставая с собственного дивана и не сделав ни единого шага. Ему бы пришлось по душе, если бы пейзажи, руины и города проплывали мимо него как один большой панорамный рисунок с механически раскручивающегося перед ним свитка. С первых дней нашего пребывания в Каире я чувствовал, насколько ему там скучно и неинтересно: путешествие, о котором он так долго мечтал, которое когда-то казалось просто несбыточным, явно не пришлось ему по душе. В какой-то момент я сказал ему прямо: „Если хочешь вернуться во Францию, я готов помочь тебе организовать обратную дорогу и даже отправлю с тобой своего слугу“. На это он мне ответил: „Нет, я все это затеял, и я пройду это испытание до конца. Ты только сделай одолжение, продумывай сам все дальнейшие маршруты. Я не буду принимать в этом участия, но и возражать против чего бы то ни было не стану. Мне в общем-то все равно, куда мы, например, сейчас пойдем — направо или налево“. Все храмы казались ему на одно лицо, мечети и пейзажи были унылы и однообразны. Я далеко не уверен в том, что, созерцая красоты острова Элефантина, он не вздыхал по лугам Сотвилля, а проплывая по Нилу, не мечтал о том, чтобы оказаться на берегах Сены».
Следует отметить, обвинения дю Кампа вовсе не безосновательны. В мгновения уныния, находясь где-то неподалеку от Асуана, Флобер пишет в своем дневнике: «Египетские храмы изрядно мне наскучили. Неужели они станут для меня тем же, что и церкви в Бретани или водопады в Пиренеях? Ох уж мне эта необходимость быть тем, кто ты есть, и вести себя так, как тебе полагается. Как же мне надоело, что я всегда должен вести себя так, как в тех или иных обстоятельствах (вне зависимости от моего настроения в этот момент) подобает молодому человеку, туристу, художнику, хорошему сыну или же гражданину — по ситуации». Через несколько дней, на стоянке под Филами, он продолжает: «Я подавлен, и у меня нет ни малейшего желания сделать хотя бы шаг, чтобы осмотреть достопримечательности острова. Господи, что же это за наказание, почему мне всегда и везде так скучно, почему я всегда всем недоволен… Туника Дейяниры не так крепко приросла к спине Геркулеса, чем тоска и уныние к моей жизни. Скука мало-помалу съедает мою жизнь».
Увы, несмотря на то что Флобер надеялся забыть в Египте о невероятной глупости и самонадеянности, которые он считал отличительными признаками современной ему европейской буржуазии, он был вынужден признать, что эти явления преследуют его повсюду: «Глупость монументальна и непоколебима; бороться с ней и не проиграть поединок невозможно… В Александрии я обнаружил, что некий Томпсон из Сандерленда увековечил свое имя, написав его шестифутовыми в высоту буквами на колонне Помпея. Надпись видна за четверть мили. Увидеть колонну, не увидев фамилии Томпсон, невозможно, а следовательно, невозможно в этот момент не подумать о Томпсоне. Этот кретин стал частью древнего памятника и останется ею навечно. Впрочем, что я говорю: этот человек превзошел древних зодчих и ваятелей тщеславной пышностью гигантского шрифта. Все недоумки мира в какой-то степени являются подобными Томпсонами из Сандерленда. Как же, оказывается, их много, и как часто они, к сожалению, оказываются в самых красивых местах и портят самые прекрасные виды. Путешествуя по миру, встречаешь множество таких людей… Утешает одно: если они в твоей жизни неожиданно появляются, а затем столь же стремительно исчезают, то над ними можно просто посмеяться. В обычной — оседлой — жизни они остаются в моем окружении надолго и вполне способны довести до бешенства».
Тем не менее, все это вовсе не значит, что увлечение Флобера Египтом обернулось разочарованием и непониманием. Просто в его сознании идеализированный до абсурда образ уступил место более реалистичной, но тем не менее по-прежнему прекрасной, достойной восхищения картине. Флоберу удалось не отринуть свою юношескую влюбленность, не забыть о буйстве страстей и желаний, а превратить это безумие в подлинное чувство, в настоящую любовь. Разозленный тем, что дю Камп в своих воспоминаниях вывел его в карикатурном образе скучающего туриста, он написал Альфреду де Пуатвену: «Любой нормальный представитель буржуазии непременно сказал бы по этому поводу: „Если ты едешь куда-то, о чем у, тебя были какие-то собственные представления, то тебя непременно ожидает крушение иллюзий“. По правде сказать, мне в жизни нечасто доводилось переживать крушение иллюзий — по той простой причине, что у меня всегда их было мало. Что за глупость и пошлость — неизменно восхвалять ложь, лгать всем и всегда всю жизнь и при этом утверждать, что поэзия питается иллюзиями, ложными представлениями о жизни!»
 Гюстав Флобер в Каире. Фотография Максима дю Кампа, 1850 г.
Гюстав Флобер в Каире. Фотография Максима дю Кампа, 1850 г.
Рассказывая матери о путешествии, он подробно описывает, что оно ему дало: «Ты спрашиваешь меня, таким ли оказался Восток, каким я его себе представлял? Да, он такой. И более того, он гораздо разнообразнее, интереснее и многограннее, чем я думал раньше. За время поездки мои смутные, не во всем верные представления об этих краях обрели законченные, четко прорисованные очертания».
8
Когда пришло время возвращаться из Египта домой, Флобер был безутешен. «Доведется ли мне когда-нибудь вновь увидеть пальму? Когда еще у меня будет возможность вновь проехать верхом на верблюде?..» — спрашивал он себя всю оставшуюся жизнь и вплоть до последних дней продолжал мысленно возвращаться в эту прекрасную страну. За несколько дней до смерти в 1880 году он говорил племяннице Каролине: «В последние две недели я просто умираю от желания вновь увидеть пальму на фоне ярко-голубого неба и услышать, как аист щелкает клювом на куполе минарета».
Долгий, продолжавшийся всю жизнь роман Флобера с Египтом мы можем воспринимать как приглашение отнестись с большим уважением и пониманием к собственной тяге к тем или иным странам. Начиная с подросткового возраста, Флобер настойчиво доказывал себе и всем окружающим, что он не француз. Его ненависть к собственной стране и ее народу была настолько глубока, что он, издеваясь над собственной национальной принадлежностью, даже придумывал себе пародийный гражданский и социальный статус. Он даже предложил новую методику приписывания человека к той или иной национальности, к тому или иному народу: не в соответствии со страной, где человек родился или гражданами которой являются его родители, но в соответствии с теми странами и территориями, которые он больше всего любит. (Вполне логичным развитием этой концепции, с точки зрения Флобера, было перенесение расширительного принципа идентификации с национальной принадлежности на половую и видовую. В одном случае он ни с того ни с сего заявлял, что, несмотря на все внешние признаки, на самом деле является не мужчиной, а женщиной, а в другом — утверждал, что вообще не относится к роду человеческому, а представляет собой экземпляр медведя или верблюда: «Я собираюсь купить себе медведя посимпатичнее: я имею в виду живописный портрет. Сделаю для него хорошую рамку и повешу в спальне. А внизу аккуратно подпишу: „Портрет Гюстава Флобера“, чтобы сразу обозначить мои моральные принципы и навыки пребывания в социуме».)
Впервые Флобера осеняет, что в душе он не француз, еще в школьные годы, по возвращении с Корсики после очередных каникул: «Я с омерзением возвращаюсь на проклятую родину, где даже солнце в небе можно увидеть не чаще, чем алмаз в свиной заднице. Плевать я хотел на Нормандию и на всю „прекрасную Францию“… Судя по всему, меня каким-то несчастливым ветром пересадили сюда, в эту страну болот и грязи. На самом деле я наверняка родился где-то в другом месте — в моей душе всегда сохранялись какие-то смутные воспоминания или интуитивно угадываемые образы роскошных пляжей и голубого моря. Я был рожден, чтобы стать императором Кохинхина, чтобы курить стофутовые трубки, чтобы иметь 6000 жен и 1400 услаждающих меня мальчиков; моя рука должна была сжимать палаш, которым я срубал бы головы тем, кто не пришелся мне по душе. Мне должны были принадлежать нумидийские кони, выложенные мрамором бассейны…»
Поиск альтернативы «прекрасной Франции» мог показаться затеей бессмысленной и непрактичной, но основной принцип, сформулированный еще в этом почти детском письме, — вера в то, что во Францию его занесло по ошибке, «по прихоти ветров», с годами лишь укреплялась и получила намного более серьезное и трезво сформулированное обоснование в зрелые годы писателя. Вернувшись из Египта, Флобер попытался описать свою теорию национальной идентичности (не касаясь, впрочем, темы половой и видовой принадлежности) Луизе Коле («моему султану»): «Что же касается самой идеи родины, то есть некоего участка земли, который обозначен на карте и отделен от других территорий красной или синей линией, я скажу просто: нет, родина для меня — та страна, которую я люблю, та, о которой я готов мечтать, та, которую вижу во сне, та, в которой мне хорошо. Я в такой же мере китаец, как и француз, и меня вовсе не радуют наши победы над арабами, потому что я скорблю по их поражениям. Я люблю этих суровых, жестких, непокорных людей, последних современных нам дикарей, которые в полдень ложатся на землю в тени под брюхом своих верблюдов и, покуривая любимый чубук, от души потешаются над нашей так называемой цивилизацией, которая, в свою очередь, просто бесится от столь непочтительного к себе отношения…»
Луиза ответила в том духе, что находит абсурдной мысль принимать Флобера за китайца или араба. Неудовлетворенный такой реакцией, через несколько дней он пишет ей очередное письмо, в котором возвращается к теме еще более эмоционально и не без раздражения: «Я в такой же мере древний человек, в какой — ваш современник. Во мне не больше от француза, чем от китайца. Концепция родины, неизменно сводящаяся к императивному требованию жить на клочке земли, отмеченном на карте, допустим, красным или синим цветом, и, несомненно, испытывать жгучую ненависть к тем, кто имеет несчастье жить на зеленых или черных участках, всегда казалась мне чем-то узколобым, зашоренным и невыносимо глупым. Я предпочитаю считать себя братом по духу всему живому на земле, будь то жираф, крокодил или же человек».
При рождении у нас нет выбора, всех нас разбрасывает по миру по прихоти ветров судьбы. В то же время любой из нас, как и Флобер, обладает свободой воссоздать собственную идентичность в соответствии с наработанной душой и разумом системой ценностей и предпочтений. Устав принадлежать к народу, к которому относимся по рождению (из флоберовского «Лексикона прописных истин»: «
Французы. — Быть ф. — большая честь, особенно когда смотришь на Вандомскую колонну»), мы можем бежать, можем переметнуться в другой лагерь, можем почувствовать себя бедуином в куда большей степени, чем нормандцем. И тогда нас будет приводить в восхищение долгая езда верхом на верблюде, бьющие в лицо порывы знойного иссушающего хамсина, мы будем чувствовать себя как дома в кафе, где совсем рядом, у нас на глазах будут испражняться ослы, а мы, не обращая на все это внимания, будем предаваться тому, что Эдвард Лейн называл «безнравственными и распущенными разговорами». Когда Сократа спросили, откуда он родом, мудрец не сказал, что родился в Афинах, но назвал себя человеком мира. Флобер был родом из Руана (города, судя по его юношеским воспоминаниям, утопавшего в буквальном смысле слова в дерьме, города, добропорядочные обитатели которого «тупо дрочили» по воскресеньям со скуки), но судя по всему, Абу Шанаб, Отец Усов, мог к этому добавить: «И немного из Египта».
IV. Из любопытства
Место:
Мадрид.
Гид:
Александр фон Гумбольдт.
1
Как-то раз по весне меня пригласили на конференцию в Мадрид. Заседания были запланированы на три дня и заканчивались в пятницу ближе к вечеру. Раньше мне в Мадриде бывать не доводилось, а о достопримечательностях этого города (которые, судя по всему, не ограничивались музеями) я был немало наслышан. В общем, я решил задержаться еще на несколько дней. Организаторы конференции забронировали мне номер в гостинице на каком-то широком и шумном бульваре в юго-восточной части города. Окна номера выходили во двор, в который время от времени выходил покурить невысокий человек, чем-то напоминавший мне Филиппа II. Дымя сигаретой, он зачем-то постукивал носком ботинка по маленькой, обитой железом дверце, если я правильно понял, винного погреба. В пятницу вечером я вернулся в гостиницу довольно рано. Сообщать принимавшим меня людям о том, что я собираюсь задержаться в Мадриде, показалось излишним: не хотелось беспокоить их и заставлять проявлять положенное в таких случаях гостеприимство, которое зачастую оказывается вымученным и не вполне искренним и от которого и гости и хозяева только испытывают дискомфорт и неловкость. Впрочем, принятое решение означало и то, что в этот вечер мне придется обойтись без нормального ужина: возвращаясь пешком в гостиницу, я вдруг ясно понял, что у меня не хватит храбрости заглянуть ни в один из окрестных ресторанов — мрачных, темных заведений со стенами, обшитыми деревянными панелями, с окороками, свисающими с потолка. Очень уж мне не хотелось рисковать показаться смешным и вызвать лишний интерес, а то и снисходительное сочувствие. В общем, я съел пакетик чипсов с паприкой из гостиничного мини-бара и, посмотрев новости по спутниковому каналу, завалился спать.
Наутро я проснулся как будто после долгого летаргического сна — с ощущением, что мои жилы если не закупорились, то изрядно заилились не то сахаром, не то песком.
Сквозь розово-серые виниловые занавески пробивался солнечный свет, через окно в комнату прорывался уличный шум. На столике я обнаружил несколько журналов со справочной информацией по городу, кроме того, в моем распоряжении имелись два путеводителя, которые я привез с собой. Все вместе, пусть и каждый по-своему, они, словно сговорившись, утверждали, что столь многообразное и восхитительное явление, как Мадрид, только и ждет своего исследователя, готовое поделиться с заезжим наблюдателем памятниками, соборами, музеями, фонтанами, площадями и улицами с великолепными магазинами. Тем не менее обещанное великолепие, о котором я столько читал и слышал, вызывало у меня почему-то скорее апатию и, как следствие, недовольство собой: слишком уж разительный контраст возникал между моим нежеланием куда-либо идти и что-либо смотреть и ожидаемыми в подобной ситуации восторгами путешественника, предвкушающего удовольствие от созерцания местных красот. Я с ужасом понял, что больше всего на свете мне сейчас хочется не идти гулять по городу, а забраться обратно в постель и позвонить в авиакомпанию, чтобы поменять билет на ближайший рейс домой.
2
Летом 1799 года двадцатидевятилетний немец, которого звали Александр фон Гумбольдт, отплыл из испанского порта Ла-Корунья в дальнее путешествие: он направлялся в длительную экспедицию, целью которой было изучение малоисследованных территорий Южноамериканского континента.
«Сколько я себя помню, мне всегда страшно хотелось побывать в тех местах, где еще почти не ступала нога европейца, — писал он затем в своих воспоминаниях. — Я часами рассматривал географические карты и штудировал дневники великих путешественников. Моим восторгам не было предела, а желание отправиться в дальний путь становилось просто непреодолимым». Этот молодой немец сделал все для того, чтобы желанные путешествия принесли максимально возможную пользу науке. Сам он отличался завидным здоровьем и силой, а помимо отличной физической формы, мог похвастаться и немалыми познаниями в биологии, геологии, химии, физике, а также в истории. Еще в годы учебы в Геттингенском университете он подружился с Георгом Форстером — известным ученым-натуралистом, сопровождавшим капитана Кука в его втором путешествии. Специализировался молодой Гумбольдт на системах классификации животных и растений. Едва окончив университет, начинающий ученый стал искать способ уехать в дальние неизведанные края. План экспедиции в Египет и Мекку рухнул в последний момент, но вот в 1799 году Гумбольдту улыбнулась удача: его удостоил аудиенции Карлос IV, король Испании. Молодому ученому удалось убедить монарха выделить необходимые средства и отправить его в исследовательскую экспедицию в Южную Америку.
Путешествие Гумбольдта затянулось на пять лет. Вернувшись, он обосновался в Париже и в течение последующих двух десятилетий составлял научный отчет по материалам, собранным за время экспедиции. Им был написан тридцатитомный труд, в итоге озаглавленный как «Путешествие в экваториальные районы Нового континента». Объем произведения как нельзя лучше отражал количество и глубину произведенных Гумбольдтом исследований. Перечисляя его заслуги, Ральф Эмерсон позднее писал: «Гумбольдт был одним из чудес света — таким, как Аристотель, Юлий Цезарь или же прозванный „изумительным“ Джеймс Криптон, — одним из тех людей, которые иногда появляются среди нас, словно для того, чтобы продемонстрировать всем подлинные возможности человеческого разума, его истинную мощь и разносторонность. Он был одним из тех, кого называют универсально развитыми и образованными людьми».
Во времена Гумбольдта Южная Америка все еще оставалась для европейцев во многом неизведанной землей. Веспуччи и Бугенвиль побывали в основном в прибрежных районах континента. Кондамин и Бугер исследовали бассейн Амазонки и перуанские горы, но точных карт этих и других территорий все еще не существовало, а информация о флоре, фауне и геологических особенностях ландшафтов была скупой и далеко не полной. Мало было известно и об образе жизни населявших эти края индейцев. Гумбольдт коренным образом изменил ситуацию. Он преодолел пятнадцать тысяч километров как вдоль побережья, так и далеко в глубине континента. За это время ученый собрал коллекцию из тысячи шестисот различных растений и впервые описал более шестисот новых видов. Карта Южной Америки была им основательно подкорректирована, причем основывался Гумбольдт в этой работе на показаниях точных хронометров и секстанов. Он исследовал земной магнетизм и впервые вывел закономерность изменения величины магнитного склонения: чем дальше наблюдатель находится от полюсов, тем слабее интенсивность магнитного поля. Он впервые дал описания каучукового и хинного деревьев и зафиксировал необычные свойства этих растений. Он нанес на карту реки и протоки, связывающие водные системы Рио-Негро и Ориноко. Он измерял давление на разных высотах и исследовал взаимосвязь высоты над уровнем моря и типа растительного покрова. Он изучал обряды и ритуалы племен, населявших бассейн Амазонки, и постигал закономерности связи между ландшафтом, природной средой обитания и особенностями культурных традиций местных жителей. Он сравнивал соленость воды в Тихом и Атлантическом океанах и заложил основы теории морских течений, обосновав тезис о большей зависимости температуры моря от скорости и направления переноса водных масс, чем от широты, на которой находится точка наблюдения.
 Эдвард Эндер. Александр фон Гумбольдт и Эме Бонплан в джунглях Амазонки, ок. 1850 г.
Эдвард Эндер. Александр фон Гумбольдт и Эме Бонплан в джунглях Амазонки, ок. 1850 г.
Один из первых биографов Гумбольдта, Ф. А. Шварценберг, дал к своей книге, посвященной замечательному исследователю, подзаголовок: «Что можно успеть сделать за одну человеческую жизнь». В биографии кратко перечисляются основные сферы чрезвычайно широких научных интересов Гумбольдта: 1) знания о разных землях и их обитателях; 2) постижение фундаментальных законов природы, определяющих мироустройство, условия существования как человека, так и животных и растений, вырабатывающих закономерности нахождения в земных недрах тех или иных минералов; 3) обнаружение и изучение новых форм жизни; 4) изучение малоисследованных территорий и их полезных ресурсов; 5) знакомство с неизвестными племенами и народами и изучение их образа жизни, обычаев, языка, исторического наследия и культуры.
Как же редко и сколь немногим удается сделать столько, сколько действительно можно успеть совершить за человеческую жизнь!
3
Именно гостиничная горничная — и только она целиком и полностью ответственна за то, что я, в конце концов, сподобился совершить исследовательскую вылазку на мадридские улицы. Трижды она вламывалась ко мне в номер, волоча за собой швабру и тележку с моющими средствами и приспособлениями для уборки, и трижды устраивала самодеятельное театральное представление: увидев человека на кровати под одеялом, она с преувеличенным испугом взвизгивала, а затем заявляла: «Ой, здрассте! Ну, это… извините». После этого горничная с шумом выкатывала свое хозяйство обратно в коридор, не забыв, разумеется, напоследок посильнее и погромче «задеть» шваброй дверь номера. Видеть это зрелище в четвертый раз у меня не было ни малейшего желания, и я заставил себя встать, одеться, заказать горячий шоколад с булочками в гостиничном баре и даже выйти на
улицу, чтобы совершить вынужденную прогулку по той части города, которую мои путеводители почтительно называли Старым Мадридом:
«В 1561 году Филипп II выбрал Мадрид на роль столицы своего королевства. В те времена это был всего-навсего маленький кастильский городок с населением, едва превышавшим 20 тысяч человек. В последующие годы Мадриду было суждено стать нервным центром могущественной империи. Вокруг старинной мавританской крепости одна за другой появились узкие улочки с плотно стоящими друг к другу домами и средневековыми церквями. Сама крепость со временем была снесена, и на ее месте сначала возвели готический дворец, а затем — Паласио Реаль, королевский дворец Бурбонов, который украшает центральную площадь города в наши дни. В XVI веке — в период правления династии Габсбургов — город неофициально называют „Австрийским Мадридом“. К этому времени он уже застроен богатыми монастырями, соборами и роскошными дворцами. В XVII веке обретает знакомый нам облик главная площадь города — Пласа Майор, а Пуэрта-дель-Соль получает статус духовного и географического сердца Испании».
Я стоял на углу Калье-де-Карретерас и Пуэрта-дель-Соль — на неприметном, ничем не выдающемся перекрестке неправильной формы, что-то вроде полумесяца в плане, — в центре которого замер взгромоздившийся на коня Карлос III (1759–1888). День был ясным и солнечным, толпы туристов щелкали фотоаппаратами и слушали, что им рассказывают экскурсоводы. Я же стоял и думал: что я здесь делаю? Почему мне не по себе? Что мне здесь делать и как я должен на все это реагировать?
4
Гумбольдта такие мысли и вопросы не терзали. Всюду, куда бы он ни приезжал, его миссия была понятна и заранее предопределена. Он знал, что должен собирать информацию, фиксировать факты и проводить эксперименты.
Эксперименты он начал проводить еще на борту корабля, на котором плыл в Южную Америку. Измерения температуры морской воды проводились каждые два часа на всем протяжении пути от Испании до пункта назначения — порта Кумана на побережье Новой Гранады (часть современной Венесуэлы). Гумбольдт постоянно проводил измерения при помощи секстана и описывал новые виды морских обитателей, попадавших в сеть, которую он забрасывал с кормы судна. Сойдя на берег в Кумана, он приступил к составлению полного и подробного описания местной растительности. Город стоял на известняковом холме, склоны которого, как и склоны окрестных возвышенностей, покрывали заросли кактусов и опунций, разветвляющиеся стволы которых напоминали старинные канделябры, укутанные плотным ковром из лишайника. Описывая растения, Гумбольдт, естественно, указывал их размеры. Обхват ствола одного из измеренных им кактусов (Типа macho) составил 1,54 метра. Три недели ученый описывал прибрежную растительность, а затем отправился в глубь континента — в покрытые непроходимыми джунглями горы Новой Андалусии. Специально выделенный мул вез на себе вьючный ящик с секстаном, инклинометром, прибором для калибровки флуктуаций магнитного поля, термометром и гигрометром Соссюра — прибором для измерения влажности на основе волоса, натянутого на изогнутой пластине из китового уса. Пылиться без дела этим приборам и инструментам не приходилось. Вот как Гумбольдт описывает один из эпизодов поездки в путевом дневнике: «С того момента, как мы углубились в джунгли, барометр стал сообщать об увеличении высоты над уровнем моря. Любопытное зрелище представляют собой стволы деревьев на нашем пути: какие-то травянистые растения с мутовчатыми отростками карабкаются по ним на высоту 8–10 футов, перебрасывая при этом с дерева на дерево гирлянды, висящие поперек тропы и колышущиеся на ветру. Примерно в три часа пополудни мы сделали привал на небольшом плато, которое на местном наречии называется Кетепе. Его высота над уровнем моря — около 190 туаз. Маленькая деревня — буквально несколько индейских хижин — расположена у источника, воду в котором сами местные жители считают очень вкусной и полезной для здоровья. Мы также нашли эту воду превосходной на вкус. Ее температура составляла всего 22,5 градуса Цельсия при температуре воздуха, равной 28,7 градуса Цельсия».
5
А вот в Мадриде все уже было известно, все давно измерено. Длина северной стороны площади Пласа Майор равнялась 101 метру 52 сантиметрам. Этот архитектурный ансамбль был создан архитектором Гомесом де Морой в 1619 году. Температура воздуха составляла 18,5 градуса по шкале Цельсия, ветер дул западный. Конную статую Филиппа III — 5 метров 43 сантиметра в высоту — воздвигли в центре Пласа Майор скульпторы Джамболонга и Пьетро Такка. Путеводителю не терпелось поделиться со мной хранившейся в нем фактической информацией. Он моментально отослал меня к Епископату Сан-Мигель — серому зданию, построенному, по-моему, специально, чтобы отражать, не задерживая на себе, взгляды случайных прохожих. Путеводитель же гласил:
«Базилика, построенная по проекту Бонавиа, представляет собой один из редких образцов испанских церквей, возведенных под влиянием итальянского барокко XVIII века. Ее выразительный фасад, на котором причудливо чередуются выпуклые и вогнутые поверхности, украшен прекрасными статуями. Над главным входом красуется барельеф, изображающий святых Хустуса и Пастора, которым изначально был посвящен этот храм. Интерьер базилики изящен и элегантен. Особенно следует отметить эллиптический купол, ленточный орнамент волют, легкие, словно парящие в воздухе карнизы и обильную декоративную лепнину».
Несомненно, я не буду даже пытаться сравниться с Гумбольдтом по степени любопытства, которое вызывают у меня незнакомые места (а уж о лени, настойчиво загонявшей меня обратно в постель, и говорить как-то неловко), но меня хоть немного оправдывает одно обстоятельство: у любого путешественника, отправляющегося в экспедицию с исследовательской миссией, есть огромное преимущество перед обычным туристом.
Научные факты имеют определенную практическую ценность. Измерение пропорций зданий, стоящих вдоль северного фасада Пласа Майор, несомненно, может быть полезно архитекторам и исследователям творчества Хуана Гомеса де Моры. Информация о точном значении атмосферного давления в один отдельно взятый день в центре Мадрида обладает ценностью для метеорологов. Произведенный Гумбольдтом замер обхвата ствола некоего кумананского кактуса (Типа Macho) и информация о том, что длина данной окружности составляет 1,54 метра, была интересна всем европейским биологам, до тех пор и не подозревавшим, что кактусы могут вырастать до таких внушительных размеров.
Полезность информации притягивает к ней аудиторию (по большей части благодарную). Гумбольдта, вернувшегося из Южной Америки в августе 1804 года и перебравшегося в Париж, буквально осаждали коллеги и просто заинтересованные его знаниями и опытом образованные люди. Спустя два месяца после приезда во французскую столицу в переполненном зале Национального Института он зачитал свой первый экспедиционный отчет. Аудиторию, жаждавшую новых знаний, просветили о температуре морской воды как на Тихоокеанском, так и на Атлантическом побережьях Южной Америки. Кроме того, собравшихся проинформировали об открытии пятнадцати новых видов обезьян, обитающих в джунглях. Гумбольдт представил слушателям и наглядный материал: он предложил осмотреть более двадцати образцов ископаемых окаменелостей и редких минералов, привезенных им из экспедиции. Публика еще долго толпилась у стендов. Бюро географических исследований запросило у ученого копию результатов проделанных им астрономических измерений, Обсерватория выразила интерес к отчетам по показаниям барометров. Гумбольдта приглашали в гости Шатобриан и мадам де Сталь, его приняли в элитарный Аркейский кружок — научный салон, куда были вхожи такие ученые, как Лаплас, Бертолле и Гей-Люссак. В Британии его работами зачитывались Чарльз Лайелл и Джозеф Хукер. Чарльз Дарвин заучивал фрагменты отчетов Гумбольдта наизусть.
Обходя очередной кактус с рулеткой в руках или опуская термометр в воды Амазонки, Гумбольдт, без сомнения, осознавал, что не только удовлетворяет собственное любопытство, но и действует на благо других людей и в их интересах. Это чувство наверняка поддерживало его в минуты усталости и уныния, неизбежно случающиеся в жизни каждого ученого. На пользу Гумбольдту пошло и то обстоятельство, что практически вся известная тогда информация о Южной Америке была либо сомнительной и требующей проверки, либо абсолютно ложной. Оказавшись в Гаване в ноябре 1800 года, он обнаружил, что даже эта важнейшая база испанского флота нанесена на карту неправильно. Распаковав приборы, ученый провел необходимые измерения и высчитал истинную географическую широту стратегически важной точки, за что благодарный испанский адмирал пригласил его на ужин.
6
Сидя в кафе на площади Провинсиа, я постепенно осознавал, насколько невозможно совершение новых открытий фактического толка в современном мире. Путеводитель тотчас же подтвердил правоту моих догадок, выдав следующую лекцию: «Неоклассический фасад церкви Святого Франциска построен архитектором Сабатини, но само здание — круглое в плане, с шестью расположенными по окружностям часовнями-приделами и куполом диаметром 33 метра (108 футов) — построил другой зодчий, Франсиско Кабесас».
Все, что я мог сейчас узнать, могло быть интересно или даже полезно только мне самому. Ни о какой пользе для других людей речь уже не шла. Мои личные открытия должны были воодушевить меня, придать сил, сделать жизнь интереснее и разнообразнее. В некотором роде они должны были подтвердить свою «жизнеутверждающую сущность».
Авторство этого термина принадлежит самому Ницше. Осенью 1873 года Фридрих Ницше написал статью, в которой прослеживались и анализировались различия между собиранием новой фактической информации исследователем-практиком и академическим ученым-теоретиком и использованием уже известных фактов для внутреннего, психологического, обогащения. При этом Ницше приходит к таким выводам, которые кажутся неожиданными для университетского преподавателя: если говорить кратко, то первый род умственной деятельности он всячески очернил и опорочил в глазах читателя, зато вознес хвалу второму. Статья называлась «О пользе и неблагоприятном воздействии истории на жизнь». С первого же абзаца Ницше идет в решительное наступление, неожиданно заявляя, что привычный сбор фактов, почему-то названный им квазинаучным методом, является бессмысленной и бесплодной деятельностью. Настоящим дерзанием он находит использование имеющихся фактов для обогащения жизни. В качестве одного из доводов он приводит цитату из Гёте: «Я ненавижу все, что просто пытается учить меня, не подталкивая меня к чему-то, не провоцируя меня на какие-то поступки».
Как же можно получить «жизнеутверждающие знания», основываясь на опыте собственных путешествий? Ницше предлагает вариант ответа на этот вопрос. Он представляет читателю некоего человека, обеспокоенного состоянием современной ему немецкой культуры и полным отсутствием каких бы то ни было попыток это состояние улучшить. Этот персонаж отправляется в Италию — во Флоренцию или же в Сиену — и обнаруживает, что известный во всем мире феномен, традиционно называемый «Итальянским Возрождением», на самом деле представляет собой плод усилий всего-навсего нескольких талантливых индивидуумов, которым при определенном везении, настойчивости и при наличии верно выбранных патронов-спонсоров удалось ни много ни мало изменить настроения и систему ценностей всего современного им общества. Турист быстро научится искать в других культурах «то, что в прошлом смогло насытить новым содержанием концепцию „человека“, сделать ее более красивой, чем она была раньше». «Вновь и вновь пробуждаются от сна те, кто набирается сил в раздумьях об опыте былых поколений и черпает вдохновение в ощущении величия человека, всей его жизни».
Сам Ницше предлагает практику туризма другого типа, благодаря которому мы могли бы познать, каким образом современные нам культуры и человеческие сообщества формировались под влиянием прошлого. Подобная практика дала бы нам возможность осознать непрерывность и последовательность развития культуры и свою принадлежность к той или иной ее составляющей. Человек, путешествующий с такой внутренней установкой, «заглядывает за горизонт собственного преходящего существования и ощущает себя частью духовной составляющей своего дома, своего народа, своего города». Этот путешественник может смотреть на старинные здания и чувствовать себя счастливым от «осознания того, что его жизнь — не случайность, не произвольный выбор судьбы, а органичная составляющая исторического наследия, его цветок и плод, а следовательно, эта жизнь оправданна и не бессмысленна».
Следуя нити размышлений Ницше, целью созерцания старого здания является не более — но и не менее — чем признание того факта, что «архитектурные стили в реальности оказываются более гибкими, менее следующими канону, чем это может показаться на первый взгляд, ибо слишком велико разнообразие тех нужд и целей, ради которых они были построены». Мы могли бы окинуть взглядом Паласио-де-Санта-Крус («…этот дворец, построенный в 1643 году, является одной из жемчужин архитектуры эпохи Габсбургов…») и подумать: «Если такую красоту могли создать в те времена, то почему же сейчас не создается ничего, что можно было бы назвать хотя бы подобием подобных шедевров архитектуры?» Вместо того чтобы везти с собой из долгого путешествия целый гербарий — 1600 растений, — мы можем вернуться домой с коллекцией маленьких, вроде бы скромных и неприметных, но в полном смысле слова жизнеутверждающих мыслей.
7
Возникла передо мной и другая проблема: те исследователи, которые побывали здесь до меня, не только собрали и систематизировали всю фактическую информацию, но и определили в соответствии со своими вкусами и взглядами, что из этой информации является существенным, а что не заслуживает сколько-нибудь серьезного внимания. И вот эта, созданная неизвестно когда и кем, шкала ценности тех или иных объектов постепенно зафиксировалась, окаменела и стала сводом скрижалей с раз и навсегда определенной иерархией достопримечательностей Мадрида. В этой системе площади Вилья была присвоена одна звезда, королевскому дворцу — две, монастырю Дескальсас Реалес — три, а вот Пласа де Ориенте осталась вообще без звезд.
Эта классификация в общем-то оказалась не то чтобы неверной, но эффект от ее применения был просто катастрофическим. Если составители путеводителя восхищались тем или иным местом в Мадриде, туристу оставалось только разделить с ними их восторги. В местах же, почему-то обойденных вниманием авторов, судя по всему, ничего интересного не было, да и быть не могло. Задолго до того, как я оказался под сводами монастыря Дескальсас Реалес, мне навязали восторженную оценку этого места, которую я, как предполагалось, должен воспринять как единственно правильную. Мне безапелляционно заявили, что этот монастырь «…является красивейшим в Испании. Роскошная парадная лестница, украшенная фресками, ведет на верхнюю галерею, каждая ниша-часовня которой декорирована богаче и красивее, чем предыдущая…». Я не удивился бы, обнаружив под этим текстом такую приписку: «…и только больной на всю голову турист посмеет с этим не согласиться».
На Гумбольдта никто так не давил. Мало кто из европейцев вообще бывал до него в тех местах, по которым он путешествовал, и отсутствие предшественников давало ему полную свободу творческого толкования и оценки увиденного. Он мог сам определять для себя, что ему интересно, а что нет. Он был волен создавать собственные категории значимости, не решая для себя дилемму — следовать чьей-то более ранней классификации или же брать на себя труд опровергать чужую, оказавшуюся нерациональной, систему. Добравшись до миссии Сан-Фернандо на берегах Рио-Негро, он мог с полным правом предполагать, что интересно ему здесь будет практически всё (или же ничего — с тем же успехом). Стрелка компаса научного любопытства Гумбольдта указывала на его собственный магнитный полюс, и этим полюсом оказалась ботаника, что, впрочем, вряд ли сильно удивило бы читателей «Путевого дневника» ученого: «В Сан-Фернандо нас поразило одно растение, произрастающее в этих местах в изобилии. Именно оно, называемое индейцами пихигуадо или же пирихао, во многом определяет весьма специфический местный ландшафт. Его ствол, просто усыпанный шипами, достигает в высоту шестидесяти футов», — писал Гумбольдт в дневнике, рассказывая о том, что показалось ему наиболее интересным. Сразу после этого Гумбольдт измеряет температуру воздуха (замечая, что в этих местах очень жарко) и указывает ее в отчете, а уже затем замечает, что миссионеры живут в симпатичных домиках, устланных сплетенными из лиан циновками и окруженных садами.
 Эсмеральда, на берегах Ориноко, гравюра, (вероятн. 1834–1867), по литографии Чарльза Бентли.
Эсмеральда, на берегах Ориноко, гравюра, (вероятн. 1834–1867), по литографии Чарльза Бентли.
Я попытался представить себе вольный путеводитель по Мадриду — такое издание, в котором я бы мог расставлять местные достопримечательности по ранжиру так, как мне хочется, в соответствии с собственной иерархией интересов и приоритетов. Я, несомненно, поставил бы максимальные три звезды совершенно очевидному недостатку овощей в испанской кухне (когда я в последний раз ел по-настоящему, передо мной предстал целый парад мясных блюд, которые были едва-едва «разбавлены» считаными побегами бледной, худосочной, явно консервированной спаржи). Не менее высоко оценил бы я и поразившие меня тяжеловесно, но невероятно благородно звучащие «многоэтажные» имена самых обычных испанцев (у девушки — ответственного секретаря оргкомитета конференции — было длинное, с бесчисленными «де» и «ла», составное имя, к которому, по идее, должен был прилагаться фамильный замок, вереница верных слуг, старинный колодец в подземелье замка и, несомненно, родовой герб; все мои теоретические рассуждения шли вразрез с реальной жизнью этой испанки, ездившей на стареньком пыльном «Фиате-Ибице» и жившей в квартире-студии где-то в районе аэропорта). Мне показалось любопытным, насколько невелик размер ноги у среднего испанца, а также понравилась тяга к современной архитектуре, заметная везде, за исключением, пожалуй, самых старых исторических районов Мадрида. У меня возникло ощущение, что для современных местных архитекторов гораздо важнее оказывается не удобство здания, не его внешняя привлекательность, а скорее сам факт его современности и все, что эту современность подчеркивает. Пусть ради создания «современного» облика к вполне милому зданию буквально насильно приходится пристраивать омерзительный, отделанный бронзой фасад, уродующий сам дом и окружающее пространство, — это будет сделано в угоду вожделенной современности и актуальности (похоже, что современные веяния в архитектуре долгое время были в Мадриде под негласным запретом, и теперь их прописывают обществу в убойных дозах с целью компенсировать былой недостаток). Все эти наблюдения оказались бы на первых строчках моего списка интересных сведений о Мадриде, будь внутренний компас моего любопытства волен выбирать собственный полюс притягательности, а не блуждал бы бессмысленно и уныло в сильнейшем магнитном поле чужой логики и системы ценностей, наведенном в общем-то маленьким и невзрачным предметом — мишленовским «Путеводителем по мадридским улицам». Этот настырный и бесцеремонный гид упорно вел меня, куда считал нужным, в данный момент — к весьма мрачной и угрюмой, на мой взгляд, лестнице в пустынных, отзывающихся гулким эхом коридорах монастыря Дескальсас Реалес.
8
В июне 1802 года Гумбольдт совершил восхождение на гору, считавшуюся тогда высочайшей вершиной в мире, — вулканический пик Чимборасо в Перу, высота которого составляет 6267 метров над уровнем моря. Вот как описывал эту экспедицию сам Гумбольдт-ученый: «Мы продвигались вперед сквозь плотные облака. Во многих местах ширина гребня, по которому мы шли, составляла не более восьмидесяти дюймов. По левую руку открывался вид на снежный обрыв, ледяная кромка которого сверкала, как стекло. Справа угадывалась сквозь туман пропасть глубиной от 800 до 1000 футов, на дне которой едва виднелись нагромождения огромных камней и обломков скал». Несмотря на тяжелые условия и опасности, Гумбольдт находит время обратить внимание на то, что, несомненно, не заметил бы никто из простых смертных: «Несколько экземпляров скального лишайника встретились нам выше уровня снеговой линии, на высоте 16 920 футов. Последний вид зеленого мха был отмечен нами на этих склонах на 2600 футов ниже. М. Бонплан (участник экспедиции Гумбольдта) поймал бабочку на отметке 15 000 футов над уровнем моря, а последнюю муху мы видели на 1600 футов выше…»
 Фридрих Георг Вайтш. Александр фон Гумбольдта и Эме Бонплан у подножия вулкана Чимборасо, 1810 г.
Фридрих Георг Вайтш. Александр фон Гумбольдта и Эме Бонплан у подножия вулкана Чимборасо, 1810 г.
Почему так получается, что человеку бывает страшно интересно, на какой высоте над уровнем моря ему на глаза попалась какая-то муха? Почему ему есть дело до клочка мха, растущего на гребне вулканической гряды шириной буквально в десять дюймов? Если говорить о Гумбольдте, то его любопытство вовсе не было произвольным или непредсказуемым. Сфера его научных интересов формировалась на протяжении длительного времени. Мухи и мхи с лишайниками привлекли его внимание лишь потому, что были связаны с поисками ответов на другие — давние, более общие и, кстати, более понятные непосвященному вопросы.
Любопытство можно образно представить как множество цепочек, состоящих из бесчисленных «маленьких» вопросов. Эти цепочки протянулись далеко — во все стороны от своего рода условного центра, который, в свою очередь, формируется несколькими крупными, принципиально важными и прямыми, понятно поставленными вопросами. В детстве мы задаемся такими вопросами, как «Почему на свете есть добро и зло?», «Как устроен мир?» и «Почему я — это я?». Если обстоятельства складываются благоприятно, если у человека формируется правильный характер, то впоследствии, уже в зрелом возрасте, он выстраивает на фундаменте этого детского желания понять мир подлинное, взрослое любопытство и со временем совершенствует его до такой степени, что неинтересных тем и вопросов для него просто не остается. Глобальные и вместе с тем простые вопросы тесно переплетаются с менее значимыми, но оттого гораздо более сложно сформулированными, порой внутренне противоречивыми проблемами, требующими для понимания и решения особых, узкоспециализированных, почти тайных знаний. В конце концов, человек сам не замечает, как его больше всего на свете начинают интересовать высокогорные мухи или, например, отдельные фрагменты фресок на стене дворца шестнадцатого века. Ему вдруг начинает казаться, что для познания нашего мира в целом нет ничего важнее подробнейшего изучения внешней политики, проводившейся каким-то давно упокоившимся монархом, который правил на Иберийском полуострове в незапамятные времена, или же постижения подлинной значимости торфа как энергетического ресурса в период Тридцатилетней войны.
Если попытаться раскрутить ту цепочку вопросов, которая привела к тому, что на гребне гряды, ведущей к вершине вулкана Чимборасо, Гумбольдта больше всего волновали редкие, случайно залетевшие на такую высоту мухи, то выяснится, что эта цепочка уходит далеко в прошлое — в глубокое детство ученого. Еще в шесть лет Александр Гумбольдт вдруг задался вопросом: «Почему в окружающем мире все так по-разному устроено?» Подобные мысли стали приходить будущему ученому в голову после того, как он, житель Берлина, съездил к родственникам на юг Германии. Окружающие с пониманием отнеслись к проблемам, над которыми ломал голову смышленый мальчик, и, услышав в очередной раз вопрос вроде: «А почему деревья, которых так много в Баварии, не растут в Берлине, и наоборот?», не ограничились краткими объяснениями, а снабдили Александра целой библиотекой книг о природе и микроскопом, а также наняли ему учителей и гувернеров, разбиравшихся в ботанике. В семье его называли не иначе, как «нашим маленьким химиком», а в гостиной по распоряжению матери мальчика были повешены выполненные им учебные рисунки различных растений. К моменту отплытия к берегам Южной Америки у Александра Гумбольдта уже сложилось собственное научное мировоззрение, и он был готов к тому, чтобы сформулировать в своих работах те законы, согласно которым климат и географическое положение формируют флору и фауну тех или иных территорий. Любопытство, проявившееся в семилетнем мальчике, не угасло во вполне сформировавшемся ученом, лишь вопросы, занимавшие его взрослого, были лучше систематизированы и касались весьма частных аспектов ботаники как научной дисциплины. Его, например, интересовало, «влияет ли на рост папоротников их расположение на северных склонах складок местности», или же «на какой предельной высоте выживет росток пальмы».
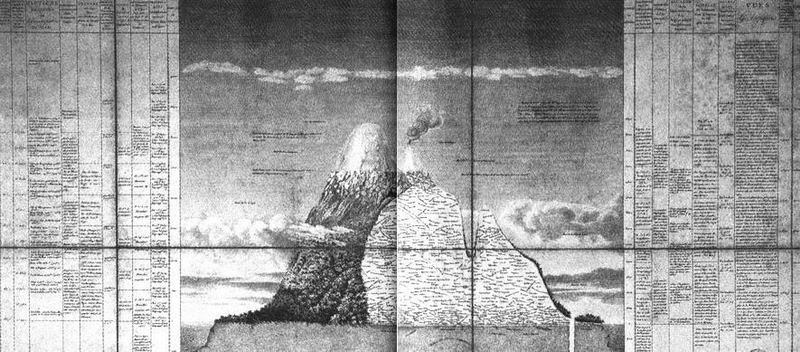 География тропических растений из физического описания региона Анд и близлежащих территорий, 1799–1803 гг.
География тропических растений из физического описания региона Анд и близлежащих территорий, 1799–1803 гг.
Разбив базовый лагерь у подножия Чимборасо, Гумбольдт вымыл ноги, позволил себе краткую сиесту и практически сразу же начал писать «Essai sur la geographie des plants»
[7] — статью, в которой он подробно рассмотрел распространение тех или иных форм растительного покрова в зависимости от высоты местности над уровнем моря и преобладающих температур. Он утверждал, что существуют шесть высотных зон. От уровня моря до высоты примерно 3000 футов отмечается произрастание пальм и бананов. До высоты 4900 футов преобладают различные папоротники, а выше, вплоть до 9200 футов — дубы. Затем идет зона, в которой наблюдаются условия, наиболее благоприятные для произрастания вечнозеленых кустарников (Wintera, Escalloniceae), граничащая в верхней части с зоной альпийских лугов, разделенной Гумбольдтом на два пояса: между 10 150 футами и 12 600 футами преобладает альпийское разнотравье, а от 12 600 футов и выше, до 14 200 футов, оно уступает место дерну и лишайникам. Гумбольдт увлеченно сообщает будущим читателям, что выше 16 600 футов над уровнем моря мухи практически не встречаются.
9
Энтузиазм Гумбольдта относительно высокогорных мух лишь подтверждает, что главное для путешественника и исследователя — это правильно поставить вопрос, обращенный к окружающей реальности, к миру в целом. Правильно сформулированное в вопросе отношение к тем или иным явлениям как раз и определяет разницу между раздражением, которое вроде бы должны вызывать надоедливые насекомые, и внезапно охватывающим человека непреодолимым желанием спуститься с горы и немедленно начать писать «Essai sur la geographie des plants».
[8]
К величайшему сожалению для обычного путешественника, большая часть из того, что встречается ему на пути, не помечена этикеткой с указанием правильного вопроса, который следует задать для того, чтобы именно этот объект или явление вызвали у путника тот интерес, которого они в полной мере заслуживают. Если же подобная этикетка или вывеска присутствуют, то тем хуже: скорее всего, они наведут приезжего на ложный след, а то и вовсе оттолкнут от интересного места или памятника истории. Так получилось и со мной: ни одна из множества этикеток, которые должны были привлечь мое внимание к мадридской церкви Сан-Франсиско-Эль-Гранде, стоящей в торце загруженного транспортом проспекта Каррера де Сан-Франсиско, не добилась результата и не смогла заинтересовать меня этим сооружением.
«Стены и потолки церкви расписаны в XIX веке, за исключением фресок, украшающих своды приделов-часовен, посвященных святым Антонию И Бернадино. Эта роспись датируется восемнадцатым веком. В капелле Сан-Бернадино, первом приделе на северной стороне здания храма, находится известная фреска, изображающая святого Бернадино Сиеннского, читающего проповедь Королю Арагона. Настенная роспись была выполнена в 1781 году молодым Гойей. Скамьи и стулья ХVI века, находящиеся в ризнице и трапезной, что были привезены из Эль-Паулара картезианского монастыря, находящегося неподалеку от Сеговии».
 Церковь Сан-Франсиско-Эль-Гранде.
Церковь Сан-Франсиско-Эль-Гранде.
Эта информация никоим образом не могла всколыхнуть или хотя бы зацепить мое любопытство. Она для меня была нема, как та самая муха на гумбольдтовском вулкане. Если бы путешественнику захотелось самому как-то заинтересоваться всеми этими «стенами и сводами… украшенными фресками ХIХ века» (вместо того, чтобы покорно позволять кому-то тащить себя к этим шедеврам), ему как минимум пришлось бы найти способ связать все факты тоскливые и занудные, как гумбольдтовская муха — с одним из глобальных, серьезных вопросов, ответы на которые человек ищет всю жизнь и, следовательно, с искренним любопытством относится ко всему, что так или иначе имеет отношение к поискам.
Для Гумбольдта такой вопрос звучал следующим образом: «Почему в природе наблюдается региональная вариативность?» Человек, оказавшийся перед церковью Сан-Франсиско-Эль-Гранде, в подобной ситуации, наверное, должен был задаться вопросом:
«Почему люди считают, что нужно строить церкви?» или даже «Почему мы верим в Бога?». Начав размышлять над этими чересчур общо и даже несколько наивно сформулированными проблемами, можно протянуть целую цепочку вопросов, вскоре сфокусировав любопытство на уже более конкретных темах, например: «Почему церкви, построенные в разных странах, не похожи друг на друга?», «Каковы основные стили и направления церковной архитектуры?» или «Какие архитекторы стали наиболее известными и что помогло им преуспеть в своем мастерстве?». Только выстроив для себя подобную цепочку вопросов, только проследив всю эволюцию развития любопытства, путешественник может не со скукой и унынием, а с неподдельным интересом прочитать статью в путеводителе или выслушать лекцию, предложенную ему у подножия стены неоклассического фасада, возведенного по проекту Сабатини.
Опасность, подстерегающая путешественника, заключается в том, что достопримечательности попадаются нам на глаза не тогда, когда нужно, — в момент, когда мы еще не готовы настроить на них свое любопытство, когда новая информация оказывается такой же бесполезной, беспорядочной и быстро теряемой, как пригоршня бусин, не надетых на нитку.
Риск только усугубляется географическими факторами: дело в том, что во многих городах исторические памятники расположены буквально в двух шагах друг от друга, но при этом они слишком разнообразны и не похожи один на другой, чтобы можно было по достоинству оценить их без специальной подготовки. Оказавшись в известном месте, побывать в котором еще раз нам, скорее всего, уже не удастся, мы чувствуем себя просто обязанными с восторгом и восхищением пробежаться по местным достопримечательностям, составляя маршрут по принципу географической близости одного памятника к другому и совершенно не учитывая, что далеко не каждый человек способен воспринять и тем более переварить такую мешанину исторических фактов, архитектурных стилей и эстетических концепций. Ведь нам предлагают, например, проявить любопытство в отношении готической архитектуры, и мы даже не догадываемся, что буквально на соседней улице нас уже ждут не дождутся выкопанные из-под земли сокровища этрусков, также требующие к себе внимания и должного интереса.
В Мадриде заезжему туристу настойчиво предлагают с восхищением обозреть Пасасио Реаль — королевскую резиденцию восемнадцатого века, знаменитую в первую очередь монаршими покоями, пышно и даже избыточно украшенными в барочном стиле под руководством Гаспарини, самого модного в те времена дизайнера интерьеров, а затем, буквально несколько минут спустя, посетить Центр искусств королевы Софии — лаконично оформленную, побеленную от пола до потолка галерею, коллекция которой полностью составлена из произведений искусства двадцатого века. Наиболее известная работа, хранящаяся в этом музее, — это «Герника» Пикассо. При этом все мы прекрасно понимаем, что человек, настроенный углубить свои познания или просто интересующийся дворцовой архитектурой восемнадцатого века, ни за что не пойдет в галерею королевы Софии, а, посетив Паласио Реаль, постарается съездить в Прагу или Санкт-Петербург.
Путешествие выворачивает нашу любознательность наизнанку, подчиняя его поверхностной географической логике. Столь же поверхностным и бесполезным был бы, например, университетский курс лекций, посвященный описанию и классификации книг по их формату, а не по содержанию и тематике напечатанных в них текстов.
10
Ближе к концу жизни, спустя много лет после южноамериканских экспедиций, Гумбольдт — со смешанным чувством сочувствия к самому себе и законной гордости — жаловался в дневнике: «Люди часто спрашивают меня, почему у меня такие разносторонние интересы: ботаника, астрономия, сравнительная анатомия? Но разве можно запретить человеку интересоваться всем, что его окружает, разве можно запретить хотеть познать мир?»
Разумеется, мы ничего запрещать не можем и даже пытаться не будем. Наоборот, мы скорее ободряюще похлопаем такого любознательного исследователя по плечу, выкажем ему уважение. Но в то же время пусть у нас в душе останется хотя бы малая толика сочувствия по отношению к тем, кто, оказавшись в незнакомом, явно интересном месте, вдруг понимают, что не хотят никуда идти, не желают ничего видеть и мечтают только о том, чтобы улететь домой ближайшим самолетом и провести оставшееся время, не выходя из гостиницы и не высовывая носа из-под одеяла.
Ландшафт
V. 13 городе и за городом
Место:
Озерный край
Гид:
Уильям Вордсеорт
1
Из Лондона мы уехали на послеобеденном поезде. Мы договорились с М., что я буду ждать ее в метро на станции «Юстон». Я стоял в переполненном вестибюле и смотрел на людей, бесконечными вереницами поднимавшихся по эскалаторам. Только чудом, подумал я, мы с М. сумеем найти друг друга в этой толпе. Не меньшим чудом, по идее, должен был казаться тот факт, что из всех людей мне странным образом больше всего хотелось найти и увидеть именно ее, а не кого-то другого.
Ехали мы через самое сердце Англии, и городской пейзаж мало-помалу начинал сменяться сельским. Впрочем, скоро, стемнело, и вагонные окна превратились в печальные темные зеркала, в которых отражались только наши лица. Где-то в районе Сток-он-Трент я решил сходить в вагон-ресторан. Я шел по качавшимся (так, словно я был навеселе) вагонам и по своему обыкновению с нетерпением ждал возможности съесть что-нибудь, что было бы приготовлено не на нормальной кухне, а в несущемся на полном ходу поезде. Таймер микроволновки сначала лязгнул, как детонатор из старого фильма про войну, а затем мелодично звякнул, возвещая, что с моим хот-догом покончено. В этот момент мы как раз проезжали перекресток с какой-то дорогой — шлагбаумы были опущены, а чуть дальше мне удалось разглядеть наполовину стертый сумерками силуэт коровьего стада.
На станцию Оксенхольм (на всех табличках которой это название как субтитрами сопровождалось пояснением: «Озерный край») поезд прибыл около девяти часов вечера. С нами на платформу вышло всего несколько человек. Все вместе мы побрели к выходу в город; было свежо, и изо рта у нас шел пар. Остальные пассажиры остались сидеть в вагонах. Кто-то дремал, кто-то читал. Озерный край был для них всего лишь одной из остановок в пути, одной из многих — точкой в пространстве, где можно на мгновение оторваться от книги, посмотреть в окно на бетонные урны, симметрично обрамляющие платформу, сверить время по станционным часам и, быть может, непроизвольно зевнуть — не таясь и даже не прикрывая рот рукой, — затем, когда поезд, набирая ход, вновь возьмет курс на Глазго, вновь вернуться к недочитанной странице.
На станции было малолюдно. Впрочем, учитывая, что многие местные объявления и указатели дублировались по-японски, возникало предположение, что такие тишина и покой царят здесь не всегда. Арендованную еще из Лондона машину мы нашли в дальнем углу стоянки под уличным фонарем. Судя по всему, маленькие машинки — а именно такую мы себе заказывали — разобрали другие клиенты, и прокатная компания сделала широкий жест, предоставив в наше распоряжение большущий семейный седан бордового цвета, из безупречно чистого салона которого еще не выветрился пьянящий аромат нового автомобиля. На всякий случай сотрудники фирмы, похоже, прошлись по серым мягким коврикам пылесосом — я заметил на густом ворсе характерные примятые полосы.
2
Причины, непосредственно побудившие нас отправиться в путешествие, носили сугубо личный характер. В то же время они, несомненно, были связаны и с давней традицией загородных поездок, зародившейся еще во второй половине восемнадцатого века, когда жители крупных городов начали в массовом порядке выбираться на природу с целью поправить физическое здоровье и — что, разумеется, гораздо важнее — попытаться восстановить внутреннюю гармонию, обрести утраченное душевное равновесие. В 1700 году лишь семнадцать процентов населения Англии и Уэльса жило в городах, к 1850 году горожан стало уже пятьдесят процентов, а к 1900-му — семьдесят пять.
Мы поехали в Троутбек — деревню, расположенную в нескольких милях выше озера Виндермер. Там мы забронировали номер в небольшой гостинице, скорее на постоялом дворе, многозначительно называвшемся «Простой смертный». Две узкие кровати, накрытые старыми, в пятнах, покрывалами, были сдвинуты вместе. Хозяин показал нам ванную и предупредил о высоких тарифах на телефонные звонки из гостиницы — роскошь, которую, по его мнению, мы явно не могли себе позволить (такой вывод он, видимо, сделал исходя из того, как мы были одеты и как скромно и неуверенно вели себя в гостиной при регистрации). Уже уходя, он оптимистично пообещал, что в ближайшие три дня погода будет просто отличной, и пожелал хорошо отдохнуть в Озерном краю.
Мы включили телевизор, чтобы по привычке посмотреть лондонские новости, но буквально через минуту выключили «ящик» и открыли окно. Где-то в ночи ухала сова, и мы оба попытались представить себе, каково ей там, в лесу, в непроглядной темноте, где, кроме ее собственных криков, не слышно ни звука.
В какой-то мере я решил выбраться в эти места еще и из-за одного поэта. В тот вечер в гостиничном номере я решил почитать очередную часть «Прелюдии» Вордсворта. Издание в мягкой обложке украшал портрет кисти Бенджамена Хайдона. Художник изобразил поэта уже в годах — этаким суровым старцем. М. обозвала Вордсворта старой жабой и удалилась в ванную. Впрочем, позднее, стоя у окна и накладывая на лицо увлажняющий крем, она вдруг прочитала наизусть несколько строчек из стихотворения, название которого она не помнила, но которое когда-то произвело на нее более сильное впечатление, чем все читанное ранее:
Что толку: твой кремнистый путь блестит,
а я ослеп. Прости, мой друг, прости.
Кому сияешь, кто твоим сияньем
окутан как роскошным одеяньем?
Под шепот трав и стон цветов,
покрытых спящими шмелями,
я бесконечно вспоминать готов
о том, что было между нами.
Но горевать ли о приходе тьмы?
Или должны возрадоваться мы?
[9]
Мы забрались в кровать, и я попытался еще немного почитать. Сосредоточиться на стихах оказалось нелегко, особенно после того, как я обнаружил на дощатой спинке кровати длинный золотистый волос, явно не принадлежавший ни мне, ни М. Сколько же постояльцев, подумал я, побывало здесь, в «Простом смертном» до нас, и вот один, а скорее всего, одна из них, быть может, находящаяся сейчас где-то на другом континенте, оставил нам знак о своем пребывании в Озерном краю, оставил частицу себя, даже не догадываясь об этом. Мы с М. погрузились в беспокойный сон под уханье совы.
3
Уильям Вордсворт родился в 1770 году в Кокермауте, маленьком городке на севере Озерного края. По его собственным словам, он «провел половину детства, бродя без присмотра по окрестным холмам». За исключением сравнительно коротких периодов жизни, проведенных в Лондоне, Кембридже и в поездках по Европе, Вордсворт оставался верен родным местам: сначала он жил в скромном двухэтажном домике — Доув-Коттедже, или Голубятне — в деревне Грейсмер, а затем, когда известность помогла ему поправить материальное положение, перебрался в более основательное и просторное жилище — особняк в соседнем поселке Райдел.
Все эти годы почти каждый день Вордсворт подолгу гулял по окрестным холмам и по берегам озер. На дождь поэт попросту не обращал внимания. По его словам, дожди в Озерном краю шли так часто, что «напоминали промокшему и усталому путнику о тех ливнях, что проливались над Абиссинскими горами, чтобы напоить Нил перед ежегодным паводком». Один знакомый поэта, Томас де Квинси, приблизительно подсчитал, что за свою жизнь Вордсворт прошел около ста семидесяти пяти — ста восьмидесяти тысяч миль. Цифра эта покажется еще более внушительной, если принять во внимание не самое крепкое здоровье поэта и его телосложение. «Вордсворт вовсе не был здоровяком или богатырем, — писал де Квинси, — а его ноги подвергались самому безжалостному осмеянию со стороны всех экспертов женского пола, понимающих толк в мужских ногах. К сожалению, комический эффект только усиливался, когда Вордсворт находился в движении. По словам многих местных жителей, не раз встречавших его на прогулке, передвигался их сосед весьма потешным и странным образом — как-то по-крабьи боком и почти вприпрыжку».
Именно во время таких «крабьих» прогулок на Вордсворта находило вдохновение, в порывах которого были созданы многие сделавшие его известным стихи. Это и «К бабочке», и «К кукушке», и «К жаворонку», и «К маргаритке», и «К молодому чистотелу». Всех этих представителей флоры и фауны поэты и раньше упоминали в стихах, но лишь походя, словно случайно, и лишь Вордсворт возвел их в ранг
благородных тем, на описание которых он обращал все свое поэтическое мастерство, весь свой талант. 16 марта 1802 года — дата приводится по дневнику сестры поэта, Дороти, скрупулезно фиксировавшей на бумаге все перемещения брата по Озерному краю, — Вордсворт перешел мост у Бразерс Вотер, небольшого озера неподалеку от Паттердейла, а затем сел и написал такие строчки:
Пусть кричит петух
и бежит ручей.
Птицам ты не друг,
ты для них ничей.
Был бы ты горой,
был бы ты рекой, —
был бы ты герой,
ну а так — на кой?
Несколько недель спустя поэт написал другое стихотворение, на этот раз вдохновленный увиденным им воробьиным гнездом:
Взгляни, взгляни в гнездо дрозда!
Там пять лежит яиц.
Лишь падающая звезда
по красоте с таким сравнится!
Восторг, испытанный при звуках соловьиной трели, подтолкнул Вордсворта к написанию еще одного прекрасного стихотворения:
Ты — соловей, не скучная овечка!
Поешь, пока стучит твое сердечко,
Как девушка, которой бог вина
Налил бокал и пить велел до дна…
Все эти произведения вовсе не были случайным собранием сиюминутных восторгов от увиденного во время загородной прогулки. Они складываются в целую философскую систему, в формировании которой в рамках западной мысли и научной, а также творческой традиции Вордсворту принадлежит важнейшая роль. Именно ему удалось через концепцию единства с природой рассмотреть с точки зрения художника проблему стремления человека к счастью и истоков его несчастья. Поэт настойчиво утверждал, что природа, в которую он включал как могущественные стихии, так и птичек, ручейки и стрекоз с овечками, является необходимым человеку корректирующим фактором, способным компенсировать вред, наносимый психике постоянным пребыванием в большом городе.
Эта концепция поначалу встретила в обществе жесткое сопротивление. Так, в 1807 году лорд Байрон, просмотрев вордсвортовские «Поэмы в двух томах», пришел в негодование из-за того, что взрослый человек может на полном серьезе делать громкие заявления от имени всяких цветочков и зверюшек: «Что может сказать любой нормальный читатель, вышедший из младенческого возраста, по поводу сентиментально-жеманных причитаний этого, видите ли, поэтического цикла, просто вгоняющего нас обратно в колыбель и заставляющего лепетать что-то невнятное и неразумное?» «Эдинбургское ревю» сочувственно задавалось вопросом, не специально ли автор «этой детской глупости» вознамерился стать предметом насмешек со стороны критиков и читающей публики: «Вполне возможно, что, увидев садовую лопату или воробьиное гнездо, Вордсворт действительно испытал сильные чувства и впоследствии серьезно думал об этом… но столь же очевидно, что большинству людей подобные ассоциации покажутся искусственными и натянутыми. Все от души потешаются над „Элегическими стансами, посвященными молочному поросенку“, над „Гимном стирке“, над „Сонетами, воспевающими чью-то бабушку“ или же над „Пиндарическими одами пирогу с крыжовником“; однако убедить в этом господина Вордсворта оказывается не так-то легко».
Литературные журналы запестрели пародиями на поэта:
Я лишь облачко увижу —
Мысль из глотки так и прет:
До чего же симпатичен
Этот милый небосвод! —
писал один пародист.
То не галка ли в кустах?
Не малиновка ли? Ах! —
вторил ему другой.
Вордсворт держался стоически. «Не нужно переживать из-за столь неблагожелательной сиюминутной реакции на эти стихи, — советовал он леди Бомон, — ибо совсем иной вижу я их судьбу, совсем иначе будут их оценивать в будущем. Я уверен, что эти стихи смогут стать утешением для многих и многих обиженных и несчастных, многих счастливых они сделают еще счастливее. Они будут учить юных и тех, кто великодушен и пытлив в любом возрасте, искусству видеть, чувствовать и думать, чтобы они могли стать еще мудрее, еще добродетельнее. Вот каково их подлинное предназначение, вот их роль, которую они будут верно исполнять еще долго-долго после того, как мы с вами (да, увы, все мы смертны) сгнием в могиле».
Ошибся Вордсворт лишь в сроках, предполагая, что для понимания его поэзии обществу потребуется очень много времени. «Вплоть до 1820 года его топтали все кому не лень, — описывает ситуацию де Квинси. — С 1820 по 1830 год он завоевывает известность, а с 1830 по 1835 год его имя победно звучит на устах читающей публики». Общественные вкусы изменились не мгновенно, но радикальнейшим образом. Читатели как-то незаметно перестали бесцеремонно высмеивать стихи Вордсворта и сумели оценить, поддаться очарованию, а многие и выучить наизусть гимны, воспевающие бабочек, и сонеты, посвященные чистотелу. Творчество Вордсворта привлекло в те места, где поэт обретал вдохновение, множество людей. В Виндермере, Райдале и Грасмере один за другим открывались отели и гостевые домики. По приблизительным подсчетам, к 1845 году в Озерном крае побывало больше туристов, чем там было овец. Приезжие часами выжидали, когда в райдальском саду мелькнет знакомый кособокий силуэт прихрамывающего поэта, бродили по холмам и вокруг озер, воспетых в его стихах. После смерти Соути в 1843 году почетное звание поэта-лауреата перешло к Вордсворту. Группа влиятельных лондонских поклонников его таланта вынашивала планы по переименованию Озерного крах в Вордсвортшир.
В итоге ко времени смерти поэта (а скончался он в возрасте восьмидесяти лет в 1850 году, когда половину населения Англии и Уэльса уже составляли городские жители) практически все серьезные и уважаемые критики уже, похоже, разделяли предложенную Вордсвортом концепцию регулярных выездов на природу как противоядия вреду, наносимому человеку жизнью в большом городе.
4
В какой-то мере претензии к городу заключались в недовольстве задымленным воздухом, скученном проживании больших масс людей, распространенной бедности и общей неприглядности большинства кварталов. Впрочем, введение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, равно как и облагораживание и расчистка трущоб, вряд ли бы заставили Вордсворта воздержаться от дальнейшей критики. Его в гораздо большей степени беспокоил вред, который наносит город нашим душам, чем его негативное влияние на наше физическое здоровье.
Поэт обвинял город в потакании самым опасным, разрушительным для человеческой души чувствам — стремлению занять как можно более высокую ступень в общественной иерархии, зависти к успехам и достижениям окружающих, в тщеславии и непреодолимом желании производить эффектное впечатление на всех вокруг, включая совершенно незнакомых людей. Горожане лишены объемного, перспективного видения мира, заявлял он. Они находятся в плену того, что говорят окружающие, — будь то на улице или же за обеденным столом. Даже хорошо обеспеченные всем необходимым, они стремятся к обладанию все новыми и новыми вещами, которые на самом деле им не нужны и которые в итоге ничуть не делают их более счастливыми. В переполненном людьми тесном пространстве нормальные дружеские и искренние отношения устанавливаются гораздо труднее, чем при жизни в оторванных от шумного мира особняках и усадьбах. «Есть вещи, неподвластные моему разуму, — писал Вордсворт о своем пребывании в Лондоне, — Я так и не понял, как можно жить буквально бок о бок с людьми и оставаться совершенно чужими друг другу; как можно жить и не знать, как зовут твоих ближайших соседей».
Меня самого тоже мучает многое, что было непонятно Вордсворту, неприемлемо для него. За несколько месяцев до поездки в Озерный край со мной произошел такой случай: я сбежал с какого-то светского мероприятия, проводившегося в самом центре Лондона — этого «шумного мира людей и вещей» («Прелюдия»). Чтобы успокоиться и постараться избавиться от зависти к другим и мыслей о собственном положении в обществе, я решил пройтись пешком.
Через некоторое время мне довелось испытать прилив положительных эмоций, вызванный появлением в небе прямо над моей головой какого-то странного, необычного объекта. Несмотря на темное время суток, я даже попытался сфотографировать его лежавшей у меня в кармане «мыльницей». Облаку — а это было именно оно — каким-то непостижимым образом удалось умиротворить меня, вернуть покой в мои мысли и душу. Лишь несколько раз до этого мне доводилось вот так, в полной мере, испытывать искупительное воздействие сил природы, о котором столько писал Вордсворт. Облако появилось над районом, где я находился, буквально за несколько минут до того, как я обратил на него внимание. Судя по сильному, дувшему с запада ветру, задержаться там надолго ему бы не удалось. Огни окружавших меня офисных зданий подсвечивали облако по краям каким-то декадентским флюоресцирующим светом, отчего оно становилось похоже на дряхлого, стоящего одной ногой в могиле старика, которого зачем-то «украсили» по поводу праздника новогодним «дождиком» и серпантином. Тем не менее сердцевина тучи гранитно-серого цвета не переставала вызывать уважение и напоминать о том, что это метеорологическое явление порождено могучими силами взаимодействия великих стихий — моря и воздуха. Вскоре облаку предстояло проплыть над эссекскими полями, над болотистыми низменностями и прибрежными нефтеперерабатывающими заводами, а затем оказаться над бурными, мятежными волнами Северного моря.

Я шел к автобусной остановке и не спускал глаз с небесного явления, чувствуя, как с каждым шагом мои мысли успокаиваются, беспокойство стихает, а душа все больше наполняется тем настроением, которое кривоногий, передвигавшийся вприпрыжку поэт так замечательно передал в стихотворении, посвященном уэльской долине
[10]:
Когда б в природной колыбели
качали нас до седины
и мы возвышенно робели
под взглядом Жизни ледяным, —
как просто было бы клевретам,
завистникам, клеветникам
нас, обольщенных вечным летом,
прибрать к рукам.
И связывать опасной связью
свою улыбку водолазью
с улыбкой ангельской иной.
…Но так, увы, заведено,
что эта дивная опека
не достигает человека.
5
Летом 1798 года Вордсворт с сестрой приехали в Уэльс, чтобы погулять по долине реки Уай. Именно в ходе этих прогулок Уильяму было суждено испытать откровение и осознать в полной мере величие и могущество Природы, познать то, что впоследствии звучало в его поэзии долгие годы, до самого конца жизни. В этой долине поэт однажды уже бывал — пятью годами ранее ему уже доводилось гулять по окрестностям. Время, прошедшее между этими двумя поездками, оказалось для Вордсворта непростым и не слишком счастливым. Несколько лет он прожил в Лондоне — городе, внушавшем ему ужас. Читая Годвина, он болезненно менял свои политические взгляды, дружба с Кольриджем коренным образом преобразила его представление о роли поэта в обществе. Ему довелось и побывать в революционной Франции, охваченной робеспьеровским террором.
Вновь оказавшись в Уай, Вордсворт находит подходящий пригорок, садится под раскидистым кленом, окидывает взглядом долину, текущую по ней реку, окружающие ее обрывистые берега, поля с живыми изгородями, леса — и в его душе рождается творческий порыв. В этот день Вордсворт пишет, наверное, лучшее свое стихотворение. По крайней мере, по его собственным словам, «ни одно из моих стихотворений не было написано в более приятных для меня обстоятельствах, чем это», — поясняет он, вспоминая, как создавались «Строки, написанные в нескольких милях от Тинтернского аббатства», которым он предпослал такой подзаголовок: «Вновь побывав на берегах реки Уай в ходе долгой поездки». Эти стихи стали настоящей одой целительным силам природы.
Простой природы дивные черты
Я позабыл и слепо жил под небом
Мятежных городов. Я был на «ты»
С галантерейщиком, торговцем хлебом.
И одиночество чужих квартир,
Как горькую микстуру, поглотил.
Она в моей крови перебродила
(или я сам — в крови — перебродил?).
Когда весь мир сгорает в лихорадке,
В тени и в резком солнечном луче —
То вензель нарисует на плече,
То с родинкой живой играет в прятки,
Я духом устремляюсь прочь отсель.
К звезде полей, вод ель.
 Филипп Джеймс де Лоутербург. Река Уай у Тинтернского аббатства, 1805 г.
Филипп Джеймс де Лоутербург. Река Уай у Тинтернского аббатства, 1805 г.
Дихотомия города и деревни является стержнем всего произведения: один член бинарной оппозиции (деревня, природа) раз за разом противопоставляется другому (город) — словно призываемый для того, чтобы уравновесить вредоносное воздействие своей противоположности.
В свою очередь, в «Прелюдии» поэт вновь признается, что находится в неоплатном долгу перед Природой, вновь благодарит ее за то, что именно она дает ему силы оставаться в полной мере человеком, даже при необходимости пожить какое-то время в городе, за то, что благодаря ее поддержке он не погружается в пучину низких страстей и мелочных желаний, к чему настойчиво подталкивает город любого своего жителя:
Наедине с природой — червь и царь —
В желаньях сердца становись разборчив.
Пустое бросив как бы между прочим,
Себя не сильно порицай.
В сравненье, например, с большой горой
Ты не такой уж и большой герой.
6
Но почему? Почему, находясь рядом с водопадом, на склоне горы или в любом другом месте на лоне природы человек с меньшей вероятностью будет испытывать «враждебность или низкие желания», чем если бы он оказался на многолюдной городской улице?
Озерный край обещал нам помочь найти ответ. Мы с М. встали с утра пораньше и спустились в столовую «Простого смертного». Стены ее были выкрашены розовым, но зато из окон открывался великолепный вид на долину. Шел сильный дождь, но хозяин заверил нас, что это ерунда, всего лишь утренний душ для окрестностей, и что дождь скоро закончится. С этими словами он поставил перед нами овсянку, не забыв упомянуть, что яйца в стоимость завтрака не включены и что за них нужно будет заплатить отдельно. Завтракали мы под доносившиеся из колонок магнитофона мелодии перуанских флейт, почему-то перемежавшихся с наиболее известными фрагментами «Мессии» Генделя. Поев, мы собрали рюкзак и поехали в Эмблсайд, где запаслись самыми необходимыми в пешей прогулке вещами — компасом, непромокаемой папкой с держателем для карт, водой, шоколадом и парочкой-другой бутербродов.
Маленький провинциальный городок, Эмблсайд оказался шумным и суматошным, как заправский мегаполис. С грузовиков шумно сгружали доставленные товары, повсюду висели рекламные плакаты отелей и ресторанов, во всех кафе, несмотря на ранний час, было многолюдно. На стойках рядом с киосками лежали пачки газет, заголовки которых возвещали об очередном скандале, разразившемся в Лондоне.
Буквально в нескольких милях к северо-западу от городка, в Большой Лангдальской долине, атмосфера была совсем иной. Впервые с момента приезда в Озерный край мы действительно очутились на природе — в таком месте, где ее присутствие ощущалось сильнее, чем присутствие людей. По обеим сторонам тропинки, по которой мы шли, росли дубы. Почтенные деревья с достоинством расположились на некотором удалении друг от друга, в полях, которые с точки зрения овец, должно быть, выглядели столь аппетитно, что их хотелось хорошенько объесть, доведя до состояния хорошо выстриженной лужайки. Сами дубы явно были деревьями благородного происхождения: в отличие от всяких там ив они не волочили ветви по земле и не позволяли себе такой вольности, как появление на людях с всклокоченной кроной, как это бывает свойственно выскочкам-тополям, при взгляде на листву которых порой возникает ощущение, что они только что проснулись и еще не успели причесаться. Нет, дубы вели себя по-другому. Нижние ветви они тщательно подбирали под себя, а верхним позволяли расти ровными ярусами, образующими в итоге плотную крону почти идеальной шарообразной формы, ни дать ни взять — архетип дерева, наивно, но точно изображенный на детском рисунке.
Несмотря на все обещания хозяина гостиницы, дождь так и не перестал. При этом именно постоянная морось помогла нам оценить подлинную массивность кроны дуба. Стоя под деревом, мы слышали, как дождевые капли выбивают по сорока тысячам листьев исполненную великой гармонии симфонию, высота нот и тональность которой зависели от того, падает ли та или иная капля на верхний лист или на нижний, на большой или на маленький, на тот, где уже скопилась капля воды, или же тот, что шевелился на ветру, не отягощенный лишней нагрузкой. Деревья предстали перед нами наглядным примером гармонической, упорядоченной сложности: корни терпеливо выкачивали питательные вещества из почвы, капилляры ствола перекачивали живительный раствор на двадцать пять метров вверх, каждая ветка забирала из потока свой ручеек, чтобы напитать свои листья — ровно столько, сколько нужно, и ни каплей больше, каждый лист вносил посильный вклад в общее дело. А еще дубы можно было назвать символом терпеливости. Они спокойно перестояли это дождливое утро, равно как и множество других ненастных дней, и при этом никто и никогда не слышал, чтобы они жаловались или как-то выражали свое недовольство погодой или периодической сменой времен года. Ни тебе раздражения по поводу очередной грозы, ни попыток перебраться куда-нибудь в более уютное местечко — например, хотя бы в соседнюю долину. Нет, они продолжали стоять на месте, вполне довольные своей участью — возможностью впиться множеством длинных гибких пальцев в вязкую глинистую почву, запустить их далеко, на много метров от центрального корневого стержня, и еще дальше от листьев, набирающих в ладони дождевую воду.
Вордсворт обожал сидеть под дубами, прислушиваясь к шелесту дождя или же всматриваясь в узор солнечных лучей, иссеченных густой резной кроной. То, что он слышал и видел, смиренность и достоинство могучих деревьев, воспринималось им как проявление высших сил Природы, тех сил, которые надлежало познавать и чтить.
Тебе привычна суета сует.
И день за днем душа твоя снует
В необратимом странном танце.
Как бы застрявшая меж двух миров,
И там, и здесь найдя свой кров,
И тень, и солнце.
Природа, по его глубокому убеждению, направляет разум человека таким образом, чтобы он стремился найти в жизни и в других людях «то, что в них есть хорошего и достойного подражания». Природа для Вордсворта — это «образ истинных утверждений и праведных побуждений», способный противостоять ложным и превратным порывам, свойственным человеку в городской жизни.
Для того чтобы признать — хотя бы частично — правоту аргументов Вордсворта, потребуется согласиться и с правотой еще одного, более общего и значимого постулата, по которому наша внутренняя сущность является субстанцией весьма податливой и управляемой. Согласно этому принципу, мы меняемся в зависимости от того, с кем — а иногда и с «чем» — нам приходится взаимодействовать и сосуществовать. Пребывание в обществе одних людей способствует проявлению таких качеств, как великодушие и чуткость, компания других, видимо, способна спровоцировать у нас проявления духа не-здорового соперничества и зависти к ближнему. Свойственная некоему А одержимость собственным социальным статусом может подтолкнуть — пусть неосознанно и практически незаметно — некоего Б к тому, чтобы он так же всерьез обеспокоился своей значимостью в глазах окружающих. Постоянные шутки другого А могут постепенно разбудить доселе дремавшее чувство юмора в очередном Б. Но стоит переместить этого Б в иную среду общения — и он начнет мало-помалу подстраиваться под очередного собеседника, неосознанно поддаваясь его — тоже не-осознанному — нажиму.
Какие же перемены могут в таком случае произойти с человеком, с его внутренней сущностью, когда он вдруг оказывается в обществе гор и водопадов, дуба или чистотела, объектов, судя по всему, не обладающих ни волей, ни разумом, а следовательно, не имеющих ни малейшей возможности как-то влиять на чье-либо поведение — подталкивать человека к чему-либо или же, наоборот, удерживать его от каких-то поступков? И все же, гласит важнейший постулат Вордсворта, неодушевленные предметы обладают способностью оказывать определенное воздействие на тех, кто находится рядом с ними. Это является краеугольным камнем его учения о благотворном воздействии природы на человека. Пейзажи, природные явления и объекты могут если не навязывать, то, по крайней мере, предлагать нам к рассмотрению некоторые абстрактные ценности: дуб заставляет задуматься о достоинстве, сосны — о решительности и целеустремленности, озера — о спокойствии… Таким образом, воздействуя на человека исподволь, незаметно и ненавязчиво, эти объекты вдохновляют его проникнуться идеалами тех или иных добродетелей.
В письме, написанном летом 1802 года и адресованном одному юному студенту, Вордсворт ведет дискуссию о предназначении поэзии и вплотную подходит к тому, чтобы дать определение ценностей и добродетелей, которые воплощала для него Природа: «Настоящему поэту… надлежит хотя бы в какой-то мере постараться очистить человеческие чувства и помыслы… сделать эти чувства более здравыми, чистыми и несуетными, иными словами — более созвучными Природе».
В любом естественном ландшафте Вордсворт находил хотя бы крупицу того, что было названо им «здравым, чистым и несуетным». Цветы, например, были для него образцом кротости и смирения.
К Дейзи
Дейзи, тихое созданье,
Чье сладчайшее дыханье
Веет рядом, там и тут, —
Умали мои печали,
Раздели мое отчаянье
Хоть на несколько минут…
Животные же, в свою очередь, символизировали доведенный до совершенства стоицизм. В свое время Вордсворт по-настоящему проникся уважением и привязался к лазоревке, которая даже в самую ненастную погоду выводила трели в саду, окружавшем его дом. Первая зима, которую поэт с сестрой провели в коттедже «Голубятня», выдалась на редкость холодной. Поддерживать бодрость духа им помогала пара лебедей, также впервые оставшихся зимовать на ближайшем озере и переносивших непогоду, холод и невзгоды с гораздо большим терпением, чем сами Вордсворты.
Примерно через час после того, как мы оказались в Лендейльской долине, дождь немного стих. Вскоре я и М. услышали слабое «си-и-ип, си-и-ип». Этот звук повторился несколько раз, время от времени ему вторило чуть более громкое и уверенное «тиссип». Три луговых конька заметались над травой чуть в стороне от тропинки. Черно-пегая каменка, сидящая с задумчивым видом на сосновой ветке, расправила крылья, чтобы просушить рябенькие желто-коричневые перья под солнцем уходящего лета. Чем-то встревоженная, она вдруг снимается с места и начинает кружить над долиной, издавая при этом пронзительно громкое, скрежещущее и быстро повторяющееся «щщвер-щщвер-щщвер». На гусеницу, упорно совершающую настоящее альпинистское восхождение на придорожный камень, ее крик не производит ни малейшего впечатления. Не реагируют на него и многочисленные овцы, пасущиеся в долине.
Одна из овец неспешным шагом подходит поближе к тропе и с любопытством смотрит на нас — заезжих гостей. Какое-то время люди и овца одинаково удивленно таращатся друг на друга. Затем овца решает, что нет смысла тратить на нас драгоценное внимание и время. Она садится на землю, лениво срывает губами пучок травы и начинает столь же неторопливо жевать, перекатывая с одной стороны рта на другую, как жевательную резинку. Почему я — это я, а она — это она? К тропинке подходит вторая овца и ложится вплотную к завалившейся на бок подружке. На протяжении, наверное, секунды они обмениваются, как мне кажется, многозначительными, понимающими взглядами. Похоже, что происходящее их даже несколько забавляет.
Сделав еще несколько шагов, мы слышим какой-то шум в густом зеленом кустарнике, растущем по берегам ручья. Сначала этот звук напоминает кашель немощного старца, прочищающего горло после завтрака. Затем до нас доносятся звуки какой-то отчаянно энергичной возни — словно кто-то с раздражением и вместе с тем азартно роется в слежавшейся многолетней подстилке из палой листвы, обронив на землю какую-то ценность. Впрочем, заметив, что его уединение нарушено, неведомое и не видимое для нас создание вдруг замирает на месте в самой гуще зарослей, и теперь до нас оттуда не доносится ни звука. Ощущение такое, что неизвестный зверь решил поиграть в прятки и сидит теперь за деревом тихо-тихо, как дети, которые точно так же замирают неподвижно, спрятавшись за одеждой в стенном шкафу. В Эмблсайде, совсем недалеко отсюда, люди завтракают в кафе и покупают газеты, а здесь в кустах сидит кто-то, скорее всего, мохнатый и, вполне вероятно, хвостатый, кто-то, питающийся ягодами или мухами и прочими насекомыми, кто-то, кому нравится рыться в лесной подстилке, кто-то чихающий и фыркающий — и при этом, несмотря на все странности и отличия, наш современник и сосед, создание природы, живущее рядом с нами на нашей отдельно взятой планете, но в совершенно иной вселенной — в мире, состоящем в основном из камней, деревьев, лесных запахов и тишины.
Вордсворт всегда стремился своей поэзией помочь читателю обратить внимание на тех многочисленных представителей животного царства, которых мы обычно не замечаем, хотя живут они совсем рядом с нами. Мы не привыкли с уважением относиться и высоко ценить тех, чье присутствие выражается для нас в «галочке» в небе или же в шуршании и возне в ближайших кустах. Поэт предлагает нам отказаться на время от привычного видения мира и посмотреть на окружающее пространство и все в нем происходящее из перспективы, которая открывается перед взором наших незаметных соседей. С его точки зрения, нет ничего полезнее, чем переключаться время от времени с одного регистра восприятия мира на другой, чем пытаться понять, как этот мир выглядит с точки зрения птиц и зверей. Почему же, спрашивается, это должно быть интересно и, быть может, даже окажет на человека благотворное воздействие? Возможно, потому, что человек как раз и ощущает себя несчастным из-за того, что видит мир однобоко. Незадолго до поездки в Озерный край я набрел в библиотеке на книгу, изданную еще в девятнадцатом веке, — сборник статей, посвященных месту птиц в поэзии Вордсворта и тому особому интересу, который он проявлял к этим созданиям. Уже в предисловии к изданию высказывалось предположение, что именно иная перспектива, иной ракурс видения мира птицами привлекали поэта, который воспринимал такую возможность величайшим благом для человека:
«Я уверен, что публика оценила бы и осталась весьма довольной, если бы местная, ежедневная и еженедельная пресса в нашей стране всегда уделяла подобающее внимание не только приездам и отъездам лордов, леди, членов парламента и прочих достойных людей, но также следила бы и предоставляла информацию о прилете и отлете мигрирующих птиц.
Если нам доставляют столько беспокойств и душевных терзаний ценности, которые исповедует наш век или же так называемая элита общества, то вполне возможно, что средством от этих мучений станет напоминание о разнообразии жизни на нашей планете, о том, что, помимо важных дел, которыми заняты выдающиеся люди современности, существуют еще и луговые коньки, робкое „си-и-ип“ которых слышится над полями и долинами.
Перечитав ранние стихи Вордсворта, Кольридж утверждал, что их гениальность заключается в том, что они „…способны придать очарование новизны многому из того, к чему мы привыкли и считаем обыденным; открывают в нас почти сверхъестественную остроту чувств, пробуждают наше сознание от летаргического сна привычек и направляют проснувшиеся мысли и чувства на красоту и чудеса окружающего мира — того неистощимого сокровища, которое мы, покрытые коростой ложно понимаемого знакомства и неизлечимого самомнения, имея глаза — не видим, имея уши — не слышим, и сердца наши остаются к нему холодны и безразличны“.»
«Красота и очарование» природы, по мнению Вордсворта, должны подталкивать нас к тому, чтобы мы искали — и находили — в себе самые лучшие качества. Два человека, забравшиеся на скалу и обозревающие текущий у ее подножия живописный ручей и прекрасную, поросшую лесом долину, вполне возможно, изменят свое отношение не только к природе, но и друг к другу, что в вордсвортовской системе координат обладает никак не меньшей ценностью.
Есть мысли и заботы, кажущиеся неподобающими и недостойными, когда ты стоишь на утесе над обрывом. О чем-то другом над обрывом думается особенно хорошо. Величественность открывающейся со скалы панорамы подталкивает к тому, чтобы человек и свой внутренний взор обратил на что-то величественное и прекрасное. Масштабы окружающего пространства напоминают о том, как мы малы и немощны, о том, что нужно со смирением осознавать, что любой из нас — не центр вселенной, что этот мир переживет всех нас. Впрочем, никто не станет отрицать, что можно продолжать по-черному завидовать коллеге, даже созерцая величественный водопад. Просто в таком месте подобные мысли, если принять на веру постулаты Вордсворта, придут человеку в голову с чуть меньшей вероятностью. Сам поэт утверждал, что жизнь, прожитая им на лоне природы, сформировала его характер таким образом, что он совершенно утратил вкус к соперничеству с кем бы то ни было, перестал завидовать и испытывать суетные тревоги и беспокойства. Он с полным правом мог сказать, что
Смотреть на человека сквозь очки
И радостно, и безопасно:
Тебе он виден весь — вульгарный, злой,
Как Золушка, в три слоя под золой,
Упорный и несчастный.
Но по другую сторону очков
Таков ты сам! Таков!
 Эшер Дюран. Родственные души, 1849 г.
Эшер Дюран. Родственные души, 1849 г.
7
У нас с М. не было возможности задержаться в Озерном краю Надолго. Уже через три дня после приезда мы снова сели в поезд и поехали обратно в Лондон. В вагоне напротив нас сидел человек, который всю дорогу громко говорил по мобильному телефону: всеми доступными ему из поезда средствами он усиленно и, судя по разговорам, невольными свидетелями которых мы стали, — безуспешно пытался разыскать какого-то Джима, по всей видимости, не спешившего отдавать взятые в долг деньги.
И Даже если допустить, что контакт с природой действительно оказывает на человека облагораживающее и Целительное воздействие, следует отдавать себе отчет в том, что эффект этого воздействия будет весьма ограничен. В первую очередь кратковременностью подобных выездов на свежий воздух. Едва ли следовало ожидать, что психологический эффект от трех дней, проведенных в Озерном краю, будет ощущаться дольше нескольких часов.
Вордсворт, впрочем, был менее пессимистичен в этом отношении. Осенью 1790 года поэт побывал в Альпах и немалую часть довольно длинного маршрута прошел пешком. Выехав из Женевы, он пересек долину Шамони, поднялся на перевал Симплон, а затем спустился по ущелью Гондо к озеру Маджоре. В одном из писем к сестре он так описывает то, что увидел во время этого путешествия: «Теперь, когда увиденные в пути пейзажи запечатлелись в моей памяти, едва ли я смогу прожить
хоть один день (курсив мой. — А. Б.), не вспомнив их и не получив очередную порцию счастья от созерцания, пусть и мысленного, этих прекрасных образов».
Эти слова — вовсе не гипербола. Альпийские пейзажи на много десятилетий остались с Вордсвортом, они поддерживали и вдохновляли его всякий раз, когда он вызывал в памяти эти величественные картины. Это позволяло поэту утверждать, что некоторые пейзажи, которые человеку довелось увидеть, остаются с ним на всю жизнь и что их целительный эффект не ослабевает с годами, раз за разом помогая преодолеть очередные трудности, возникающие на жизненном пути. Такие образы надолго сохраняющиеся в памяти, сам он называл «застывшими мгновениями».
…Нельзя войти в одну и ту же реку.
Но жизнь порой дарует человеку
Возможность ради опыта попасть
Кому-то в пасть.
Чтобы потом в беде и светлых гимнах
Не причитать: о боже, помоги мне!
А стиснув зубы, выбиться из сил.
И выбраться. И ввысь расти.
Эта уверенность в существовании совершенно особых, важных и надолго запоминающихся пейзажей и природных явлений своеобразно выразилась и в манере Вордсворта давать подзаголовки своим произведениям. Так, например, подзаголовок к стихотворению «Тинтернское аббатство» гласит: «Повторное посещение берегов реки Уай во время прогулки. 13 июля 1798 г.». Точное указание даты и подробное описание места, где было написано стихотворение, свидетельствуют, что, с точки зрения поэта, отдельные мгновения прогулки вокруг аббатства и некоторые увиденные в тот день пейзажи представлялись ему чем-то очень значимым и достойным сохранения в памяти не в меньшей степени, чем, например, день рождения или дата свадьбы.
Подобное «застывшее мгновение» выпало и на мою долю. Произошло это под вечер на второй день нашей поездки в Озерный край. Мы с М. сидели на скамеечке в окрестностях Эмблсайда и жевали какие-то «марсы-сникерсы». Поэтому у нас зашел не слишком содержательный разговор на тему любимых шоколадных батончиков. Выяснилось, что М. любит те, что с карамельной начинкой, я же, со своей стороны, проинформировал ее, что предпочитаю «две палочки хрустящего песочного печенья». По завершении обмена столь важной информацией беседа как-то сама собой сошла на нет. Я огляделся: по другую сторону от поля, вдоль которого шла тропинка, тек ручей. По его берегам росли деревья. Вот об одну небольшую такую рощицу — буквально несколько плотно прижавшихся друг к другу деревьев и кустов — и споткнулся мой взгляд. Я присмотрелся: оказалось, что на таком сравнительно небольшом «холсте», как кроны десятка-другого деревьев, художнику-природе удалось использовать немыслимое количество самых разнообразных оттенков зеленого цвета. Возникало ощущение, словно передо мной раскинули веер с образцами цветов и оттенков из каталога красок. Кроме того, деревья в этой роще выглядели какими-то особенно рослыми и пышными. Жизнерадостные и цветущие, они, казалось, и знать не хотят о том, что мир бывает суров и печален и что сам он уже не молод. Мне захотелось разбежаться и уткнуться лицом в эту зеленую подушку, чтобы живительный аромат, исходивший от каждого листочка, разом исцелил меня от всех недугов и придал новых сил. Мне показалось невероятным, что природе, которой в общем-то не было никакого дела до нас с М. — двух человек, присевших на скамейку, чтобы съесть по шоколадке, — удалось создать именно здесь, прямо перед нами, нечто такое, что так полно и точно соответствовало бы представлениям людей о красоте и гармонии.
Мое восторженное созерцание этого великолепия и его активное восприятие продолжались, наверное, с минуту, не больше. Затем в голове вновь зашевелились мысли о работе, да и М. напомнила, что пора возвращаться в гостиницу, потому что она собиралась куда-то позвонить. Я, признаться, и думать забыл о той роще — до тех пор, пока в один прекрасный день, когда я стоял в мертвой «пробке» в Лондоне, ее деревья не обступили меня и не отодвинули на задний план все мои заботы, все несостоявшиеся встречи и всю накопившуюся почту. На какое-то мгновение я вновь оказался наедине с этой прекрасной рощей. По правде говоря, я даже не знаю, деревья каких именно пород росли на берегу того ручья, но им, как старым верным друзьям, удалось сделать то, в чем я в тот момент больше всего нуждался: я смог переключить сознание на созерцание гармоничного, невероятно красивого пейзажа и тем самым дать передышку усталому мозгу, измученному тревогами и переживаниями. Можно сказать, что жизнь для меня в тот день вновь обрела смысл именно благодаря воспоминаниям об этих прекрасных деревьях.
15 апреля 1802 года в одиннадцать часов утра Вордсворт, прогуливаясь по западному берегу озера Уллсвотер, всего в нескольких милях от того места, где останавливались мы с М., увидел целое поле бледно-желтых нарциссов. В дневнике он написал, что цветов, «танцующих на ветру», было не меньше десяти тысяч. Совсем рядом плясали под напором ветра и волны на озере, но нарциссы «превзошли сверкающие воды в этом счастливом веселом танце». «Я радость испытал огромную в душе», — впоследствии описал Вордсворт в стихах свое восприятие этого сохранившегося в памяти «застывшего мгновения».
НАРЦИССЫ
Часто, лежа на кровати
и валяя дурака,
размышляю, не сорвать ли
мне нарциссов три цветка?
Сердце старое потешить
в аритмической качуче.
Словно я молод, и мы все те же,
и мир все тот же. И даже лучше.
Не слишком изящные по поэтической форме, последние строчки этого стихотворения, быть может, и провоцируют на жесткие и язвительные комментарии в стиле лорда Байрона по поводу «жеманно-сентиментальной чуши», но, с другой стороны, именно эти бесхитростные слова наводят нас на воспоминания о прекрасных «запечатленных мгновениях», о великолепных минутах и днях, проведенных на природе, вдали от города с его суетой, шумом и вечными транспортными проблемами. Именно благодаря этим стихам и связанным с ними воспоминаниям нам удается хотя бы ненадолго мысленно вырваться из окружающего нас «бушующего мира», вспомнить прекрасную, исполненную гармонии рощу у ручья или танцующие на ветру нарциссы у берега озера — чтобы с их помощью успешнее противостоять силам «враждебности и низменных желаний».
В поездке по Озерному краю
14–18 сентября 2000 года.
VI. О возвышенном
Место:
Синайская пустыня
Гиды:
Эдмунд Берк, Иов
1
Давний поклонник пустынь, которого всегда манили к себе фотографии американского Запада и не оставляли равнодушными имена, данные людьми великим пустыням — Мохаве, Калахари, Такламакан, Гоби, — я взял билет на чартерный рейс на израильский курорт Эйлат, с тем чтобы побывать в Синайской пустыне. В самолете я беседовал с соседкой — молодой австралийкой, зарабатывавшей на жизнь службой в охране эйлатского «Хилтона», — и читал Паскаля.
«Задумываясь над тем… как мало места в пространстве я занимаю, как мал знакомый мне мир и как легко он теряется в бесконечном множестве миров и пространств, о которых я ничего не знаю и в которых ровным счетом ничего не известно о моем существовании [lʼinfinie inmensite des espaces qui jʼignore et qui mignorent], я пугаюсь и прихожу в изумление от того, что я там, где я есть, а не где-нибудь в другом месте, нет никаких предпосылок к тому, чтобы я был именно там, где я сейчас, этому нет и не было никаких причин. Кто поместил меня именно сюда?»
[11]
Вордсворт учил нас тому, как нужно путешествовать, как получать от общения с природой, от созерцания пейзажей эмоции, которые окажут благотворное воздействие на наши души. Я же отправился в пустыню для того, чтобы научиться чувствовать собственную малость.
Обычно чувствовать свою малость и ничтожность бывает не слишком приятно, особенно когда о ней тебе напоминает швейцар в гостинице или же не вовремя проведенное сравнение твоей жизни с тем, чего добиваются и что совершают настоящие герои. Тем не менее есть и другая — гораздо менее унизительная — форма ощущения собственной малости. Некоторое подобие этого состояния можно ощутить, стоя перед такими полотнами, как «Скалистые горы. Пик Лендера» (1863) Альберта Бирштадта, «Лавина в Альпах» (1803) Филиппа Джеймса де Лоутербурга, или же перед «Меловыми скалами на острове Рюген» (1820) Каспара Давида Фридриха. Чем же притягивают, что дают нам эти бескрайние пустынные пространства, чем привлекает дикий пейзаж и пересеченная местность?
 Альберт Бирштадт. Скалистые горы, «Пик Лендера», 1863 г.
Альберт Бирштадт. Скалистые горы, «Пик Лендера», 1863 г.
2
Через два дня после начала путешествия группа из двенадцати туристов, к которой я присоединился, добралась до совершенно безжизненного участка Синайской пустыни — уединенной долины без единого деревца или кустика, без травы, без воды, без животных. Все дно этой долины было усыпано камнями и осколками скал, словно какой-то разгневанный великан сбросил их со склонов окрестных гор. Сами горы напоминали обнаженные Альпы, и нагота позволяла определить их геологическое происхождение, обычно скрытое под покровом почвы и хвойных лесов. Разломы и трещины в склонах свидетельствовали о тяжести прошедших тысячелетий. Геологические разрезы обрывов уходили в непредставимую глубь времен. Тектонические силы, бушевавшие когда-то, порвали гранит, как льняное полотно. Горы уходили вдаль во все стороны, до самого горизонта. Очень нескоро добрались мы до места, где Южносинайское плато переходит в безликое, раскаленное, как сковорода, каменистое пространство, которое бедуины называют Аль Тих — Пустыней Странствий.
3
Не так много эмоций, которые мы испытываем, попадая в разные незнакомые места, можно выразить буквально одним словом. Мы вынуждены нагромождать штабеля слов для того, чтобы выразить всю гамму эмоций, которые вызвало у нас, например, созерцание сгущающихся осенних сумерек или же очаровательного, гладкого, как стекло, озерца на лесной поляне.
Тем не менее примерно с начала восемнадцатого века широкое распространение получило слово, с помощью которого, как оказалось, можно довольно точно передать, что человек испытывает, заглядывая с обрыва в пропасть
или взирая на ледник, созерцая ночное небо или глядя на усеянную каменными глыбами пустыню. В таких местах мы испытываем чувство возвышенного и, рассказывая о своих путешествиях, можем рассчитывать на то, что, употребив это слово, будем поняты правильно.
Само это слово было впервые использовано в научном тексте в греческом трактате «О возвышенном», составленном во втором веке нашей эры и приписываемом философу Лонгину. Впрочем, оно достаточно долго прозябало в неизвестности и бесполезности — до тех пор, пока трактат не был заново переведен на английский в 1712 году. Эта публикация вызвала в то время большой интерес у критиков. Разумеется, у авторов разных комментариев встречались различные оценки и версии трактовки термина. Тем не менее в большинстве случаев в главном они сходились, а в отдельных случаях просто слово в слово повторяли размышления друг друга. В итоге было решено выделить особую группу пейзажей и ландшафтов (до того никак не связывавшихся друг с другом), используя в качестве классифицирующего признака их масштабность, опасность, безлюдность и пустынность. Созерцание подобных территорий и пребывание в таких местах объявлялось времяпрепровождением не только приятным, но и полезным для человека с точки зрения его морального самосовершенствования. Таким образом, ценность пейзажа впервые ставилась в зависимость не только от сугубо формальных эстетических критериев (гармоничность цветовой гаммы или же линейная и ритмическая упорядоченность) или от утилитарно-экономических соображений по возможности практического использования того или иного участка, но и с учетом присущей отдельным ландшафтам способности вызывать в человеческой душе тягу к возвышенному.
 Филипп Джеймс де Лоутербург. Лавина в Альпах, 1803 г.
Филипп Джеймс де Лоутербург. Лавина в Альпах, 1803 г.
В своем «Эссе об удовольствиях, доставляемых воображением», Джозеф Аддисон писал о «восхитительной оторопи и изумлении», которые были им испытаны в момент созерцания «перспективы засеянных полей, бескрайних просторов необработанной земли, необъятных вздыбленных гор, обрывистых скал, ущелий и больших водных пространств». Гильдебранд Джейкоб в работе под названием «О возвышении разума посредством возвышенного» предложил список мест и явлений природы, в наибольшей степени вызывающих у созерцающего их человека столь высоко ценимые эмоции и мысли. С его точки зрения, это в первую очередь океаны (как в штормовую, так и в безветренную погоду), заходящее солнце, ущелья, пещеры и гроты, а также горы в Швейцарии.
Получив теоретическую базу, путешественники стали один за другим совершать поездки за новым типом впечатлений. Так, в 1739 году поэт Томас Грей совершил едва ли не первое путешествие, осознанно организованное как сознательный поиск возвышенного и возвышающего в Альпах. После очередного пешего перехода он писал: «В ходе нашего недолгого путешествия в Гранд-Шартрез я останавливался едва ли не каждые десять шагов и издавал восторженные восклицания. В этих местах нет, пожалуй, ни единого ущелья, ни единой горной реки или же скалы, не преисполненных поэтичности и какого-то почти религиозного величия».
 Катар Дэвид Фридрих. Меловые скалы на острове Рюген, ок. 1820 г.
Катар Дэвид Фридрих. Меловые скалы на острове Рюген, ок. 1820 г.
4
Южный Синай на рассвете. Что я здесь чувствую? Как подействует на меня эта пустыня? Ландшафт представляет собой долину, созданную 400 миллионов лет назад и принявшую современный вид в результате длительных эрозионных процессов, воздействовавших на нависающую над ней гранитную гору высотой 2300 метров. Эрозия расчертила склоны горы целым веером узких крутых каньонов. Перед лицом такого величия и создававших его могучих сил природы человек действительно кажется ничтожной пылью. Встреча с возвышенным происходит как бы случайно. Она приятно пьянит — несмотря на то, что человек в этот момент, как никогда прежде, осознает свою слабость и мимолетность своего существования по сравнению с величием и силой природы, с возрастом и размерами вселенной.
В моем рюкзаке — фонарик, походная шляпа от солнца и томик Эдмунда Берка. В двадцать четыре года, закончив изучать юриспруденцию в Лондоне, Берк написал трактат под названием «Философское исследование происхождения наших представлений о возвышенном и прекрасном». Его суждения были весьма категоричны: он заявлял, что чувство возвышенного неразрывно связано с ощущением собственной ничтожности. Многие пейзажи, несомненно, красивы: цветущие по весне луга, речные долины, дубравы, полевые цветы (особенно ромашки и маргаритки). Но они, с точки зрения Берка, не возвышенны. «Идеи прекрасного и возвышенного часто смешиваются, — сетовал он в своей работе, — оба эти понятия зачастую применяются равноценно для описания совершенно различных мест и явлений, порой абсолютно противоположной природы». Нотки недовольства и даже раздражения слышатся в рассуждениях молодого философа, когда он пишет о людях, с восхищением взиравших на Темзу в районе Кью и называвших это зрелище возвышенным. Он уверен, что пейзаж может вызывать возвышенные чувства только в том случае, если в нем скрыта сила, несопоставимая с возможностями человека; сила, пусть не враждебная, но таящая опасность. Возвышенные места бросают вызов нашей воле, пытаются подавить ее. Берк пытается проиллюстрировать свои аргументы, приводя, скажем, аналогию между волом и буйволом: «Домашний бык или, например, вол — животное, безусловно, обладающее большой силой; тем не менее это мирное покорное существо, работящее и абсолютно не опасное, а следовательно, образ вола никак нельзя назвать величественным. Бык же дикий — буйвол — тоже невероятно силен, но его сила совсем другого рода. Она может быть слепой и зачастую разрушительной… Образ буйвола, таким образом, воспринимается как олицетворение чего-то величественного и по-настоящему мощного, неуправляемого. Не зря этот образ часто используется в возвышенных описаниях и метафорах».
Ландшафты тоже бывают разных типов. На те пейзажи, что можно отнести к категории «воловьих», Берк насмотрелся с юности — учился он в интернате Квейкер, расположенном в городке Баллитор в графстве Килдэр в тридцати милях на юго-восток от Дублина. Частную школу окружали фермы, огороды, поля, рассеченные живыми изгородями, и сады. Позднее пришел черед ландшафтов, причисленных Берком к категории «бычьих», или «буйволовых». В своей работе Берк перечисляет их характерные признаки: простор, безлюдность и, быть может, даже безжизненность, часто мрачность и, несомненно, оптическая бесконечность, эффект которой возникает благодаря единообразию и многократному повторению составляющих подобный ландшафт элементов. Синайская пустыня, конечно, входит в число таких мест.
5
Но при чем здесь удовольствие? Зачем искать место, где будешь чувствовать себя подавленным и ничтожным, и как это соотносится с общепринятыми представлениями о приятных прогулках и путешествиях? Зачем, спрашивается, уезжать из комфортного курортного Эйлата, в компании таких же любителей пустынь тащиться пешком по жаре милю за милей с тяжелым рюкзаком за спиной по берегу залива Акаба — и все ради того, чтобы добраться до такого места, где нет ничего, кроме камней и безмолвия, где от солнца приходится прятаться в скудной тени, отбрасываемой огромными валунами? Почему человек может с восторгом, а не с унынием взирать на гигантские гранитные плиты, россыпи раскаленных каменных осколков и застывшие лавовые потоки, уходящие вдаль, к самому горизонту, где суровые вершины окрестных гор сливаются с жестким синим небом?

Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что не все, что оказывается сильнее нас, обязательно является враждебным. То, что бросает вызов нашей воле, то, что ей неподвластно, способно вызывать гнев и отторжение, но может и внушать уважение и почтение. Зависит это от того, проявляет себя могучая сила благородно или же нагло и недостойно. Мы осуждаем хамство швейцара, который бросает нам вызов, но благоговейно относимся к вызову, который бросает путешественнику скрытая в дымке непокоренная вершина. Нас унижает то, что сильно и при этом недобро, но мы восхищенно смиряемся перед тем, что сильно и благородно. Применяя и даже чуть расширяя предложенную Берком аналогию с животными, можно сказать, что буйвол может вызывать ассоциации с возвышенным, а пиранья — нет. Критерий оценки кроется, мне кажется, в поведенческих мотивах: силу пираньи мы воспринимаем как что-то хищное, низкое и коварное, направленное к тому же непосредственно против нас, тогда как бык воспринимается как воплощение силы прямодушной, бесхитростной и обезличенной.
Даже не находясь в пустыне, мы очень часто и порой остро ощущаем собственную малость. Виной тому — и поведение окружающих, И наши собственные промахи и ошибки. Каждый из нас постоянно рискует испытать унижение. Мы часто ощущаем непреодолимое давление на нашу волю, часто страдаем из-за очередного пережитого унижения. При этом возвышенные пейзажи вовсе не пытаются указать на нашу незначительность и несоразмерность их величию. Наоборот — и в этом их главная тайна — пейзажи каким-то образом умеют помочь увидеть нашу привычную слабость по-новому, не так обидно и унизительно, как раньше. Возвышенные ландшафты преподают нам тот же урок, что и повседневная среда обитания, вот только в отличие от обычной жизни, делающей это порой предательски подло и унизительно, им удается продиктовать то же самое высоким слогом, в самых благородных категориях. Они напоминают о том, что мир сильнее нас, что мы слабы, уязвимы и преходящи, что нам остается лишь смириться с ограниченностью своих возможностей, что мы должны отступать перед натиском более могучих сил, чем те, что подвластны нам.
Вот тот урок, что начертан на камнях пустынь и на полярных ледниках. Он начертан столь величественно и прекрасно, что, возвращаясь из таких мест, мы чувствуем себя не подавленными, но вдохновленными — вдохновленными тем, что сильнее нас, тем, что неподвластно нашей воле. Порой это чувство почтительного благоговения даже переходит в желание поклоняться могучим стихиям.
6
Человек не придумал ничего и никого более могучего, чем Бог. Вот почему в пустыне ему зачастую приходят в голову мысли о верховном божестве-создателе. Горы и долины одним фактом своего существования напоминают, что мир был создан не нами — не нашими усилиями и не по нашей воле. Создавали его силы, более могучие, чем те, что подчинили себе мы, создавали давно, задолго до нашего появления на свет. По воле этих сил мир, скорее всего, будет существовать и дальше — несоизмеримо долго по сравнению с нашей жизнью (о чем, по правде говоря, легко забыть, созерцая цветочки или сидя с глубокомысленным видом в придорожном кафе).
Бог, говорят, немало времени провел на Синайском полуострове. Наиболее известен эпизод его пребывания в центральном — пустынном — районе, где он на протяжении двух лет наблюдал за группой весьма вспыльчивых и раздражительных евреев, осмелившихся сетовать на недостаток пищи и даже проявивших слабость и поддавшихся чарам чужеземных богов. «Господь пришел от Синая» (Второзаконие. 33:2), — сказал Моисей незадолго до смерти. «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась», — поясняет Исход (19:18). «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то], народ отступил и стал вдали. И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас» (Там же. 20:18–20).
На самом же деле выдержки из библейской истории могут лишь усилить впечатление, которое практически неизбежно возникнет у путника, разбившего лагерь в Синайской пустыне, — ощущение, что к созданию этого величия приложило руку какое-то высшее существо, обладающее свободой воли, упорством и могуществом, несравнимым с тем, что даровано людям. Это «нечто» явно обладает разумом, недоступным «природе» как таковой. Это то самое «нечто», для которого слово «Бог» не выглядит неподходящим — даже для самого секуляризированного сознания. Все утверждения, что создавать красоту дано лишь естественным, а не «сверхъестественным» силам, кажутся не слишком убедительными, когда стоишь ночью в каменистой пустыне, в глубоком ущелье, со дна которого вздымаются к небу глыбы песчаника, образующие гигантский алтарь, а над тобой висит тонкий серебристый серп луны.

Писатели и мыслители, первыми описывавшие понятие возвышенного, так или иначе связывали эту категорию с религией:
Джозеф Аддисон, «Эссе об удовольствиях, доставляемых воображением» (1712):
«Обширное пространство совершенно естественным образом пробуждает во мне мысли о Всемогущем Создателе».
Томас Грей, «Письма» (1739):
«Существуют такие виды и панорамы, которые без каких бы то ни было аргументов могут обратить в веру любого атеиста».
Томас Коул, «Эссе об американских пейзажах» (1835):
«В окружении этих пейзажей, преисполненных чувства одиночества, ландшафтов, созданных природой и не тронутых рукой человека, невольно появляются ассоциации, ведущие к Богу Создателю: эти красоты — несомненно, его творения, и, созерцая их, человеческий разум непроизвольно обращается к мыслям о вечном».
Ральф Уолдо Эмерсон, «Природа» (1836):
«Благороднейшая функция природы состоит в подтверждении собою бытия Бога».
Нет ничего удивительного в том, что увлечение Запада ландшафтами, пробуждающими возвышенные чувства, довольно точно совпало с ослаблением позиций традиционных форм религии и веры в Бога. Величественные безлюдные пейзажи давали путешественникам возможность испытать те трансцендентные ощущения, которые уже не порождали в их душах ни городская суета, ни пригородные антропогенные ландшафты. Возвышенные пейзажи давали им ощущение невидимой связи с некой могучей силой — силой высшего порядка, причем возникало такое ощущение даже у тех, кто с гордостью и с полным на то правом заявлял, что освободил собственный разум от необходимости сверять свои суждения и ценности с библейскими текстами и организованными и формализованными проявлениями религиозного чувства.

7
Связь между Богом и возвышенными ландшафтами лучше всего прослеживается в одной из книг Ветхого Завета. Обстоятельства, в которых раскрывается это взаимодействие, весьма своеобразны: благочестивый и праведный, но глубоко несчастный человек взывает к Богу, вопрошая, почему жизнь его полна мучений и страданий. Бог же в ответ предлагает ему обозреть горы и пустыни, реки и ледники, океаны и небеса. Нечасто доводилось этим величественным пейзажам держать ответ перед человеком, к тому же поставившим свой вопрос столь прямолинейно и четко.
В начале Книги Иова, которую Эдмунд Берк называл самой возвышенной частью Ветхого Завета, мы знакомимся с Иовом — состоятельным и набожным человеком из земли Уз. Было у него семь сыновей, три дочери, семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослов. Все желания его исполнялись, а добродетельность вознаграждалась по заслугам. Но в один прекрасный день на Иова обрушиваются страшные несчастья: сабиняне похищают его волов и ослов, в грозу от молнии погибают отары, халдеи угоняют верблюдов. Налетевший из пустыни ураган разрушает дом старшего сына Иова — мужчина погибает со всей своей семьей. Страшные язвы покрывают все тело Иова с ног до головы. Сидя на развалинах своего дома, Иов пытается соскрести зудящие, болезненные язвы черепком от разбитого сосуда и плачет.
Почему же такие страшные несчастья обрушились на Иова, за что он был так наказан? Его друзьям ситуация представлялась предельно ясной: по их единодушному мнению, Бог покарал их знакомого за грехи. Вилдад Савхеянин заявил, что Бог не убил бы детей Иова, живи они (да и он сам) праведной жизнью. «Видишь, Бог не отвергает непорочного», — заявил Иову Вилдад. Софар же Наамитянин и вовсе «припечатал» пострадавшего, сказав, что следовало бы не роптать, а благодарить Бога за то, что тот так мягко с ним обошелся: «…тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению».
Иов не мог принять такие слова, не мог смириться с такой оценкой своей жизни. Назвав речи друзей «глаголом праха» и «речами глины земной», он обратился с вопросом к самому Богу: почему так получилось, что на него, доброго набожного человека, обрушились несчастья?
Это, пожалуй, один из самых острых и даже неприятных вопросов из всех, что задаются Богу в книгах Ветхого Завета. И вот как разгневанный Бог ответил Иову из глубины налетевшей из пустыни бури:
Глава 38
2 кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?
3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
24 По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле?
25 Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии?
29 Из чьего чрева выходит лед и иней небесный, — кто рождает его?
33 Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?
34 Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?
Глава 40
4 Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?
Глава 39
26 Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень?
Глава 40
20 Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?
Получив запрос Иова насчет того, почему он так страдает несмотря на всю свою праведность, Бог привлекает внимание вопрошающего к величественным и мощным природным явлениям. По мысли Бога, человеку не следует удивляться, что что-то идет не так, как ему хочется, ибо мир сильнее его. Если же даже что-то задуманное или желаемое осуществилось, не нужно пытаться понять, почему произошло именно так, поскольку человеку не дано охватить разумом логику мироздания. Смирись с тем, что больше тебя, прими то, что не в силах постичь. С точки зрения Иова, порядок вещей в мире может казаться алогичным, но это вовсе не означает, что мир нелогичен per se. Жизнь человека вовсе не является мерой всех вещей, а для того чтобы не забывать о человеческой слабости и ничтожности, нужно почаще вспоминать возвышенные места или посещать их.
В этом высказывании содержится и чисто религиозный смысл. Бог заверяет, что Иову всегда найдется место в Его сердце, — даже когда тому кажется, что Создатель забыл о нем, что мир на него ополчился и что происходящее идет ему только во вред. Когда божественная мудрость оказывается непостижимой, праведникам — сколь бы тяжело ни было им преодолеть ограниченность собственного восприятия и немощность разума — надлежит продолжать верить в Бога и в величайшую справедливость его неисповедимых планов по поводу будущего этого мира.
8
Исполненный сугубо религиозного смысла ответ на мольбы Иова ни в коей мере не умаляет значимость изложенного сюжета для атеистически настроенных умов. Посредством собственного величия возвышенные пейзажи неизменно напоминают, что, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями и трудностями, не нужно стенать и сокрушаться по поводу своей слабости, что не все и не всегда человек — даже самый мудрый и опытный — способен понять и объяснить. Ветхозаветный Бог знал, что делал, когда одергивал человечество, возомнившее о себе слишком много, заставляя его вновь и вновь сталкиваться с могучими силами и загадками природы — с горами, с бесконечными далями, с пустынями.
Когда мир оказывается несправедлив по отношению к нам или непостижим для нашего разума, возвышенные места напоминают о том, что удивляться этому, собственно, не приходится. Мы все — игрушки в руках сил, что заполнили водой океаны и вытесали из земной тверди горы. Возвышенные места деликатно подводят нас к пониманию истин, о которых привычная жизнь напоминает порой обидно и жестоко. И дело вовсе не в том, что природа хочет принизить нас и роль нашего существования. Человеческая жизнь действительно важна, прекрасна и разнообразна, а величественные безлюдные пейзажи, которые природа предлагает нам созерцать, являются лишь деликатным, едва воспринимаемым напоминанием обо всем, что сильнее и значительнее нас. Если мы будем чаще бывать в таких местах, то, быть может, сумеем научиться с большим достоинством и смирением принимать непредсказуемые события, которые порой немало осложняют нам жизнь и рано или поздно вновь обратят в прах каждого из нас.
Искусство
VII. Искусство, открывающее глаза
Место:
Прованс
Гид:
Винсент Ван Гог
1
Как-то раз летом друзья пригласили меня отдохнуть несколько дней в гостевом домике в прованской глубинке. Я прекрасно знал, что слово Прованс наполнено для многих людей особым смыслом и вызывает в их сознании множество ассоциаций. Лично для меня в то время оно значило не больше, чем любое другое географическое название. Более того, я испытывал к Провансу нечто вроде предубеждения: мне казалось, что это место — «не мое», что оно никогда не станет мне близким, а я всегда буду там чужим. Разумеется, я осознавал, что многие чувствительные натуры находят Прованс восхитительно красивым и этот ярлык прикрепился к той местности уже навечно. «Ах, Прованс!» — с придыханием произносят те, для кого эта историческая область Франции стоит в одном ряду с классической оперой или, например, дельфийским фаянсом.
Я прилетел в Марсель и взял напрокат прямо в аэропорту маленький «Рено», на котором и поехал туда, где меня ждали друзья, — на ферму, расположенную у подножья Альпилльских холмов между Арлем и Сен-Реми. На выезде из Марселя я заблудился и в какой-то момент неожиданно оказался у ворот огромного нефтеперерабатывающего комплекса в Фос-сюр-Мер. Частокол ректификационных колонн, паутина трубопроводов с охлаждающей жидкостью и продуктами перегонки — все это заставило меня на некоторое время забыть о цели путешествия и призадуматься над сложностью процесса изготовления жидкости, которую мы привычно заливаем в баки автомобилей, не слишком задумываясь над тем, откуда она берется.
Наконец я выбрался на шоссе № 568, которое шло на север через бескрайние, засеянные пшеницей поля равнины Ла-Кро. Добравшись до городка Сан-Мартин-де-Кро, от которого до точки моего назначения оставалось всего несколько миль, я понял, что никуда не опаздываю, и позволил себе ненадолго свернуть с шоссе на узкую проселочную дорогу. Остановившись на въезде в оливковую рощу, я заглушил мотор и прислушался: меня окружала почти полная тишина, нарушавшаяся, пожалуй, лишь стрекотанием цикад в придорожной траве. За рощей виднелись поля, отделенные друг от друга ровными рядами кипарисов, над верхушками которых виднелись вдали силуэты Альпилл. На ярко-голубом небе не было ни облачка.
Я стал внимательно изучать окружавшее меня пространство. Никакой особой цели я при этом не преследовал: мне требовалось увидеть каких-нибудь диких животных, я не подыскивал подходящий домик для дачи на лето, я не ждал, что созерцание пейзажей вызовет у меня бурю эмоций и уж тем более воспоминаний. Причины, побудившие меня впиться взглядом в ландшафт, были до примитивности гедонистичны: я искал ту красоту, которой славятся прованские пейзажи. «Ну давайте — дерзайте, порадуйте меня, заставьте меня расчувствоваться», — с вызовом и даже дерзко взывал я к прованскому небу, кипарисам и оливам. Местность вокруг меня была открытой, и взгляду было где разгуляться. В какой-то мере я, несомненно, отдыхал от преследовавшей меня с самого утра необходимости что-то искать и высматривать — то стойку нужной автомобильно-прокатной компании, то дорожные указатели с информацией о необходимых точках на маршруте… Теперь же мой взгляд бесцельно скользил от одной точки к другой, и если бы движения в моих глазах проецировались на окружающем пространстве каким-то видимым, оставляющим след лучом, то вскоре горизонт и большая часть небосвода покрылись бы беспорядочно пересекающимися, нервно-изломанными линиями.
Не буду утверждать, что пейзаж был некрасив или противен моему взору. Тем не менее даже после достаточно тщательного визуального обследования я так и не смог обнаружить в нем то особое очарование, которое так часто ему приписывают. Оливы показались мне какими-то мелкими и словно придавленными — скорее кусты, а не деревья. Что же касается пшеницы, то золотистые поля напомнили мне плоские, как стол, унылые просторы Юго-Восточной Англии, где я когда-то ходил в школу и где мне никогда не было хорошо. В общем, мне не хватило ни настойчивости, ни желания оценить по достоинству живописные амбары, известняковые склоны холмов или хотя бы алые точки маков, разбросанные вдоль опушки небольшой кипарисовой рощи.
Я сел в тесную, раскаленную под солнцем машину и в не самом веселом настроении продолжил свой путь. Подъехав к дому, где меня ждали, я, естественно, поздоровался с хозяевами и первым делом сообщил им, что они живут в самом красивом, в самом замечательном месте на свете, просто в земном раю.
Человеку свойственно легко и спонтанно воспринимать те или иные места как красивые. Точно так же мы с готовностью признаем, что снег белый, а сахар сладкий. В общем-то трудно даже представить, что бывают ситуации, когда нужно сделать над собой усилие, чтобы расширить собственные представления о географии прекрасного. Мы слишком доверяем поколениям путешественников, которые веками и десятилетиями твердили нам о красоте тех или иных уголков земли. Порой складывается ощущение, что этот телеграф, посылающий нам сообщения из глубин времен и от незнакомых людей, просто-напросто забивает нашу способность самостоятельно оценивать те или иные пейзажи или изменять критерии, а следовательно, и границы того, что мы считаем приятным, красивым или же — как, например, привычку есть в жару мороженое — чем-то естественным.
Тем не менее человек волен самостоятельно выстраивать свою систему эстетических вкусов, в определенной мере независимую от навязываемых ему аналогий. Главное при этом — не упустить, не прозевать то место, которое в силу внешней неэффектности может остаться нами незамеченным, или не поддаться воздействию тех или иных неприятных ассоциаций, которые могут раз и навсегда настроить нас против какой-то местности, какого-то конкретного пейзажа или территории. Можно попытаться заинтересовать себя привычным вроде бы пейзажем, вспомнив что-то новое и неожиданное, так или иначе с ним связанное. Низкорослые, приземистые оливковые деревья могут показаться прекрасными и очаровательными, если обратить внимание на совершенно потрясающий серебристый цвет их листьев, шуршащих на ветру, или на непостижимо запутанный, но при этом невероятно изящный и гармоничный узор, создаваемый их узловатыми ветвями. Можно попытаться переломить предубеждение против пшеничных полей, вспомнив, как много значит в истории человечества этот в общем-то слабый и не выживающий в дикой природе злак. Можно по-новому взглянуть и на жаркое безоблачное небо Прованса, если вспомнить, как некоторые наблюдатели приписывали ему совершенно особый оттенок и просто невероятное свойство подкрашивать тени, отбрасываемые предметами на землю, в легкий голубоватый цвет.
Пожалуй, наиболее эффективным инструментом, который помогает нам обогатить, сделать более объемным восприятие окружающей действительности, является изобразительное искусство. Картины и рисунки словно направляют наше внимание, заостряют его на тех или иных деталях и как будто подсказывают: «Присмотрись повнимательнее к прованскому небу, пересмотри свое отношение к пшеничным полям, будь справедлив к оливам». Из множества и множества мельчайших деталей подлинные произведения искусства выбирают те, что пробуждают в зрителе чувство прекрасного и будят в его душе интерес к изображенному объекту. Искусство выносит на передний план те значимые фрагменты реальности, которые обычно просто тонут в потоке информации. Более того, искусство способно скомпоновать фрагменты и детали таким образом, чтобы мы, ознакомившись с этой системой, захотели найти ее отражение в реальности. Под воздействием искусства мы с готовностью признаем особую роль этих деталей и акцентов в нашем восприятии мира. Таким образом, восприятие изобразительного искусства становится чем-то похожим на изучение иностранного языка: порой человек многократно слышит незнакомое ему слово и даже запоминает его, начинает наугад использовать, но по-настоящему запоминает и определяет его в потоке речи, лишь когда узнает его точное значение в родном языке.
И до тех пор, пока мы готовы ездить по всему миру в поисках прекрасного, произведения изобразительного искусства будут в той или иной степени определять выбор маршрута и точки назначения.
2
Винсент Ван Гог приехал в Прованс в конце февраля 1888 года. Ему было 35 лет, и живописью он к тому времени занимался лет восемь, не больше. До этого он честно и безуспешно пытался стать сначала учителем, а затем священником. Два года, предшествовавших переезду, Винсент прожил в Париже со своим братом по имени Тео. Тео занимался перепродажей произведений искусства и организацией выставок. На протяжении нескольких лет он практически содержал брата. Сам Винсент не слишком хорошо владел традиционной техникой живописи, но ему удалось подружиться с Полем Гогеном и Анри де Тулуз-Лотреком, что, в свою очередь, позволило ему выставить свои работы рядом с холстами этих признанных мастеров живописи. Состоялась выставка в кафе Тамбурин на бульваре Клиши.
«Я как сейчас помню радостное возбуждение, охватившее меня накануне того зимнего переезда из Парижа в Арль», — вспоминал Ван Гог позднее о шестнадцатичасовой поездке на поезде из столицы Франции в Прованс. Приехав в Арль — самый богатый город в провинции, крупнейший центр торговли оливковым маслом и производства и разработки различного железнодорожного оборудования, — Ван Гог перетащил свои чемоданы по снегу (в тот день в Арле выпало просто невероятное для тех мест количество снега — около десяти дюймов) в небольшую гостиницу «Каррель», расположенную неподалеку от северного сектора старинной городской стены. Ни прохладная погода, ни крохотная комната в отеле — ничто не могло омрачить настроение Ван Гога, испортить впечатление от переезда. В письме сестре он уверенно заявлял: «Я просто уверен, что жизнь здесь хотя бы приятнее и комфортнее, чем во многих других местах».
В Арле Ван Гог прожил до мая 1889 года. За эти пятнадцать месяцев он создал примерно двести картин, сто рисунков и около двухсот писем — со временем этот период станет принято называть самым продуктивным и плодотворным в творческой жизни художника. На первых холстах, относящихся к нему, мы видим Арль в снегу, бледное прозрачное зимнее небо, розоватую подмороженную землю. Через месяц после приезда Ван Гога в Прованс пришла весна. Он написал четырнадцать пейзажей с цветущими деревьями, выбирая живописные места в окрестностях Арля. В начале мая был написан подъемный мост Лаглуа, перекинутый через канал, соединяющий Арль и Бук, а в конце месяца Ван Гог запечатлел несколько панорам равнины Ла-Кро с холмами Альпилл на заднем плане и руины аббатства Монмажур. Остались в творческом наследии Ван Гога и картины, написанные с противоположной точки, — виды Арля с полуразрушенных стен старинного аббатства, куда Ван Гог забирался с мольбертом и красками. К середине июня его внимание переключилось на новую тему — сбор урожая. За каких-то полмесяца художник успел запечатлеть сельскохозяйственные работы на десятке холстов. Работал Ван Гог невероятно быстро. Сам он описывал свой настрой в то время такими словами: «Быстрее, быстрее, быстрее — как крестьянин, который молча работает, обливаясь потом на солнцепеке, не обращая внимания ни на что, кроме самой работы и урожая. Я работаю целыми днями, даже в самую жару, под палящим солнцем, и мне это нравится, я чувствую себя как греющаяся под полуденным солнцем цикада. Господи, как жаль, что я приехал в эти края не когда мне было лет двадцать пять, а сейчас, когда я уже на десять лет старше!»
Значительно позднее, объясняя брату, зачем нужно было переезжать из Парижа в Арль, Винсент Ван Гог привел два довода: во-первых, ему хотелось «написать юг», и, во-вторых, он хотел через собственное творчество помочь другим людям «увидеть» его. Несмотря на то, что он вовсе не был уверен, что ему лично удастся — через свой талант и мастерство — добиться этой цели, в теоретической осуществимости проекта Ван Гог никогда не сомневался. Он был твердо убежден, что художникам дан дар так запечатлевать те или иные уголки мира, что впоследствии у других людей открываются глаза, и они порой видят знакомые места совершенно иначе.
У Ван Гога имелись веские основания верить, что искусство способно давать человеку возможность по-новому увидеть мир. Воздействие тех или иных произведений как изобразительного искусства, так и литературы он не раз и не два испытывал на себе как зритель и читатель. Переехав из родной Голландии во Францию, Ван Гог много читал. Среди его любимых писателей были Бальзак, Флобер, Золя и Мопассан. Их книгам художник был благодарен за то, что они открыли ему глаза на французское общество, на динамику его развития, на происходившие в нем процессы и на его психологические особенности. «Мадам Бовари» рассказала о жизни провинциального среднего класса, а «Отец Горио» поведал о парижских студентах — бедных, но гордых и полных амбиций. Людей, подобных тем, что были описаны великими писателями, Ван Гог в изобилии встречал здесь, во Франции.
Мировая живопись также во многом помогла ему по-настоящему прозреть. Ван Гог не раз отдавал дань уважения тем великим художникам, картины которых дали ему возможность полнее или по-новому увидеть те или иные цвета и оттенки. Так, например, Веласкес словно вручил ему географическую карту, по которой можно было безбоязненно пускаться в путешествие по бескрайнему миру различных оттенков серого. На некоторых холстах Веласкеса изображены интерьеры небогатых испанских домов с мрачно оштукатуренными кирпичными стенами. Даже в полдень, когда, спасаясь от жары, люди закрывают ставни на окнах, преобладающим цветом в таких комнатах оставался могильно-серый. Лишь там, где ставни были неплотно прикрыты или где в них отсутствовали одна-две планки, царство серого вспарывалось сверкающими золотистыми лучами. Естественно, не Веласкес придумал подобный контрастный эффект. Многие художники пользовались таким приемом задолго до него, но очень немногим хватило мастерства и таланта на то, чтобы нагрузить этот контраст особым смыслом и превратить один из множества профессиональных приемов в средство передачи художественно значимой информации. По крайней мере, для Ван Гога Веласкес стал первооткрывателем нового континента, целого нового мира — мира света. И этот мир великий последователь с готовностью и почтением называл именем своего великого учителя.
В Арле Ван Гог обычно обедал в типичных местных ресторанчиках с темными стенами и закрытыми в жаркие дни ставнями. Как-то раз прямо за обедом он стал писать брату, рассказывая ему о том, что заметил в его интерьере нечто подчеркнуто веласкесовское: «Ресторан, в котором я сегодня обедаю, — странное и необычное место. Здесь все серое… Серое — по-веласкесовски. Примерно так же, как в интерьере его „Прядущих женщин“. Атмосфера, цвета — все точь-в-точь как на той картине, даже луч, пробивающийся сквозь неплотно прикрытые ставни — и тот на своем месте… Через кухонную дверь я вижу старуху-хозяйку и низкорослого толстого официанта. Они оба одеты в серое, белое и черное… Нет, это просто оживший Веласкес».
С точки зрения Ван Гога, каждый великий художник дает возможность зрителю увидеть какой-то особый уголок мира более отчетливо и выпукло. Если Веласкес был его проводником в мир суровых, почти серых лиц старых поваров, то Моне показал палитру закатов, Рембрандт продемонстрировал, что такое утренний свет, а Вермеер ввел его в общество девушек-подростков из Арля («идеальный вермееровский персонаж», — объяснял Винсент брату, заметив неподалеку от городской арены «отличный экземпляр», относящийся к последней категории). Небо над Роной после летнего ливня напоминало ему о Хокусае, пшеница — о Милле, а молодые женщины в Сент-Мари-де-ла-Мер — о Чимабуэ и Джотто.
3
К счастью для нас, несмотря на уважение, испытываемое к предшественникам, Ван Гог вовсе не считал, что им удалось исчерпывающе запечатлеть все то, что ему довелось увидеть на юге Франции. Очень многое, с его точки зрения, вообще ускользнуло от их внимания и нуждалось в срочном отображении на холсте. «Господи, сколько же я видел картин, авторы которых абсолютно несправедливы к тому, что берутся изображать кистью и красками, — говорил он. — В общем, мне еще есть над чем поработать и где развернуться».
Так, например, судя по всему, никто до Ван Гога не обратил внимания и не запечатлел на холсте совершенно особое очарование, непохожесть на других внешнего облика жительниц Арля — средних лет и относящихся к среднему же классу: «Есть здесь женщины, подобные тем, что я видел на картинах Фрагонара или же у Ренуара. Но есть и другие —
те, с которыми я не могу связать ни одно из имен моих предшественников-живописцев (курсив мой. — А. Б.)». Крестьяне, работавшие на полях вокруг Арля, тоже, судя по всему, оставались не замеченными другими художниками: «Милле разбудил наше восприятие и научил видеть сельского жителя на фоне окрестного ландшафта, но, судя по всему, до сих пор никому не приходило в голову запечатлеть для нас на холсте настоящего француза-южанина». «Вот мы, современные художники, умеем ли мы рисовать обычного крестьянина? Уверен, что нет. Едва ли кто-то из нас знает, с какой стороны к нему подойти, как за него взяться».
Прованс, в который Ван Гог попал в 1888 году, к тому времени служил объектом внимания художников вот уже более ста лет. Наиболее известными прованскими живописцами считаются Фрагонар (1732–1806), Константин (1756–1844), Бидо (1758–1846), Гране (1775–1849) и Эгье (1814–1865). Все они были реалистами, тяготевшими к классицизму. В их эпоху в общем-то никто не подвергал сомнению представление, что главной задачей художника является как можно более точное отражение на холсте образов реального мира. Художники уходили в прованские холмы и поля и писали вполне узнаваемые изображения кипарисов, других деревьев, травы, пшеничных полей, облаков и коров.
Тем не менее Ван Гог настаивал на том, что большинство из его «географических» предшественников не были справедливы к объектам, вдохновлявшим их творчество. На самом деле, утверждал он, никто из них не создал по-настоящему реалистичного образа Прованса. В общем-то мы имеем право называть реалистичной любую картину, которая должным образом передает зрителю информацию об основных элементах окружающего мира. Тем не менее мир слишком сложен и многообразен, и две абсолютно реалистичные картины, изображающие одно и то же место с одной и той же точки, могут очень отличаться друг от друга вследствие различия в темпераменте написавших их художников и разницы между их индивидуальными стилями. Два художника-реалиста могут сесть на опушке одной и той же оливковой рощи и сделать совершенно непохожие один на другой наброски пейзажа. Любая реалистичная картина отражает сделанный художником выбор между тем, что из окружающего мира он считает важным, и чему — сознательно или бессознательно — не уделяет внимания. При этом ни одно произведение искусства не способно создать полную копию изображаемого объекта, отразить его во всем разнообразии. Это неразрешимое противоречие, характеризующее реалистичное искусство, отметил даже Ницше в своем не слишком складном и изящном стихотворении, названном «Художник-реалист»:
По замыслу Природы — что за ложь!
Художник живо переврет Природу.
И холст, охваченный волшебной дрожью,
для многих — лишь фантазия урода,
оспорившего Тайну Божью.
[12]
Если же тот или иной художник, в свою очередь, нравится нам, зрителям, то это происходит потому, что ему удается выбрать в реальности именно те черты и детали, которые мы сами считаем наиболее важными в данной жанровой сцене, в пейзаже или портрете. Иногда художнику удается подобрать столь точный и характерный перечень этик особенностей, что, приезжая в места, что были изображены на его холстах, мы уже не можем воспринимать окружающие пейзажи, не проводя мысленно параллель между реальным ландшафтом и его образом на хорошо знакомых нам полотнах.
В иной ситуации, когда человек, например, жалуется, что на портрете он «сам на себя не похож», он вовсе не обвиняет художника во лжи. Недовольство «непохожестью» основывается на том, что художник сделал иной выбор — не тот, который сделал бы изображенный на картине человек, доведись ему описывать самого себя, рассказывать о самом важном в собственной внешности и характере. Таким образом, мы можем дать неудачному произведению искусства следующее определение: это своего рода последовательность ошибочно выбранных черт и деталей, неверный выбор между тем, что следует отобразить в произведении, и тем, о чем следует умолчать, оставить без внимания.
Именно умения выделить в окружающем ландшафте самое главное как раз и не хватало, с точки зрения Ван Гога, его предшественникам, писавшим пейзажи Южной Франции.
4
В гостевой спальне дома, где мы остановились, лежала толстая книга, естественно, посвященная Ван Гогу. С дороги мне никак не удавалось заснуть, и я, сидя в кресле, прочитал из нее несколько глав. В итоге я так и задремал — прямо в
кресле — с книгой на коленях, когда первые лучи восходящего солнца уже упали на дальний уголок оконной рамы.
Проснулся я поздно и обнаружил, что друзья уехали в Сен-Реми, оставив мне записку с сообщением, что вернутся к обеду. Завтрак мне накрыли на террасе за металлическим садовым столом. Почему-то чувствуя себя виноватым, я быстро и почти не жуя съел один за другим три шоколадных круассана, опасливо поглядывая при этом на домработницу, которая, как мне казалось, вполне могла нелестно отозваться о моем обжорстве в беседе с хозяевами дома.
День был ясным, дул мистраль — прохладный северный ветер, по примыкавшему к усадьбе пшеничному полю пробегали золотистые волны. На том же месте я уже сидел накануне вечером, но два больших кипариса, росшие в дальнем углу сада, привлекли мое внимание только сейчас. Судя по всему, это маленькое открытие я сделал под воздействием пролистанной перед сном книги: в одной из прочитанных глав как раз рассказывалось об отношении Ван Гога к этим деревьям. В 1888 и 1889 годах художник сделал целую серию набросков и рисунков, изображающих кипарисы. «Они просто не выходят у меня из головы, — писал он брату, — странно, что до сих пор никому не пришло в голову рисовать их такими, какими я их вижу. Кипарисы прекрасны и гармоничны, как египетские обелиски, а их цвет совершенно не похож ни на один из свойственных другим деревьям и растениям оттенок зеленого. Зелень кипарисов — почти черная, это черный всплеск, черный мазок на залитом солнцем пейзаже. Впрочем, передать эту черноту на холсте, пожалуй, труднее, чем любой другой цвет, и я потратил немало сил на то, чтобы изобразить на своих полотнах именно то, что я вижу».
Что же заметил Ван Гог в кипарисах такого, что осталось не замеченным, не оцененным другими художниками? В первую очередь следует рассказать, как эти деревья ведут себя на ветру. Я прогулялся по саду и, подойдя к кипарисам вплотную, присмотрелся к ним повнимательнее, сравнивая реальные деревья с изображенными на картинах Ван Гога (я имею в виду «Кипарисы» и «Пшеничное поле и кипарисы» — обе написаны в 1889 году). Оказалось, что под порывами мистраля они действительно ведут себя не так, как другие растения.
Особенность движения кипарисов на ветру обусловлена их «архитектурой». В отличие, например, от ветвей сосны, мягко расходящихся от ствола в стороны и вниз, густая крона ажурных листовидных побегов кипариса устремлена ввысь. Непосредственно ствол достаточно короток — верхнюю треть высоты кипариса составляет плотная крона, внутри которой ствола уже нет. И если в сильный ветер у дуба колышутся лишь ветви, а сам ствол остается непоколебим, как скала, то кипарис будет легко сгибаться под мощным напором воздуха. А из-за того, что его ветви растут со всех сторон по окружности ствола и на разной высоте, возникает впечатление, что кипарис гнется одновременно в разные стороны. На расстоянии эта несинхронизированность движений кипарисовых веток приводит к возникновению эффекта ветра, дующего попеременно с разных направлений. Коническая форма кроны (кипарисы редко достигают больше метра в диаметре) делает это дерево похожим на язычок пламени, тревожно дрожащий под порывами ветра. Все это Ван Гог не только заметил сам, но и сумел показать другим.

 Винсент Ван Гог. Кипарисы 1889 г.
Винсент Ван Гог. Кипарисы 1889 г.
Через несколько лет после того, как Ван Гог уехал из Прованса, Оскар Уайльд произнес свою знаменитую фразу о том, что в Лондоне не было туманов до тех пор, пока Уистлер не изобразил смог на своих картинах. Точно так же можно с уверенностью говорить, что в Провансе было гораздо меньше кипарисов до тех пор, пока Ван Гог не перенес их на свои холсты.
Оливковые деревья тоже, судя по всему, не были столь заметны и тем более знамениты до тех пор, пока Ван Гог не обратил на них внимание. Я и сам накануне не слишком уважительно отнесся к этому приземистому, похожему скорее на куст, чем на дерево, растению, но, внимательно ознакомившись с репродукциями «Оливковых деревьев с желтым небом и солнцем» и «Оливковой рощей и оранжевым небом» (1889), был вынужден признать, что мне действительно не хватило ни чутья, ни внимательности для того, чтобы оценить красоту и значимость неотъемлемой составляющей прованского пейзажа. Только теперь я заметил причудливые изгибы, даже изломы ветвей и корней оливковых деревьев, многие из которых напоминали вонзившиеся в землю трезубцы. Помимо могучих корней, немалая сила, похоже, скрывалась и в узловатых ветвях — они теперь напоминали мне согнутые руки, приготовившиеся нанести мощный удар. Цвет листьев у олив тоже необычный: кроны большинства деревьев наводят наблюдателя на мысль о мягкой зеленой каше или о нежном салате, почему-то развешанном на решетке голых ветвей. Так или иначе, серебристые оливковые листья производят впечатление единого целого с деревом и к тому же не дают усомниться, что в них скрыта внутренняя тревога, напряжение и огромная сила.
 Винсент Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы (фрагмент). 1889 г.
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы (фрагмент). 1889 г.
Благодаря Ван Гогу я стал замечать, что и вся цветовая гамма Прованса несколько необычна. На то есть несколько причин, в том числе климатического и метеорологического характера. Мистраль, дующий вдоль долины Роны со склонов Альп, тщательно счищает с прованского неба облака и дымку — небосвод остается пронзительно голубым без всяких следов белого или серого. В то же время высокий уровень подземных вод и хорошее природное орошение способствуют буйной и весьма разнообразной для средиземноморского региона растительности. В Провансе нет недостатка в воде, и растения в полной мере используют два других преимущества юга: солнечный свет и тепло. Кроме того, относительная влажность воздуха в Провансе на протяжении всего года остается очень низкой, а в сухом воздухе практически не бывает ни туманов, ни дымки, которая — как, например, в тропиках — может скрадывать контрасты, смягчать переход цветов и оттенков зеленого, свойственных растительному покрову. Таким образом, сочетание ясного безоблачного неба, сухого воздуха, обилия воды и богатой растительности насыщает палитру этого района яркими и контрастными основными цветами.
Художники, писавшие прованские пейзажи до Ван Гога, словно не замечали подобной контрастности и писали свои полотна, как правило, в гамме дополнительных цветов — как их научили Клод и Пуссен.
Например, Прованс Константина и Бидо был написан практически полностью в мягких переходах между оттенками голубого и коричневого. Неспособность видеть подлинную цветовую палитру прованских ландшафтов приводила Ван Гога в ярость: «Большинство (художников) — плохие колористы… Они не видят на юге ни желтого, ни оранжевого цветов, ни сернисто-зеленых оттенков. Более того, они считают безумцем любого художника, который видит окружающее пространство не так, как они». Он отказался использовать привычную технику мягкого перехода светотени и писал насыщенными основными цветами, неизменно распределяя мазки по холсту таким образом, чтобы максимизировать их контрастный эффект: на картинах Ван Гога красный соседствует с зеленым, желтый — с фиолетовым, синий — с оранжевым. «Здесь просто роскошная цветовая палитра, — писал он сестре. — Молодая листва здесь не просто зеленая. Мы у себя на севере практически никогда не видим столь насыщенного зеленого цвета. Даже когда листья подсыхают и покрываются пылью, прованский ландшафт не теряет своего великолепия, он лишь обретает новые цвета, в основном самые разные оттенки золотого. Это зеленый с золотом, желтый с золотом, розовый с золотом… И все это сочетается с синим — начиная с глубокой густой синевы воды, до синевы незабудок — чистой, практически прозрачной яркой синевы».
 Винсент Ван Гог. Оливковая роща, 1889 г.
Винсент Ван Гог. Оливковая роща, 1889 г.
Мои глаза сумели адаптироваться и подстроиться под ту гамму, в которой Ван Гог видел прованские пейзажи. Везде, куда бы я ни посмотрел, взгляд натыкался на контрастные основные цвета. Прямо за домом расстилалось целое поле ярко-фиолетовой лаванды. К нему вплотную примыкал ярко-желтый клин пшеницы. Оранжевые крыши домов смотрели в ясное голубое небо. Зеленые луга покрывала россыпь ярко-красных маков, а по периметру их обрамляли бурно цветущие розовые олеандры.
Ван Гог сумел разглядеть буйство красок не только при ярком солнечном свете среди дня, но и в ночи. Его предшественники — прованские художники — обычно изображали ночное небо как россыпь маленьких белых точек на черном фоне. Когда же мы с друзьями заглянули в ясное ночное прованское небо вдали от уличных фонарей и исходящего из окон света, оказалось, что небосвод вовсе не черный и совершенно не однородный. Один цвет сменял другой: от созвездия к созвездию небо казалось то темно-синим, то густо-фиолетовым, то вдруг приобретало глубокий темно-зеленый оттенок. Сами же звезды тоже оказались разноцветными: одни бледно-желтыми, другие — оранжевыми или зелеными. Кроме того, вокруг них — ярко светящихся точек — можно было разглядеть расходящиеся световые кольца. В письме сестре Ван Гог так описывал свое видение ночного неба: «Палитра ночи, пожалуй, даже богаче, чем гамма дня… Стоит присмотреться повнимательнее, и ты заметишь, что одни звезды излучают лимонно-желтый цвет, другие мерцают розовым, зеленым или сине-голубым — как незабудки. Без лишних слов становится понятно, что для отображения этого великолепия просто недостаточно набросать белых точек на черно-синем фоне».
5
Туристический сервис-центр Арля расположен в ничем не примечательном железобетонном здании в юго-западной части города. Приезжие могут получить там обычный набор услуг: бесплатную карту города, информацию о гостиницах, культурных событиях, телефоны нянь, готовых посидеть с детьми, координаты винных дегустационных залов, маршруты байдарочных походов, вылазок на окрестные руины и на рынки. Впрочем, один аттракцион перевешивает все остальные. «Добро пожаловать в край Винсента Ван Гога!» — гласит огромный плакат с подсолнухами, висящий в главном вестибюле центра. Кстати, повсюду на стенах висят репродукции картин художника — сцены уборки урожая, пейзажи с оливковыми деревьями и огородами.
В первую очередь сотрудники экскурсионного бюро предлагают туристам пешеходную прогулку по тропе Ван Гога. В ознаменование сотой годовщины со дня смерти художника в 1990 году в Провансе в тех местах, с которых великий художник писал те или иные пейзажи, были смонтированы памятные таблички. Информационные стенды установлены на металлических стойках или закреплены на каменных плитах. На них размещены увеличенные репродукции картин Ван Гога, к которым прилагается краткий — буквально в несколько строчек — комментарий. Такие стенды встречаются как в самом городе, так и в его окрестностях, среди оливковых рощ и пшеничных полей. Пунктир мемориальных табличек и стендов с репродукциями тянется до Сен-Реми, где в сумасшедшем доме после печального инцидента с ухом и закончилось пребывание Ван Гога в Провансе.

 Винсент Ван Гог. Желтый дом (Дом Винсента), Арль, 1888 г.
Винсент Ван Гог. Желтый дом (Дом Винсента), Арль, 1888 г.
Я сумел убедить своих спутников потратить полдня на прогулку по этому маршруту. Мы заглянули в туристический центр, чтобы взять карту. Совершенно случайно мы оказались там в момент, когда начиналась организованная экскурсия по тропе Ван Гога, при этом группа была сформирована не полностью, и за весьма умеренную плату нас присоединили еще к дюжине таких же, как мы, энтузиастов пешеходных прогулок. Нас проводили на площадь Ламартин и познакомили с гидом — девушкой по имени Софи, которая первым делом сообщила, что учится в аспирантуре в Сорбонне и пишет диссертацию по живописи Ван Гога.
В начале мая 1888 года, решив, что гостиница обходится ему слишком дорого, Ван Гог снимает флигель дома № 2 по площади Ламартин, впоследствии известный как «желтый дом». Это была половина углового дома, который хозяин перекрасил снаружи в ярко-желтый цвет, но не доделал ремонт внутри. Ван Гог воспользовался обстоятельствами и проявил живейшее участие в оформлении интерьера по своему вкусу. Он хотел, чтобы внутри все было основательно, солидно и просто. Для отделки Ван Гог подобрал цвета из палитры юга Франции: ярко-красный, зеленый, синий, оранжевый, сернисто-желтоватый и сиреневый. «Я хотел, чтобы мое жилище стало самым настоящим домом художника: ничего дорогого, но так, чтобы все — от стульев до картин — было подобрано индивидуально, с характером, — писал он брату. Что касается кровати, то имевшиеся в доме железные я заменил на деревенские, из дерева. Очень уж спокойно, солидно и надежно они выглядят». Закончив ремонт и обустройство нового дома, Ван Гог пишет сестре: «Я теперь живу в доме цвета сливочного масла с ослепительно-яркими, просто вызывающе-зелеными ставнями. Сам он стоит на солнечной стороне площади, а окна выходят на сквер с олеандрами и акациями. Внутри дома стены просто чисто побелены, а полы выложены красным кирпичом. Ну, а над всем этим — густое синее небо. Вот здесь, в этой атмосфере я могу жить и дышать, думать и творить».
К сожалению, на площади Софи практически нечего было нам показывать: «желтый дом» был разрушен во время Второй мировой войны, и на его месте построили студенческий хостел, над которым, как великан над карликом, теперь нависает здание огромного супермаркета. В общем, вскоре мы поехали в Сен-Реми и провели там больше часа — в полях вокруг той самой психиатрической клиники, где какое-то время жил и писал свои холсты Ван Гог. У Софи имелась пластиковая папка с файлами, в которые были вложены репродукции основных прованских пейзажей кисти Ван Гога, и девушка частенько поднимала картинки над головой, чтобы продемонстрировать нам, экскурсантам, что изобразил на холсте великий художник, когда стоял на том самом месте, где сегодня оказались мы. В какой-то момент, стоя спиной к горам, она подняла репродукцию «Оливковых деревьев на фоне Альпилл» (июнь 1889 года), и мы смогли не только восхититься как самим пейзажем, так и его отображением, порожденным гением художника, но и сравнить оригинал с произведением искусства. Впрочем, именно в этот момент в группе наметился некоторый раскол: кое с кем из наших спутников мы не сошлись в критериях оценки творчества великого живописца. Стоявший рядом со мной австралиец — естественно, в широкополой шляпе — заявил своей спутнице, невысокой женщине с взъерошенными волосами: «3наешь, а по-моему, не очень похоже у него получилось».


Ван Гог и сам опасался, что в его адрес будут всегда выдвигать подобные обвинения. В письмах сестре он жаловался, что самым типичным отзывом о его работе была фраза: «Все это очень и очень странно». И это не считая тех, кто находил его картины бездарными или отталкивающими. Следует, конечно, признать, что поводов высказаться в таком духе у критиков было немало. Стены вангоговских домов далеко не всегда были ровными и прямыми, солнце далеко не всегда было желтым, а трава — зеленой. Деревья на холстах порой двигались чересчур активно и бурно, напоминая скорее животных, чем растения. «Я творил черт знает что с правдоподобием цветов и оттенков», — признавал сам художник и творил то же самое «черт знает что» с пропорциями, линиями, тенями и тонами.
Тем не менее, творя «черт знает что», Ван Гог лишь в открытую делал то, в чем так или иначе участвуют все художники, — выбирал, какие именно аспекты окружающего мира следует выделить в произведении, а какие можно оставить без внимания. Ницше был прав, когда писал, что окружающий мир бесконечно разнообразен и не может быть целиком и полностью отображен в произведении искусства. Отличало же Ван Гога от других прованских художников то, какой именно выбор он делал, что он считал для себя важным, а на что не хотел тратить ни свой талант, ни время. Такой художник, как, например, Константин, потратил бы немало сил на то, чтобы четко выстроить для себя подобную шкалу приоритетов и ценностей.
Ван Гог же, несмотря на то, что идея «похожести» его всегда увлекала, настаивал, что подобная шкала должна выстроиться сама собой, без лишних переживаний и долгих раздумий. Впрочем, и так называемую похожесть он воспринимал весьма оригинально. В одном из писем брату художник иронически замечает, что реализм для него несколько отличается от «похожести, свойственной снимкам, сделанным богобоязненным фотографом». Те стороны реальности, которые действительно привлекали его, требовали порой искажения, опущения каких-то деталей, подмены цветов, но, несмотря на все это, интересовала Ван Гога в первую очередь именно реальность. Он был готов пожертвовать наивным реализмом для того, чтобы обрести реализм подлинный, реализм высшего порядка. В своем творчестве он был сродни поэту, который, описывая то или иное событие, внешне гораздо менее точно и с меньшими деталями, чем это делает журналист, на самом деле открывает читателю глаза на происходящее, обнажает подлинную суть событий, достигая большего успеха, чем самый объективный и подробный хроникер.
На эту тему Ван Гог подробно рассуждает в письме брату, отправленном им в сентябре 1888 года. Речь шла о задуманном художником портрете: «Вместо того чтобы пытаться с фотографической точностью воспроизвести увиденное своими глазами, я пользуюсь цветом весьма произвольно. Делаю я это для того, чтобы выразить себя наиболее энергично и ярко… Вот тебе пример, наглядно иллюстрирующий, что я имею в виду: я бы хотел написать портрет друга-художника, человека, который мечтает о чем-то высоком, человека, который работает ночью под соловьиные трели — не специально, а просто потому, что он такой [речь шла о „Поэте“, написанном в начале сентября 1888 года]. Пусть он будет блондином.
Я хочу вложить в портрет те чувства, которые я испытываю по отношению к нему, свою оценку, свое отношение к этому человеку (курсив мой. — А. Б.). В общем, я, как могу, стараюсь изобразить его таким, какой он есть, я прикладываю к этому все усилия, но портрет еще не закончен. Чтобы завершить работу, мне нужно перестать себя сдерживать и стать совершенно вольным, свободным колористом. Я, действительно, несколько преувеличенно изображаю невесомость, почти прозрачность его волос, более того, я обращаюсь к оранжевым тонам, пользуюсь хромовым пигментом и добираюсь до бледного лимонно-желтого оттенка. В качестве фона — вместо того чтобы изобразить самую обыкновенную стену обычной убогой комнаты — я хочу воссоздать бесконечность. Для этой цели, как мне кажется, больше всего подходит густой и яркий синий фон. Это простое и бесхитростное сочетание светлой головы и густого плотного фона, надеюсь, даст некий загадочный эффект — как мерцание звезды на фоне бездонного темно-синего моря… Бог ты мой, а ведь всякие милейшие люди увидят в использованном мной утрировании лишь карикатуру на близкого мне человека».
Пройдет всего несколько недель — и Ван Гог начнет работать над еще одной «карикатурой». «Сегодня я, наверное, начну писать интерьер кафе, где обычно обедаю. Причем я постараюсь изобразить его вечером при газовом освещении, — пишет Ван Гог брату. — Это так называемое „ночное кафе“ (обычное дело в наших местах), которое действительно открыто всю ночь напролет. Ночным скитальцам здесь всегда найдется место, особенно когда они слишком пьяны для того, чтобы их впустили в гостиничный номер, или когда у них уже нет денег, чтобы расплатиться за нормальный ночлег». Работая над холстом, получившем впоследствии название «Ночное кафе в Арле», Ван Гог пренебрег некоторыми «аспектами реальности» ради того, чтобы полнее и точнее передать другие, более важные для него черты окружающего мира. Он не стал воспроизводить правильную перспективу и реальную цветовую гамму помещения кафе, газовые фонари претерпевают странные метаморфозы, превращаясь в мерцающие грибы, стулья по-кошачьи изгибают спинки, да что там стулья — сам пол на картине выгибается дугой. Тем не менее Ван Гогу действительно было интересно передать свои реальные ощущения от этого места, те мысли и чувства, которые ему было бы труднее выразить, реши он следовать всем канонам и законам классического искусства.
6
Недовольный увиденным австралиец остался в нашей группе в явном меньшинстве. Большинство с удовольствием слушало рассказ Софи и со все большим почтением взирало как на репродукции картин Ван Гога, так и на те пейзажи, которые когда-то вдохновляли его. Впрочем, мою радость несколько омрачила всплывшая в памяти когда-то прочитанная максима Паскаля — мысль, которую философ изложил на бумаге за два столетия до того, как Ван Гог приехал сюда, на юг Франции:
«Как же пуста и никчемна живопись: мы восхищаемся похожим изображением тех людей и вещей, к оригиналам которых не испытываем никаких теплых чувств в реальности».[13]
Я чувствовал себя несколько неловко: нельзя было не признать, что Прованс ничуть не восхищал меня до тех пор, пока я не увидел те же самые пейзажи, отображенные творческим гением Ван Гога. Впрочем, высмеивающая любителей изобразительного искусства максима Паскаля вовсе не является абсолютной истиной. Она не принимает в расчет как минимум два очень важных момента. Восхищаться картиной, на которой изображено место, хорошо известное зрителю, но не вызывающее у него никаких положительных эмоций, было бы абсурдно и претенциозно, если бы мы рассматривали художников как мастеров-копировальщиков, старающихся как можно точнее изобразить то, что находится перед их глазами. В этом случае нам оставалось бы восхищаться живописью лишь как ремеслом и оценивать мастерство художника только по его технике, по профессиональным навыкам, задействованным в процессе воспроизведения того или иного объекта. Что ж, тогда действительно нам ничего не оставалось бы, кроме как согласиться с паскалевским определением живописи как бессмысленной погони за недостижимым. Вот почему мне куда больше по душе мысль Ницше, что художественное творчество вовсе не тождественно копированию реальности. Художники выбирают и подчеркивают то, что считают нужным; они вызывают у зрителя искреннее восхищение тем, что им кажется достойным, и тем самым наделяют нашу общую реальность все новыми и новыми достойными внимания чертами и качествами.
Более того, никто не обязан продолжать безразлично относиться к тому или иному месту, восхитившись его изображением на холсте. На что бы там ни намекал Паскаль, каждый, ознакомившись с произведением искусства, имеет полное право переменить свое отношение к реальному объекту, отображенному художником. Наша способность оценивать и восхищаться может быть экстраполирована с изобразительного искусства на реальный мир. Мы можем сначала увидеть что-то прекрасное на холсте и лишь позднее увидеть этот пейзаж или предмет в реальности. Возвращаясь к теме нашей главы, можно сказать, что мы способны продолжать видеть прованские кипарисы далеко за рамками вангоговских пейзажей.
 Винсент Ван Гог. Закат: поля под Арлем, 1888 г.
Винсент Ван Гог. Закат: поля под Арлем, 1888 г.
7
Прованс оказался не единственным местом, которое я полюбил и где захотел побывать после того, как познакомился с его образом в произведениях искусства. Как-то раз меня даже занесло в одну из немецких индустриальных зон — настолько мне захотелось посетить подобное место после просмотра «Алисы в городах» Вима Вендерса. Фотографии, сделанные Андреасом Гурски, сделали для меня реальным мир людей, живущих под мостами и виадуками. Документальный фильм Патрика Кейлера «Робинзон в космосе» заставил меня потратить целый отпуск на то, чтобы поближе познакомиться с заводами, торговыми комплексами и бизнес-центрами Южной Англии.
Признавая, что некий ландшафт может стать более привлекательным для путешественника, если дать ему возможность увидеть пейзаж глазами кого-то из великих художников, экскурсионное бюро в Арле всего-навсего использовало давно сложившееся отношение между искусством и желанием путешествовать. Эта взаимосвязь прослеживается в самых разных странах (и в абсолютно различных культурах и видах искусства) на протяжении всей истории туризма. Пожалуй, наиболее примечательным и одним из самых ранних примеров такой связи можно считать всплеск интереса к путешествиям и пешим прогулкам, наблюдавшийся в Британии во второй половине восемнадцатого века.
Историки сходятся во мнении, что значительная часть сельской территории Англии, Шотландии и Уэльса не была по достоинству оценена с эстетической, а следовательно, и с туристической точки зрения вплоть до восемнадцатого века. Те места, которые впоследствии стали признанными эталонами красивых живописных пейзажей — долина реки Уай, Шотландские горы, Озерный край — веками воспринимались местными жителями и приезжими в лучшем случае безразлично, а зачастую становились предметом насмешек и презрительных замечаний. Так, Даниэль Дефо, посетив Озерный край в 1720-х годах, описывал эти места как «вызывающую страх и неприязнь пустошь». Доктор Джонсон в своем «Путешествии на западные острова Шотландии» писал, что шотландские горные районы «бесплодны, абсолютно лишены способной сколько-нибудь украсить их растительности» и представляют собой «замечательный пример безнадежной, практически стерильной безжизненности». Когда же Босвелл попытался хоть как-то приободрить его и обратил внимание Джонсона на достаточно высокую вершину, тот лишь раздраженно ответил: «Никакая это не гора, а всего-навсего приметная возвышенность, своего рода опухоль на теле земли».
Англичане, располагавшие свободными средствами, предпочитали ездить за впечатлениями за границу. Пожалуй, самым популярным туристическим маршрутом тех времен была Италия, в особенности Рим, Неаполь и их окрестности. Пожалуй, не случайное совпадение, что именно эти места часто упоминались в произведениях искусства, высоко ценимых британской аристократией: в поэзии Вергилия и Горация, а также на картинах Пуссена и Клода, изображавших развалины вилл в окрестностях Рима и неаполитанское побережье. Пейзаж обычно передавался на рассвете или в предзакатных сумерках. На небе традиционно висели несколько пушистых облачков, подсвеченных по краям розовым и золотым. Можно предположить, что предшествовавший (или предстоящий — в зависимости от предполагаемого времени суток) день был или будет жарким. Ветра, судя по всему, не наблюдалось, воздух висел неподвижно. Царившую тишину могло нарушать лишь журчание прохладного ручейка или скрип весел в уключинах лодки, пересекавшей озеро. Несколько пастушек непременно должны были идти по полю или гладить овечек, а еще лучше — неизвестно откуда взявшееся златокудрое дитя. Разглядывая подобные сцены где-нибудь в английском загородном особняке, когда за окном уныло моросит дождь, многие англичане, естественно, мечтали о том, чтобы перебраться через Ла-Манш при первой же возможности. В 1712 году Джозеф Аддисон совершенно справедливо заметил: «Чем больше произведения природы напоминают нам произведения искусства, тем с большей готовностью мы находим их приятными и красивыми».
К величайшему сожалению для произведений британской природы, на протяжении долгого времени они отражались буквально в считаных произведениях искусства. Тем не менее на протяжении восемнадцатого века дефицит был постепенно преодолен. Синхронно с этим процессом наблюдалось преодоление привычного для британцев пренебрежения собственной природой и нежелание путешествовать по собственной стране. В 1727 году поэт Джеймс Томсон опубликовал «Времена года», где воспел сельскую жизнь и пейзажи Южной Англии. Успех «Времен года» помог добиться известности целой когорте так называемых крестьянских поэтов, таких, как Стефан Дак, Роберт Бернс и Джон Клэр. Художники также стали рассматривать собственную страну в качестве натуры для творческого отображения. Лорд Шелберн заказал Томасу Гейнсборо и Джорджу Барретту серию пейзажей для Боувода — своего уилтширского поместья. При этом он открыто заявил, что таким образом намеревается «заложить основы национальной школы британского пейзажа». Ричард Вильсон отправился писать Темзу в окрестностях Твикенхама, Томас Херн рисовал замок Гудрич, Филипп Джеймс де Лутербург писал пейзажи Тинтернского аббатства, а Томас Смит оставил нам пейзажи Дервенвотера и Виндермера.
Как только этот процесс стал набирать силу, количество людей, желающих путешествовать по Британским островам, стало расти в геометрической прогрессии. Впервые в истории долина реки Уай была наводнена туристами. Немало путешественников забралось в горы Северного Уэльса или же посетило Озерный край и горную Шотландию. В общем и целом вся эта история замечательно подтверждает истинность высказывания, что людям свойственно бывать лишь в тех местах и уголках мира, которые когда-то уже были изображены или словесно описаны художниками или писателями.
Несомненно, данный постулат является некоторым преувеличением — как, разумеется, и утверждение, что до Уистлера никто не замечал лондонских туманов, а до Ван Гога никому не было дела до прованских кипарисов. Искусство само по себе не способно пробудить массовый интерес к тому или иному объекту, оно просто не может родиться и вырасти из чувств и эмоций, которых лишена та — заведомо преобладающая — часть человечества, которая не относит себя к художникам-творцам. Искусство лишь вносит посильный вклад в общий интерес и способствует тому, чтобы мы, зрители, более сознательно переживали то, что когда-то воспринимали инстинктивно, второпях, не придавая переживаниям должного внимания.
Впрочем, этого, может быть, вполне достаточно — и, похоже, в экскурсионном бюро в Арле это отлично понимают, — чтобы повлиять на наше решение провести очередной отпуск в том или ином месте.
VIII. Обладание красотой
Места:
Озерный край. Мадрид. Амстердам. Барбадос. Лондонские доки
Гид:
Джон Раскин
1
Среди всего множества мест, в которых мы так или иначе оказываемся и которые оставляют нас безразличными, находится несколько таких, которым удается полностью завладеть нашим вниманием и определенным образом воздействовать на наши эмоции. Эти места обладают неким качеством, грубо и весьма приблизительно называющимся красотой. Разумеется, красота может не иметь ничего общего с привлекательностью и миловидностью, о которой на все лады твердят путеводители и рекламные буклеты турагентств. Та красота, о которой идет речь, является качеством совсем иного свойства. Пожалуй, мы обращаемся к этому слову, когда нам нужно как-то сообщить, что то или иное место нам очень понравилось.
Путешествуя по миру, я видел немало красивых мест. Например, в Мадриде всего в нескольких кварталах от моей гостиницы находился пустырь, ограниченный с одной стороны шеренгой многоэтажных домов, а с другой — большой автозаправочной станцией, к которой была пристроена автомобильная мойка. Как-то раз вечером, уже в темноте, я увидел, как длинный, гладкий и лоснящийся, почти пустой пассажирский поезд пронесся, почти не касаясь земли, в нескольких метрах над крышей заправочной станции и продолжил свой «полет» на высоте средних этажей ближайших жилых домов. Никакого чуда в этом, конечно, не было: просто опоры и само полотно виадука, по которому ехал поезд, слились в почти полной темноте с окружающим фоном. Это маленькое шоу технологического характера выглядело потрясающе эффектно, особенно учитывая футуристичный дизайн пригородного поезда и бледный, словно призрачный, зеленоватый свет, исходивший из окон вагонов. Люди в окрестных домах смотрели телевизор или убирали со столов и несли грязную посуду на кухни. Тем временем немногочисленные пассажиры поезда лениво разглядывали проносившийся мимо город или просматривали газеты. Их путешествие в Севилью или Кордову только начиналось. До пункта назначения им предстояло добраться уже после того, как посудомоечные машины отработают свое и затихнут, а экраны телевизоров погаснут до утра. И пассажиры, и жители многоквартирных домов в равной мере не обращали внимания друг на друга. Их жизнь протекала в параллельных, никогда не пересекающихся плоскостях, за исключением, пожалуй, одной-единственной точки во времени и пространстве, сошедшихся в зрачке случайного наблюдателя, который именно в это время и именно в этом месте вышел прогуляться, чтобы убить время и не умереть со скуки в унылом гостиничном номере.
В Амстердаме, в маленьком дворике, скрывавшемся от посторонних глаз за деревянной дверью, я обнаружил старую кирпичную стену, которая, несмотря на обжигающе холодный, до слез в глазах, резкий ветер, дувший над бесконечными каналами, смогла немного прогреться под робкими лучами весеннего солнца. Я вынул руки из карманов и провел ладонями по выщербленной поверхности кирпичей. Они показались легкими, хрупкими, вот-вот готовыми рухнуть под собственной тяжестью. Мне вдруг неудержимо захотелось поцеловать их, прикоснуться к ним губами — еще лучше ощутить текстуру, которая чем-то напомнила мне не то пемзу, не то куски халвы из лавки восточных сладостей.
На Барбадосе я как-то раз вышел на пляж на восточном побережье острова. Передо мной расстилался бескрайний — до самого горизонта — океан. Я знал, что до самого африканского побережья нет ни клочка суши. Остров, на котором я находился, неожиданно показался мне маленьким и беззащитным, а его несколько театральная растительность — розовые цветочки и волосато-косматые деревья — почему-то стала восприниматься как своего рода протест суши против бескрайней монотонности моря. Я помню и вид, который открывался из нашего окна в комнате на постоялом дворе «Простой смертный» в Озерном краю: холмы, сложенные из мягких силурийских пород, были покрыты нежно-зеленой травой, подернутой легкой дымкой, словно покрывалом, накрытой мягким утренним туманом. Линия холмов поднималась и опускалась, словно контур тела какого-то огромного животного, которое лишь ненадолго прилегло отдохнуть и в любой момент могло проснуться и, встав в полный рост, как минимум несколько миль в холке, стряхнуть со своей мягкой зеленой шкуры вековые дубы и цепкие живые изгороди — ни дать ни взять, легкие пушинки на теле великана.
2
Обнаружив в непосредственной близости что-то по-настоящему красивое, мы непроизвольно испытываем желание завладеть этой красотой, получить ее в свое распоряжение и насытить ею свою жизнь. Как же нам порой хочется иметь возможность сказать: «Да, я здесь был, я все это видел и оценил эту красоту!»
Но красота — субстанция ускользающая, порой ее встречаешь там, где ей, казалось бы, совсем не место, или, например, в тех местах, куда явно никогда не вернешься. А еще чаще ее появление оказывается следствием невероятного совпадения множества факторов, таких, как время года, освещенность и погода. Как же тогда достичь обладания красотой, как навсегда сохранить для себя летящий поезд, похожие на халву кирпичи или вид на английскую долину?
Определенные возможности в этом отношении дает фотоаппарат. Фотографирование может в какой-то мере утолить жажду обладания, порожденную красотой того или иного места. Наша тревога по поводу того, что воспоминания о прекрасном моменте сотрутся в памяти, шаг за шагом отступает с каждым щелчком затвора. Кстати, эффект можно попытаться усилить, лично сфотографировавшись на фоне того или иного красивого места. Смысл этого почти ритуального фотографирования, наверное, выражается в простом, но по-своему изящном постулате: таким образом человек надеется сохранить красоту в себе, сохраняя хотя бы зрительно себя в ней. Стоя у подножия колонны Помпея в Александрии, в общем-то можно даже попытаться нацарапать свое имя на гранитном постаменте, следуя, таким образом, примеру флоберовского друга Томпсона из Сандерленда. («Невозможно посмотреть на колонну и не увидеть имя Томпсона, а следовательно, невозможно не вспомнить его, не подумать о нем. Этот кретин стал частью памятника и останется с ним навечно… Все дебилы мира в той или иной степени являются Томпсонами из Сандерленда».) Более скромным и куда более разумным шагом будет покупка сувениров — какой-нибудь местной керамической миски, лакированной шкатулки или пары сандалий (Флобер, кстати, купил себе в Каире три ковра). Это поможет нам сохранить более яркие воспоминания об ушедшем и утраченном — точно так же, как оставшийся в медальоне локон возлюбленной, ушедшей к другому.
3
Джон Раскин родился в Лондоне в феврале 1819 года. Важнейшей темой его многочисленных работ была попытка решения вопроса сохранения красоты тех мест, в которых мы бываем, и продления ощущения обладания этой красотой.
С раннего детства он на редкость живо и легко воспринимал все визуальные детали и особенности окружающего мира. Сам художник вспоминал, что в возрасте трех-четырех лет смог целыми днями с удовольствием разглядывать узоры и сравнивать цвета квадратиков на ковре, или, например, исследовать хитросплетения волокон древесины в досках на полу; или же раз за разом пересчитывать кирпичи в стенах соседних домов, лишь ненадолго отвлекаясь от этого занятия, чтобы выразить окружающим свой восторг по поводу очередного маленького открытия. Родители Раскина всячески поощряли в мальчике эту чувствительность и восприимчивость. Мать рассказывала об окружающем мире и природе, а отец, преуспевающий импортер хереса, читал сыну по вечерам после чая классическую литературу, а каждую субботу непременно водил в какой-нибудь музей. Летом семья неизменно путешествовала либо по Британским островам, либо по континентальной Европе, причем поездки совершались не ради развлечения или праздного любопытства, но для того, чтобы увидеть и познать подлинную красоту, которая, как было принято считать, была присуща величественным альпийским пейзажам, а также средневековым городам Северной Франции и Италии, в особенности Амьену и Венеции. Путешествовали они неспешно, в карете, проезжая не более пятидесяти миль в день, при этом каждые несколько миль обязательно делали остановку, для того чтобы полюбоваться окрестностями. Привыкнув с детства к подобным поездкам, Раскин продолжал путешествовать в той же манере всю жизнь.
Наблюдая за собственным интересом к красоте и анализируя желание обладать ею, Раскин пришел к пяти основным выводам. Во-первых, считает он, красота — это следствие одновременного воздействия множества факторов на наш разум, причем воздействие происходит как на визуальном, так и на психологическом уровне. Во-вторых, людям свойственна прирожденная тяга к красоте, то есть, с одной стороны, они способны ее воспринимать, а с другой — жаждут обладать ею. В-третьих, существует множество суррогатных способов низшего порядка для выражения этой тяги к обладанию красотой. Среди таких способов — желание покупать сувениры или ковры, стремление нацарапать свое имя на историческом памятнике и фотографировать все то, что хоть как-то попадает в категорию красивого. В-четвертых, существует единственный способ обладать красотой должным образом. Заключается он в понимании красоты через осознанное восприятие воздействующих на нас психологически и визуально факторов, порождающих ощущение красоты. Ну а в-пятых, по мнению Раскина, самым эффективным способом достижения осознанного понимания категории прекрасного является попытка описать красивые места средствами искусства (не имеет значения, словесными или визуальными — через рисунок или живопись), вне зависимости от того, в какой мере тот или иной человек от природы наделен художественными способностями.
4
На протяжении нескольких лет (с 1856 по 1860 год) Раскин был просто одержим идеей научить человечество рисовать: «Искусство рисования имеет гораздо большее значение для человеческого рода, чем даже письменность. Этому мастерству следует учить каждого ребенка точно так же, как детей учат писать. К сожалению, рисование в наше время оказалось совершенно незаслуженно забытым и выдвинутым на периферию образования. Пожалуй, сейчас едва ли найдется один человек на тысячу — даже среди уважаемых учителей, преподающих, в частности, и рисование, — кто мог бы осознанно и внятно сформулировать основополагающие принципы этого искусства».
Стремясь на деле хоть как-то исправить ситуацию, Раскин опубликовал две книги: в 1857 году вышли его «Основы рисования», а в 1859-м увидели свет «Основы перспективы». Кроме того, он прочитал цикл лекций в Лондонском рабочем колледже. Основную массу его слушателей составляли кокни — ремесленники из Ист-Энда. Их-то Раскин и учил основам передачи света и тени, принципам цветоделения и колористики, объяснял, как строится перспектива и как формируется правильная композиция рисунка. Лекции всегда проходили в переполненных аудиториях, а книги художника были благоприятно встречены критикой и имели большой коммерческий успех. Все это убедило Раскина в правоте тезиса, что рисование — это вовсе не занятие для избранных. «В каждом человеке присутствуют в достаточной мере сформированные способности к обучению рисованию — если, конечно, сам он этого хочет. Впрочем, точно так же практически любой человек способен овладеть французским, латынью или же арифметикой на достойном уровне, с тем чтобы практически применять полученные знания».
Какую же цель, по мнению Раскина, преследовало обучение человека рисованию? Сам он не видел никакого парадокса в том, чтобы не пытаться научить каждого рисовать академически правильно или подталкивать людей к тому, чтобы все поголовно стали художниками: «Человек рождается художником не в той же мере, в какой бегемот рождается бегемотом. Сделать человека художником нельзя. С таким же успехом можно пытаться сделать из бегемота жирафа». Он абсолютно не переживал по поводу того, что его ученики — жители Ист-Энда, — окончив курс основ рисования, никогда в жизни не создадут такого произведения искусства, которое будет удостоено чести висеть в картинной галерее. «Мои усилия нацелены вовсе не на то, чтобы сделать из
плотника художника. Я хочу лишь, чтобы этот человек стал счастливее, продолжая оставаться плотником», — пояснял он, выступая перед Королевской комиссией по рисованию в 1857 году. О себе самом Раскин откровенно заявлял, что, к его величайшему сожалению, природа не создала его талантливым художником. О своих детских рисунках он не без иронии говорил: «Никогда в жизни не видел менее оригинальных и более бездарных детских рисунков, чем мои собственные. Никогда в жизни мне не удавалось толково нарисовать ни кошку, ни мышку, ни кораблик, ни дерево».
Ценность же рисования — когда им занимаются не наделенные талантом и особыми способностями люди — с точки зрения Раскина, состояла в том, чтобы научить человека видеть: не смотреть, а именно видеть и замечать самое важное. В процессе собственноручного воссоздания окружающего мира человек перестает быть пассивным созерцателем красоты и достигает ее глубокого понимания, следовательно, сохраняет в памяти гораздо более полные и живые воспоминания об увиденных красивых объектах. Один торговец, обучавшийся на курсах рисования в рабочем колледже, впоследствии поделился воспоминаниями о том, что сказал Раскин ему и его товарищам по учебе в конце учебного курса: «Джентльмены, я хочу, чтобы вы поняли: я не пытался научить вас рисовать. Мне было важно, чтобы вы научились видеть. Представьте себе, как два человека проходят через рынок Клэр, и один выходит оттуда, ничуть не изменившись и не став хотя бы чуточку мудрее и богаче. Другой же замечает веточку петрушки, свисающую через край корзины женщины, продающей масло. Этот человек уносит с собой и сохраняет в памяти бесчисленное множество подобных прекрасных зарисовок. Эти образы, исполненные красоты, делают его внутреннюю жизнь богаче и прекраснее. Вот я и хочу, чтобы вы научились замечать подобные детали, чтобы вы видели вокруг себя прекрасные образы».
Раскина поражало и огорчало, насколько редко люди обращают внимание на детали. Он искренне сокрушался по поводу слепоты современных ему туристов, в особенности тех, кто гордо сообщал друзьям и знакомым, что объехал всю Европу за неделю (речь шла об экскурсионных путешествиях по железной дороге; маршрут «Европа за неделю» впервые был предложен публике Томасом Куком в 1862 году): «Путешествие, совершенное со скоростью сто миль в час, ни в коем случае не сделает нас внутренне сильнее, счастливее или мудрее. В мире всегда есть и будет то, к чему нужно подходить медленно. Чем быстрее мы проносимся мимо таких мест, тем меньше видим, меньше запоминаем и меньше понимаем. Подлинную ценность имеет не скорость, а неспешное созерцание, осмысление и запоминание. Пуля не приносит счастья, сколь бы быстро она ни летела. Человек же — если он действительно хочет стать по-настоящему мудрым человеком — только обогатится, если будет перемещаться из одного интересного места в другое без лишней спешки. Человек ведь славен не тем, как быстро он оказывается в том или ином месте, а тем, что он — человек, человек по-настоящему мудрый и интересный».
Факт, что мы совершенно отвыкли обращать внимание на детали, на важные и, быть может, красивые мелочи, находит подтверждение в том, что мы практически не способны заставить себя остановиться и постоять, разглядывая тот или иной объект хотя бы столько времени, сколько потребовалось бы на то, чтобы сделать минимально точную зарисовку этого предмета, человека или пейзажа. Для того чтобы сделать набросок, например, дерева, потребуется минут десять сосредоточенного внимания. Мы же прекрасно понимаем, что даже самое красивое дерево вряд ли заставит нас задержаться и уделить ему больше минуты.
По мнению Раскина, непреодолимое желание путешествовать как можно дальше, передвигаясь при этом с возможно большей скоростью, было напрямую связано с психологически обусловленной невозможностью получать должное удовольствие, находясь сколько-нибудь продолжительное время в одном месте и тем более наслаждаться мелкими, но прекрасными деталями, такими, как, например, свисающая с края картины веточка петрушки. Находясь в состоянии постоянного внутреннего конфликта с индустрией туризма, Раскин в 1864 году пригласил на лекцию в Манчестере преуспевающих промышленников и обратился к ним со страстной речью: «Ваше представление о том, что такое удовольствие, ограничивается поездкой в железнодорожном вагоне. Ради чего, спрашивается, вы перекинули железнодорожный мост через Шаффенхаузенский водопад, зачем было прокладывать тоннель через скалы под Люцерной? Вы же просто уничтожили побережье Женевского озера, в особенности в районе Кларенс. В самой Англии не осталось ни единой тихой и спокойной долины, в которую бы то и дело не врывались ваши грохочущие адские машины. За границей нет ни единого города, не отмеченного печатью вашего присутствия — коростой и язвами новых отелей. Даже на Альпы вы смотрите как на ярмарочный аттракцион, как на скользкий столб, на который нужно забраться на потеху публике и затем скатиться по нему вниз, издавая так называемые восторженные крики!»
Тон этой речи нельзя не признать истеричным, но в то же время Раскину удалось довольно точно обрисовать и сформулировать возникшую проблему. С одной стороны, современные технологии позволяют добираться до красивых мест гораздо быстрее и легче, чем раньше. С другой — никакая технология не в состоянии упростить и облегчить процесс познания красоты, научить человека ценить прекрасное и хранить красоту в памяти.
Что же тогда, спрашивается, плохого в фотоаппарате? Ничего, поначалу полагал Раскин. «Наряду с огромным количеством всякого рода механической отравы, выплеснутой на человечество девятнадцатым веком, на данный момент есть всего лишь одно действенное противоядие», — писал он об изобретении Луи Жака Манде в 1839 году. Приехав в Венецию в 1845 году, он сам неоднократно пользовался дагерротипом и был потрясен полученными результатами. Вот как писал об этом сам Раскин в письме отцу: «Дагерротипы, полученные при естественном освещении, — это потрясающе. Иметь у себя такое изображение — то же самое, что увезти с собой сам дворец. До последнего камня, до последнего пятнышка на стене. При этом, в отличие от живописного полотна, делая такой снимок, невозможно исказить пропорции».
Однако энтузиазма у Раскина заметно поубавилось, когда он обратил внимание на другую проблему, которую повлекло за собой массовое применение новой технологии множеством пользователей. Вместо того чтобы использовать фотографию как дополнение к активному, сознательному восприятию красоты, люди стали использовать это достижение техники и технологии как альтернативу осознанному процессу познания. Путешественники стали меньше обращать внимание на детали, на сами пейзажи и памятники, чем это было принято раньше. Многие просто уверовали в то, что наличие фотографического снимка автоматически гарантирует восприятие прекрасного места или предмета и практически вечное владение этой красотой.
Рассказывая о своей любви к рисованию (а он неизменно возвращался с прогулок и из путешествий с множеством набросков и зарисовок), Раскин как-то заметил, что склонность к этому занятию родилась в нем «не из желания произвести на кого-то впечатление, не для того, чтобы заработать хорошую репутацию, не ради других людей и не для собственного благополучия, а появилась как-то стихийно, как своего рода инстинкт, наподобие того, что требует от нас добывать себе пищу и воду». Поедание пищи, утоление жажды и рисование — все эти виды человеческой деятельности роднит то, что они связаны с потреблением желаемой субстанции и переносом чего-то нужного и полезного извне внутрь человека. Раскин рассказывал, что в детстве ему до того нравилось, как выглядит трава, что он порой испытывал необъяснимое желание съесть ее. Впрочем, мальчик быстро сообразил, что лучше не жевать траву, а попытаться ее зарисовать: «Я ложился на землю и рисовал травинки одну за другой, день за днем наблюдая за тем, как они растут. Постепенно облазив так фут за футом весь луг или поросший мхом берег реки, я вдруг осознавал, что
обладаю (курсив мой. — А. Б.) ими в полной мере».
Фотография как таковая не обеспечивает получение того же результата, который достигается мысленным «поеданием» прекрасного объекта. Подлинное обладание каким-либо ландшафтом или памятником является результатом приложения сознательных усилий к тому, чтобы разобраться в структуре наблюдаемого объекта, понять его устройство; увидеть красоту можно, просто взглянув на красивый предмет или ландшафт. Как долго сохранится красота в нашей памяти, зависит от того, насколько сознательно мы воспринимали и пытались понять ее.
 Джон Раскин. «Этюд грудного пера павлина». 1873.
Джон Раскин. «Этюд грудного пера павлина». 1873.
Фотоаппарат стирает разницу между такими понятиями, как «смотреть» и «замечать», между созерцанием и обладанием. Несомненно, фотография дает нам возможность подлинного познания объекта, но необдуманное использование технологии приводит к тому, что усилия, прилагаемые к познанию прекрасного, становятся слишком поверхностными. Человек сам не замечает, как приходит к выводу, что работа по познанию того или иного объекта сводится к простому фотографированию его с нескольких точек. Для того чтобы по-настоящему познать то или иное место — например, участок леса, — нужно поглотить, «прожевать» его, не забывая в ходе этого процесса задавать себе множество вопросов и пытаться найти на них ответы. Например, таких: «Как стволы соединены с корнями?», «Откуда и как появляется туман?», «Почему одно дерево кажется темнее, чем другое?». Между тем если заменить фотографирование зарисовыванием объекта, то подобные вопросы по ходу дела будут возникать сами собой и потребуют определенного осмысления.
5
Воодушевленный весьма демократичными взглядами Раскина на искусство рисования, я рискнул попробовать себя в этом деле во время поездок и путешествий. Что касается объектов зарисовки, то мне казалось наиболее разумным руководствоваться зовом желания обладать красотой — тем самым инстинктом, который ранее просто потребовал от меня взять в руки фотоаппарат. Говоря словами Раскина, «твое искусство должно стать данью тому, что тебе нравится, что ты любишь. Это может быть признание в любви чему угодно, даже морской ракушке или простому камню».
В качестве объекта приложения своего таланта я решил избрать окно в комнате постоялого двора «Простой смертный». Мой выбор был обусловлен двумя причинами: во-первых, окно было, что называется, у меня под рукой, а во-вторых, ясным осенним утром оно выглядело достаточно привлекательно. Результаты моих усилий были предсказуемо провальны и вместе с тем поучительны. В процессе рисования объекта — как бы неуклюже и неумело он ни происходил — человек подсознательно уходит от целостного восприятия того или иного предмета и обращает все больше внимания на его устройство, составные части и особенности. Вот и то, что еще недавно представлялось мне просто «окном», оказалось целой системой, комплексом, состоящим из последовательно чередующихся листов стекла и деревянных деталей, удерживающих их в должном положении. Входили в эту систему также запорные устройства и некоторое количество декоративных элементов. Само гостиничное окно было выполнено в стиле эпохи короля Георга. Оно состояло из двенадцати одинаковых, на первый взгляд казавшихся квадратными, но на самом деле прямоугольных кусков стекла. Рама же была покрашена белой краской, которая при ближайшем рассмотрении оказывалась вовсе не белой, а пепельно-серой, коричнево-серой, желтой, розово-лиловой или же слегка зеленоватой — в зависимости от освещения и от сочетания фактора освещенности и состояния окрашенного дерева (в северо-западном углу оконного проема скапливалось больше всего сырости, и набухшее влагой дерево придавало краске слегка розоватый оттенок). Стекло, разумеется, тоже не может быть идеальным, оно вовсе не абсолютно прозрачно. В каждом куске стекла можно найти крохотные дефекты, мельчайшие пузырьки воздуха — как в застывшем навеки игристом вине, — а на наружной поверхности окна виднелись следы высохших дождевых капель и слегка угадывавшиеся разводы, оставшиеся от тряпки, которой его мыли в последний раз.
Рисование немилосердно открывает нам глаза, по крайней мере, на нашу собственную слепоту относительно подлинного внешнего облика окружающих нас вещей. Взять хотя бы элементарный пример — деревья. В одном из разделов «Основ рисования» Раскин, опираясь на собственные иллюстрации, демонстрирует разницу между тем, как мы обычно представляем себе ветки деревьев, и тем, какими мы начинаем их видеть, взяв руки карандаш и бумагу: «Ветки отходят от ствола вовсе не как попало и не как им вздумается. На самом деле они начинают расти примерно в одно время, получив единый импульс от той или иной зоны в стволе. Таким образом, более правильным схематичным изображением условного дерева можно считать изображение с рисунка 1б, а не то, что показано на рисунке 1а. Кроме того, следует отметить — это показано на рисунке 1б, — что все последующие ответвления от крупных сучьев останавливают свой рост таким образом, что их крайние точки образуют в итоге замкнутую геометрическую фигуру достаточно правильной формы, которую на плоскости можно условно передать овалом. Помимо этого, необходимо сказать, что схематичная форма каждой отдельной ветки скорее тяготеет к тому, что изображено на рисунке 2б, а не 2а. При этом эта форма тяготеет к структуре, образуемой зрелым плодом капусты брокколи».
 Рисунок 1а, 1б, 2а, 2б. Джон Раскин. Ветви. Фрагмент из «Основ рисования». 1857 г.
Рисунок 1а, 1б, 2а, 2б. Джон Раскин. Ветви. Фрагмент из «Основ рисования». 1857 г.
За свою жизнь я видел немало дубов, но только проведя час в попытках зарисовать одно такое дерево в Лангдальской долине (даже малолетний ребенок, наверное, устыдился бы показывать родителям то, что получилось у меня в результате тяжких трудов), я действительно стал понимать, чувствовать и по-настоящему запомнил, чем эти великаны так красивы и чем отличаются от других деревьев.
6
Еще одно преимущество, которое дает человеку искусство рисования, заключается в осознанном восприятии причин, по которым мы находим привлекательными те или иные ландшафты или здания. Мы можем найти объяснение собственным вкусам и предпочтениям. В процессе рисования мы разрабатываем собственную «эстетику», то есть способность делать обоснованное умозаключение относительно того, что является прекрасным, а что уродливым. Мы можем с большой точностью сказать, чего, например, не хватает зданию, которое нам не понравилось, и что именно делает красивым сооружение, которое пришлось нам по вкусу. Мы оперативно и аргументированно проводим анализ того, что производит на нас впечатление при созерцании того или иного ландшафта («сочетание обнаженного песчаника и предзакатного освещения», «упорядоченность деревьев, выстроившихся вдоль берега реки»). От жалкого «мне это нравится» мы можем довольно быстро перейти к вполне убедительному «мне это нравится, потому что…». Следующим шагом на этом пути являются обобщающие суждения о том, что можно считать привлекательным. Пусть даже наши умозаключения предположительны, рано или поздно для своих формулировок мы прибегаем к аргументам, относящимся к базовым законам эстетики: лучше, когда свет падает на объект сбоку, а не прямо сверху; серый хорошо сочетается с зеленым; чтобы улица казалась гармонично застроенной и просторной, высота построенных на ней домов не должна превышать ее ширину.
Воспоминания, подкрепленные систематизированными знаниями и осознанными суждениями, надолго остаются в человеческой памяти. Следовательно, человек уже не станет царапать свое имя на колонне Помпея для того, чтобы не забыть этот великолепный памятник. Раскин был твердо уверен, что рисование позволяет человеку надолго запечатлеть в памяти «тающее облако, трепещущий лист, мимолетную игру света и тени».
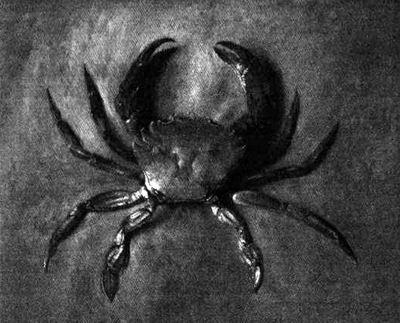 Джон Раскин, Бархатный краб, ок. 1870–1871 гг.
Джон Раскин, Бархатный краб, ок. 1870–1871 гг.
Подводя итог четырем годам преподавания и написания учебников по рисованию, Раскин объяснял, что главным побуждающим мотивом для него было желание «направлять внимание человека непосредственно на красоту, созданную Богом в материальном мире». Наверное, стоит процитировать целый абзац, в котором Раскин на конкретном примере показывает, что именно он имеет в виду, когда произносит столь амбициозные слова: «Представим себе двух человек: они вместе выходят на прогулку. Один из них — хороший рисовальщик, другой же рисовать не умеет и не любит. Предположим, что они оба идут по зеленой аллее. Уверяю вас, эти двое увидят окружающий мир совершенно по-разному. Один увидит дорожку и деревья. Он, конечно, отметит, что деревья — зеленые, но задумываться над этим, разумеется, не станет. Он увидит, что солнце светит и что солнечные лучи, пробивающиеся сквозь зеленую листву, дают очаровательный визуальный эффект. И это все! Что же тогда увидит тот, кто умеет рисовать и любит этим заниматься? Его глаза привыкли смотреть на мир, выискивая в нем прекрасные черты. Кроме того, он приучил себя осмысливать красоту и пытаться проникнуть в ее устройство, чтобы увидеть, из каких деталей и фрагментов состоит красивая вещь или явление. Этот человек поднимет голову и увидит, как солнечные лучи тонкими струйками — словно вода из душа — льются сквозь зеленые листья, наполняя воздух изумрудным свечением. Он увидит, что тут и там из сплошной зеленой массы крон торчат ветки и сучья. Он увидит, как сверкает под ногами, словно усыпанный алмазами, изумрудный мох и невероятно красивые по форме и цвету лишайники. Белые и синие, лиловые и красные — все они вносят свой вклад в создание великолепного одеяния красоты. Затем он обратит внимание на дуплистые старые стволы и узловатые, причудливо переплетенные корни, впивающиеся в отлогий берег реки, торфяной склон которого словно выложен густой многоцветной мозаикой из полевых цветов. Разве все это не достойно быть увиденным и запомненным? Тем не менее человек, не умеющий и не любящий рисовать, просто пройдет по зеленой аллее, а когда вернется домой, не сможет толком ничего рассказать о прогулке, не сможет вспомнить ничего интересного и лишь кратко „доложит“, что прошел туда и обратно такой-то дорогой».
7
Раскин предлагал не только зарисовывать то, что мы видим во время путешествий, но и настаивал, чтобы мы записывали то, что с нами происходит, и описывали то, что мы видим. Такого рода тексты он называл «словесной живописью». По его мнению, подобная творческая фиксация впечатлений словно цементирует их, навечно сохраняя красоту в памяти человека. Современники высоко ценили Раскина как популяризатора рисования и как рисовальщика-натуралиста, но именно его словесная живопись по-настоящему привлекала к нему читающую публику, и именно благодаря своим описаниям он по-настоящему прославился в конце Викторианской эпохи.
Именно пребывание в интересных и красивых местах лишний раз напоминает о том, насколько неуклюже мы обращаемся с собственным языком и как плохо умеем им пользоваться. Приехав в Озерный край, я решил отправить открытку приятелю. Даже прекрасно понимая, насколько убого будет смотреться мое послание, я все же не придумал ничего лучше, как торопливо, словно стесняясь собственного косноязычия, нацарапать на обороте открытки пару фраз о том, что места здесь, видите ли, очень красивые, но вот погода подкачала — дождь и ветер. Раскин, несомненно, скорее списал бы постыдную неуклюжесть этого «прозаического произведения» на лень, чем на недостаток творческих способностей. Он всегда утверждал, что любой нормальный человек способен создать достойную словесную картину, описывающую то или иное место. Если же мы порой и терпим неудачу, то лишь потому, что ленимся задавать себе простые и необходимые для составления подобного описания вопросы. Почему-то люди ленятся провести хотя бы поверхностный анализ того, что видят и чувствуют. Что толку записывать на бумаге очевидное: сообщение о том, что озеро красиво, в общем-то не несет в себе никакой новой информации. Почему бы не потребовать от самого себя сформулировать ответы на несколько вопросов. Например, на такие: «Какие особенности этого водоема в наибольшей степени привлекают внимание приезжего человека? Какие ассоциации вызывает у него озеро? Какими терминами и эпитетами лучше охарактеризовать его размеры вместо того, чтобы, не задумываясь, просто называть его большим?» Получившийся в результате такого анализа текст, вполне вероятно, не сможет претендовать на звание гениального описания, но, по крайней мере, даст читателю достаточно подробное и вполне обоснованное в оценках представление не только о самом озере, но и о том, что испытал автор текста, оказавшись на его берегу.
Всю свою сознательную жизнь Раскин не переставал удивляться и огорчаться тому, насколько вроде бы образованные и воспитанные англичане не умеют содержательно говорить о погоде: «Просто удивительно, насколько мало люди понимают, что происходит в небе. Мы просто не обращаем на небо внимания, не задумываемся о природе метеорологических явлений и представляем себе погоду просто как последовательность мелких, ничем не примечательных происшествий, слишком обыденных и незначительных, чтобы заинтересовать нас и заставить хотя бы на миг присмотреться к тому, что происходит или вот-вот произойдет. Если же вдруг в минуту безделья и скуки или в какой-то неловкой ситуации нам не остается говорить ни о чем, кроме как о погоде, — о чем заводят речь собеседники? Как они описывают то, что происходит в атмосфере? Кто-нибудь скажет, что сегодня сыро, другой добавит, что день выдался ветреный, третий заметит, что накануне было теплее. Кто, скажите, из всей этой праздно болтающей толпы сможет описать белоснежные горы, поднявшиеся сегодня в районе полудня от горизонта к самому зениту? Кто заметил яркий солнечный луч, ударивший по этим белоснежным горам с юга, снесший им вершины и вскоре рассеявший их в пыль, которая пролилась на землю мелким моросящим дождичком? Кто накануне соизволил понаблюдать за последним танцем уже мертвых, словно выпотрошенных, туч, подгоняемых последними лучами солнца и настойчивым западным ветром, который швырял их друг о друга, как опавшие листья по осени?».
 «Облака», гравюра Дж. С. Армитаж, по рисунку Дж. М. В. Тернера, из «Современных художников» Джона Раскина, т. 5, 1860 г.
«Облака», гравюра Дж. С. Армитаж, по рисунку Дж. М. В. Тернера, из «Современных художников» Джона Раскина, т. 5, 1860 г.
Правильный ответ на вопрос «кто?» в данном случае очевиден: этим внимательным наблюдателем, способным сформулировать в словах величие и красоту того, что происходит в атмосфере, был не кто иной, как сам Раскин. Наряду с тем, как он сравнивал рисование с едой и питьем, он не раз и не два с гордостью заявлял, что умеет разливать небо по бутылкам и надежно хранить эти сосуды ничуть не хуже, чем его отец управлялся с привезенным из-за границы хересом. Вот лишь два фрагмента из метеорологических дневников Раскина, оставшихся после него на долгие и долгие годы, как остается после винодела его личная коллекция вин, аккуратно рассортированных в винном погребе. В этих коротких записях речь идет о погоде, которая стояла в Лондоне в два ноябрьских дня 1857 года:
«1 ноября. Яркое, словно выкрашенное киноварью, утро, по небосводу растеклись волны всех оттенков красного — алые волны с острыми, четко очерченными краями кое-где сменяются темно-лиловыми разводами. Небольшие рваные серые облака словно пунктирными линиями протянулись по небосводу и плывут на северо-восток. На горизонте виднеются пышные бока серых туч. Они повисли выше поднимающейся от земли дымки, но гораздо ниже накрывшей все небо сеточки ажурных перистых облаков. С таким небом, при таком освещении, день выдался просто великолепным… Вдали все подкрашивается сиреневым и лиловым — и пронизанная солнцем дымка, повисшая вокруг деревьев, и зеленые поля… А какое потрясающее зрелище — золотистые листья, трепещущие на фоне синевы неба, и силуэт конского каштана — низкорослого и худосочного, — прорисовывающийся сквозь калейдоскоп этих золотых звезд.
3 ноября. Рассвет — пурпурный, румяный, словно стесняющийся. К шести часам на небе скапливается груда мрачных серых туч. Затем эту тяжелую массу вдруг пробивает легкое, подсвеченное лиловыми лучами облачко — и в образовавшемся просвете появляется кусочек позолоченного утреннего небосвода. Одна за другой серые тучи, а вслед за ними и закрывавшая небо пелена перистых облаков уносятся прочь. Их подгоняет упорный юго-западный ветер, но, по всей видимости, тучам удается перехитрить противника. Взамен туч, растаявших под лучами солнца и унесенных порывами ветра, появляются другие, растопить и разогнать которые ни светилу, ни ветрам не под силу. Тучи вновь расползаются по небосводу, лишь слегка подсвеченные солнцем снизу — словно корабли, серые, проморенные борта которых обиты ниже ватерлинии листами меди. Вся эта флотилия вплывает в серое утро».
8
Действенность и убедительность словесной живописи Раскина основываются на его же методике, согласно которой при описании того или иного места следует не просто перечислять его внешние характеристики («трава была зеленой, земля — буро-серой»), но и анализировать эффект, который эти свойства оказывают на нас с психологической точки зрения. («Трава казалась буйной, земля же выглядела робкой».) Он признавал, что многие объекты поражают нас своей красотой вовсе не в соответствии с базовыми критериями эстетики. Памятники и пейзажи вовсе не обязательно являются образцами гармоничного колористического решения, им далеко не всегда свойственна симметрия и геометрическая пропорциональность. Прекрасными же мы их находим на основании чисто психологических критериев — в силу того, что эти объекты создают нужное нам настроение или наводят на приятные либо полезные размышления.
Как-то раз утром Раскин разглядывал из окна своего лондонского дома плывшие по небу облака. Бесстрастное, основанное на одних лишь фактах описание непременно включало бы в себя информацию, что эти облака сформировали в небе практически сплошную белоснежную стену. Лишь кое-где сквозь бойницы в стенах небесной крепости пробивались лучи солнца. Раскин же подошел к описанию предмета рассмотрения с психологической точки зрения: «Крупные кучевые облака — самое величественное природное образование в небе — по большей части можно наблюдать в безветренную погоду. Движение этих гигантских небесных масс отличается торжественностью, постоянством, необъяснимо и непредсказуемо по траектории и практически никак не связано с перемещением воздушных масс у поверхности земли. Вне зависимости от того, движутся кучевые облака прямолинейно или же их движение носит возвратно-поступательный характер, складывается ощущение, что они передвигаются в небе по собственной воле. Если же согласиться с доводом, что у метеорологических образований не может быть собственного разума, то остается предположить, что их передвижение связано с воздействием какой-то внешней абсолютно невидимой силы, никак не связанной с направлением ветра».
В ходе путешествия по Альпам Раскин описывал сосны и скалы, также используя для этого в первую очередь психологические термины: «Оказавшись у подножия альпийских хребтов, я подолгу рассматриваю их, храня при этом благоговейное молчание. Потрясают меня и сосны, которые растут на абсолютно неприступных скалах и отвесных обрывах. Складывается противоречивое ощущение: с одной стороны, они растут зачастую так близко, что каждая из них кажется тенью следующего дерева, с другой — в своей неподвижности и в окружающем их безмолвии эти сосны всем своим видом дают понять, что не знакомы друг с другом. Добраться до них невозможно. Нет смысла и пытаться докричаться до них. Эти сосны никогда не слышали человеческого голоса. Из всех звуков, раздающихся на земле, до них доносится лишь шум гуляющего в горах ветра. Нога человека еще никогда не ступала на подстилку из их сухой хвои. Сосны растут на скалах в суровых условиях, и даже от подножия гор видно, что им там неуютно и неудобно. Тем не менее эти сосны обладают такой непреклонной железной волей, что даже сами скалы склоняются перед их упорством и расступаются перед ними, казалось бы, слабыми, хрупкими и преходящими, но обладающими при этом невероятной скрытой энергией тонкой жизни и гордо несущие свое особое умение бесконечно долго существовать в заколдованном, почти бесшумном мире».
Именно через подобные описания психологического толка мы и можем вплотную подойти к ответу на вопрос, почему то или иное место так впечатляет нас и настолько сильно западает нам в душу. Мы, наконец, достигаем той цели, которую Раскин ставил перед собой и перед своими читателями и слушателями: начинаем осознанно воспринимать и понимать то, что инстинктивно полюбили.
9
Трудно было предположить, что человек, остановивший машину у тротуара напротив шеренги одинаковых многоэтажных офисных зданий, сделал это для того, чтобы поупражняться в словесной живописи. Единственным намеком на это был положенный на руль блокнот, в который он время от времени что-то записывал — в кратких перерывах между долгими минутами внимательного разглядывания окружающего пейзажа.
Было полдвенадцатого ночи, и к тому времени в районе доков я прокружил за рулем уже несколько часов. Остановку я сделал в аэропорту «Лондон-Сити» (где выпил кофе и с тоской посмотрел на последний в тот вечер улетающий самолет — Croossair Аvrо RJ85; летел он в Цюрих, что для меня было равносильно бодлеровскому «куда угодно, куда угодно»). Возвращаясь домой, я проехал мимо огромных, ярко освещенных башен бизнес-центра «Вест-Индия Докс». Эти огромные сооружения, казалось, не имели ничего общего с пейзажем — территория вокруг была застроена куда как более скромными и слабо освещенными домами. Таким высоченным офисным зданиям самое место где-нибудь на Гудзоне или же на мысе Канаверал — бок о бок с готовым к взлету космическим челноком. Над крышами стоящих вплотную друг к другу бизнес-центров поднимался пар. Впрочем, и здесь, у земли, оба здания были покрыты тонкой, едва заметной пеленой тумана, равномерно обернувшей оба небоскреба со всех сторон. В столь поздний час большая часть окон в башнях была освещена. Даже с некоторого расстояния сквозь стекла виднелись синеватое свечение компьютерных мониторов, узнаваемые полупустые комнаты для совещаний, цветы в горшках и какие-то стенды и плакаты.
Это зрелище показалось мне бесспорно красивым. И разумеется, вслед за ощущением красоты ко мне пришло желание понять ее и, главное, постичь ее источник, желание, которое, по словам Раскина, по-настоящему может удовлетворить лишь искусство.
Я начал рисовать — рисовать словами. Описательные конструкции складывались в предложения и абзац за абзацем с готовностью заполняли страницы моего блокнота: башни были высокими, крыша одной из них представляла собой пирамиду, украшенную по углам рубиново-красными огнями. Небо не казалось по-ночному черным, а отсвечивало оранжевым и желтым. Поняв, что простое перечисление фактических деталей явно не помогает мне поймать причину, по которой я не смог равнодушно проехать мимо этих зданий, я предпринял попытку проанализировать их красоту скорее с психологической точки зрения. Силой эмоционального воздействия на зрителя открывшаяся взору картина, скорее всего, в немалой степени была обязана эффекту подсвеченного ночного неба и туману, обволакивавшему башни. Кроме того, ночная темнота привлекла мое внимание к глазницам окон, которые при дневном освещении явно остались бы незамеченными. Днем офисные окна выглядят совершенно заурядно — они столь же успешно отражают всякое желание задать по их поводу какой бы то ни было вопрос, сколь их тонированные стекла отражают нескромные взгляды прохожих с улицы. Ночь же перевернула все с ног на голову, точнее, вывернула наизнанку: ни о какой нормальности и заурядности уже не шло речи. Благодаря перемещению источника света внутрь здания у меня появилась возможность заглянуть туда и удивиться, какой странный, даже пугающий и в то же время завораживающе прекрасный мир находится там, за этими непрозрачными днем окнами. Эти бесчисленные офисы были для меня воплощением порядка, обеспечивавшего надежное и четкое взаимодействие тысяч людей, и в то же время являлись живыми и наглядными примерами регламентации человеческой жизни, причесывания всех под одну гребенку и конечно же невероятной скуки и однообразия. Столь протестное видение бюрократической серьезности и основательности было если не забыто, то, по крайней мере, поставлено под вопрос наступившей ночью и связанной с ее приходом переменой в освещении. В темноте башни выглядели настолько загадочно и привлекательно, что я поймал себя на том, что никак не могу взять в толк, зачем в этих прекрасных зданиях такое количество компьютеров и каких-то информационных плакатов. При дневном же освещении именно эти предметы выглядели бы неотъемлемой частью интерьера любого бизнес-центра.
Туман, разумеется, также внес свою лепту в создание романтического образа «Доков Вест-Индии»: увидев эту дымку, я испытал приступ ностальгии. Туманным ночам, равно как и некоторым запахам, свойственно будить в нашей памяти воспоминания о давно минувших днях и о пережитом при подобном освещении и в схожих условиях. Конечно, я сразу же вспомнил вечера и ночи своих университетских лет. Вот так же много лет назад я возвращался по ночам домой сквозь туман, клубившийся над дорожками и освещенными спортивными площадками. Неудивительно, что эти воспоминания вызвали у меня поток сравнений жизни тогда и теперь. А от этого мне столь же ожидаемо стало грустно, ибо я прекрасно понимал, что с тех пор трудностей в жизни стало только больше, а многое из того, что сопровождало меня в молодости, уже навеки утрачено.
Вскоре салон машины оказался весь завален вырванными из блокнота листками. Разумеется, качество моей словесной живописи вряд ли намного превышало тот детский уровень, на котором был исполнен набросок злосчастного дуба в Лангдальской долине. Впрочем, соответствие критериям качества вовсе не было целью моих упражнений в словесной живописи. Просто я хотя бы попытался сделать шаг к постижению одной из двух тесно связанных функций, которые Раскин называл важнейшим предназначением искусства: понимание осмысленности и пользы испытанной боли и постижение подлинных истоков красоты. В конце концов, Раскин, наверное, был абсолютно прав, когда, получив от съездивших на этюды за город учеников целую кипу весьма посредственно исполненных рисунков, заявил: «Я уверен, что умение видеть гораздо важнее, чем обретенный в результате долгой учебы навык рисования. Я с гораздо большим удовольствием учил бы своих студентов искусству рисования для того, чтобы они научились любить природу и искусство, чем преподавал бы им навык аналитического взгляда на природу для того, чтобы научить их рисовать».
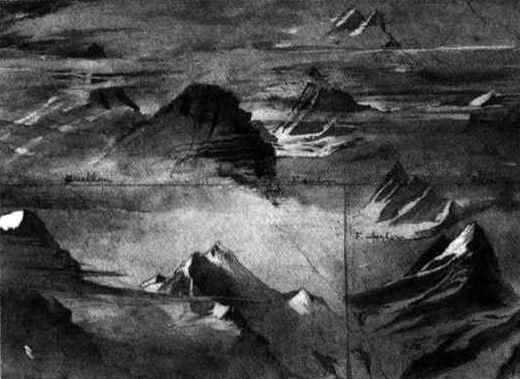 Джон Раскин, Альпийские пики, 1846(7) г.
Джон Раскин, Альпийские пики, 1846(7) г.
Возвращение
IX. По привычке
Место: Хаммерсмит. Лондон
Гид: Ксавье де Местр
1
Я вернулся в Лондон из поездки на Барабадос и обнаружил, что мой родной город упорно отказывается меняться. Я был просто потрясен: как же так, я ведь видел лазурные небеса и гигантских морских анемон; я жил в бунгало, построенном из пальмовых стволов, и ел царь-рыбу; я плавал в океане вместе с крохотными новорожденными морскими черепашками и читал книги в тени кокосовых пальм… Увы, все это не произвело на Лондон никакого впечатления. Здесь ничто не изменилось: по-прежнему шел дождь, парк, как и раньше, напоминал скорее заболоченный пруд, а небо как было, так и осталось на вид абсолютно траурно-похоронным. В солнечный день и в хорошем настроении нас так и подмывает провести параллель между тем, что происходит внутри нас и снаружи, во внешнем мире. Но вид и настроение Лондона в день моего возвращения более чем убедительно напомнили мне, что миру нет никакого дела до того, какие перемены происходят в жизни людей, его населяющих. В общем, вернувшись домой, я впал в уныние. Мне вдруг стало совершенно понятно, что меня угораздило родиться и провести большую часть жизни едва ли не в самом худшем месте на планете.
2
«Нежелание и неумение подолгу сидеть в своей комнате — вот единственная причина человеческого несчастья».[14]
3
Александр фон Гумбольдт отправился в долгое путешествие по Латинской Америке, затянувшееся на пять лет — с 1799 по 1804 год. Результатом этой поездки стал объемистый научный труд под названием «Путешествие в тропические области Нового Света».
Девятью годами раньше, весной 1790 года, двадцатисемилетний француз Ксавье де Местр также отправился в серьезное путешествие — в путешествие по своей спальне. Отчетом об его экспедиции также стало научно-популярное литературное произведение, названное «Путешествие вокруг моей комнаты». Воодушевленный полученным опытом и откликом окружающих, в 1798 году де Местр отправился во второе долгое путешествие. На этот раз он путешествовал в основном по ночам и добрался ни много ни мало до подоконника все той же комнаты. Отчет об этом отчаянном предприятии был озаглавлен им «Ночная экспедиция вокруг моей комнаты».
Итак, мы имеем два подхода к путешествиям: «Путешествие в тропические области Нового Света» и «Путешествие вокруг моей комнаты». Для реализации первой экспедиции потребовалось десять мулов, тридцать мест багажа, четыре переводчика, хронометр, секстант, два телескопа, теодолит Борда, барометр, компас, гигрометр, сопроводительное письмо от короля Испании и ружье. Второе путешествие было совершено с минимумом снаряжения: для претворения в жизнь замысла организатора потребовались лишь две хлопчатобумажные пижамы — розового и голубого цветов.
Ксавье де Местр родился в 1763 году в живописном городке Шамбери у подножия французских Альп. Он был романтическим и увлекающимся юношей. Любовью к чтению Ксавье проникся еще с детства и, повзрослев, с огромным удовольствием штудировал труды Монтеня, Паскаля и Руссо. В живописи он предпочитал жанровые сцены, в основном кисти голландских и французских мастеров. В возрасте двадцати трех лет де Местр страстно увлекся воздухоплаванием. За три года до этого Этьен Монгольфье прославился на весь мир тем, что сумел поднять собственноручно сконструированный и построенный воздушный шар в воздух и даже провисел восемь минут над крышей королевского дворца в Версале. В историческом рейсе пионера воздухоплавания сопровождали в качестве пассажиров утка, петух и овца по имени Монтакёй (что в переводе означает «заберись на небо»). Воодушевленный первыми успехами аэронавтики, де Местр вместе с другом соорудил из бумаги и проволоки огромные крылья, на которых предполагал совершить перелет в Америку. Эта затея ему не удалась. Двумя годами позже де Местр выкупил себе место в корзине, подвешенной к наполненному горячим воздухом шару, и даже провел несколько минут, оторвавшись от земли и обозревая родной Шамбери — до тех пор, пока плохо управляемый аппарат не рухнул на поросший соснами склон горы.
В 1790 году Ксавье де Местр жил в скромной комнате на верхнем этаже доходного дома в Турине. Именно там он осознал, что ему предстоит стать пионером нового вида путешествий, который со временем даже назовут его именем: речь шла о путешествиях, совершаемых не выходя из комнаты.
Представляя публике «Путешествие вокруг моей спальни», брат Ксавье, известный политик-теоретик Жозеф де Местр, всячески подчеркивал, что в намерение автора книги вовсе не входило каким бы то ни было образом бросить тень на героические подвиги великих путешественников прошлого — «Магеллана, Дрейка, Ансона и Кука». Магеллан открыл западный путь к островам пряностей — вокруг южной оконечности Американского континента; Дрейк совершил кругосветное путешествие, Ансон вернулся с точными морскими картами района Филиппинских островов, а Кук подтвердил существование таинственного южного континента. «Все они — несомненно, выдающиеся люди», — писал Жозеф де Местр. По его мнению, именно Ксавье довелось открыть и разработать новый способ осуществления путешествий, несравненно более подходящий по духу тем, кто не мог сравниться с первопроходцами прошлых веков ни по отваге, ни по материальному достатку.
«Миллионам людей, которым до сих пор не хватало духу отправиться в дальние края, миллионам других, у которых просто не было возможности разъезжать по миру, и тех, кто просто не задумывался над тем, чтобы куда-нибудь съездить, теперь предоставляется прекрасная возможность последовать моему примеру, — писал в дневнике Ксавье де Местр, готовясь к путешествию. — Теперь даже у самых ленивых и нелюбознательных представителей рода человеческого не будет больше причин подвергать сомнению возможность отправиться в замечательное, полное удовольствий путешествие, которое не будет стоить им ни денег, ни усилий». В особенности он рекомендовал «комнатные путешествия» людям небогатым, а также тем, кто больше всего на свете боится штормов, грабителей и отвесных обрывов.
4
К величайшему сожалению, путешествие самого первопроходца — де Местра — как и его первый полет на воздушном шаре — не продлилось слишком долго.
Начинается история просто великолепно: де Местр запирает дверь спальни и переодевается в розово-голубую пижаму. Багаж ему, разумеется, не требуется, и он сразу же отправляется в путь к дивану — самому крупному предмету мебели в комнате. Путешествие заставляет его встряхнуться, он словно приходит в себя, очнувшись от летаргического сна. Внимательно оглядев свежим взглядом знакомый диван, он заново открывает некоторые его свойства. Как объективный исследователь, он честно признается в том, что с восхищением взирает на изящные ножки своего спального места и с немалым удовольствием вспоминает часы, которые провел, уютно устроившись на мягких подушках. Здесь ему так хорошо мечталось о любви и продвижении по
службе. Восседая на диване, де Местр внимательно присматривается к собственной кровати. В качестве путешественника он словно заново знакомится с нею и заново учится ценить этот сложный и чрезвычайно важный предмет мебели. Он испытывает глубокую благодарность к кровати за проведенные на ней ночи и испытывает внутреннюю гордость оттого, что его пижама подобрана почти в тон постельному белью. «Я советую всем, у кого есть для этого возможность, приобретать постельное белье в розовую и белую полоску», — пишет он, основываясь на собственном предположении, что именно эти цвета способствуют спокойному сну и приятным сновидениям.
Примерно с этого места читатель будет вправе обвинить де Местра, что тот отклоняется от изначально обозначенной цели своего предприятия. Действительно, автор излишне углубляется в рассуждения и воспоминания о Розин — своей собачке, о Дженни — любимой девушке и о верном слуге Джоанетти. Истинные путешественники в душе, те читатели, которые ждут от основателя комнатных путешествий подробного отчета обо всех деталях экспедиции, имеют полное право захлопнуть «Путешествие вокруг моей комнаты» и отложить книгу, не без оснований полагая, что их в некоторой степени обманули.
Тем не менее работа де Местра, при всех ее недостатках, является весьма убедительным доказательством правоты одного принципиально важного постулата: удовольствие, которое мы получаем от путешествия, скорее всего, в гораздо большей степени зависит от того, в каком настроении и состоянии души находится путешественник, чем от того, куда именно он едет. Если бы нам удавалось в нужный момент настроить себя на волну путешествий, не выходя при этом из дома, то мы увидели бы много нового и интересного в своем ближайшем окружении. Собственный дом и родной город могли бы привести нас не в меньший восторг, чем величественные горные перевалы или кишащие бабочками джунгли гумбольдтовской Южной Америки.
Что же это такое — настрой на поездку или, даже шире, образ мысли, свойственный путешественнику? Важнейшей характеристикой подобного состояния ума, несомненно, стоит признать восприимчивость ко всему новому и незнакомому. Настоящий путешественник посещает новые места со смирением в душе, готовый признать их красоту и внимать тому, что доведется ему увидеть и услышать. Такой путешественник отправляется в дорогу, точно не зная, что именно привлечет его внимание по пути и в точке назначения. Порой такие искренние, увлеченные самим процессом путешествия и познания туристы несколько раздражают местных жителей, когда, например, останавливаются посреди проезжей части на узкой улочке, чтобы получше рассмотреть какую-нибудь интересную деталь окружающего ландшафта. Такие туристы рискуют попасть под машину, потому что сходят с тротуара, задрав голову, чтобы попытаться запомнить все детали на каком-нибудь особо красивом фронтоне очередного административного здания. Столь же привлекательными для них могут оказаться и самые обыкновенные граффити на стенах. Приезжая в чужую страну, мы с интересом, как завороженные, присматриваемся ко всему, что составляет привычную среду обитания для местных жителей. В супермаркет мы заходим, как в музей, а местная парикмахерская и вовсе представляется нам театральной сценой, где разыгрывается потрясающе интересный спектакль. Мы «зависаем» над меню в ресторане и изучающе разглядываем одежду, в которой предстают на экране ведущие местных телевизионных новостей. Помимо заинтересованного внимания к современной жизни в чужой стране, мы, естественно, оказываемся готовы воспринять массу информации о ее прошлом в самые разные исторические эпохи. Мы готовы делать записи и фотографировать все подряд.
Дома же, в свою очередь, мы не ожидаем увидеть или узнать что-либо новое. Мы пребываем в полной уверенности, что в ближайших окрестностях нет ничего необычного и интересного. Основывается эта уверенность на одном-единственном — весьма сомнительном с точки зрения убедительности — доводе, что мы, мол, живем здесь уже давно и ничего интересного не видели. Нам кажется просто невероятной сама мысль, что, прожив где бы то ни было десять или больше лет, можно вдруг обнаружить в этом месте что-то занимательное и по-настоящему интересное. Мы привыкаем к собственному дому и становимся слепыми и глухими по отношению к нему и к его ближайшим окрестностям.
Де Местр попытался встряхнуть читателя, вывести его из этой пассивности. Во втором томе трактата, посвященного путешествиям по собственной комнате — «Ночной экспедиции вокруг моей комнаты», — герой подходит к окну и, выглянув в него, смотрит в ночное небо. Красота усыпанного звездами небосвода приводит его в восхищение. При этом герой немало огорчен, что на такую красоту люди перестают обращать внимание — просто в силу привычности и доступности этого зрелища: «Печально, что лишь очень немногие разделяют сейчас со мной этот восторг. Как жаль, что вид прекрасного ночного неба оказывается не востребованным большей частью спящего человечества! Даже тем, кто сейчас просто прогуливается или же, например, выходит из театра, ничего не стоило бы посмотреть ввысь и восхититься звездами, мерцающими у них над головами. Что, спрашивается, мешает им сделать это?» Мешает же людям посмотреть на небо одна простая вещь — привычка. Они просто никогда этого не делают. Большинство людей привычно считают окружающий мир унылым и неинтересным, и он, к величайшему сожалению, таким и становится, подстраиваясь под вкусы и ожидания большинства своих обитателей.
5
Я предпринял попытку совершить путешествие по собственной спальне. Увы, из этой затеи ничего толкового не вышло: моя комната настолько мала, что в ней едва помещается кровать, и путешествовать по ней сколько-нибудь продолжительное время, действительно, не представляется возможным. В общем, я решил, что подход де Местра можно с тем же, если не с большим успехом применить не только непосредственно к дому, но и к его ближайшим окрестностям.
 Спальня автора
Спальня автора
В общем, в один прекрасный мартовский день, часа в три пополудни, по прошествии нескольких недель после возвращения с Барбадоса, я решил предпринять «деместровское» путешествие по Хаммерсмиту. По правде говоря, я даже удивился тому, насколько интересно и непривычно оказаться на улице посреди рабочего дня и при этом никуда не спешить и не нестись сломя голову в какое-то заранее известное место по очередному важному делу. Я с удивлением смотрел на самых обычных людей, наблюдал за привычными бытовыми картинами городской жизни: вот женщина, гуляющая с двумя маленькими детьми, вот целая россыпь кафе и магазинов на первых этажах домов по нашей улице, вот двухэтажный автобус, подъехавший к остановке напротив парка и высадивший нескольких пассажиров. С плаката на огромном рекламном щите меня призывали покупать какой-то соус. По этой улице я ходил почти каждый день: по ней пролегал кратчайший путь к ближайшей станции метро. Разумеется, мне и в голову не приходило воспринимать улицу как объект изучения, а не как средство добраться до нужной мне точки. Конечно, я проделывал свой путь не с закрытыми глазами, но внимание было поглощено другими мыслями и заботами. Так, например, я учитывал, много ли народу на тротуаре, и, торопясь на метро, тщательно выбирал траекторию движения, чтобы не столкнуться с другими людьми. При этом мне, естественно, не было никакого дела до того, с каким выражением гуляют или торопятся на работу попадающиеся мне навстречу люди. Не обращал я внимания ни на архитектурный стиль ближайших кварталов, ни на то, что происходит в ближайших магазинчиках и ресторанах.
Разумеется, так было не всегда. Переехав в этот район, я внимательно и, можно даже сказать, ревниво изучал окрестности своего нового дома. В то время я еще не воспринимал нашу улицу как пространство, отделяющее меня от метро, и в то же время как кратчайший путь к нужной мне станции.
Попадая в новое место, человек с готовностью воспринимает мельчайшие детали окружающего пространства и лишь по мере привыкания к этому месту сокращает количество интересующих его элементов до минимально необходимого для реализации функционального взаимодействия с тем или иным предметом, человеком иди местностью. На нашей улице, наверное, можно было увидеть и отметить про себя не меньше четырех тысяч деталей, явлений и параметров. Ежедневно проходя по ней, я ограничивался тем, что обращал внимание лишь на некоторые из них: на количество людей у меня на пути, на плотность движения на проезжей части и на то, насколько вероятен дождь в ближайшие час-два. Даже автобус, который поначалу мы воспринимаем эстетически — как произведение дизайнерского искусства, или как достижение механики и определенного набора технологий, или даже как трамплин для того, чтобы задуматься над проблемой транспортной изолированности и слабого взаимодействия между различными районами внутри одного города, — постепенно становится просто металлической коробкой, которая по мере возможности быстро приносит нас из точки А в точку Б. При этом территория, по которой проходит наш маршрут, для нас практически не существует — настолько нам до нее нет дела. Таким образом, все пространство от точки А до точки Б оказывается одним сплошным провалом в темноту и пустоту.
На свою улицу я словно наложил трафарет, сквозь который видел только то, что продолжало быть мне нужным и полезным. Разумеется, в этой усеченной картине не оставалось места ни для гуляющих детей, ни для рекламы соуса, ни для тротуарной плитки, равно как и для оформления фасадов магазинов и уж тем более для выражения лица куда-то спешащих деловых людей и неспешно прогуливающихся пенсионеров. Стремление как можно скорее добраться до цели душило во мне любое желание остановиться и оглядеться — хотя бы для того, чтобы присмотреться к планировке ближайшего сквера или обратить внимание на довольно необычное сочетание в одном квартале зданий, построенных как в викторианском стиле, так и в духе эпох королей Георга и Эдуарда. Мое перемещение по улице было напрочь лишено какого бы то ни было внимания к окружающей красоте, любого подобия ассоциативного мышления, готовности воспринять что-то хорошее и, конечно, выразить кому-то за это свою благодарность. Никаких размышлений, никаких философских экзерсисов — все ограничивалось чередой визуальных образов, делившихся на нужные и не имеющие значения. Все подчинялось ставшему почти инстинктивным зову как можно скорее добраться до метро.
Выполняя заветы де Местра, я сделал над собой огромное усилие и попытался повернуть вспять процесс привыкания. Мне пришлось сознательно отграничить окружающее пространство от того функционального назначения, которым я наделил его за предшествующее время. Я заставил себя выполнять сознательно отдаваемые, но казавшиеся безумно странными мысленные команды: воспринимать пространство вокруг себя так, будто я никогда раньше его не видел. Постепенно мои усилия стали приносить плоды.
Сознательно наблюдаемые и словно из-под палки замечаемые предметы и объекты вдруг стали открываться с совершенно неожиданной стороны и обретать для меня новую ценность. Например, ряд магазинов, который я до того воспринимал просто как один длинный и монотонный кирпичный квартал, вдруг получил собственное архитектурное лицо: вход в цветочный магазин обрамляли колонны в георгианском стиле. Поздневикторианские, стилизованные под готику горгульи караулили вход в мясную лавку. Ресторан наполнился живыми обедающими людьми, а не безликими тенями. Живые люди появились и за огромными стеклами дома, перестроенного под бизнес-центр: в одном окне я увидел жестикулирующих, явно спорящих о чем-то сотрудников какой-то фирмы, над головами которых висел проектор, отображавший на экране некую секторную диаграмму. В то же самое время через дорогу от офисного здания рабочий заново мостил небольшой участок тротуара, плотно подкладывая друг к другу новые бетонные плитки и подравнивая их уголок к уголку. Я сел в автобус и, вместо того чтобы задуматься о своих делах и проблемах, попытался хотя бы в воображении установить контакт с другими пассажирами. Я прислушался: с сиденья передо мной доносился телефонный разговор. Человек жаловался собеседнику на какую-то фирму, а его абонент — судя по всему, начальник моего соседа по автобусу — не хотел слышать никаких оправданий. Впрочем, вскоре его удалось убедить, и мой попутчик уже вместе с начальником посетовали на партнеров, поголовно не умеющих эффективно сотрудничать, и на их нежелание реагировать на любые жалобы и замечания. Я задумался, как многообразна жизнь города и на сколь разных уровнях разворачиваются ее события, причем в одно и то же время. Затем я задумался о сходности претензий, предъявляемых людьми друг к другу, — кто-то другой всегда оказывается слепым и глухим эгоистом, не желающим поступиться ради общего блага чем бы то ни было — и вспомнил одну из аксиом психологии: обычно мы находим в других именно те недостатки, которые окружающие видят в нас.
Ближайшие к моему дому кварталы не только наполнились живыми людьми и обрели индивидуальные черты, но и стали провоцировать меня на связанные с ними размышления. Например, я задумался о том, насколько очевидно общий экономический рост воздействовал на благосостояние моего района. Затем, увидев железнодорожные пути, я стал размышлять над тем, почему так люблю поезда и железнодорожные мосты, а заодно и автомобильные эстакады, словно подсекающие небосвод у основания, у самого горизонта.
И тогда я наконец убедился в правоте своей старой догадки: лучше всего путешествовать одному. Отправляясь в дорогу в обществе другого человека, мы неизбежно будем подстраивать свое восприятие мира под чужой темперамент и характер. Это неизбежно создаст напряжение на протяжении всей поездки. Любопытство каждого будет принесено в жертву ожиданиям и интересам других. Нельзя забывать, что люди видят нас не такими, каким мы сами себя представляем, и нет ничего удивительного в том, что время от времени они будут делать для себя открытия — далеко не всегда приятные — и сопровождать их не слишком тактичными замечаниями. Например: «Вот уж не думал, что тебе могут быть интересны мосты и эстакады». Постоянно находясь под пристальным вниманием спутника, трудно самому наблюдать за другими. Нам становится легче приспособиться к окружающим, настроиться на тональность разговоров, предлагаемую собеседником, и, главное, мы подсознательно пытаемся вести себя так, как от нас этого ждут. Соблюдение норм и правил становится для нас более важным, чем удовлетворение собственного любопытства. Впрочем, в тот день я гулял по Хаммерсмиту в полном одиночестве, и проблемы взаимодействия с попутчиками меня не волновали. Я мог вести себя так, как хочу, пусть даже со стороны это могло показаться странноватым. Я, например, остановился перед витриной хозяйственного магазина и наскоро зарисовал ее в блокноте, а затем поупражнялся в словесной живописи — набросал довольно подробное описание одной из дорожных развязок.
6
В жизни де Местра были не только шуточные путешествия по собственной комнате. Его можно назвать великим путешественником и в классическом смысле слова. Он объездил всю Европу — от Италии до России. Он провел зиму в Альпах в составе армии роялистов, а затем успел поучаствовать в российской военной кампании на Кавказе.
В автобиографической записке, составленной в 1801 году в Южной Америке, Александр фон Гумбольдт так описал мотивы, побудившие его отправиться в дальнее путешествие: «Меня пришпоривало еще неясное, нечетко сформулированное желание перенестись из скучной обыденной жизни в какой-то восхитительный, полный чудес мир». Вот та оппозиция, которая стала движущей силой его жизни: «скучная обыденность» противопоставлялась в его сознании «прекрасному, полному чудес миру». Де Местр фактически придерживался такой же точки зрения и лишь сформулировал ее с большей проницательностью и утонченностью — как писатель, а не как ученый-естествоиспытатель. Он в жизни не стал бы убеждать Гумбольдта, что Южная Америка — это и есть скучное обыденное место, а лишь деликатно предложил бы знаменитому географу и ботанику поразмыслить над тем, что и в его родном Берлине тоже есть на что посмотреть и чему поудивляться.
Восемьдесят лет спустя Ницше, который не только читал и высоко ценил де Местра, но и провел немало времени в его комнате, по-своему подытожил эту заочную полемику:
«Мы являемся свидетелями того, как некоторые люди умеют использовать собственный опыт — тот самый, не имеющий особого значения опыт обыденности — таким образом, что их прошлое становится плодородной почвой, способной давать по три урожая в год. Другие же — и их среди нас великое множество — плывут по жизненному морю туда, куда забрасывают их течения судьбы, самые противоречивые и разнообразные течения времен, эпох и народов. При этом таким людям всегда удается оставаться на плаву, как куску пробки. Посмотрев на эту картину, мы испытываем искушение мысленно разделить человечество на меньшинство, более чем скромное (стремящееся к алгебраической минимальности), тех, кто знает, как сделать многое из малого, и огромное большинство тех, кто умеет делать малое из многого».
Мы встречаемся с людьми, которые в одиночку пересекали пустыни, покоряли полюса и горные вершины, прорубали себе путь сквозь джунгли, — и при этом зачастую напрасно ищем в их душах особые свидетельства того, что они видели и что пережили. При этом одетый в розово-голубую пижаму и вполне удовлетворенный путешествиями, ограниченными весьма скромным пространством собственной спальни, Ксавье де Местр деликатно, но настойчиво подталкивает нас к тому, чтобы, перед тем, как отправиться в дальний путь на другой край земли, мы на миг остановились и попробовали вспомнить, что уже видели и где уже бывали.
Благодарности автора
Большое спасибо Симону Проссеру, Мишель Хатчисон, Каролине Доуни, Мириам Гросс, Ноге Арике, Николь Араджи, Дану Фрэнку и Оливеру Климпелу.
Благодарность за предоставленные иллюстрации
Вновь на Таити. 1776 г. холст, масло. Уильям Ходжес (©National Maritime Museum, Лондон).
Вид Алкмаара, ок. 1670–1675. Холст, масло. 44,4х43,4 см. Якоб Исаакс ван Рёйсдаль, Голландия (1628/9–82) (Фонд Ernest Wadsworth Longfellow Fund, 39.794. С любезного разрешения Бостонского музея изящных искусств. Печатается с разрешения. ©2000. Museum of Fine Агts, Воstоn. Все права защищены).
Пляж на острове Барбадос (© Bob Krist/CORBIS).
Кафе-автомат. 1927 г., холст, масло. Эдвард Хоппер (©Francis G. Мауеr/CORBIS).
Бензоколонка. 1940 г., холст, масло, 66,7х102,2 см. Эдвард Хоппер (Музей современного искусства, Нью-Йорк. Фонд Мrs Simon Guggenheim Fund. Фотография ©2001 The Museum of Modern Агts, New York).
Купе С, вагон 293. 1938 г., холст, масло. Эдвард Хоппер (©Geoffrey Clements/CORBIS).
Номер в гостинице. 1931 г., холст, масло. Эдвард Хоппер (© Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid).
Двери и эркеры в арабском доме (фрагмент). 1832 г., акварель, карандаш. Эжен Делакруа (Отдел графического искусства, Лувр/Фотография: ©RMN — Gérard Вlоt).
Шелковый рынок. Каир. Луи Aг, литография по рисунку Дэвида Робертса, из серии «Египет и Нубия», издание Ф. Дж. Муна, 1849 г., Лондон (публикуется с разрешения Британской библиотеки).
Частные дома в Каире. Эстамп, Эдвард Уильям Лейн. Обзор нравов и обычаев современных египтян. 1842 г., Лондон.
Алжирские женщины в своих покоях. 1834 г., холст, масло, Эжен Делакруа (Лувр, Париж/Фотография: ©RМN — Arnaudet; J. Schormans).
Гюстав Флобер в Каире. 1850 г., фотография, Максим дю Кам (Фотография: ©RMN — В. Hаtаlа).
Александр фон Гумбольдт и Эме Бонплан в джунглях Амазонки (фрагмент), ок. 1850 г., холст, масло. Эдвард Эндер (1822–1883) (Бранденбургская академия наук, Берлин /AKG London).
Эсмеральда на берегах Ориноко, гравюра, (вероятно 1834–1867), по литографии Чарльза Бентли (1806–1854) (Коллекция Степлтона/Bridgeman Art Library).
Александр фон Гумбольдт и Эме Бонплан у подножия вулкана Чимборасо, 1810 г., холст, масло. Фридрих Георг Вайтш (Staatliche Shlosser und Garten/AKG London).
География тропических растений из физического описания региона Анд и близлежащих территорий, 1799–1803, холст, масло, Александр фон Гумбольдт и Эме Бонплан (©Royal Geografical Society).
Река Уай у Тинтернского аббатства, 1805 г., холст, масло, Филипп Джеймс де Лоутербург (1740–1812), (Музей Фитцуильям, Кембриджский университет/Bridgeman Art Library).
Родственные души, 1849, холст, масло, Эшер Дюран (из коллекции Нью-йоркской публичной библиотеки, Фонды Астор, Ленокс и Тильден).
Скалистые горы, Пик Лендера. 1863, лен, масло, Альберт Бирштадт (с любезного разрешения Музея искусств Фогга, Музея искусств Гарвардского университета, Миссис Уильям Хейс Фогг, Photographic Services ©2001, President and Fellow of Harvard College).
Лавина в Альпах. 1803, холст, масло, Филипп Джеймс де Лоутербург (1740–1812), (Галерея Тейт, Лондон, ©Tate, London, 2001).
Меловые скалы на острове Рюген, ок. 1820, холст, масло, Каспар Дэвид Фридрих (коллекция Оскара Райнхарта, Винтертур /AKG London).
Кипарисы, 1889, карандаш, перо, коричневая и черная тушь, ватман, 62,2х47,1 см, Винсент Ван Гог (Бруклинский музей искусств, фонды Франка Л. Баббота и А. Аугустуса Хили, ©2001 Brooklin Museum of Аrt, New York).
Пшеничное поле и кипарисы (фрагмент), 1889, черный карандаш, ручка, перо, черная тушь, бумага, 47х62,5 см, Винсент Ван Гог (Музей Ван Гога, Амстердам/Фонд Ван Гога).
Оливковая роща, 1889, холст, масло, Винсент Ван Гог (Коллекция Риксмузеум Кроллер-Мюллер, Оттерлоу).
Желтый дом (Дом Винсента). Арль, 1888, холст, масло, Винсент Ван Гог (Риксмузеум Винсента Ван Гога, Амстердам/AKG London).
Закат: поля под Арлем. 1888, холст, масло, Винсент Ван Гог (Винтертурский музей искусств, Винтертур, ©2001).
Этюд грудного пера павлина. 1873, акварель, Джон Раскин (Коллекция Гильдии Святого Георга, Шеффилдские галереи и Музейный трест).
Ветви, рисунок. Джон Раскин, из: Джон Раскин, Основы рисования, 1857, Лондон.
Бархатный краб. Ок: 1870–1871, карандаш, акварель и корпусная краска на серо-голубой бумаге. Джон Раскин (Музей Эшмолеан, Оксфорд / Бриджманская художественная библиотека).
Облака, гравюра, Дж. С. Армитаж, по рисунку М. В. Тернера, из «Современных художников» Джона Раскина. Т.5, 1860, Лондон.
Альпийские пики, 1846(?), карандаш, акварель и корпусная краска на бумаге, Джон Раскин (Бирмингемские музеи и Художественная галерея).
Примечания
1
«Приглашение к путешествию» (
фр.).
(обратно)
2
«в порядке и прекрасно, / Роскошно, спокойно и сладострастно» (
фр.).
(обратно)
3
Бодлер Ш. Путешествие. (
Перевод В. А. Комаровсхого.)
(обратно)
4
Перевод С. А. Андреевского.
(обратно)
5
«Стихотворение о путешествиях, о залах ожидания».
(обратно)
6
Бодлер Ш. Странник. Стихотворение в прозе из сборника «Парижский сплин». (
Перевод В. Ф. Ходасевича.)
(обратно)
7
Эссе по географии растений (
фр.).
(обратно)
8
«Эссе о географии растений» (
фр.).
(обратно)
9
Здесь и далее стихи У. Вордсворда в переводе Ю. А. Качалкиной.
(обратно)
10
Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства при повторном путешествии на берега реки Уай.
(обратно)
11
Паскаль. Мысли, 68.
(обратно)
12
Ф. Ницше. Из книги «Веселая наука». (
Перевод Ю. А. Качалкиной.)
(обратно)
13
«Мысли», 40.
(обратно)
14
Паскаль. Мысли. 136.
(обратно)
Оглавление
Отправление
I. Предвкушение
II. Там, где путешествуют
Мотивы
III. За экзотикой
IV. Из любопытства
Ландшафт
V. 13 городе и за городом
VI. О возвышенном
Искусство
VII. Искусство, открывающее глаза
VIII. Обладание красотой
Возвращение
IX. По привычке
Благодарности автора
Благодарность за предоставленные иллюстрации
*** Примечания ***