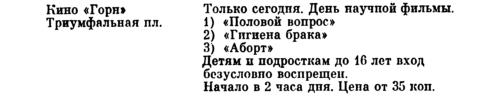Л. М. Рошаль
Дзига Вертов
Я, слуга рабочего класса, отдаю все силы без остатка на службу этому классу не по принуждению, а сознательно и добровольно.
Дзига Вертов

Путь, который проходит художник, сродни дорогам сказочных богатырей: неизведанный, таинственный, со множеством препятствий, неожиданностей и с неистребимой жаждой дойти до цели.
Есть шуточный рисунок — васнецовский богатырь застыл в задумчивости перед волшебным камнем с начертанным на нем искренним, дружеским советом: «Иди домой!»
Тот, о котором рассказывает эта книга, никогда не возвращался.
Шел дальше.
Это был путь обретения.
Путь открытий в искусстве, рожденном Октябрем.
Эти открытия поставили Вертова в ряд выдающихся мастеров советского и мирового киноискусства.
Многое на этом пути было внове. И принципиальная поддержка тех, кто ясно осознал плодотворность для революционного искусства предпринятых Вертовым поисков, нередко сталкивалась с мнениями, основанными на непонимании его открытий, на не очень верных или совсем неточных подсчетах только промахов и ошибок.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Кто же усомнится, что Вертов — эпический реалист нашего времени — подлинный сын Октябрьской эпохи?
«Кино-газета», 1926
Работа Вертова в кино — формализм с примесью энчменизма… Течение киноков мы считаем не революционным, анархическим течением…
«На литературном посту», 1927
Но нужно признать, во-первых, т. Вертова мастером своего дела, (хроники) и признать, что никто не дал нам хронику лучше той, которую дал он.
«Гудок», 1927
Группа «Кино-Глаз» идет в общем движении советского экрана своей особой тропинкой. Никак нельзя сказать, чтобы тропинка эта была хорошо укатана и посыпана розами. Наоборот, Дзига Вертов и его товарищи выбрали в своей работе линию наибольшего сопротивления.
«Правда», 1928
Вертов — изобретатель аскетического склада. Многие его приемы, которые он давно преодолел, будут еще разжевываться годами.
«Сов. экран», 1928
В… умении подслушать то, что наступит через ряд лет, — драгоценное свойство Вертова.
«Сов. экран», 1929
Вертов навертывает все, что попадается в объектив кино-глаза, забывая о системе, об организации…
«Кино-Фронт», 1930
Многие ошибки Вертова стоят десятков «достижений» современных эпигонов.
«Красн. газета», 1930
Он носит свое искусство так, чтобы ему (Вертову и его искусству) удивлялись.
«Говорит Москва», 1931
Дзига Вертов удачно и талантливо сконцентрировал в одном клубке все нити нашего жизненного многообразия: песни борьбы, песни скорби и утрат, песни радости и счастья.
«Правда», 1934
«Три песни о Ленине» — итог целого большого периода в жизни и творчестве страстного и смелого художника революционного кинематографа, которым всегда был Вертов.
«Веч. Красн. газета», 1934
Вертов вел принципиальную борьбу против сюжета, а ведь это и есть в кино источник всякого формализма, всяких извращений действительности. Дальше Вертов неизбежно должен был стать на путь монтажных трюков, всевозможных заумных, чисто футуристических приемов.
«Кино», 1936
…Почему же я с таким волнением смотрю его фильмы, особенно такие, как «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира» и «Три песни о Ленине»? Почему историки зарубежного кино, с другой стороны, говорят, что влияние Дзиги Вертова и его теорий на все прогрессивное киноискусство Запада было поистине огромным, что его имя числится в «четверке великих» советских мастеров, что о его фильмах и сейчас идут оживленные дискуссии, о них пишутся монографии, их причисляют к богатству, которым может законно гордиться советская кинематография?
С. Юткевич — «Вопросы киноискусства», 1958
Искусство образной публицистики, как назвал творчество кинодокументалистов В. И. Ленин, родилось в нашей стране. У его истоков стояли выдающиеся режиссеры и операторы, создавшие такие всемирно известные картины, как «Шестая часть мира» и «Три песни о Ленине».
«Правда», 1963
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Пришел юношей среднего роста
в Малый Гнездниковский, 7.
Предложил киноправду.
Казалось бы, просто.
Нет. Не совсем.
Здесь начинается длинная история.
В этой истории разберется История.
Дзига Вертов. Из стихов о себе
Не ярким, но еще теплым днем ранней осени восемнадцатого года во дворе одного из московских особняков с верхушки декоративного садового грота, построенного рядом с домом, прыгал молодой человек.
Во время прыжка встречная струя воздуха на мгновение взметнула его обычно прижатые к вискам волосы, которые, едва он коснулся земли, сразу легли двумя аккуратными рядами, отделенными друг от друга четким пробором.
Прыжок был не без риска — грот достигал почти второго этажа, — но иронический цирковой жест «вуаля» после приземления и чуть надменная усмешка в глазах скрывали это. И только по проступавшему сквозь матово-нежную кожу румянцу на лице можно было догадаться, что молодой человек возбужден, что этот прыжок чем-то важен для него.
Особняк, во дворе которого был сложен грот, еще совсем недавно принадлежал крупнейшему российскому нефтепромышленнику Лианозову, исчезнувшему после октябрьских дней семнадцатого года.
А весной следующего сюда пришел отряд красноармейцев.
Они неторопливо осмотрели комнату за комнатой, зимний сад с запыленными пальмами в кадках, балкон с оставленной детской коляской, погреб с винными лужами, салоп с плюшевыми занавесками, поднялись на второй этаж, а потом спустились вниз по мраморной лестнице, у начала которой с глупой гостеприимностью пялило пуговичные глаза медвежье чучело, державшее в лапах поднос для визитных карточек, осмотрели все это красноармейцы и поставили один пост в подъезде, а другой у ворот.
И ворота, и подъезд, хотя дом был угловой, выходили на одну сторону — в тихий, уютный Малый Гнездниковский переулок.
Москвич той поры, поднимаясь от Охотного ряда вверх по узкой Тверской, по левой стороне, свернув, немного не доходя Страстной площади с ее Пушкиным в начале бульвара и тяжеловесным монастырем на другой стороне, попадал в этот переулок, который проворно скатывался с пригорка Тверской в направлении Никитской улицы. Бывший лианозовский особняк значился здесь под седьмым номером.
Современный москвич, двигаясь тем же маршрутом от проспекта Маркса вверх по широко раздвинутой улице Горького, свернув, немного не доходя Пушкинской площади с ее памятником поэту, задумчиво смотрящему на свое прежнее местопребывание в начале бульвара, с ее зданием «Известий» и кинотеатром «Россия» на месте тяжеловесного монастыря, с ее недавно открытой станцией метрополитена, попадет в тот же переулок и найдет особняк под тем же номером.
Нет только грота — его снесли.
И нет того молодого человека — он умер.
Сам особняк тоже сильно изменился.
Многое неоднократно перестраивалось, перепланировалось, перекрашивалось. Ну а раньше всего был удален медведь, его отправили в киноателье как бутафорию для первых художественных фильмов, зазывно проклинавших ушедшую «роскошную жизнь».
Одно оставалось неизменным.
С той весны, когда в заброшенный дом пришел красноармейский отряд, и по нынешнюю пору здесь всегда помещалось какое-нибудь из учреждений, ведавшее киноделом страны. С относительной периодичностью менялись названия и, соответственно, вывески на особняке, но главная функция оставалась прежней.
Каждая смена названия не была лишь формальным актом, обычно она соответствовала новому возросшему идеологическому значению кино в круге массовых искусств и увеличивающемуся размаху кинопроизводства.
Этот размах требовал новых этажей — к тридцатым годам особняк с двух вырос до четырех. Пошел лифт. К капитальным перегородкам, разделявшим комнаты, добавлялись не капитальные внутри комнат. То с одной, то с другой стороны возникали небольшие пристройки, а совсем уже недавно к старому зданию прирос целый корпус, архитектурно вполне отвечающий эпохе индустриальных методов строительства.
Перестроенные, перепланированные, перекрашенные коридоры с длинными рядами обычных учрежденческих дверей, небольшие холлы на этажах с приземистыми столиками и креслами вокруг, располагающими к мимолетной беседе и быстротечному перекуру, многочисленные комнаты с капитальными и не капитальными перегородками, ну и, конечно же, маленькие, порой совсем крохотные кинозалы для рабочих просмотров становились свидетелями истории нового искусства.
История кино — это не только история хороших и плохих фильмов. И даже не только история важнейших художественных тенденций. Это и история кинопроизводства. История взаимоотношений многих людей, взаимоотношений неоднозначных, сложных.
Часть ее (и немалая) проходила в особняке на Малом Гнездниковском, 7.
После того, как красноармейский отряд неторопливо осмотрел особняк, здесь разместилось первое кинематографическое учреждение.
Оно называлось — Московский кинокомитет Наркомпроса.
В самом начале 1935 года, когда страна праздновала пятнадцатилетие
[1] советского кино, в «Правде» была опубликована статья «Правила игры», в которой рассказывалось о первых днях и месяцах Московского кинокомитета, о странных, не похожих друг на друга, чудаковатых, своеобразных людях, понемногу собиравшихся в нетопленых и замусоренных комнатах на Гнездниковском: о плечистом юноше в студенческой фуражке, пытавшемся объясниться с щуплым австрийским военнопленным в изодранной шинели, о барственном мужчине в щегольском сюртуке, препиравшемся с бледным человечком в очках и кожаной куртке, о круглом юноше со стоящими дыбом волосами, угрожавшем «поставить Москву дыбом и весь мир дыбом». Люди эти были почти подозрительны на вид, разношерстны, несомненно, плохо кормлены, и было неясно, чего можно ждать от них и можно ли в них верить.
«Ну, а тот, кто поверил, — писал далее автор статьи, — не раскаялся. Прошли годы: студент стал учить других, он вырос в крупнейшего режиссера Вертова, автора изумительных „Трех песен о Ленине“. Пленный в австрийской шинели стал известен всему миру как чудесный оператор Тиссэ. Барственный Гардин потряс миллионы зрителей образом старого рабочего из „Встречного“. А самонадеянный юноша со стоячей шевелюрой превзошел все и даже собственные надежды. Имя его, Сергей Эйзенштейн, стало на большой период во всем мире символом передовой революционной кинематографии».
Хотя здесь есть очевидное (в том числе, несомненно, и для автора) хронологическое нарушение — Эйзенштейн пришел в Гнездниковский несколько лет спустя, после учебы у Мейерхольда и первых театральных постановок, — тем не менее эти строки не были записаны с чьих-то слов и не являлись плодом воображения.
Это запись — очевидца.
Объясняя, кем стали люди, которых можно было встретить в нетопленых комнатах первого советского киноучреждения, автор не раскрывал только одного — бледного человечка в очках и кожаной куртке, спорившего с барственным Гардиным в щегольском сюртуке.
Потому что он имел в виду самого себя — Михаила Кольцова.
Будущий автор знаменитого «Испанского дневника» в первые послереволюционные месяцы принимал активное участие в становлении кинематографии новой России. Это именно он вместе с красноармейским отрядом обходил комнату за комнатой особняка в Гнездниковском.
И он же в конце этой весны восемнадцатого пригласил работать в Малый Гнездниковский плечистого юношу в студенческой фуражке, который вырос в крупнейшего режиссера Дзигу Вертова, — а тогда своего соученика по Петроградскому психоневрологическому институту.
Но знакомство между ним и Вертовым состоялось раньше, оба были выходцами из Белостока, ничем особенно не знаменитого уездного городка Гродненской губернии на западной окраине Российской империи.
Во всяком случае, с 28 мая 1918 года в отделе хроники Московского кинокомитета появляется новый секретарь-делопроизводитель Денис Аркадьевич Кауфман, который избрал для себя странный, диссонансно звучащий псевдоним — Дзига Вертов.
С этим псевдонимом — неясность до сих пор.
Откуда, почему такой?
Резкий по звучанию, не находящий для себя непосредственного словесного прообраза, он тем не менее чем-то очень вяжется с вертовским характером, его непримиримостью. Это отмечается многими.
Впрочем, некоторое (очень условное) объяснение все же существует, оно принадлежит самому Вертову, и существует в стихах.
Писать их он начал рано.
Стихи, написанные им накануне или в самом начале двадцатых годов, отмечены неожиданными словесно-звуковыми сцеплениями, поисками ритмической напряженности в духе поэзии тех лет, в частности поэзии раннего Маяковского и Хлебникова.
Любовь к этим двум поэтам Вертов сохранил на всю жизнь, знал многие стихи наизусть, любил читать вслух.
Одно из вертовских стихотворений, помеченное сентябрем двадцатого года, так и называлось — «Дзига Вертов».
Здесь ни зги
верите —
веки ига и
гробов вериги.
Просто ветров
гибель
века на вертел.
Но — дзинь! — вертеть
диски.
Гонг в дверь аорт.
И-о-го-го! — автовизги,
вертеп ртов —
Дзига Вертов.
Странное стихотворение!..
Мало что объясняющее с обычной точки зрения.
И все-таки в его звучании есть та же упругость, та предельная натянутость струны (а может, и ее отзвук в расколебленном пространстве), есть те же накаленные слова («ни зги», «ига», «вериги», «ветров гибель», «дзинь», «диски», «вертел», «автовизги» и т. д.), и те же жесткие звуки и буквы («зг», «рт», «дзи», «га» и т. д.), какие есть в сжатом сочетании этих букв и слов — Дзига Вертов.
А еще есть в этом стихотворении — «Гонг в дверь аорт».
Здесь и самоощущение настоящего, и предвестие на завтра.
Гонг бил не в уши, а в душу.
Он набатно бил в самое сердце.
И звал, звал, звал на тот путь, начало которому и положила в мае 1918 года канцелярская служба в Московском кинокомитете.
И вот теперь, спустя несколько месяцев после прихода в комитет, теплым, но не ярким осенним днем, когда солнечный свет ровно просеивался через белесый фильтр небес, он прыгал с верхушки садового грота во дворе частного особняка, экспроприированного революцией для общественных нужд.
Ему было двадцать два года.
В самый разгар рабочего дня кто-то, пробегая по коридору кино-комитета, заглянул в монтажную комнату и весело крикнул:
— Скорее! Идите все во двор! Там этот чудак с грота прыгает…
Вместе со всеми монтажницы тоже высыпали в садик.
Среди них была восемнадцатилетняя девушка с крупными и красивыми чертами лица и с чуть косившими от развивающейся близорукости глазами — Лиза Свилова. Несмотря на молодость, она вскоре станет заведующей монтажной мастерской кинокомитета, потому что среди всех была самой опытной и умелой. Впервые она переступила порог киноателье Патэ совсем девочкой, в тринадцать лет (по другим сведениям — в одиннадцать), и последние несколько лет работала «склейщицей».
В конце следующего, 1919 года, Вертов, монтировавший киноэтюд «Бой под Царицыном», придет к Свиловой и растерянно спросит, как ему быть: монтажницы, привыкшие склеивать длинные, не менее нескольких метров, кинокадры, отказываются брать в работу нарезанные им очень короткие куски пленки — в двадцать, десять, даже пять кадриков.
Пожалев его, Свилова поможет склеить эти, не как у других, мгновенные кадры.
И потом все чаще будет помогать, убеждаясь: все, за что он берется, он делает не так, как другие.
Через пять лет, в 1923 году, она навсегда соединит с ним свою судьбу. Разлучит их только его смерть, после которой ей останется прожить двадцать один год.
А сейчас она вместе со всеми смотрела, как он прыгнул с верхушки грота, как, усмехнувшись, поклонился присутствующим. И вместе со всеми она засмеялась, повторяя, как и все: «Чудак, чудак».
Слово это в дальнейшем нередко будет ходить в обнимку с Вертовым.
Но эдаким импульсивным самородком, не ведающим, что творит, он, при всей (на поверхности, во всяком случае) действительной житейской «странности» каких-то обстоятельств судьбы, никогда не был.
Все в конце концов оказывалось подчиненным своей логике и на всякие следствия имелись свои причины.
О чем говорили Кольцов и Вертов при встрече?
Просто ли Кольцов предложил вакантное место, помог своему старому товарищу устроиться на службу (в ту пору со службой было не так-то легко)? Служба, хоть и была связана с кино, но сама по себе специального знания кинематографического ремесла не предполагала, — можно было предложить и Вертову. Или, быть может, Кольцов увлек Вертова все-таки чем-то по существу? Какими-то словами, объясняющими невиданное, еще мало кем понимаемое историческое предназначение кинохроники? Сам Кольцов это уже понимал, что подтверждается рядом его статей, вскоре опубликованных в Киеве, где он назовет кино «машиной времени».
Поделился ли Кольцов, хотя бы в двух словах, этим наблюдением с Вертовым?
И если даже поделился, то почему все-таки Вертов сразу же (а то, что сразу, не вызывает сомнения) принял его приглашение?
С самого раннего детства Денис увлекался одним — чтением, тем более что книг и журналов у отца — библиотекаря и владельца небольшого книжного магазина — было много; запоем глотал Купера, Рида, Лондона, подражая им, еще мальчиком сочинил два фантастических романа «Железная рука» и «Восстание в Мексике», писал стихи, закончил реальное училище, сдав аттестационные экзамены в 1914 году, был мобилизован и отобран в военно-музыкальное училище в Чугуеве, слушал лекции в Петроградском институте и Московском университете, то есть занимался всем тем, что к кино не имело ровным счетом никакого отношения.
И хотя он и поступил на службу, не требовавшую специальных знаний кинематографического ремесла, как-никак это была все же служба в кино.
Точный круг вмененных Вертову при поступлении на эту службу обязанностей не известен, но примерно представить характер любой канцелярской работы не так уж сложно: регистрация, входящие и исходящие, учетные книги, «на Ваш № такой-то…», «при сем удостоверяется…» и т. д. и т. п. Вертов был очень аккуратен, собран, у него был ясный, без всяких завитушек и вместе с тем изящный почерк. Так что делопроизводство, несомненно, находилось в порядке.
Известно также, что помимо собственно канцелярской работы на него возлагалось редактирование и составление надписей к «Кинонеделе» — первому советскому экранному журналу, начавшему выходить на четвертый день вертовской службы, 1 июня 1918 года.
Трудно сказать, сумел ли Вертов сразу войти в дело, чтобы принять участие в выпуске первых же номеров.
Но если невозможно определить точную степень участия Вертова в деятельности отдела хроники в самое первое время после его вступления в должность, то о том, какие возлагались на него обязанности в дальнейшем, можно судить совершенно безошибочно.
Осенью, как раз примерно тогда, когда Вертов совершил свой прыжок с грота, в кинокомитете было составлено штатное расписание, в нём указывалось, что секретарь отдела хроники Вертов Денис Аркадьевич, получающий жалованье 885 рублей, ведает внутренней жизнью отдела, ведет книги отдела, принимает от операторов весь снятый ими материал для использования в отдельных картинах и «Кинонеделе».
«Кинонеделя», просуществовавшая ровно год (последний 43-й номер вышел 27 июня 1919 года), была первым детищем Вертова.
Нет, конечно, не только его.
«Кинонеделю», прежде всего, создавала блистательная плеяда операторов хроники, которые, в отличие от многих иных дореволюционных кинематографистов, без колебаний перешли на сторону революции, — П. Новицкий, П. Ермолов, А. Левицкий, Г. Гибер, М. Налетный, А. Лемберг, Э, Тиссэ, С. Забозлаев, А. Винклер и другие.
Они были истинными подвижниками своего дела, необычайно преданными ему. Без преданности заниматься таким делом не имело смысла. Можно было найти что-нибудь полегче. Не только в переносном смысле этого слова, но и в прямом. Снаряжение оператора — камера, пленка, тренога и другие приспособления — набирало в весе свыше сорока килограммов.
Хорошо, если съемка где-то поблизости, можно добраться на трамвае или даже пешком — на Красной площади во время Первомайской демонстрации, или у Большого театра, где латышские стрелки проверяют мандаты делегатов очередного Всероссийского съезда Советов, или на Советской площади, где на многолюдном митинге российский пролетариат протестует против подлого убийства немецких товарищей Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
А если надо срочно отправляться в Ярославль для съемок последствий белогвардейского мятежа? Или в район боевых действий Волжской военной флотилии (уже в разгаре гражданская война)? Или в расположение специального партизанского соединения товарища Кожевникова? Или на Южный фронт, где снимаешь обстрел белой конницы красным пулеметчиком? А потом — фронт Северный, рейс с агитационным поездом имени В. И. Ленина. А потом опять Южный, и рейс с бронепоездом № 3 «Власть Советов», где успеваешь снять командира бронепоезда Л. Мокиевскую среди красноармейцев, а вскоре — ее похороны на площади города Купянска Харьковской губернии, когда те же красноармейцы 13-й армии отдавали своему командиру последние воинские почести.
Надо передвигаться с фронтовыми частями, быть в гуще боевой обстановки, когда и пули чиркают, и снаряды ложатся почти что в досягаемости, а твой груз — все одно при тебе (и на тебе). И все одно надобно без устали крутить и крутить ручку насаженного на тяжеловесную треногу аппарата.
Но самой главной бедой был катастрофический пленочный голод. Пленка покупалась и на золото государством за границей, и самими операторами у припрятавших ее частников за баснословные суммы. Бывали случаи, когда моток в одну — две сотни метров, предложенный «из-под полы», оператор, не задумываясь, обменивал на только что выданный ему паек.
ЭТО ВРЕМЯ ГУДИТ ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРУНОЙ
Председателю Совета Народных Комиссаров.
1 июля 1920 г.
Дорогой Владимир Ильич!
…Несмотря на бесконечные ходатайства, обращения и хождения во Внешторг, несмотря даже на Ваше телеграфное поручение закупить пленку за границей, Фото-Кино-Отдел постоянно встречает только отказы и до сих пор ниоткуда не получил ничего… Очевидно, товарищи, от которых зависит снабжение Республики этим крайне емким и портативным товаром, совершенно не оценивают той роли, которую играет кинематограф для массовой агитации и распространения научных и технических знаний… Я еще раз обращаюсь к Вам с просьбой, энергично поддерживаемой т. Луначарским, оказать необходимое содействие в снабжении необходимым для В. Ф. К. Отдела фото-и киносырьем из-за границы…
С товарищеским приветом Дм. Лещенко
Резолюция на письме Заведующего Всероссийским Фото-Кино-Отделом Наркомпроса Д. И. Лещенко:
«8 июля 1920 т. Красин!
Прошу очень нажать и удовлетворить просьбу быстро.
Ленин».
Из письма замнаркома Внешней торговли в Наркомпрос А. В. Луначарскому. 5 октября 1920 г.
Ввиду Ваших неоднократных заявлений о срочности закупок материалов для киноотдела и принимая во внимание значение деятельности киноотдела для агитационной и просветительной работы в стране и в особенности в Красной Армии, я распорядился о срочном выполнении заявки киноотдела. Срочность Вашей заявки и значение, придаваемое ей Председателем Совнаркома тов. Лениным, побудили меня приступить к закупке, не дожидаясь обычно принятого у нас предварительного рассмотрения заявки в Комитете Внешней торговли при Президиуме ВСНХ.
Замнаркомвнешторг.
Из Протокола заседания Совета Народных Комиссаров № 390 от 12 октября 1920 г.
Председательствует В. И. Ленин.
Слушали: 13. О заявках Киноотдела, Электроотдела ВСНХ, НКПроса и Совета военной промышленности (Лежава).
Постановили: 13. а) Утвердить предложение т. Лежавы:
1) Утвердить заявку Киноотдела на сумму в один миллион рублей золотом.
Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
В переданном Вам на днях моем первом докладе-письме я обрисовал то ужасное положение, в каком находится наша кинематография, и просил Вас, Владимир Ильич, продвинуть практически вопросы, связанные с налаживанием кинематографий в Республике… В настоящее время в распоряжении ВФКО имеется всего 5000 метров негативной и 13 000 позитивной пленки, принимая во внимание, что существование всего аппарата ВФКО со штатом (значительно сокращенным для действительных потребностей) в 600 человек оправдывается лишь при условии постановочных работ, я полагаю, что неизбежно встанет вопрос о ликвидации деятельности и самого существования ВФКО…
Владимир Ильич! В интересах дела чрезвычайно важно, чтобы Вы вызвали меня для личных объяснений… Жду ваших указаний.
21 июня 1921 г. Уважающий Вас Петр Воеводин
Из Протокола заседания Совета Труда в Обороны № 203 от 2 ноября 1921 г.
Председательствует В. И. Ленин.
Слушали: п. 8(7). Проект постановления об отчислении части экспортного фонда для расчетов за необходимые Всероссийскому фотокиноотделу НКПроса кинематографические материалы (Литкенс). Постановили: отложить на неделю.
Из Протокола заседания Совета Народных Комиссаров № 451 от 15 ноября 1921 г.
Председательствует В. И. Ленин.
Слушали: 17(15). О пересмотре постановления СТО от 9.XI[2] с. г. по вопросу об отчислении части экспортного фонда для расчета за необходимые Всероссийскому фотокиноотделу НКПроса кинематографические материалы (Литкенс). Пр. СТО 265 п. 46.
Постановили: 17(15). Удовлетворить просьбу НКПроса об отпуске части экспортного фонда. Предложить НКФину непосредственно или через Госбанк, в зависимости от обстоятельств дела, выдать просимую НКПросом сумму в качестве ссуды по отношению к тем кинолентам, которые пойдут на платные постановки или в виде сметного ассигнования на киносырье, предназначенное на учебные цели.
Из Тетради записей поручений В. И. Ленина.
Тов. Падериной [3].
Фото-кинодело. Следить за развитием этого дела в России, привлечь иностранный капитал, наблюдать за проведением в жизнь директивы Владимира Ильича.
(Запись 17 марта 1922 г.).
Кино рождалось в немыслимо трудных условиях. Республика изыскивала любые возможности, чтобы облегчить положение.
И «съемщики», как тогда называли операторов, делали свое дело, фиксируя первые шаги новой России в хроникальных кинокадрах.
Из этих кинокадров и последующих съемок главным образом на фронтах гражданской войны первыми режиссерами советской хроники Г. Болтянским, В. Гардиным, Л. Кулешовым, Н. Тихоновым, М. Шнейдером, а также самими операторами (А. Лембергом, П. Ермоловым, Э. Тиссэ) монтировались короткие фильмы, обычно посвященные какому-то одному событию. Но наиболее важный, злободневный материал предназначался для «Кинонедели».
Разрозненные кусочки новой революционной действительности руководитель «Кинонедели» Д. Вертов складывал в единое целое — в очередной номер экранного журнала.
В то же время, в августе 1918 года, Московский кинокомитет начинает переписку с Петроградом: председатель комитета Николай Федорович Преображенский, старый большевик, энтузиаст кинематографа, потребует срочно прислать хранящиеся в Петрограде негативы февральских и октябрьских событий семнадцатого года, подчеркнув, что этот материал в Москве крайне необходим.
Из этого материала и из разнообразных съемок, приходивших от операторов в кинокомитет в течение восемнадцатого года, начнется монтаж фильма «Годовщина революции».
Работа над «Годовщиной революции» будет поручена Вертову, ею, как он напишет позже, он сдавал в кино свой первый производственный экзамен.
Вот это и есть то «странное», вроде бы совершенно необъяснимое обстоятельство, которое произошло с Вертовым в первые несколько месяцев его работы в кино.
Человек, никогда как будто не интересовавшийся кинематографом, не испытывавший к нему никакого особого пристрастия, почти сразу же становится участником работы по изданию выходящего для всей страны киножурнала, а затем и автором целого фильма одной из первых (если не первой) в мировом кино полнометражной картины.
Не только тема, но и объем материала делали авторскую задачу чрезвычайно сложной. Поэтому очевидно, что такая работа не могла достаться человеку случайному, не показавшему уже себя в деле с наилучшей стороны.
Вертов работал над картиной не один, вместе с опытным фотографом и оператором кинокомитета А. Савельевым. Савельев был одним из тех людей, которые помогали Вертову овладевать знаниями кинематографического ремесла.
«Годовщина революции» в полном и первоначальном виде не сохранилась. Историк ранней советской кинохроники В. Листов по архивным документам с достаточной подробностью определил составные части фильма. По ним можно судить о его содержании, о том, как он был сделан.
Это была предельно добросовестная склейка запечатленных на пленке фактов в их хронологической последовательности с сопроводительными надписями, по возможности доходчиво поясняющими политический смысл происходившего: февральских событий в Петрограде и в Москве, событий между февралем и октябрем, событий Октябрьской революции в Петрограде и в Москве, событий начавшейся гражданской войны.
Последняя часть, которую в то время нередко показывали и как самостоятельную картину, называлась «Мозг Советской России». Она содержала кинопортреты деятелей Октябрьской революции и членов Советского правительства, облик которых еще не был известен широкой массе.
Можно судить и о том, как фильм монтировался.
Картину пришлось делать очень быстро, времени не хватало, в основном из-за задержки запрошенного в Петрограде материала.
В небольшой заметке «Из истории кинохроники», опубликованной газетой «Кино» в мае 1940 года, Вертов вспоминал, что из-за недостатка времени картину монтировали одновременно тридцать монтажниц, а он ходил между столиками, распределяя куски, — «это напоминало сеанс шахматной игры на многих досках».
В ноябре фильм появился на экранах, и не в трех-пяти копиях, как обычно, а, по утверждению Г. М. Болтянского, в сорока.
Вертов же писал — в восьмидесяти.
В любом случае тираж для того времени — колоссальный.
Работа над первым же фильмом выдвинула перед Вертовым масштабные задачи.
Они оказались ему по плечу.
Не загадка ли опять же?
Он еще только овладевает кинематографическим ремеслом, еще только учится у более опытных — и уже монтирует картину одновременно с тридцатью монтажницами, держа, как профессиональный, с многолетним стажем мастер (или, если уж пользоваться шахматным языком, как гроссмейстер), в памяти последовательность множества нарезанных кусков пленки.
Своим фильмом он сдает всего лишь первый производственный экзамен, и сразу же эта его работа в некоторых отношениях становится не рядовым событием.
Объяснимо ли?
Монтаж «Кинонедели», конечно, пошел впрок.
Он учился у более опытных — тоже не пустяк.
Вертов всю жизнь учился.
И тогда, когда ничего не умел. И тогда, когда вроде бы умел, если не все, то очень многое.
Спустя несколько десятилетий, тогда, когда он уже не снимал картин и учиться вроде бы было необязательно, он запишет в дневнике (16 сентября 1944 г.): «Я все еще учусь. Многие другие не учатся, а учат. Уже все знают».
Но можно ли объяснить столь стремительное прохождение основ кинематографической науки, когда как будто в общем-то случайно подвернувшаяся служба сразу стала не случайным делом всей жизни?..
Оказывается — можно!
Где-то на рубеже двадцать девятого — тридцатого годов (документ сохранился без даты) Вертов составил план то ли доклада, то ли статьи, то ли книги под названием «Вертов и киноки». Может быть, он составил его не для себя, а как подспорье для кого-то, собиравшегося писать о нем.
Этот план отмечает основные этапы и направления его кинематографической деятельности. Однако собственно «кино-работа» стоит в нем вторым пунктом.
А первый звучит так:
«Ритмический монтаж словесно-звукового материала
1) Монтаж слов („Города Азии“).
2) Монтаж шумов („Лесопильный завод“).
3) Проектирование на елово-музыкальных отрывках (Скрябин).
4) Лаборатория слуха».
Сама по себе запись может показаться еще одним примером несомненного чудачества, но несомненность здесь опять же мнимая.
Итак, все началось с «Городов Азии».
А точнее, с того, что не возникало никакой охоты зубрить школьный урок.
В тот раз учитель потребовал выучить назубок названия древнегреческих городов Малой Азии и близлежащих островов.
Страдания юного Вертова вряд ли нуждаются в объяснениях — каждый был школьником. Мальчик вертел этими несчастными городами так и сяк, переставлял, менял местами, пока они вдруг не сложились в некий напевно-ритмичный ряд.
Через тридцать лет, в апреле 1935 года, выступая с докладом о своем творчестве, Вертов скажет, что он и сейчас помнит эти города: Милет, Фокея, Галикарнас, Самос, Эфес и Митилена и острова Лесбос, Кипр и Родос.
В дальнейшем он часто применял такой способ для запоминания разных уроков, но постепенно это вышло за рамки чисто школьного потребительства. Переросло в новое, наряду с чтением («я горел от чтения»), пристрастие — в увлечение ритмической организацией различных звуковых элементов.
Обладая достаточно топким музыкальным слухом (не случайно после мобилизации его отобрали в военно-музыкальное училище), Вертов не просто слышал звуки, но улавливал их некую внутреннюю мелодику, хотел их каким-то образом воспроизвести, организовав мир звуков в определенно осмысленную систему. При этом реальные и конкретные звуки не должны были преображаться в музыкальные, выстраиваемые нотными знаками. Они должны были сохранять свое природное звучание, а их соединение, сталкивание — рождать новую звуковую партитуру.
Необычное для мальчика увлечение.
Но оно уже не покидало его.
Следующим этапом был — «Лесопильный завод».
Здесь страдания по-прежнему юного Вертова (которым, впрочем, он не очень предавался) были связаны с тем, что девушка к назначенному часу свидания у озера часто опаздывала, — ей было трудно убегать из дому.
Рядом с озером был лесопильный завод помещика Славянинова.
Коротая время, Вертов подолгу слушал звуки завода, а потом пытался их описать то словами, то буквами.
Он занялся монтажом стенографически записанных реплик и граммофонных записей (в частности, отрывков из любимого им Скрябина).
С грамзаписями дело шло трудно, а вот работа по ритмической организации слов увлекла по-настоящему. Сцепляя друг с другом слова и группируя определенный ряд понятий вокруг той или иной темы, он создавал своеобразные этюды.
Житейски обычные слова были прозаичны, но заложенный в их смысловом сцеплении ритмико-звуковой лад сближал эти этюды с поэзией.
Интерес к организации реальных звуков в осмысленную систему не прошел бесследно.
С самого начала двадцатых годов, тогда, когда об этом еще никто не думал, а если думал, то больше с испугом, Вертов заговорил о звуковом кино, о его неизбежности.
Многие эпизоды его журналов и фильмов немого периода сделаны с полным предощущением звука.
Слышимый мир будет всегда волновать Вертова — будь то заводские гудки, или медь праздничного оркестра, или взрывные работы на строительстве ГЭС.
Или искреннее звучание непосредственного человеческого рассказа.
Ранние опыты по ритмическому монтажу звуковых элементов Вертов называл «лабораторией слуха».
Он называл их также своей «докинематографической деятельностью».
Но как раз «докинематографическая деятельность» прямо привела его в кино.
Юношеская полузабава, превратившаяся в стойкое увлечение, была связана со стремлением найти способ фиксации пусть пока только звуковых, по (что гораздо важнее) реальных, жизненно подлинных проявлений окружающего мира.
Поэтому «докинематографическая деятельность» Вертова привела его не просто в кино, а именно — в документальное кино.
В тезисах статьи «Рождение „Кино-Глаза“», написанных в 1924 году, предельно сжато рассказав о юношеском интересе к возможности записывать документальные звуки, к опытам по записи словами и буквами шума водопада, звуков лесопильного завода и т. д., Вертов, продолжая, пишет: «И однажды, весной 1918 года, — возвращение с вокзала. В ушах еще вздохи и стуки отходящего поезда… чья-то ругань… поцелуй… чье-то восклицание… Смех, свисток, голоса, удары вокзального колокола, пыхтенье паровоза… Шепоты, возгласы, прощальные приветствия… И мысли на ходу: надо, наконец, достать аппарат, который будет не описывать, а записывать, фотографировать эти звуки. Иначе их сорганизовать, смонтировать нельзя. Они убегают, как убегает время. Но, может быть, киноаппарат? Записывать видимое… Организовывать не слышимый, а видимый мир. Может быть, в этом — выход?..
В этот момент — встреча с Мих. Кольцовым, который предложил работать в кино».
Приглашение Кольцова сразу обещало возможность выхода смутным, вроде бы неразрешимым стремлениям.
Надо полагать, Вертов это понял и оценил мгновенно.
Он еще не знал всех особенностей кинематографического ремесла, но, придя в кино, уже неплохо знал, что от него хочет.
Если отбросить многие (весьма важные) частности, то можно сказать, что хотел он двух основных вещей: воспроизведения подлинной революционной действительности в обилии ее проявлений, во-первых, и разнообразной смыслово-ритмической организации этих проявлений в единое целое, где в свою очередь единство обусловливается неожиданным и сложным слиянием прозы и поэзии, — это во-вторых.
Конечно, стремление к подобному двуединству в то время не выражалось в окончательно ясных формулировках, какими объяснял это стремление Вертов позже или какими его можно попробовать объяснить теперь.
Путь от познания возможностей до первых осуществлений желаемого будет не таким уж близким. По крайней мере четыре года уйдут на овладение ремеслом. Вкус к «тайнам» ремесла Вертов не потеряет и в дальнейшем. Но в дальнейшем (после этих четырех лет) ремесло все тверже будет подчиняться желанной цели.
Приглашение Кольцова послужило поводом для прихода Вертова в кино.
Но оказалось, что повод был подготовлен достаточно вескими причинами.
Не в этом ли ответ на загадку столь свободного и скорого вхождения Вертова в кинематограф?
И не становятся ли теперь более понятными некоторые строчки стихотворения Вертова, посвященного самому себе?
Разве нет связи между вот этим описанием того, что услышал Вертов на вокзале весной восемнадцатого года: «чья-то ругань… поцелуй… чье-то восклицание… смех… голоса… шепоты… возгласы… прощальные приветствия», и строкой «вертеп ртов»?
Разве нет связи между словами: «вздохи и стуки отходящего поезда… свисток… удары вокзального колокола… пыхтение паровоза…» и словом «автовизги»?
И не намек ли в строке «Но — дзинь! — вертеть диски» на увлечение монтажом грамзаписей, которое оказалось малоплодотворным?
Теперь вертеть диски можно было бросить.
Потому что гонг призвал в кино.
И он же позвал совершить совсем уж чудной поступок — прыжок с почти двухэтажной высоты садового грота во дворе кинокомитетского особняка.
Вертова еще можно остановить.
Только кто остановит?
Собравшиеся в садике — вряд ли: для них это просто забавное зрелище. Чудачество.
Сам он тоже не остановится: слишком велико желание. Кроме того, неудобно перед неожиданными зрителями, подумают — испугался.
Нет, ничего трагического не произойдет.
Высота хоть и рискованная, но в общем не такая уж страшная. Вертов вполне благополучно опустится на землю.
Но когда Вертов коснется ее, он еще не будет знать, что отсюда, от этой точки, начнется его дорога.
На этой дороге будут необыкновенные открытия и выдающиеся победы. Но как и всякие истинные победы, они потребуют несгибаемости, мужества многих преодолений.
В речи о Льве Толстом Анатоль Франс сказал: «Слабость не может проповедовать истину».
Искатель истины, всегда стремившийся к обнажению подлинной правды, Вертов чувствовал это.
И не только чувствовал, но и понимал — слова Франса записаны в его дневнике.
Он ходил в кожанке.
И носил галифе, заправленные в высокие краги.
А студенческая фуражка скоро заменилась мотоциклетным кепи, тоже кожаным (любил и велосипед, и мотоцикл).
В устных и в появившихся вскоре печатных выступлениях был громок, бескомпромиссен, задиристо, нередко обидно резок.
Но в красивом лице всегда чувствовалась детская незащищенность.
Глаза — слегка навыкате, словно старавшиеся побольше вобрать увиденного
вокруг себя, и вместе с тем опрокинутые глубоко внутрь себя — защищали Вертова. Они защищали то отраженной в них его уверенностью в своей правоте, то иронической усмешкой, то мудростью трезвого, холодного понимания, то печалью.
А все остальное было беззащитным — мягкие складки в уголках рта, совсем уж какая-то детская ямочка на подбородке.
Собравшихся вокруг него в начале двадцатых годов кинематографистов Вертов назовет «киноками». И станет не раз повторять: «Киноки — дети Октября!»
Эта формула, не означавшая в устах Вертова ничего иного, кроме его убеждения, что возглавленное им направление в кино рождено революцией, поразительна своей многослойностью.
Начало пути Вертова совпало с началом самого Октября. С эпохой его детства, когда мудрость целей революции, ее идеалов сочеталась с непосредственностью и с поистине детской чистотой чувств восприятия этих целей и идеалов.
Спустя десятилетия в некоторых высказываниях, в мемуарах о Вертове будет проскальзывать мысль о том, что он навсегда остался во времени военного коммунизма. Одни будут отмечать это с сожалением, другие с удивлением, третьи — уважительно.
Военный коммунизм был периодом сложным, вынужденным, драматически напряженным. И вместе с тем для этого времени характерны открытость, прямота позиций, исключавшие двусмыслие.
Своеобразие момента заключалось в отсутствии возможностей для осуществления второй части коммунистического принципа — каждому по потребностям. Но каждого революция призывала к максимальному раскрытию творческих способностей. Слом старых отношений одновременно предполагал всемерное выявление творческих начал для постройки новых форм жизни, новых форм человеческого общения.
И оказалось, что для многих людей, в том числе для тех, которые еще совсем недавно жили в достаточном согласии с потребностями, первая часть коммунистического принципа гораздо важнее второй.
Она на деле давала возможность как бы прикоснуться к коммунизму. Потому-то в это полное лишений время возникали или уже осуществлялись грандиозные планы и намерения.
Рождался проект электрификации России.
Рождалась новая поэзия.
Рождались планы ликвидации неграмотности в стране почти сплошной безграмотности.
Рождались новая архитектура и живопись, новая поэзия, новый кинематограф, театральные открытия Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда, оригинальные проекты художника Татлина, включая ого знаменитую модель вращающейся башни-памятника III Интернационалу.
Магнитка, Днепрострой, Комсомольск, совхоз «Гигант», встречный промфинплан, призыв: «Даешь!» и еще многое другое — впереди.
Но уже была вера в то, что наступает эпоха переустройства мира на новых, подлинно справедливых началах, и была готовность во имя этого отдать всего себя без остатка.
Нет, Вертов не оставался во времени военного коммунизма.
Но с этого первого года Октября и до конца своих дней он сохранит верность идеалам того общества, которое поставило своей целью создание условий для свободного и полного раскрытия творческих потенций личности. В этой верности был тверд и несгибаем.
О потребностях Вертов не думал.
Одни — подай им почести.
Другие — побольше яств.
Мне нужно только творчество
Из всех земных богатств.
Те, кто выбежал в садик, чтобы взглянуть на чудака, собравшегося прыгать с грота, мало обращали внимание на прикрепленный к треноге киноаппарат, он стоял на земле и снизу был направлен на Вертова.
Киносъемка для всех была здесь делом будничным, а вот такой прыжок они видели впервые. Поэтому с веселым любопытством следили за Вертовым, а не за аппаратом.
Но стоявшему у камеры оператору в этот раз предстояло заняться делом не будничным.
Он приступил к съемке, когда Вертов встал у края грота, и затем весь прыжок с начала и до конца снимал, стараясь вертеть ручку аппарата гораздо быстрее обычного.
Позже Вертов будет называть этот прыжок — мой рапидный прыжок. Рапид — способ ускоренной съемки, он дает на экране эффект замедленного движения.
В то время для рапидной съемки специального автоматического устройства не существовало. Все зависело от тренированности оператора, его усилий.
Рапидная съемка теперь стала расхожим приемом, нередко используется для достижения чисто внешнего эффекта.
Способ достижения подобного эффекта был известен во времена Вертова. Но сейчас рапидная съемка интересовала его не с эстетической точки зрения (хотя в этом качестве он ее тоже будет впоследствии использовать, правда, без навязчивости, мимоходом и подчиняя смысловой задаче).
Сейчас Вертов хотел узнать другое.
Интересно, что увидели собравшиеся на его прыжок зрители?
Скорее всего, почти ничего. Только то, как он подошел к краю грота, спрыгнул, сделал жест «вуаля» и пошел дальше. Зрители, наверное, разошлись даже несколько разочарованные.
Прыжок длился какие-то считанные секунды — разве можно успеть что-нибудь заметить?
А вот что успел заметить аппарат?
Что попало на пленку, когда оператор вращал ручку камеры с максимальной скоростью?
То, что получилось на пленке, Вертов потом подробно описал: «Человек подходит к краю грота, затем у него на лице появляется страх и нерешительность, он думает — я не прыгну. Потом он решает: нет, неудобно, смотрят. Опять подходит к краю, опять нерешительность на лице. Затем видно, как вырастает решимость, как он говорит себе: я должен — и отделяется от края грота. Он летит в воздухе, летит неправильно, он думает, что нужно принять такое положение, чтобы упасть на ноги. Он выпрямляется, приближается к земле, на лице его опять нерешительность, страх. Наконец, он касается ногами земли. Его первая мысль, что он упал, вторая, что нужно удержаться. Потом появляется мысль, что он здорово спрыгнул, но не нужно этого показывать, и, как циркач, выполнивший трудное упражнение на трапеции, он делает вид, что ему страшно легко. И с этим выражением человек медленно „отплывает“».
Вертов задумался: бедные зрители, они ничего этого не видели.
Но раз так, значит, кинокамера может рассмотреть то, что обыкновенному зрению недоступно?
Зрители увидели прыжок, камера — смены психологических состояний.
Человеческое зрение фиксировало оболочку события, кинозрение пробилось сквозь нее к сути.
Максимально быстрое вращение ручки аппарата помогло увидеть мысли.
Дало возможность их обнажить.
Осмыслить не осмысленное: то, что рассказал Вертову о нем самом экран, во время прыжка проносилось в его голове, не отслаиваясь в сознании.
Значит, для того, чтобы обнажить мысль, сделать невидимое видимым, киносъемка не должна сводиться лишь к имитации обычного зрения, к повторению на экране того, что можно увидеть обычным глазом.
Надо искать способы, которые позволяли бы воспроизвести то, что глаз обычный увидеть не может и что может увидеть глаз, вооруженный киноаппаратом.
Дело не в рапиде.
В дальнейшем он станет для Вертова лишь одним (и далеко не первым) средством выявления правды.
Эти средства будут постепенно усложняться, становиться все более утонченными. Закономерность их применения будет находить для себя все более глубокое теоретическое обоснование.
Но цель останется та же, что и тогда, когда Вертов решил (скорее всего, стихийно) совершить прыжок с грота, почувствовав сразу после просмотра отснятого (скорее всего, в тот момент еще интуитивно) разницу между существующей практикой кино и его нераскрепощенными возможностями.
— Мой рапидный прыжок, — говорил Вертов через семнадцать лет, — где я устанавливаю разницу между тем, что вы видите, и тем, что во мне происходит, это опыт, который в более сложном виде повторяется во всех фильмах, которые я сделал.
К тому времени (1935) год) он уже сделал почти все фильмы, которые сделал, включая «Три песни о Ленине».
Поэтому-то от прыжка с грота и берет начало его дорога.
Обычная киносъемка необычайно расширила зрение миллионов людей, сделав доступным глазу любую точку планеты.
Рапидный опыт Вертова заставил его задуматься над необходимостью не расширения, а углубления зрения широчайших масс. Это углубление предполагало неизбежность преодоления не ограниченных мобильных возможностей человека, а ограниченных возможностей самого зрения.
И в свою очередь требовало всемерного раскрепощения еще не раскрепощенных возможностей кино.
А когда же их раскрепощать, как не в эпоху, провозгласившую раскрепощение всех творческих сил народа, как не в эпоху пролетарской революции?..
Киноки — дети Октября.
В дорогу Вертова позвало время.
Время, время, время…
С первых шагов в кино само это понятие волновало Вертова. Оно волновало его своей многослойностью.
Время как ритмическая единица, как метр будущего киностиха.
Причем «метр» здесь не только в переносном смысле слова (стихотворный размер, чередование разнодлительных долей), но и в самом прямом — как отрезки пленки, отмеренные линейкой и нарезанные ножницами. Стихотворный метр, зависящий от сантиметра. Тот самый «метр», который так удивил монтажниц, не пожелавших склеивать «кусочки» в 5, 10, 15 кадриков для киноленты «Бой под Царицыным».
Впрочем, удивились тогда не только монтажницы, но и члены Художественного совета, отрицательно встретившие необычайно быструю картину.
Мысль о временных ритмах, их значении в искусстве не оставляла Вертова.
Приехав в Москву, он подружился с молодым кинооператором Александром Лембергом. Не имея постоянного жилья, Вертов поселился у Лембергов в Козицком переулке.
Лемберг вспоминал, что, вернувшись как-то из очередной командировки, он не узнал комнаты, в которой жил в то время Вертов. Все стены и потолок Вертов окрасил густой черной сажей, кругом была беспросветная тьма. А на черных стенах белой краской Вертов нарисовал множество часов со стрелками, показывающими разное время, и с маятниками, находящимися в разных положениях, — они как бы раскачивались.
Лемберг откровенно пишет, что все это ему не понравилось.
Вертов стал его убеждать, что он ничего не понимает, черный цвет создает впечатление дали во все стороны, комната стала шедевром.
И добавил:
— А циферблаты на стенах — это стихи!
Стихами были, конечно, не циферблаты, а заложенный в их изображение ритм, без которого нет поэзии.
Лемберг не стал спорить. Но когда Вертов уехал в очередную командировку, позвал маляров, вернувших комнате нормальный вид.
Возвратившийся из командировки Вертов огорчился, а потом, как вспоминает Лемберг, сказал:
— Да, пожалуй, ты прав…
Есть вещи, которые трудно объяснить.
Ритм — это то, что живет внутри человека. Это, в сущности, настрой его души.
Как объясниться здесь языком обыденной логики?
Но прав все-таки, пожалуй, был Вертов.
И все-таки самым волнующим в этом понятии «время» был не порядковый отсчет секунд, минут, дней, не ритм, выражаемый метрической длиной пленочного отрезка, а нечто еще более важное.
Время — как эпоха, история.
Творчество Вертова было неразрывно связано с Октябрем не только потому, что послеоктябрьская эпоха предоставила ему возможности для осуществления своих личных художественных намерений, но и потому, что осуществление намерений давало возможность отразить послеоктябрьскую эпоху.
Этим он ясно и недвусмысленно выражал свою социальную, политическую позицию.
Позицию гражданина Республики.
Но не только позиция Вертова — позиции самого документального кинематографа в борьбе за революционное сознание широких масс были столь выдвинуты вперед, что всякое подспудное лукавство здесь оказывалось не только невозможным, но просто бессмысленным.
Эйзенштейновские слова о себе: «Через революцию к искусству — через искусство к революции» относимы к большинству пришедших в эти послеоктябрьские годы в кино.
Свой протест против эстетических канонов в кинематографе Вертов всегда будет рассматривать как форму непосредственного участия в революционной борьбе против старого общества. А поиск новых путей искусства для него станет частью общего строительства нового мира.
В некоторых статьях, написанных и при жизни Вертова и после его смерти, можно встретить то более откровенный, то относительно слабый (но все же имеющий место) намек на то, что неточности, ошибки его ранних теоретических выступлений являются следствием его как бы еще не определившейся в те годы полностью социальной позиции.
Между тем свою социальную, политическую позицию Вертов определил полностью сразу и до конца.
Но разве понимание и признание конечных целей социальной революции должно автоматически приводить к немедленному и всеобщему пониманию революции, происходящей в искусстве, и новаторских путей, ведущих к ней?
Если б это было так, то многое решалось бы очень просто.
— При общности великой цели — у каждого художника свой особый путь, — говорил Вертов.
Особый путь художника тем и отличается, что не похож на другие, ставшие привычными.
А ведь ничего нет труднее, чем расставаться с привычками.
Потому что привычно то, что когда-то нам было по-настоящему любо и дорого, а теперь, может быть, тоже любо и дорого, но не по-настоящему, а больше по привычке. Мы только этого не замечаем (или не признаем).
Рождению нового искусства часто сопутствуют разного рода наслоения, отделить истинное от наносного действительно непросто. Неточности и ошибки здесь всегда возможны, как вообще во всяком новом деле, что, однако, не означает отступления от главной жизненной цели, от раз и навсегда избранной позиции.
В архиве Вертова сохранился черновик его письма от 12 февраля 1930 года. В письме он, в частности, писал:
«Пользуюсь случаем еще раз подчеркнуть, что ни по своим политическим убеждениям, ни по своей предыдущей работе практической (100 полит-фильм) я себя беспартийным не считаю.
Несмотря на отсутствие партбилета».
Признание революции было для Вертова естественным фактом биографии.
Служба в кино прямо означала служение Республике, находящейся в опасности, со всеми вытекающими из этой напряженной и переменчивой военной обстановки возможными последствиями.
Позиция Вертова была кристально ясной.
В декларациях она не нуждалась.
Она нуждалась только в одном — в подтверждении делом, работой.
И Вертов работал.
Работая, учился.
Учился, как он сам говорил, кинописи.
Умению писать не пером, а киноаппаратом.
Учиться кинописать было трудно, не существовало азбуки кино.
Вертов учился не только за монтажным столом, когда склеивал из присылаемого операторами материала сюжеты «Кинонедели» или эпизоды первых своих фильмов.
«Кинописи фактов» он учился, постоянно выезжая на места съемки, участвуя в ней.
Вертов сам камеру в руки брал редко. Но особенности операторской работы, возможности съемки, ее процесс он изучил до тонкостей. Сохранившиеся за разные годы его указания работавшим с ним операторам всегда предельно точны, конкретны, зримы.
Характер участия Вертова в съемках в общем и целом определялся не его административной должностью (заведующий отделом хроники), а его кинематографической специальностью — «инструктор-организатор съемок». Такая специальность в кино существовала, примерно соответствуя нынешнему «режиссеру».
Но стоит употребить это слово по отношению к Вертову, и мы можем услышать за своей спиной негодующий скрип его кожаной куртки.
На протяжении полутора десятков лет Вертов — документалист до мозга костей — будет решительно отвергать само слово «режиссер», как чистую принадлежность игровой кинематографии. Смирится он с этим словом лишь тогда, когда станет совершенно очевидным, что дело не в словах, сами по себе они еще ничего не решают.
Вертов принимал участие в съемках московского наводнения в весенний паводок, бронепоезда под Луганском, красных бойцов в боевой обстановке.
После того как в середине девятнадцатого года на сорок третьем номере прекращается выпуск «Кинонедели» (гражданская война не позволяла осуществлять регулярное издание и широкое распространение журнала), Вертов направляется для съемок на фронт.
Вместе с оператором Ермоловым он ведет киносъемки в расположении частей 13-й армии под командованием Иннокентия Серафимовича Кожевникова. Собирает снятый Тиссэ материал об особом партизанском соединении, которым тоже командовал уполномоченный ВЦИК Кожевников, когда соединение сражалось в тылу поднявшего мятеж чехословацкого корпуса. Вертов стенографически записывает на фронте куски речей Кожевникова для титров, готовя весь этот материал для специального киновыпуска.
А начало 1920 года открывает особую, длившуюся около трех лет, страницу в биографии раннего Вертова, связанную с так называемым передвижным кино.
Стационарных киноустановок в стране в первые годы после революции имелось очень мало. Кинематограф же являлся одной из самых наглядных, доходчивых (особенно в почти безграмотной России) и убедительных форм пропаганды — политической, культурной, научно-технической и т. п.
Недостаток стационарных киноустановок в какой-то степени компенсировала сеть кинопередвижек, прежде всего тех, которые сопровождали агитационные поезда и агитационные пароходы.
Участвовавшие в рейсах кинематографисты занимались не только демонстрацией фильмов. Они вели съемку рейса, и им также вменялась в обязанность покупка, если встретится случай, киноаппаратуры и пленки.
Вертов, заведовавший в одном из рейсов киноотделением, вскоре становится заведующим всей киносекцией отдела агитационно-инструкторских пароходов и поездов (агитпарпоездов) ВЦИК.
Из материала, снятого в поездках разными операторами, Вертов смонтировал несколько небольших картин, в том числе своего рода киноотчет о деятельности агитпоездов ВЦИК «На бескровном военном фронте». Им был написан сценарий полуигровой-полудокументальной картины, которую предполагалось снять во время поездки агитпоезда «Северный Кавказ» (вскоре переименованного в «Советский Кавказ»). А в одном из августовских номеров нового журнала «Кино-Правда», который начнет выпускаться с лета 1922 года под руководством Вертова, будет помещен сюжет о том, как передвижное кино развертывает экран и устанавливает передвижку на Страстной площади в Москве в течение восьми минут.
Учась кино, Вертов изъездил почти всю страну.
Он учился кинематографу не только у кинематографа, но и у самой жизни.
Революцию он узнавал не по рассказам и не по кинокадрам, снятым другими.
Она сама открывалась перед ним во множестве живых, осязаемых деталей.
— Работы киноков, — говорил впоследствии Вертов, — рождались не в ателье, а в боевой фронтовой обстановке.
Вертов находился в водовороте событии, в гуще действительности.
Сам слушал революцию, ее время.
Он не оставался простым зрителем событий.
Был среди тех, кто делал все возможное в это, казалось бы, невозможно трудное время, чтобы облик переломных минут истории показать современникам и передать идущим вслед.
Позже Вертов писал, что годы своей работы от 1918 до середины 1922 года он мог бы назвать периодом «ДХК» — «Даешь хорошую кинохронику».
Но дать хорошую кинохронику не означало для Вертова лишь хорошо ее снять и склеить, на том свое дело закончив.
Он считал себя обязанным, хронику зрителю именно дать — в самом прямом смысле слова. Донести до него. Найти любые способы зрителю ее показать.
В эти годы Вертов изучал не только кинематографическое ремесло.
Вспоминая о своих поездках с агитпоездами, он писал. «Изучаем нового зрителя».
Что интересует его? Все ли понятно? Что оставляет равнодушным, а что волнует особенно?
На бесчисленных демонстрациях картин во время агитационных рейсов Вертов находился в общении с огромной зрительской аудиторией. Лишь в одном из рейсов поезда «Октябрьская революция» на киносеансах побывало свыше шестидесяти тысяч человек.
Они следили за экраном, а Вертов следил за ними — всматривался, вслушивался.
И все чаще убеждался в их скептическом отношении (особенно там, где кино было в новинку) к неправде игровых агиток, обычно сработанных на скорую руку.
Вертовская страсть к кинодокументу находила опору в зрительских пристрастиях, укрепляя его уверенность в преимуществах воздействия на зрителя хроникой, фактами, а не выдумкой.
Вертов с усмешкой говорил, что многим доставляло удовольствие расшифровывать буквы «ДХК» и иначе, как: «Долой художественную кинематографию».
В оба лозунга — «Даешь!..» и «Долой!..» — Вертов вкладывал патетический заряд одинаковой мощи. И тот и другой, как две победно сверкающие грани одного кинжального лезвия, на многие годы определят бунтарский напор творческой позиции Вертова. Утверждение кинодокумента на экране для Вертова станет невозможным без отвержения игрового кино.
Этим своим «Долой!..» он закрутит клубок противоречий, в котором мудрые, глубоко созидательные тенденции окажутся на пересечении с тенденциями, ведущими к серьезным промахам в оценке конкретных фактов и некоторых общих явлений кино. С тенденциями, ведущими в никуда.
Этим же «Долой!..» Вертов навлечет на себя бурю негодующих протестов защитников игрового кино. Протестов, в одних случаях справедливых своей принципиальной основательностью, а в других несправедливых торопливой горячностью.
В подобной ситуации не всегда удавалось разглядеть деревья, посаженные Вертовым.
Не только те, что не привились, превратившись в сухостой, а и те, что были гнуты-перегнуты ветрами и ливнями, но оказались жизнестойкими и выстояли, протянув руки небу.
Лишь спустя десятилетня можно будет спокойно разобраться в сложном сплетении разнообразных начал, составлявших вертовскую позицию в искусстве.
А сейчас, в годы обучения кинематографическому ремеслу и изучения кинематографического зрителя, позиция только закладывалась.
Но уже тогда вертовская установка (поддержанная зрительской массой) на факт, на хронику была безошибочной и совпадала со смыслом документа, определившего политику Советской власти в области кино.
Председатель СНК В. И. Ленин Управляющему делами Совнаркома Н. П. Горбунову из Горок по телефону:
Наркомпрос должен организовать наблюдение за всеми представлениями и систематизировать это дело… Для каждой программы кинопредставления должна быть установлена определенная пропорция:
а) увеселительные картины, специально для рекламы и для дохода (конечно, без похабщины и контрреволюции) и
б) под фирмой «из жизни народов всех стран» — картины специально пропагандистского содержания, как-то: колониальная политика Англии в Индии, работа Лиги Наций, голодающие Берлина и т. д. и т. д.
Директивы по киноделу (здесь приведена их часть) были продиктованы Н. П. Горбунову 17 января 1922 года; как раз примерно в это время Вертов задумывался над будущими путями кинематографа.
27 января Н. П. Горбунов передал директивы замнаркому по просвещению Е. А. Литкенсу для неукоснительного исполнения. Вскоре В. И. Ленин пригласил А. В. Луначарского, в беседе с ним повторил ранее высказанную мысль.
«Он еще раз подчеркнул, — вспоминал А. В. Луначарский, — необходимость установления определенной пропорции между увлекательными кинокартинами и научными. К несчастью, это и до сих пор очень слабо поставлено. Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники, что, по его мнению, время производства таких фильм, может быть, еще не пришло.
Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то не важно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа…»
[4].
Впоследствии Вертов не раз будет ссылаться на «ленинскую пропорцию» кинопрограмм, отстаивая свою позицию защиты чести и достоинства документального кино.
Первые четыре года, прожитые Вертовым в кинематографе, были временем, когда смутные желания, неясные предположения стали приобретать реальные очертания.
Но чем больше он открывал для себя кинематограф, тем решительнее крепло ощущение: все, что он пока узнал о нем, это лишь крохотная часть еще неоткрытого.
Осуществление одного почти тут же требовало осуществления другого, к которому-то не известно было, с какой стороны подойти.
Так было и в эти годы и во все последующие.
Предшествующего опыта не существовало.
И, наверное, минуты, когда охватывало волнение от сознания неизбежности следующего шага, были счастливыми минутами его жизни.
Хотя сама жизнь была трудной, подчиненной суровым законам гражданской войны.
Невзгоды и лишения Вертов переживал вместе со страной.
Вместе с ней недоедал.
Как и другие, жил в нетопленых комнатах и работал в промерзших помещениях. Свой первый манифест «О разоружении театральной кинематографии» писал (в конце 1919 года) в комнате с разбитой форточкой, за столом, на котором вчера недопитый чай в стакане превратился в лед.
Он тяжело болел. В сохранившемся в вертовском архиве его коротком описании болезни она не названа, но, по некоторым другим сведениям, это, видимо, была болезнь по тому времени вполне ординарная — тиф.
Возникали трудности и другого рода.
Вертов ушел из ВФКО, и ушел, судя по его дневниковым записям, не по своей воле. Конкретный повод для увольнения остался туманным, но причина в общем и целом ясна — несложившиеся взаимоотношения с руководством.
Но что стоили все эти бытовые и служебные неурядицы в сравнении с минутами творческого прозрения?..
Заканчивалась гражданская война, и закономерным итогом ушедших лет для Вертова стал его большой фильм «История гражданской войны», выпущенный на рубеже двадцать первого — двадцать второго годов.
В первоначальном монтаже картина почти не сохранилась.
Но по некоторым восстановленным кускам, по монтажному описанию, оставленному Вертовым, можно понять, что это была, как и в свое время «Годовщина революции», наиболее полная сводка кино-документов о войне, снятых на фронте и в тылу и включавшихся в «Кинонеделю» и в различные киновыпуски, которые монтировал Вертов. Слово «история» в заголовке соответствовало, видимо, принципу построения фильма. Картина строилась как последовательно рассказанная история событий.
Совсем недавних, еще обжигающих, но уже отгремевших.
Страна вступала в новую эпоху.
Вступал в новый период своей творческой жизни и Дзига Вертов.
За эти годы им был накоплен определенный опыт, но он уже понимал: дорога, позвавшая его, предела не имеет.
Уверенность в этом росла во время фронтовых съемок, на агиткиносеансах, за монтажным столом, и снова — во фронтовых поездках, и снова — за монтажным столом.
Мысль о неисчерпаемых возможностях документального кино все больше становилась убеждением, возникшим из неясных предчувствий, впервые охвативших Вертова, когда он «гонял» на экране только что отснятый ролик и на белом полотне померкшего зала молодой человек в кожаной куртке медленно, то ли нехотя, то ли словно преодолевая скрытые от глаз преграды, всходил на верхушку грота, нерешительно переступал с ноги на ногу, потом неестественно долго парил в воздухе (и его волосы, разделенные четким пробором, слегка взлетали над висками), потом, коснувшись земли, еще долго покачивался, стараясь сохранить равновесие, а потом так же неестественно долго собирал на лице улыбку, сопроводив ее ироническим цирковым жестом «вуал
я».
ГЛАВА ВТОРАЯ
Жгучи свободы глаза,
Пламя в сравнении — холод…
В. Хлебников
Превращение было стремительным.
Все происходило словно в сказке братьев Гримм. Добрая фея подарила маленькой девочке чудесный горшочек, стоило сказать: «Горшочек, вари», и он незамедлительно готовил вкусную горячую кашу, сколько захочешь.
На рубеже двадцать второго — двадцать третьего годов на Кузнецком мосту и в Столешниковом переулке, на Тверской и Петровке почерневшие, вроде бы навсегда омертвелые огромные зеркальные витрины старых магазинов одна за другой вдруг стали отмываться до сияющего блеска.
Казалось, только и надо было хорошенько отмыть стекла, чтобы из туманной глубины витрин тут же возникли элегантно одеревеневшие манекены: круто развернутый в плечах и узко собранный в талии парниша (канотье, упругая крахмальная манишка, идеально черный смокинг и штаны с широкими то белыми, то серыми полосами) и его до бесстыдства скромная девочка (платье, прильнувшее к гибкому телу, тоненькая шейка в объятиях серебристой чернобурки с хитро подмигивающим глазом на острой лисьей мордочке и такие невероятные туфельки, какие могут существовать лишь в самую изящную эпоху).
Взгляды этой пары, уверенно рассекающей жизнь, уносились к какому-то им одним ведомому горизонту, из чего с очевидностью следовало, что шагать они желают далеко вперед.
Но главное — было много, очень много еды.
За стеклами нежно потели окорока, пускали томную слезу сыры, лоснились балыки, предлагала себя икра как одного, так и другого цвета, а белые булочки, пирожные с взбитыми сливками, торты с кремовыми розочками, всевозможные восточные сладости («Засахаренные листья лотоса — ах ты, боже мой!») таяли во рту от одного лишь взгляда.
И надо всем этим пиршеством возникали новые и новые вывески с именами владельцев или названием артели пайщиков. Вывески, распространяясь по всей стране, обычно отличались пряным лаконизмом, исполненным собственного достоинства:
Крымски сталов
шашлик
чуберек
М. Эннанов
Был нэп.
В хронике, в киножурналах этого времени встречаются кадры: люди останавливаются у магазинных витрин, базарных рядов, торговых лотков.
А прямо встык или где-то рядом с этими кадрами может быть поставлен кадр с нищим на костылях.
Или с оборванным, голодным, немытым, нечесаным беспризорником, смачно сосущим подобранный на тротуаре окурок.
Или с женщиной, держащей на безвольно вытянутых руках завернутого в тряпье младенца — в иссохшей груди нет молока, чтобы покормить его.
Или с детьми, от которых, в сущности, не осталось ничего, кроме огромных, но уже ко всему безразличных глаз.
Кадры остановившихся у витрин людей волновали Вертова.
Они казались символичными.
В них был отзвук сложных противоречий времени.
Страна набиралась сил.
Но голодало Поволжье. Охватив многие губернии, голод поедал целые деревни.
Последствия интервенции и гражданской войны, дыша в затылок, мчались по пятам.
В вертовском архиве сохранился отрывок из его стихотворения «Рты у витрин». Оно написано во второй половине двадцать первого года. В нем есть не только своеобразный словесно-ритмический отбор. Оно по-своему передает остроту вертовских ощущений, внутреннюю напряженность переходного времени.
Поле
голо.
Тел
метелица.
Год
тельцем
в гроб
лег.
Го —
— лод
до —
— лог.
Горы
горя.
Город
радугой.
Горем
горю
городам
в упор.
Нэп! Твою — кафэ — катафалк,
Конфект и фиалок фиакр!
Детского крика — осколок в кадык!
Торты-то из горла вытащи!!
Рты у витрин.
Но Вертов не только писал стихи.
Третий номер журнала «Кино-Фот» за 1922 год сообщал: в мае по заданию МК РКП (б) была проведена кампания по борьбе с голодом, самое деятельное участие в кампании приняло Бюро кинопередвижек ВФКО, за проделанную работу руководителю Бюро Вертову Московским комитетом партии объявлена официальная благодарность.
Через несколько дней, 5 июня 1922 года, Вертов выпустит первый помер журнала «Кино-Правда». Его откроет надпись во весь экран: «Спасите голодающих детей!!!»
Вслед за надписью пойдут кадры детей, снятых на станции Мелекесс: истощенные ребята роются в помойке, рыдает, еле держась на ногах, ребенок. И снова — надпись, на этот раз не призыв, не клич: «Спасите!..», а житейски простая, но испепеляющая фраза: «Нет больше сил».
Не было сил у страдающих, гибнущих детей.
Не было сил у взрослых смотреть на их страдания и гибель.
Спасите!..
Крайняя заостренность вертовских ближайших художественных манифестов, статей, полемических выступлений, целый ряд сюжетно-тематических линий его ближайших фильмов во многом будут продиктованы чувством резкого неприятия мелкобуржуазной нэпманской идеологии.
Вынужденную в условиях нэпа необходимость шага назад для будущего генерального рывка Вертов трезво осознавал.
Со всей страстью Вертов отвергал не смысл повой политики, а тех приосанившихся манекенов, что с гибкой элегантностью одеревенели в истоме обывательского уюта.
Нэп еще только разворачивался, а Вертов уже всей кожей чувствовал, что наступают не простые времена для искусства, которому он начал отдавать всего себя без остатка.
Манекены становились обладателями далеко не копеечной мошны. Они будут платить, и хорошо платить, лишь бы заказывать музыку.
Конечно, определять заказ будут не только они.
Новоявленные толстосумы постоянно чувствовали шаткость свалившегося на них благополучия. К тому же государственная власть и партия не упускали случая напомнить, что нэп есть лишь временное отступление. А от этого заказывать музыку, не жалея затрат, хотелось еще больше и как можно скорее, чтобы не пропустить своего часа.
И, конечно же, музыка должна была быть только такой, которая помогала уйти от зыбкости (несмотря на хруст зажатых в кулаке купюр) повседневного бытия.
Документальный кинематограф, так грубо, так невежливо напоминавший им с фактами в руках об обыденной действительности, а главное — о набирающих силы, о неуклонно крепнущих ростках новой жизни, которая в конце концов неминуемо сметет их лихорадочное счастье, — на что им такой кинематограф?!
Они его освищут.
Пойдут на него в атаку.
Запугают прокатчиков своей непосещаемостью, а прокатчики далеко не всегда сумеют удержаться от желания выручить лишний рубль ценой уступок частнособственнической идеологии. Материальный доход всегда определить быстрее и гораздо проще, чем моральный ущерб.
Строгая самоотреченность и бескомпромиссная ясность позиций в эпоху гражданской войны не требовали программных деклараций.
Программа декларировалась участием в борьбе по ту или иную сторону линии фронта.
Вряд ли случайно, что вариант первого манифеста, написанного в девятнадцатом, был опубликован Вертовым в двадцать втором, положив начало его постоянным выступлениям в печати.
Кончилась война, пришел нэп, когда черты социальной многоукладности стали проявляться особенно выпукло.
Сама ситуация потребовала от Вертова в преддверии новых начинаний заявить о своих пристрастиях и намерениях.
Она также требовала решительно отмежеваться от всего того, что могло помешать. Не только лично ему, Вертову, но прежде всего развитию подлинно революционного кино.
Время ранних программных заявлений Вертов называл периодом, когда надо было заставить других слушать себя.
Это ему удалось.
Его услышали.
И еще как!..
Назвав свой первый манифест «МЫ», Вертов напечатал его в первом номере журнала «Кипо-Фот» за 1922 год.
Читатель журнала, наткнувшийся на манифест, оказывался с маху втянутым в кипящий водоворот восклицательных знаков, вразрядку набранных фраз, непривычных красных строк и таинственных словосочетаний, начиная с самого первого — киноки: «МЫ называем себя киноками!!!»
Что за киноки?
Откуда они свалились?
С какой крыши их сдуло и каким ветром принесло?
Толком ничего нельзя было попять.
Легко вообразить, что к концу чтения у ошарашенного читателя стекленели глаза. Многие слова сыпались на него, как удары.
Бесцеремонно цеплялись и приставали.
Дергали и бесили.
Они бесили не отсутствием смысла, а отсутствием здравого смысла.
Чем же еще можно было объяснить всесокрушающее желание несомненно обезумевших киноков смести с лица земли старую «кинематографию», которую они упоминали только в кавычках, а заодно и вообще все, что существовало до них?
Призывы к этому киноки начиняли словами, от которых стыла кровь и леденели конечности.
Мы объявляем старые кинокартины, романсистские, театрализованные и пр. — прокаженными.
Не подходите близко!
Не трогайте глазами!
Опасно для жизни!
Заразительно.
Другое программное выступление Вертова «Киноки. Переворот», напечатанное годом позже в журнале Маяковского «Леф», отличалось большим спокойствием, обстоятельностью в изложении позиций, что не мешало словам нового манифеста мгновенно вспыхивать факельным пламенем, едва возникала необходимость отмежеваться от игрового кино.
Вы ждете того, чего не будет и чего ждать не следует.
Приятельски предупреждаю: не прячьте страусами головы.
Подымите глаза,
Осмотритесь —
Вот!
Видно мне
и каждым детским глазенкам видно:
Вываливаются внутренности,
кишки переживаний
из живота кинематографии,
вспоротого рифом революции.
Вот они волочатся,
оставляя кровавый след на земле,
вздрагивающий от ужаса и отвращения.
Все кончено.
— Все кончено? — испуганно спрашивала девочка.
— Как бы не так! — успокаивал ее до крайности взбешенный парниша.
Нет-с и нет-с!!
Внутренностями, кишками там всякими нас не проймешь, кровавым следом не запугаешь.
Как это кончено, если томные страсти, томные поцелуи в кружке диафрагмы, томные руки, сплетенные объятиями, томное то да томное се с такой приятностью соответствуют томлению нашего духа?! Так тают, так тают в душе, будто засахаренные листья лотоса во рту, — ах ты, боже мой!
Ну, ладно, тебе не нравится — ну и скажи просто, по-человечески, как между людьми.
А то:
— Не трогайте глазами!
Каково?..
Разве глазами трогают? Ребенку известно: трогать можно только руками. А глазами смотрят, понимаешь, смотрят, черт тя дери!..
Хорошо еще нашелся веселый человек, критик и режиссер Анощенко, хоть объяснил, что такое киноки. Оказывается, вовсе не киноки, а «кинококки» — «современная разновидность бактерии футуризма…».
Тут нам все понятно. И про бактерии. И про футуризм. Как не знать? Маяковский же, тоже горлопан порядочный.
Ну и пусть они себе горлопанят.
А мы с тобой, Жоржик, вот что сделаем: надень-ка, ласковый мой, на свою брильянтиновую голову любимое канотье, я же, кыска твоя нежная, обовьюсь чернобурочкой, пойдем до Страстной, в «Ша Нуар», возьмем билеты на лучшие места, купим коробочку монпансье, уютно прижмемся друг к другу в темном зале и, набив рот разноцветными сладкими стекляшечками, уставимся на экран. Трогать глазами не будем, не дай бог, пусть трогают (или не трогают) те, кто об этом болтают. Будем глазами смотреть.
А в самые жуткие моменты я буду хватать твою взволнованно потеющую ладонь и горячо шептать тебе на ухо, сося ландриночку «Ноблес» фабрики «Большевик»:
— Посмотри, посмотри, Зорзик, как их муцают.
Леденцы «Ноблес» и фраза о «Зорзнке» взяты из заметки О. Брика в «Советском экране», автор негодовал против политики проката, который раскрыл любовно объятия навстречу нэпманскому зрителю. Заметка написана в 1925 году, но впервые «Зорзик» по-настоящему зачастил в «киношку» с 1922 года, как раз тогда, когда Вертов опубликовал манифест «МЫ».
Читатель манифеста приходил в себя долго.
А придя, долго хранил его в памяти. Некоторые из читателей припоминали Вертову первый манифест и десять, и двадцать, и двадцать пять лет спустя (а то и через десятилетия после его смерти).
Понемногу Вертов стал от него даже открещиваться.
В 1932 году он посчитает нужным напомнить, что это был не манифест, а всего лишь вариант манифеста, что он не стал точкой зрения киноков, назовет его «грехом молодости», правда, тут же подчеркнув, — на фронте почти ненационализированной, буржуазной игровой кинематографии. Позже Вертов не раз повторит: рассматривать все его последующее творчество только сквозь очки ранних манифестов неверно.
И он будет, конечно, нрав.
Но прав с одной оговоркой.
Вряд ли справедливо утверждение (даже если оно принадлежит самому Вертову), что манифест «МЫ» вообще не стал точкой зрения киноков. Он не стал их окончательной точкой зрения. В дальнейших выступлениях она расшифровывалась и постоянно углублялась, приобретала логическую ясность.
Но почти все основные линии, по которым в дальнейшем шлифовалась позиция киноков, сошлись в первом же манифесте.
Одни из них с самого начала провозвестнически устремлялись в будущее.
Другие требовали довольно-таки решительного очищения от шелухи поверхностных предсказаний.
Третьи, несмотря на воинственный словесный наряд, заранее были обречены на то, чтобы уйти рано или поздно в песок.
Манифест «МЫ», не став окончательной точкой зрения киноков, стал, несомненно, их отправной точкой зрения.
Поэтому отречься от него не составляло никакого труда. То, что было сказано вначале, во многом повторялось потом, только с большей убедительностью.
— Из ничего ничего нельзя сделать, — говорили древние.
Не будь каких-то ранних, еще не до конца сформулированных, недосказанных мыслей, не было бы последующих отточенных и глубоких выводов. Тем более что не только в окончательных, но и в отправных своих точках позиция Вертова была во многом принципиальной и верной. Но с годами ранние манифесты стали его действительно смущать.
Стремясь заставить слушать
себя, Вертов выбрал вполне в духе того времени для первого программного заявления обостренную словесную форму, в ней основные его мысли находили предельно концентрированное выражение. Такая концентрация, отжимая главное, игнорировала частности. А они-то, и только они, могли проложить путь к ясному пониманию главного.
Вертов расшевелил читателей, вывел из спокойного состояния. Но слишком добиваясь одного, упускал другое: услышав его, читатели далеко не всегда получали возможность расслышать все до конца, во всех деталях.
Манифест декларировал самые крайние точки вертовской позиции. Свои размышления, уже накопленный опыт Вертов втиснул в железные тиски им же изобретенных терминов — «киногаммы», «электрический человек», «интервалы», те же «киноки». Он-то знал, какое сложное многообразие стоит за этими крайностями, но в тот раз не донес его до читателей. Им доставалось лишь то, что лежало на поверхности.
По прошествии лет Вертов не мог не почувствовать, что его уверенность в правоте избранного пути здесь порой походила на самоуверенность. К тому же некоторые уверенно высказанные теоретические положения с годами были не менее уверенно разрушены кинематографической практикой.
Манифест интересно читать сегодня, Вертов снова заставляет слушать.
И так же, как в те годы, сегодняшнему читателю не легко прийти в себя.
Однако в наши дни разобраться в манифесте в конце концов гораздо легче — он разъясняется последующими вертовскими высказываниями.
В главном Вертов не уступил ни грана.
Естественно, процесс обучения, постоянного преодоления, восхождения на новую ступень всегда присутствовал в вертовской жизни.
— Я все еще учусь. Многие другие не учатся, а учат. Уже все знают.
Но плодотворность обучения предопределялась тем, что обучение протекало не на ошибочной, а вполне здоровой основе.
На безошибочности главного, не исключающей целого ряда побочных заблуждений.
Когда вертовское отрицание игрового кино в виде обилия мещанских по своему духу картин в подтексте (а порой и в тексте) переходило в отрицание игрового кино вообще, то из такого сражения с ветряными мельницами ровным счетом ничего не могло родиться.
Исход сражения был предрешен. Повиснув на вращающемся мельничном крыле, Вертов в конце концов растирал руки в кровь и, срываясь, разбивал лицо о камни.
А мельницы спокойно продолжали вращать свои лопасти, жернова перетирали зерно, мука ссыпалась в мешки, можно было печь хлеб.
Хлеб испекался разных сортов, но это был — хлеб.
Когда же Вертов яростно отрицал главным образом массовый коммерческий киноширпотреб, то из этого совершенно безошибочного отрицания выросло очень многое.
Борьба с игровым кино так часто ставилась Вертову в вину, что в шумной суматохе нередко даже справедливых нападок на него как-то затерялось одно исторически небезразличное обстоятельство.
В первой половине двадцатых годов было не много людей, сделавших больше, чем этот рыцарь документального кинематографа, для того вида киноискусства, в поход против которого он сам же протрубил сбор.
Сокрушая своим рыцарским мечом бутафорские страсти, бутафорские характеры, бутафорские сюжетные ситуации, вообще экранную бутафорскую жизнь, Вертов не отбил охоту к игровому кино у тех, кто вот-вот собирался начать в нем работать.
Показывая же в своих ранних журналах и фильмах невыдуманную революционную действительность, новый быт в его первородной документальной фактуре, Вертов утверждал новую суть и новую стилистику экранного зрелища, подсказывая некоторые направления, плодотворные и для игрового кино.
Конечно, не он один, хроника вообще. Но он — в первую очередь.
Сам Вертов это в полной мере не оценил.
Он обрушился на первые ленты Эйзенштейна, на «Стачку» и «Броненосец „Потемкин“», считая их ненужной подделкой игрового кино под хронику. Подражанием, мешающим развитию собственных выразительных средств игрового кинематографа.
Это была жестокая ошибка, из которой, разумеется, тоже ровным счетом ничего не родилось.
Но это была ошибка субъективной оценки происходящих в кино процессов. Она не могла поколебать того объективного факта, что стилистика документальных лент Вертова прямо влияла на хроникальную стилистику первых эйзенштейновских фильмов, открывших эпоху в советском и мировом киноискусстве.
Эйзенштейн и Вертов будут не раз сходиться в резком споре.
Иногда спор будет приводить к более углубленному осмыслению кинопроцесса. Но нередко на ошибки Вертова в оценке эйзенштейновского метода Эйзенштейн будет отвечать ошибками в оценке метода Вертова. Тем все закончится.
А исток ошибок окажется общий — уверенность, что пути нового революционного кинематографа лежат в русле исканий лишь одного из них и не могут лежать в русле исканий другого.
Но тут, наверное, существует какая-то своя логическая неизбежность. Великие художественные открытия не совмещаются с благодушной всеядностью. В чем-то приходится идти до конца.
Это не мешает возникновению между изобретателями более сложных личных отношений, чем может представиться поверхностному взгляду.
При резкости расхождений, бесстеснительности в выборе слов, когда нападение рассматривалось как лучшее средство самозащиты, понимание взаимных масштабов и уважение друг к другу, как правило, сохранялось.
Советское игровое кино в двадцатые годы рождалось и из приятия Вертова и из резкого спора с ним. Но его творческие открытия оказались плодотворными для дальнейшего развития искусства экрана.
Мельницы, перетирая зерно, превращали его в муку, а тесто для выпечки первых хлебов самого высокого сорта всходило на дрожжах той яростной полемики, которую затеяли и Вертов и другие сторонники документального кинематографа.
Где-то изначально в той или иной мере наше кино вышло из вертовской киноправды.
Многие современники Вертова не могли уйти от этого факта уже тогда — в двадцатые годы.
В феврале 1927 года, во время триумфального успеха фильма Вертова «Шестая часть мира», седьмой номер журнала «Советский экран» опубликовал дружеский шарж художника Лавинского. На нем был изображен памятник Вертову.
В рубашке с закатанными рукавами, в галифе, заправленных в краги, Вертов держал на руке земной шар, обращенный к нему «шестой частью мира», Страной Советов, он ее пристально рассматривал. Одной ногой Вертов стоял на постаменте памятника, а другой как бы попирал небольшое возвышение из двух кинокадров на пленке. В первом кинокадре юная пара в лихорадочном нетерпении тянула губы навстречу друг другу, во втором один джентльмен направил пистолет в грудь другого, который в соответствии с ситуацией поднял руки вверх. Оба кадра олицетворяли наиболее характерные моменты целлулоидных страстей.
На постаменте была выбита надпись: «Дзиге Вертову от благодарной художественной кинематографии. 1927 г.»
Через два года «Советский экран» поместил карикатуру художника В. Нинемяги: представительница того отряда домашних животных, про которых сказано: «рыльца — пятачками, хвостики — крючками», подрывает пятачковым своим рыльцем могучий дуб. Раскидистые ветви дуба составили названия картин, снятых к тому времени Вертовым, а надпись на широком стволе «Кино-Глаз» означала, что ветви выросли из теоретической основы, которую Вертов определял сочетанием этих двух слов. Чтобы у читателя не возникало никаких сомнений, на упитанном боку хрюшки тоже красовалась надпись: «Игровая кинематография».
Нетрудно догадаться, что рисунок сопровождали раздраженные сетования дедушки Крылова.
Когда бы вверх
Могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди
На мне растут.
Шаржи не были случайными.
Они аккумулировали мысль, которая с тех или иных позиций уже обсуждалась на страницах кинематографических изданий.
Однако поднять голову к ветвям дерева игровая кинематография не спешила.
Шарж предлагал проект памятника, намекая на то, что «благодарной игровой кинематографии» пора бы, правильно оценив ситуацию, выразить свою признательность.
Но (за редчайшим исключением) с благодарностью она тоже не торопилась.
Дело было, разумеется, не во взаимных любезностях, не в соблюдении светских приличий, а в более точном осознании движущих сил кинематографа.
Вертов называл себя и своих соратников детьми Октября, а свои фильмы — Октябрем в кино, и опять же был прав.
Эйзенштейн, отмечая своего единственного предшественника — вертовский журнал «Кино-Правда», писал, что Октябрь в кино — это «Стачка».
Он тоже был прав.
Фразу о «Стачке» как Октябре в кино Эйзенштейн выделил разрядкой.
Спор шел о приоритете — кто лучше?
А лучше были оба.
Впрочем, спор шел не о приоритете имен или отдельных фильмов, а о методах, направлениях, которые персонифицировались в именах и фильмах.
Оба направления были лучше.
То и другое стимулировало рост новой кинематографии — и в рамках собственного развития и на внутренних путях взаимоконтактов.
Это становилось все более очевидным, но становилось очевидным постепенно (иногда очень постепенно).
Не случайно в одном из своих выступлений в самом начале 1929 года, тогда, когда на страницах журналов и газет атаковывалось посягательство Вертова на незыблемые основы игрового кино, он, отвечая на вопрос, почему киноки против игровой кинематографии, решил поставить точки над к «Я не знаю, кто против кого. Против игровой кинематографии выступать трудно. Там 98 % всего мирового производства».
Горячность сменялась трезвым пониманием реальных процессов.
Представители игрового кино в дальнейшем будут не раз выражать свое искреннее восхищение по поводу отдельных фильмов и отдельных открытий документального кино, будут в то или иное время с удовольствием в нем работать, такое сотрудничество принесет свои достойные плоды.
Вертов к восхищенным признаниям относился сдержанно.
Он понимал, что признание отдельных фильмов и открытий еще не означает уравнения в правах, получения одинаковых условий производства и проката.
Вертов видел, как много делается для развития документального кино.
К концу тридцатых годов в стране сложилась мощная сеть студий кинохроники с объемом регулярно выпускаемой продукции, не имеющим аналогии за рубежом.
Но Вертов также видел, что при всем том не отправилась на заслуженный покой традиция, которая порой рассматривает документальное кино в основном как своего рода «довесок» к игровому кинозрелищу. Как то, что дается ему впридачу.
На протяжении почти всей жизни Вертов будет предлагать подробнейшие проекты новых организационных форм создания документального фильма. То это будет проект организации «опытной станции», выдвинутый в начале двадцатых годов, то проект специальной «фабрики фактов», предложенный в середине двадцатых годов, то схема «творческой лаборатории», к идее которой он неоднократно возвращался во второй половине тридцатых годов.
Проекты, сопровождаемые аккуратно вычерченными с помощью линейки и циркуля схемами и диаграммами, казались прожектерскими, вздорными, ненужными, пугали многостраничностью и утомляли детализацией.
Зачем все это, когда дело вроде бы и так поставлено не плохо?
Но Вертову хотелось, чтобы дело не столько хорошо стояло, сколько хорошо двигалось дальше. Его проекты устремляли документальное кино вперед. Многое в этих проектах теперь представляется чрезвычайно актуальным.
На читателей манифеста «МЫ» обрушивался еще один воинственный клич. Наряду с ясно поставленной целью «ускорить смерть» старой игровой кинематографии он вызывал у многих особенный гнев.
Гнев, во всяком случае на первый взгляд, был справедливым от начала и до конца.
Еще бы!
МЫ приглашаем:
— вон —
из сладких объятий романса,
из отравы психологического романа,
из лап театра любовника,
задом к музыке,
— вон —
в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями
(3 + время), в поиски своего материала, своего метра и ритма.
«Психологическое» мешает человеку быть точным, как секундомер,
и препятствует его стремлению породниться с машиной.
Слова били прямо в темечко, поражая читателя наповал.
Но едва ли не самое поразительное в этих словах заключалось в призыве:
— Задом к музыке!..
К этому призывал человек, наделенный (о чем большинство читателей не подозревало) незаурядными музыкальными способностями, посвятивший своему любимцу Скрябину самые пылкие поэтические строки. Рассказывают, что если Вертову тот или иной скрябинский отрывок впервые наигрывали пальцами на столе, то он, внимательно прослушав, тут же воспроизводил его на рояле.
С начала двадцатых годов желание смести старое классическое искусство громогласно декларировалось чуть ли не на каждом перекрестке. С корабля современности предлагалось в самом срочном порядке сбросить то театр, то музыку, то живопись, то балет (с балетом хотелось бы особенно поспешить), то Александра Николаевича Островского (с ним тоже особенно тянуть не рекомендовалось), то Александра Сергеевича Пушкина.
В своих ранних заблуждениях Вертов не был одинок. Но (что не менее важно) он не был одинок, когда утверждал необходимость поиска форм фактического отражения действительности для становления нового кинематографа в условиях становления новой культуры.
Сбросить Пушкина призывал, как известно, Маяковский — ситуация, аналогичная вертовской: Маяковский был влюблен в поэзию Пушкина, мог читать на память «Евгения Онегина» главу за главой.
Первомайский номер журнала «Леф» за 1923 год опубликовал написанные Маяковским призывы к единению левого фронта искусства, в призывах режиссеры именовались «так называемые режиссеры», поэты — «так называемые поэты», художники — «так называемые художники».
Это говорил поэт, постоянно писавший для театра, для режиссеров и бывший по первоначальному призванию (и образованию) художником.
Вскоре он напишет книжку с объяснением «как делать стихи?»: нужно накапливать лирические заготовки (на улице, в трамвае, ночью при бессоннице, везде), постоянно вырабатывать чувство ритма, выстраивать строки «лесенкой» и т. д.
Маяковский знал: можно объяснить, как делать стихи.
Но из книжки хорошо видно, что объяснить, как творится поэзия, не мог даже Маяковский.
Стихи можно делать и не будучи поэтом.
Но творить поэзию, не будучи поэтом, нельзя, даже если поэта именовать «так называемым».
Это Маяковский тоже знал. Знание зиждилось на большой поэтической культуре.
Разрушители благоговейно охраняемых художественных реликвий сходились даже во фразеологии. Вертов тоже писал — «так называемая кинематография», «так называемые режиссеры». А самым ругательным было слово «романс», им обобщенно клеймилась обывательщина, ее дух вползал не только в повседневный быт, но и в искусство.
Ниспровергателями часто оказывались почти мальчики — семнадцати, восемнадцати лет, не многим более двадцати.
И тот 1922 — год, когда был опубликован манифест «МЫ», свою платформу изложили будущие кинематографисты, объединившиеся в группу под названием ФЭКС — Фабрика Эксцентрического Актера.
Один из организаторов ФЭКС — семнадцатилетний Григорий Козинцев — объяснял интересующимся, что гудки, выстрелы, стук пишущих машинок, свистки, сирены — это и есть эксцентрическая музыка и что начало нового ритма — чечетка. «Двойные подошвы американского танцора нам дороже пятисот инструментов Мариинского театра».
Другой организатор — двадцатилетий Леонид Трауберг — предупреждал: если на них попробуют насильно натянуть калоши (которые служат теперь признаком зажиточности и хорошего тона и в которых сегодня зашагали все: люди, вещи, идеи, театры), то эксцентрическая калоша сорвется с ловкой ноги и полетит «в кривые рожи достойных».
Третий зачинатель ФЭКС — семнадцатилетний Сергей Юткевич — выражался в том же духе:
«Изделия фирмы „Искусство“ не годны к употреблению.
Все должны убедиться:
Лучшая фирма в мире — „Жизнь“.
Остерегайтесь подделок!
Жизнь нужна нам, надо сделать, чтобы мы были нужны жизни».
Удивительное дело: впереди тех, кто потрясал пьедесталы искусства (разумеется, «старого»), шли молодые люди, взращенные искусством (и, разумеется, прежде всего «старым», так как нового еще не существовало).
Впитавшие искусство чуть ли не с материнским молоком.
На мыслящие вне искусства своего существования.
Достаточно сказать, что «фэксами» очень интересовался Эйзенштейн, принимал участие в их начинаниях, для чего приезжал в Петроград.
Мальчики быстро прослыли необыкновеннейшими задирами.
Но задиристость, фрондерство, эпатаж не служили, как это нередко бывает, прикрытием верхоглядства, темной доморощенности. Несмотря на молодость, они уже были прекрасно образованны. Недаром эти мальчики, как многие другие из их поколения, шумно возвестившие инфляцию старых культурных ценностей, впоследствии оказались в авангарде передовой культуры века и, кстати говоря, взяли на себя сохранение и развитие традиций культуры прошлого.
Но почему же в ту пору именно они вступили на путь несомненного самоотречения, причем вступили без всякой тоски и надлома — весело, задорно, дерзко?
Почему, например, именно Сергей Юткевич, преданный живописи, уже замеченный театральный художник, в своей декларации 1922 года утверждал, что старая живопись умерла, ей на смену должны идти лубок, плакат, уличная реклама, моментальные шаржи и карикатуры, и утверждал с той же страстью, с какой влюбленный в музыку Вертов предлагал повернуться к ней задом?
Ответов существует немало, они даны теми, кто сам пересекал эту буферную полосу между старым и новым искусством, а также исследователями их творческих судеб.
В этих объяснениях есть и утверждение новаторских путей, ему всегда сопутствует отвержение пройденных дорог. И известное воздействие распространившихся тогда ошибочных «пролеткультовских теорий» создания новой культуры, вполне свободной от духовных богатств, накопленных человечеством.
Но среди этих (и ряда других) причин есть одно обстоятельство, на которое меньше обращалось внимания, а оно-то как раз прямо связано с высоким, как бы теперь сказали, культурным уровнем многих молодых сокрушителей.
Великое классическое искусство они знали так же хорошо, как и то, что это искусство на протяжении веков не сделало широкие массы счастливее. Служа «верхним десяти тысячам», оно не оказывало решительных изменений в бедственном положении миллионов и миллионов людей. Искусство не делало жизнь этих миллионов сытнее, грамотнее, чище, они просто-напросто его не знали.
Пришел Октябрь, и не художники, мнившие себя не раз всемогущими богами, вознесенными над толпой, а рабочие, мужики из бесчисленных медвежьих углов России, солдаты совершили то, что обещали поэты, — распахнули врата царства свободы.
Искусство обязано было спуститься на землю. Оно должно было не только стать доступным миллионам. Оно должно было помочь им выбиться из нищеты, преобразить их повседневное существование, их быт, закрепить завоеванные свободы.
Частый спутник революционного порыва — нетерпение.
Вместе с революцией в глаза заглянуло «светлое завтра».
Сияние было ослепительным. Это не всегда давало возможность во всех деталях разглядеть контуры завтрашнего дня. Но свет привлекал к себе великолепием перспектив, хотелось делать все, чтобы ускорить приход грядущего.
Россия начала на невиданных скоростях рваться вперед.
Художники отрекались от старых классических форм искусства и предлагали взамен более, как казалось, действенные во имя непосредственного соучастия в этом штурмующем небо порыве.
Впервые искусство получало возможность служить не десяти тысячам, а миллионам.
Оно обязано было стать непосредственно воздействующим и немедленно воспринимаемым. «Высокие» жанры должны смениться «низкими», площадными. Фэксы поклонялись цирку, аренному трюку. Основой краеугольного теоретического положения Эйзенштейна служил термин, взятый тоже из циркового лексикона — «аттракцион» («монтаж аттракционов»). Юткевич призывал к «бульваризации» всех форм вчерашней живописи. Вертов утверждал, что «психологическое» только мешает.
Все это объяснялось нетерпеливым стремлением немедленно внести свою лепту в общий бег времени. Лепту не столько духовную, а как бы материальную. Способствующую реализации насущных и даже утилитарных потребностей дня.
Сладкозвучные рулады не годились для борьбы с грязью, от которой предстояло отмыть Россию. «Поэзия — обрабатывающая промышленность», — басом провозглашал Маяковский на диспуте в Политехническом музее 19 декабря 1920 года.
Чахоткины плевки можно было слизывать лишь шершавым языком плаката.
И только таким, плакатным, языком можно было осуществить то, о чем писал в своем манифесте Вертов, — породнить человека с машиной. Влюбить, как говорил Вертов, человека в технику, ведь она была силой, способной преобразить жизнь.
Восторг перед техникой, охвативший очень многих молодых (и не только молодых) художников, тоже подогревался стремлением поставить художественный процесс в один ряд с производственным. С тем, который призван создавать материальные ценности, непосредственно влияющие на уровень жизни широких масс. Искусство жаждало участвовать в этом процессе. Как тогда говорили, участвовать в жизнестроении.
— Жизнестроение вместо жизнеописания, — формулировал задачу Маяковский, и эта формула, пожалуй, точнее всего объясняет суть спора, затеянного художниками нового времени со своими предшественниками.
Фэксы назвали свою мастерскую не как-нибудь, а — фабрика.
Эйзенштейн радовался, что цирковой термин «аттракцион» так удачно соединился с производственным термином «монтаж».
Свой первый манифест Вертов не случайно опубликовал в журнале «Кино-Фот», возглавляемом убежденным конструктивистом Алексеем Ганом.
Конструктивизм был явлением сложным, путаным и противоречивым.
Одно несомненно: он в какой-то мере отражал предельно раззадоренную революцией тягу вчера еще темной, отсталой, замордованной России к техническому прогрессу.
Вертовский манифест пел гимн технике, ее пластичности, ритму, точности ее движений.
Да здравствует динамическая геометрия, пробеги точек, линий, плоскостей, объемов,
да здравствует поэзия двигающей и движущейся машины, поэзия рычагов, колес и стальных крыльев, железный крик движений, ослепительные гримасы раскаленных струй.
Восхищение было столь велико, что машина прямо называлась главным объектом внимания.
Стремление Вертова влюбить человека в машину не являлось для него холодно рассчитанной, умозрительной целью. Он сам был безмерно влюблен в технику, восхищался ее киногеничностью, вместе со своими соратниками-операторами снимал плотины электростанций, заводские пейзажи, доменные печи, шахты, работающие станки, летящие локомотивы.
В своем преклонении перед техникой он был мудр и наивен.
Но то и другое отражало желание активно участвовать в жизнестроении (или, как еще иногда говорил Маяковский, в искусство-строении жизни).
Искусство искало способ материализации творческих идей в некие овеществленные формы. Промышленные изделия оно создавать не могло. Но конструктивизм открывал возможность участия в создании изделий, преобразующих одну из самых прокопченных сторон дореволюционной русской жизни — быта.
Наряду с созданием огромного макета памятника III Интернационалу театральными постановками Татлин создавал проекты рабочих кресел, прозодежды. Этим занимались и многие другие художники. Через десятилетия из подобных занятий выросла целая отрасль человеческой деятельности — техническая эстетика, дизайн.
Использование новых вещей, предметов повседневного обихода находилось в то время в центре постоянного обсуждения.
Новый быт объявлял войну старому.
Войсками сражающихся сторон выступали новые вещи (простые, удобные для работы и отдыха) и старые (громоздкие, пышные и, конечно же, располагающие в основном к неге и сладострастию).
Новые вещи хорошо организованным, дружным наступлением должны были принудить старые к капитуляции.
Спор шел о вещах: что надевать и в чем ходить? Как обставить жилье, чтобы в него не проник дух обывательского существования?
При этом спор носил более возвышенный, чем реальный, характер. Нетерпение революционного порыва снова обгоняло имеющиеся возможности. Спор, чем обставлять жилье, шел как раз в то время, когда его обставить ничем другим, кроме вещей старых, нельзя было. Они существовали в реальности, а новые — в проектах. Чертежи отличались законченностью и вкусом, но осуществить их, тем более в массовом масштабе, страна не имела сил.
Пузатые, красного дерева дворянские комоды, многоэтажные буфеты, похожие на Собор парижской богоматери, необъятные «куртизанские» кровати, столы с витиеватыми ножками устояли перед всеми социальными бурями и, невзирая на презрение к себе новых поколений, еще долго служили людям, хотя какая-то ножка могла уже и подломиться (ее подклеивали, подбивали гвоздиками, в конце концов подвязывали веревками), из каких-то дырочек могла сыпаться труха, а в ночной тиши коммунальных квартир, охваченных глубоким сном граждан, слышалось потрескивание — пиршествовали древесные жучки.
Быт был труден, захламлен старьем.
С тем большим нетерпением хотелось создать свой собственный стиль.
Поэтому вещь (пусть в проектах) шла на вещь.
Если бы в то время существовал тип мебели, получивший распространение спустя несколько десятилетий, то можно было бы сказать, что вещь шла на вещь, «стенка» на «стенку».
Выступая 15 июля 1924 года на диспуте «Искусство и быт», Вертов говорил, что его интересует тема: «Быт и организация быта», так как киноки работают именно в этой области и ставят перед собой ближайшую задачу: с одной стороны, улавливать хруст старых костей быта под прессом Революции, с другой — следить за ростом молодого советского организма, сводя отдельные характерные жизненные явления в целое, в экстракт, в вывод.
Но все своеобразие спора о быте, о вещах заключалось в том, что дело было вовсе не в вещах, — в отношении к ним.
Не в стиле одежды, а в стиле жизненного поведения.
Не в материальных выражениях быта, а в духовности бытия.
На благодушном лице того или иного гражданина могла легко обнаружиться презрительная насмешка мещанина, независимо от того, был ли на нем смокинг, или пиджак, или мягкий полувоенный френч.
Ибо вся суть заключалась в другом.
«…И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо».
Вся суть заключалась в этом.
В том, что надо по совести.
Нетерпение революционного порыва возбуждало желание вытеснить старый быт новыми вещами как можно скорее, не медля ни секунды.
Но оказалось, что при всех экономических трудностях потеснить старые вещи новыми все же легче, чем вытеснить старый быт из сознания людей.
На смену нетерпеливому революционному порыву должна была неминуемо прийти тоже революционная, но кропотливая, долговременная работа по воспитанию нового мироощущения.
Утверждение не новых вещей, а новых социальных и нравственных идеалов предусматривало не плакат, не лубок, не цирковой трюк, а тончайшие способы психологического воздействия, свойственного самому высокому искусству. Растущая его необходимость помогала осознать, что и великое искусство прошлого, его демократические тенденции никогда не были безучастны к революционному слому. Не воздействуя прямо на миллионы, классическое искусство оказывало огромное влияние на их лучших представителей, по-своему помогало революционной идее овладеть массами и стать материальной силой.
Развенчание «пролеткультовских теорий» Лениным и партией вызывалось не потребностями академического спора. Эти «теории» вырастали на пути практического осуществления задач духовного преображения народа.
Ленинская критика «пролеткультовщины» и созвучных ей явлений помогла художникам найти верные ориентиры, найти себя, свое место в художественной культуре нового мира.
В своих исходных позициях революция не отвергала истинное искусство, а давала возможность сделать его доступным миллионам.
Она не отвергала и плакатные, площадные, митинговые, лубочные, «низкие» жанры. Но она решительно не принимала превращения их в единственные жанры и замены ими жанров классических, «высоких».
Интерес молодых художников к «низким» жанрам скоро приведет в различных видах творчества к своеобразнейшему слиянию с «высокими», что необычайно расширит жанровые границы и будет способствовать созданию нового в искусстве.
В искусстве, а не вне его.
Но это могло произойти лишь в том случае, если молодые ниспровергатели, предавая искусство анафеме, оставались при всей решительности заявлений всегда ему верны. Даже если сами не сознавали это.
Именно поэтому многие из них сравнительно легко и быстро пересекли буферную полосу между старым и новым искусством. Дальше они пойдут не по пути высокомерного отрицания классических традиций, а их новаторского переосмысления и развития.
Существо происходящего процесса, как всегда, быстрее и глубже других понял Эйзенштейн.
После выхода в январе 1925 года «Стачки», когда критика довольно небезосновательно проводила аналогии между стилистикой первой эйзенштейновской ленты и предшествующих ей картин, журнальных хроник Вертова, то Эйзенштейн, не отрицая известной схожести «во внешней форме построения», тут же поспешил отметить в статье «К вопросу о материалистическом подходе к форме» принципиальное, на его взгляд, отличие: «…„Стачка“ не претендует на выход из искусства, и в этом ее сила».
Прошли два-три года, наполненные творческой работой, размышлениями, и «блудные сыны» начали возвращаться в лоно искусства.
Возвращаясь, они уходили вперед.
Эйзенштейн возвратился скорее других.
Другие это сделали не столь быстро.
Вертов еще продолжал претендовать на выход из искусства, и Эйзенштейн точно угадывал «слабое» место его теоретических воззрений.
Но парадоксальность ситуации заключалась в том, что, претендуя в своих заявлениях на выход из искусства, в своей практике Вертов на это никогда не претендовал.
В связи с этим можно было бы сказать, что Эйзенштейн был прав только отчасти.
Однако он был прав полностью.
Потому что самое замечательное в его статье, спорящей с Вертовым, то, что вслед за словами о «Стачке», не претендующей на выход из искусства, из которых ясно вытекало, что Вертов и его группа претендуют на это, через два крохотных абзаца было написано буквально следующее: «Такое легкомыслие (отрицание искусства. —
Л. Р.) ставит киноков в довольно смешное положение, так как, формально разбирая их работу, приходится установить, что работы их о
чень и очень принадлежат к искусству (курсив наш. —
Л. Р.)…»
Правда, Эйзенштейн далее говорит, что у киноков искусство «примитивного импрессионизма», но это, как говорится, уже другой разговор. Об этом можно спорить.
Однако спорить в рамках искусства, а не вне его.
Противоречия были неизбежны по совершенно определенной причине: молодые ниспровергатели, широковещательно объявляя о своей готовности изгнать искусство отовсюду, так и не сумели его изгнать из самих себя.
Они не сумели изгнать искусство даже из тех манифестов, в которых они широковещательно обещали его изгнать отовсюду.
Молодецкие, с веселым гиканьем да устрашающим посвистом налеты на искусство почти во всех декларациях сопровождались темп или иными формами его утверждения. Наверное, это не замышлялось специально, получалось невольно.
Но можно ли найти лучшее подтверждение искренности, глубины и непрерываемости их связей с искусством, чем невольное утверждение того, что вольно отвергалось?
В вертовском манифесте «МЫ» между обилием громовых призывов ускорить смерть киноискусства и галантными приглашениями повернуться задом к музыке, ко всем прочим «одурманивающим человека» видам искусства, примазывающимся к кино, стояла фраза, которую в грохоте грозовых раскатов можно было и не услышать: «К синтезу — в зените достижений каждого вида искусства, но не раньше».
Вертов протестовал не вообще против слияния разных искусств в кино, а против преждевременного и механического смешения на экране, которое многие называли киносинтезом. Не театр, снятый на пленку, не романное киноповествование, не музыка как приложимый элемент сопровождения, а — подлинный синтез, и обязательно в зените достижений.
Под зенитом достижений он понимал то, о чем было сказано в следующем манифесте «Киноки. Переворот».
Основное и самое главное:
Киноощущение мира.
Не театральные, не музыкальные, не литературные ощущения как таковые, а все это — в синтезе киноощущений.
Киновидения.
Киномышления.
Короткая и незаметная фраза о синтезе легко могла прокатиться мимо сознания читателя первого манифеста.
Между тем весь творческий путь Вертова был отмечен не чем иным, как стремлением к синтезу разных видов искусств в зените киноощущения мира.
Не замечая этой фразы, но все чаще отмечая синтез в вертовских фильмах, читатели (включая Эйзенштейна), превращаясь в зрителей, дивились противоречиям между декларациями и практикой, ставящим Вертова в «смешное положение».
Противоречия, конечно, существовали, но не были столь однозначны и тем более смешны, как казалось.
Переходя к изложению своих принципов построения документальной киновещи, Вертов мимоходом замечал, что «каждый любящий свое искусство ищет сущности своей техники».
Вертов говорит о «своем искусстве», а не о чем-то другом.
Под своим искусством он понимал «искусство движения» (снова искусство, а не что-то другое) — мощную экспрессию, стремительный напор, напряженный ритм.
В этом отражались возрастающие темпы социальных перемен, все убыстряющийся бег времени.
Что же касается сущности техники «своего искусства», то здесь Вертовым прежде всего выделялась необходимость точной организации зафиксированных движений жизни, ее разнообразных мгновении. «Киночество, — писал он в манифесте „МЫ“, — есть искусство организации необходимых движений вещей в пространстве и, применив ритмическое художественное целое, согласное со свойствами материала и внутренним ритмом каждой вещи».
Фраза эта была важна для Вертова, он всю ее, с начала и до конца, напечатал разрядкой.
Как непрошеные гости, совсем не собирающиеся восвояси, опять затесались в нее слова «искусство», «ритмическое художественное целое».
Затесались не случайно.
В этой довольно-таки тяжеловесной фразе при внимательном и непредубежденном чтении можно было обнаружить еще одно «смешное» противоречие Вертова. Отрицая искусство, он самым неприкрытым образом призывал к художественной цельности.
Не только призывал — объяснял путь к ней.
По теории интервалов смысл запечатленного постигается не только из отдельно зафиксированных движений, а на переходах (интервалах) от одного движения к другому. «Слова», образующие кинофразу, рождаются не из кадров, а из их монтажных стыков.
Вода может быть горячей, может быть холодной. Но важна, объяснял Вертов в 1935 году в том самом докладе, где вспоминал о своих юношеских увлечениях по ритмической организации слышимого мира, не горячая вода и не холодная. Важен переход от горячей к холодной. Есть нота «до» и нота «ми», но дело не в нотах «до» или «ми», а в том, что возникает между ними в результате их столкновения.
Согласно вертовской теории, развитие фильма должно идти не по кадрам, а по равнодействующей этих кадров. По линии как раз того, что Вертов называл «интервалами».
Монтаж имеет значение не столько для воспроизведения реальной последовательности событий, сколько для последовательного развития мысли.
Важно не созерцание запечатленных картин, а их сопоставление, раскрывающее замысел. Каждый кадр сам по себе несет какой-то свой «текст», монтаж кадров должен направить мысль зрителя на выяснение «подтекста».
Выяснение подтекста, естественно, требовало, с одной стороны, образного мышления автора, а с другой — предполагало образное мышление зрителя. Но наличие такого мышления ведь есть не что иное, как характерная черта произведения искусства.
Шумно предав его анафеме, Вертов в наиболее серьезной части своего первого манифеста остался ему верен.
Но анафема, набатно колебля воздух, врезалась в уши. А преданность так «удачно» маскировалась конгломератом туманных, трудно воспринимаемых терминов, что заметить ее было почти невозможно. Непонятные термины лишь раздражали.
Манифест оказывал искусству и другие знаки внимания. То Вертов вдруг употребил не вяжущееся с призывами уничтожить старые жанры слово «кинопоэма», то вспомнил (ну, конечно, этого следовало ожидать) Скрябина. Раскрывая специфику кинематографического ощущения мира, Вертов говорил, что самый совершенный сценарий не может заменить записи действительности на пленке, так же как литературные разъяснения к произведениям Скрябина не дают никакого представления о его музыке.
Будь читатель менее возбужден и раздосадован, он наверняка бы задумался над этой ссылкой на композитора, да еще на столь тонкого и изощренного. Ему бы показалось небезынтересным сближение кинематографической специфики с музыкальной, если не забыть соседствующие призывы от музыки отвернуться.
Сближение странное, но не случайное.
— Не сценарий, а нотная партитура, — говорил Вертов и много лет спустя, когда заходила речь о предварительном словесном изложении содержания будущей лепты.
Истинное кино, как и музыка, не поддается словесному воспроизведению, считал Вертов. Кино надо смотреть, музыку слушать.
Ведь учился он не чему-нибудь, а «кинописи», умению писать не пером, а киноаппаратом.
Но сближал кино и музыку не только поэтому.
Использование для построения киновещей музыкальных форм с их относительно свободным слиянием в единое симфоническое целое разнообразных эмоционально-смысловых мелодий, линий, оттенков ему казалось гораздо более плодотворным, чем форм повествовательно-литературных с их традиционной фабульностью, зажатостью сюжетной интригой.
Последние самые знаменитые картины Вертова назывались «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине», «Колыбельная» тоже не случайно. Музыкальный жанр, упомянутый в каждом названии, соответствовал стилю и строю каждой ленты.
Это был синтез — в зените его, Вертова, достижений. А начало пути к синтезу в зените достижений было заявлено (пока без подробностей маршрута, в общем виде, по — заявлено) в том первом манифесте, где музыкальные формы, как и все остальные, предлагалось немедленно отправить в тартарары.
И все-таки самый глубокий прорыв в искусство сулило в манифесте самое непонятное и, казалось бы, совсем далекое от искусства слово, которым манифест открывался, — коротенькое слово «киноки».
Оно ужасно сердило читателей необъясненным лаконизмом, какой-то бессмысленной загадочностью, вызывало желание ответно дерзить и насмешничать. Это не преминул тут же сделать режиссер и критик А. Анощенко, когда в приливе веселого настроения пустил в оборот словечко «кинококки».
Новое дело можно искренне не понять и не принять.
Но для некоторых нет ничего сладостнее, чем над новым делом весело посмеяться.
Вертов справедливо полагал, что столь серьезно начатое им дело может рассчитывать на ответную серьезность обсуждения, где шутка тоже уместна, но не ради красного словца.
Художник, отстаивающий свой путь в искусстве, обычно лучше других знает, в чем его сила, и поэтому не хуже других чувствует свои слабости.
— Я — живой человек. И мне совершенно необходимо, чтобы меня любили, — говорил Вертов.
В восторженном и нетребовательном поклонении, не замечающем слабости, просчеты, ошибки, он никогда не нуждался.
Вертов говорил о любви, которая слабости замечает, совсем не стремится беспринципно их обойти и все-таки умеет быть снисходительной к ним.
Умное снисхождение к слабостям, поддерживающее силу, окрыляет художника, заражая новой энергией, щедро расходуемой в пути.
Вертов оставил в дневнике самоироничную, злую запись: на минуту представьте, что он умер, и вы увидите, как он талантлив.
Вертов был не прав, его талантливость очень многие поняли и оценили при его жизни.
Однако истинный масштаб личности еще только постигается.
Наверное, так уж мы устроены: для того, чтобы что-то приобрести, нам иной раз следует хорошенько понять, что мы потеряли.
А пока сила потери не ощутима, беззаботность может брать верх над снисхождением…
Назвав свою группу «киноки», Вертов вложил в это слово большой и продуманный смысл.
— Кинококки, разновидность бактерии футуризма, — озарился радостным открытием Анощенко.
Не правда ли — весело, задорно, смешно?..
Анощенко было весело.
А Вертову?..
Современники вспоминают, что в глубине вертовских глаз они нередко ловили оттенок печали. Этот оттенок можно уловить и в его фотографиях. Порой кажется, что печаль была не свойством настроения в отдельные минуты жизни, а свойством глаз.
Или свойством натуры.
Сам Вертов тоже любил посмеяться, говорил про себя: ведь я веселый человек.
Грусть таилась в глубине глаз, хотя для нее могло и не быть причин.
Но — могли и быть.
Одна из них, несомненно, вот эта: мне грустно потому, что весело тебе, как писал Лермонтов.
Не потому, что он не любил или не понимал шуток, а потому, что чаще продуманного и взвешенного смысла находил в них пустой, зубоскальный умысел.
Загадочные «киноки» в общем-то расшифровывались просто.
Они произошли от слияния двух слов: «кино» и «око».
Назвав группу объединившихся вокруг него кинематографистов «киноками», Вертов всю сумму своих теоретических воззрений и вытекающих из них практических методов чаще
всего определял формулой, состоящей из сочетания тех же слов — Кино-Глаз.
— «Кино-Глаз» или «кино-око». Отсюда «киноглазовцы» или «киноки», — вспоминая начало своего пути, объяснял в 1929 году Вертов.
Многим Кино-Глаз казался всего лишь эффектной, даже крикливой этикеткой, мало что выражающей по сути.
Но на самом деле это была формула предельно насыщенного раствора, вобравшего в себя все разнообразные элементы вертовского метода. Одновременно она обозначила две главные несущие опоры здания его теории — в виде сочетания двух слагаемых формул: «Кино» и «Глаз».
В формуле все было не случайным: и то, что Вертов в своих рукописях, как правило, писал оба слова с прописных букв, и то, что никогда не соединял их, но и никогда не разъединял, ставя между ними дефис.
Дело было не в спорности грамматического правила, а в бесспорной равнозначности для Вертова обоих слагаемых.
Каждое включало в себя определенную группу самостоятельных понятий.
Но высечь огонь могло только их двуединство.
Бесчисленные толки, сразу же возникшие вокруг Кино-Глаза, нередко превращались в кривотолки лишь потому, что толкователи выказывали пренебрежение тому или иному из слагаемых.
Стоило какую-то из опор убрать, искренне уверовать в ее отсутствие у Вертова, и тогда, конечно, не составляло трудности доказать, что возведенное им здание теории рушится на глазах, засыпая обломками распластанное тело своего создателя.
Однако обломки рухнувшей постройки опять же летели в кого угодно, но только не в Вертова.
Потому что с самого первого момента формулой «Кино-Глаз» обе опоры были Вертовым установлены фундаментально.
В каких-то случаях он мог делать больший акцепт на одной половине формулы, в каких-то — на другой.
Но не Вертова вина, что его акценты любили принимать за его однобокость.
Это не его вина и не его однобокость.
Он всегда помнил, что одно без другого не даст возможность высечь огонь.
А начало всему положил, конечно, прыжок с грота.
Вертов писал, что вначале Кино-Глаз понимался как рапидный глаз.
Замедленное на экране изображение прыжка, открывшее массу скрытых подробностей внутреннего состояния человека, закладывало первые основы теории Кино-Глаза.
В 1918 году, просматривая кинограмму своего прыжка, Вертов интуитивно почувствовал бесцельность во множестве случаев съемки, лишь имитирующей человеческое зрение. Такая съемка остается только средством фиксации и не может стать средством анализа действительности, визуального проникновения в невидимые обычным зрением процессы.
В 1923 году то, что интуитивно ощущалось пять лет назад, осмысленно провозглашалось в манифесте «Киноки. Переворот»:
Исходным пунктом является:
использование киноаппарата как Кино-Глаза, более совершенного,
чем глаз человеческий, для исследования хаоса зрительных явлений,
наполняющих пространство.
Вертов объяснял, что положение человеческого тела во время наблюдения, количество воспринимаемых человеком моментов того или другого зрительного явления в секунду времени вовсе не обязательны для киноаппарата, который тем больше и тем лучше воспринимает, чем он совершеннее. Глаза нельзя сделать лучше, чем они сделаны, киноаппарат можно совершенствовать бесконечно.
Неестественно медленное на экране движение бегущей лошади (быстрое вращение ручки аппарата) или, наоборот, чересчур быстрая распашка поля трактором (медленное вращение ручки аппарата) считались случайностями, ошибками, операторы получали за них замечания.
Но внимательно анализируя эти случайности, Вертов вырабатывал «систему, обдуманную систему таких случаев, систему кажущихся незакономерностей, исследующих и организующих явления».
В дальнейшем помимо рапидной съемки в эту систему включались замедленная съемка, микро- и макросъемка, обратная съемка, съемка с движения, выбор точки съемки и ракурса, скрытая съемка, стоп-кадр, отбор фактов для съемки, синхронная съемка и множество других приемов кинонаблюдения, помогающих сделать невидимое видимым.
Вертов хотел с помощью кинокамеры не смотреть на жизнь, а рассматривать ее.
Не глазеть по сторонам, а разглядывать окружающий мир.
Он высоко ценил оптико-механические свойства киноаппарата, его способность остро всматриваться в жизнь и так много говорил об этом, что многим стало казаться, будто практическое осуществление теоретических посылок Вертова ограничивается лишь демонстрацией возможностей съемочной техники — показом на экране разрозненных, осмысленно не организованных жизненных мгновений, рас-считанных пусть иногда и на сильное, но в общем и целом мимолетное впечатление.
К тому же Вертов призывал снимать жизнь как она есть, без какого-либо вмешательства в протекающие перед камерой события, без предварительной организации съемки, без сценария, из чего легко было заключить, что в орбиту съемки попадет все, что бог на душу положит. Подзаголовком большого и во многом программного фильма, который вскоре выпустит Вертов, он имел неосторожность поставить: «Жизнь врасплох».
Вертов многому учился, но вот еще одна вещь, которой он таки не выучился, — осторожности.
Подзаголовок вызвал удовлетворение оппонентов Вертова: он как бы лишний раз подтверждал, что Вертов ничем другим не интересуется, кроме фиксации врасплох захваченных кинокамерой мгновений (хотя на самом деле этим подзаголовком он подчеркивал лишь необходимость съемки жизни в разнообразии естественных, лишенных преднамеренности и позы проявлений, и ничего больше).
Все это и дало повод Эйзенштейну (и не только ему) для упрека в «импрессионизме».
Считая, что Вертов ограничивается только фиксированием явлений, «бесстрастным изобразительством», созерцанием и не ставит задачу продуманного воздействия на зрителя, Эйзенштейн свою статью «К вопросу о материалистическом подходе к форме» закончил словами:
— Не «Кипоглаз» нужен, а «Кинокулак».
Под «кулаком» подразумевалось ударное воздействие на эмоции и сознание зрителя во имя утверждения новых революционных идей.
Вертов упрека не принял.
Его стремление к анализу действительности уже на стадии съемки ясно обозначало связь кинофиксации с идейным, агитационным, мыслительным процессом. Анализ есть действие сознательное и целеустремленное.
В мае 1926 года Вертовым были написаны замечания к рукописи статьи кинокритика Хрисанфа Херсонского, не раз выступавшего в двадцатые годы в поддержку вертовских поисков. В замечаниях Вертов, в частности, писал:
«Не советую Вам повторять грубейшую ошибку Эйзенштейна и делать подразделение между „видеть и показывать“ и „убедить и доказать“.
„Кино-Глаз“ — это значит „убедить и доказать“ способом „увидеть и показать“.
Художественная драма — это значит „убедить и доказать“ способом „выдумать и показать“.
„Стачка“ относится к последнему виду».
Законченной объективности этих формулировок вредит только одно — слышимая нотка иронии по отношению к слову «выдумать».
В остальном Вертов оказался совершенно точным.
Если Эйзенштейн отказал вертовскому методу в стремлении «убедить и доказать», то Вертов методу Эйзенштейна не отказал, ясно определив существо того и другого способа убеждения и доказательства.
Здесь Вертов был более справедлив и четок, чем Эйзенштейн.
Эйзенштейновский упрек не исчерпал себя и спустя пятьдесят лет.
В 1976 году вышел сборник «Дзига Вертов в воспоминаниях современников», его открывала статья Михаила Блеймана «История одной мечты», помещенная в сборнике «вместо предисловия».
Статья занимает свое почетное место по праву, ибо если не в понимании Вертова, то в общем отношении к нему в ней сделан шаг вперед.
Дело не только в признании, что многие так называемые «ошибки» Вертова на самом деле часто были ошибками не Вертова, а его критиков, плохо разобравшихся что к чему, хотя когда-то позиции критиков выглядели непробиваемыми.
Но в статье Блейман почти дословно повторял эйзенштейновскую мысль, утверждая, что Вертову казалось, будто содержание документальной картины «формирует демонстрация возможностей „киноглаза“».
«Это оказалось не так, — писал далее Блейман, — но ошибочное представление привело Вертова к открытиям новых возможностей съемки, таких, о которых до него и не подозревали».
На самом деле Вертову никак не могло казаться, что содержание фильма исчерпывается демонстрацией возможностей съемки, поскольку он эти возможности всегда и везде рассматривал только как средства, следовательно, они никогда и нигде не имели случая превратиться в цель.
Цель у Вертова была иная.
Поэтому и открытия новых возможностей съемки не были рождены ошибочными представлениями.
Они выросли из вполне безошибочного понимания преимуществ кинематографической фиксации, преимуществ «Кино-Глаза» перед человеческим глазом.
Но своеобразие вертовской теории состояло в том, что даже из этой формулы человеческий глаз вовсе не исключался.
Наоборот, он полноправно в ней присутствует.
Большинство на это не обращало внимания, считая, что «Кино-Глаз» есть синоним «кинообъектива», «кинокамеры», а вся вертовская теория выражает раболепие перед съемочной техникой, преувеличенно фетишизирует ее.
В первом томе «Кинословаря», вышедшем в 1966 году, в статье «Киноведение» ее автор, историк и теоретик кино Семен Гинзбург, отдавая дань теоретическим исканиям Вертова, писал: «Утверждая, что киноаппарат — „киноглаз“ — много совершеннее человеческого глаза, Вертов разрабатывал особые возможности кинонаблюдения».
Между киноаппаратом и Кино-Глазом здесь просто поставлен знак равенства.
Мысль не новая, она хорошо погуляла еще по страницам прессы двадцатых годов.
Не оставшийся безразличным к ней Эйзенштейн думал, что своим «Кинокулаком» наносит прямой удар в «Кино-Глаз», но на самом деле «Глаза» он даже не задел.
Как и многие другие, он просто его не замечал.
В вертовской формуле «Глаз» казался лишь подневольным придатком «Кино».
Поэтому удар был нанесен туда, куда Эйзенштейн, кинематографист до мозга костей, нанести хотел бы, наверное, меньше всего, — в первую половину формулы, то есть в «Кино».
В отличие от вертовских рукописей, в печатных изданиях двадцатых годов «Кино-Глаз» писался то с прописной (или прописных) буквы, то со строчной, то через дефис, то, чаще всего, слитно, а начиная с тридцатых годов в соответствии с установившимся грамматическим правилом пишется без прописных и слитно — как одно слово.
Видимо, это обстоятельство тоже каким-то психологическим образом повлияло на распространение уверенности, что вторая часть формулы лишена известной самостоятельности и слитно подчинена первой.
Они у Вертова действительно сливались, по как два равносильных, взаимодополняющих потока.
Высоко оценивая то, что относится собственно к технике «Кино», он не хотел ограничиваться только техникой.
Не хотел сводить все только к съемке.
Ведь само слово «съемка» характеризует некое внешнее, поверхностное действие. Снимают одежду, кожуру с апельсина, снимают накипь, стружку и т. д.
А за всем этим есть нечто более глубокое. То, что увидеть с помощью одной только съемки трудно, порой невозможно.
Нужна съемка, помноженная на работу, адекватную тем процессам, которые совершаются в сознании с помощью глаза.
Со школьной скамьи известно, что глаз, как и объектив, является оптическим прибором: тоже пропускает через себя световые волны, только в кино они проецируются на пленку, а здесь на сетчатку.
Но дальше начинаются важнейшие отличия. В кино оптико-механические возможности, в сущности, исчерпываются фиксацией. А в оптико-человеческих процессах световые волны, пройдя через глаз и спроецировавшись на сетчатку, только начинают свою работу.
Разрастаясь и детонируя, волны посылают импульсы в мозг и сердце, и совершается отбор, анализ, целеустремленное исследование, обобщение увиденного.
К оптико-механическим свойствам «Кино» Вертов не мог не присовокупить важнейшие человеческие качества, подразумевая под словом «Глаз» не столько возможности зрения, сколько возможности мышления, опирающегося на зрение.
В цепи мыслительного процесса зрение, рассматривание становилось первым побудительным звеном.
В 1966 году вышла в свет книга
[5], в которой исследователь творчества Вертова Сергей Дробашенко собрал его статьи, заметки, дневниковые записи (многое публиковалось впервые).
Эта книга с предпосланной ей вступительной статьей составителя, где были проанализированы основные направления теории Вертова, насыщена важным (а с обыкновенной, читательской точки зрении — необычайно интересным) материалом, помогающим понять идейные творческие, нравственные позиции художника, осмыслить его судьбу.
В книгу вошел и манифест «Киноки. Переворот», перепечатанный из третьего номера журнала «Леф» за 1923 года, по с некоторыми сокращениями.
Сокращения были, скорее, не текстовые, а полиграфические.
В журнальной публикации вертовской статьи сбоку против ряда абзацев стояли заключенные в рамки лаконичные заголовки — квинтэссенция мысли данного куска манифеста.
То, что заголовки не попали в книгу, не отражается на смысле, так как они, в сущности, повторяли сказанное в самом тексте.
Но один из опущенных заголовков в данном случае полезно вспомнить.
После подробных объяснений роли кинокамеры, «механического глаза», которые не должен копировать глаз человеческий, идут слова: «… В помощь машине-глазу — кинок-пилот, не только управляющий движениями аппарата, но и доверяющий ему при экспериментах в пространстве; в дальнейшем — кинок-инженер, управляющий аппаратами на расстоянии» (в этом управлении аппаратами на расстоянии было, между прочим, предвкушение телевидения, или, как Вертов его называл, «дальновидения», о котором он начиная с первой половины двадцатых годов говорил очень часто).
А против этого абзаца стояло заключенное в рамку слово:
МОЗГ
Взаимодействие зрения и мышления превращало Кино-Глаз в инструмент углубленного познания действительности.
Вертов часто говорил, что Кино-Глаз — это смычка науки с кинохроникой: накопление объективных визуальных данных пронизывается исследовательской мыслью.
Подобное заявление для многих опять же казалось не больше чем крикливой бравадой. На самом деле это была всего лишь констатация своей вполне обоснованной позиции.
Но обоснованность не имела бы места, если, провозглашая Кино-Глаз, агитируя за Кино-Глаз, объясняя Кино-Глаз, Вертов сводил бы его только к съемке.
Кино-Глаз как средство киноанализа мира, помимо различных приемов съемки, всегда обязательно включал в себя разнообразные методы организации зафиксированного материала, его монтаж, теорию интервалов, ритм, композицию, то есть все то, что способствует осмыслению зримых картин.
Работая в конце двадцатых годов на Украине, Вертов подготовил конспект лекции «О монтажных методах Кино-Глаза», где дал полную и исчерпывающую расшифровку формулы Кино-Глаз:
Кино-Глаз = кино-вижу (т. е. вижу через киноаппарат)
+кино-пишу (т. е. пишу киноаппаратом)
+кино-организую (т. е. монтирую).
Монтаж для Вертова был этапом окончательной кристаллизации заснятого материала.
Выводом из наблюдений.
Результатом исследований.
Синтезом данных, полученных в ходе анализа на предшествующих этапах работы над фильмом.
«Формула исследования — это и есть готовая вещь Кино-Глаза».
Поэтому Вертов никогда не рассматривал монтаж как только технологическую операцию по склеиванию кадров и эпизодов в соответствии с их реальной последовательностью.
Он считал, что последовательность может и не соответствовать реальности, выходить за рамки возможностей конкретного зрения.
Человек способен видеть только то, что в данную минуту находится вокруг него.
Кино-Глаз может видеть факты, их зримые слепки, если между ними и нет временного и пространственного единства.
Не потому, что для него законы не писаны.
Он подчиняется иным законам: не законам зрения, а законам зримого мышления. Процессам, совершающимся в сознании человека.
Размышляя, человек очень часто мысленно сближает, монтирует самые отдаленные друг от друга события, их «зримые» картины, возникающие в его голове.
Вот почему Вертов так много раздумывал над «теорией относительности» между реальным временем и киновременем, реальным пространством и кипопространством.
Выступая в 1934 году на обсуждении «Трех песен о Ленине» и отмечая, что эта широко признанная картина есть не отход от Кино-Глаза, а прямое продолжение и развитие его принципов, Вертов говорил: «С точки зрения человеческого глаза я, действительно, не вправе „монтировать“ себя рядом с теми, кто сидит, предположим, в этом зале. Однако в „киноглазовском“ пространстве я могу монтировать себя сидящим здесь не только рядом с вами, но и с различными точками земного шара. Было бы смешно, если бы мы для „Кино-Глаза“ установили такие препятствия, как стены и расстояния… Мысль о том, что правдой является лишь то, что видит человеческий глаз, опровергается и микроскопическими исследованиями, и вообще всеми теми данными, которые дает глаз, технически вооруженный.
Опровергается это и самим характером мышления человека».
Слова «характером мышления» в стенограмме подчеркнуты.
По теории Кино-Глаза документальный фильм не только не должен сводиться к механическому воспроизведению окружающей действительности, отданной на откуп съемочной технике, а обязан служить формой зримого отражения того, как эта действительность преломляется в сознании человека.
Казалось бы, такая постановка вопроса чревата серьезной крайностью — уходом в авторский субъективизм.
Но Вертов в самые разные годы не однажды повторял, что, когда речь идет о показе на экране человеческой мысли, о воспроизведении процесса размышлений человека, то имеются в виду не его, автора, размышления. И не размышления кого-то одного, конкретного человека. Делается попытка показать размышления, чувства, настроение некоего обобщенного человека, который концентрированно выражает то, что Белинский называл преобладающей думой современной эпохи.
Теория Вертова никогда не исключала сознательное участие человека в процессе отражения подлинной жизни на экране, а, наоборот, рассматривала такое участие в качестве основополагающего, ведущего начала.
Одна из самых принципиальных картин Вертова носила название «Человек с киноаппаратом».
Не «киноаппарат», а «человек с киноаппаратом».
Это не было связано с тем формальным моментом, что в ряде мест картины появляется на экране снимающий или отправляющийся на съемку оператор.
Название выражало большее — принципиальную позицию Вертова.
Знак равенства между Кино-Глазом и киноаппаратом означал ошибочное понимание вертовской теории.
Знак равенства между Кино-Глазом и человеком с киноаппаратом вполне допустим, так как они совпадают по сути.
Формула Кино-Глаз, закрепляя две главные ипостаси вертовской позиции, совершала переворот в киномышлении.
Но формула не была легка для понимания.
Упреки критики в объективистской фактографичности постоянно соседствовали с упреками в прямо противоположном — в авторском произволе, в поэтизации материала, якобы противоречащей документальной достоверности.
Упреки так часто взаимоисключали друг друга, что у Вертова порой голова шла кругом.
— Я сам уже не знаю, — говорил он, — живой ли я человек или схема, выдуманная критиками.
В схему Вертов не втискивался.
Утверждая, что целью Вертова является импрессионистическая демонстрация возможностей киносъемки, критика ошибалась так же «жестоко», как и тогда, когда доказывала, что вертовской целью является его сугубо индивидуальное самовыражение, безразличное к фактическому материалу, фиксируемому камерой.
Ни то, ни другое само по себе Вертова не интересовало, и поэтому ни тем, ни другим как таковым он не занимался.
Разнообразные методы осмысления и обобщения материала, которые сосредоточивались в слове «Глаз», всегда служили для Вертова (как и все то, что сосредоточивалось в слове «Кино») лишь средством, — следовательно, никогда не могли стать для него целью.
Цель у Вертова была иная.
— «Кино-Глаз» как смычка науки с кинохроникой в целях борьбы за коммунистическую расшифровку мира, как попытка показать правду на экране — киноправду, — говорил он в 1924 году.
Кино-Глаз не ради Кино-Глаза, как казалось многим, а средство для достижения главной цели всего творчества — киноправды. Сделать мысли людей видимыми, сделать поступки людей видимыми, сделать ошибки людей видимыми, снять маску с лица людей, сделать степы прозрачными и доступными для глаза, сблизить пространства, покорить время, рассматривать и изучать мир микро-глазом, теле-глазом и т. д., а не только невооруженным глазом… Мир под взглядом Кино-Глаза, как капля воды под взглядом микроскопа, — Вертов сам ставил перед собой эти задачи, и от понимания их грандиозности захватывало дух.
Вертов был одержим правдой.
В одном из стихотворений писал: «Правда мой крест».
Считал, что она должна существовать в каждой микроклеточке фильма.
«Кино», различные приемы съемочного наблюдения дают возможность зафиксировать правду отдельных мгновений жизни.
«Глаз», различные методы осмысления зафиксированного дают возможность постижения правды целого.
Правда интересовала его не в итоговом, готовом виде, а в правдивости процесса, ведущего к итогу.
Маркс в одной из самых ранних своих работ писал, что в диалектическом познании не только истина, но и само ее исследование должно быть истинным, истинное исследование — это развернутая истина, разъединенные звенья которой соединяются в конечном итоге
[6].
Вертов стремился именно к такому уровню постижения истины.
— Правдой будем добывать правду, — говорил он.
Кино-Глаз и явился для него той правдой, средствами которой он добывал правду. Но он никогда не понимал ее абстрактно.
Правда у Вертова была неотделима от коммунистической расшифровки мира.
Коммунистической, и никакой иной.
В условиях безграмотной России, темноты населявших ее народностей кино, в особенности документальное, устанавливало связь между пролетариями разных наций на коммунистической платформе нередко гораздо успешнее, чем сотни произнесенных или напечатанных слов.
Коммунистическая расшифровка мира средствами документального кино несла пролетариям ту правду, с которой они сталкивались повседневно.
Вертов был бесповоротно предан идеалам революции не только потому, что она предоставила возможность осуществиться его намерениям, но и потому, что сама революция им понималась как всеочищающий праздник правды.
Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы этот праздник правды всегда был с нами.
Но «правдой добывать правду» — не только эстетическая программа.
Это и программа повседневного жизненного поведения.
Иногда ему говорили: вы не дипломат.
Иногда подшучивали: не умеете продавать свой товар.
Иногда сочувствовали: не умеете жить.
Он задумывался.
И приходил к выводу: да, действительно, не умеет.
Но желания научиться никогда не возникало.
Он не был дипломатом не потому, что не мог им быть, а потому, что быть им — не мог.
Как-то он спросил себя:
— Можно ли беспринципными средствами бороться за принципиальное дело?
И тут же ответил:
— Я, очевидно, не могу. Пока пересиливает ненависть к этим средствам. Пока правдой будем добывать правду.
Этические нормы, которым он следовал в жизни, находились в самой прочной связи с эстетическими принципами, которым он следовал в искусстве.
Провозгласив в первых же манифестах главной задачей выявление киноправды средствами Кино-Глаза, Вертов не уходил от искусства, а устремлялся к нему.
Каждая стадия киноглазовского проникновения в действительность отвечала этому устремлению.
— Долой искусство, — говорил Вертов. — Мы вводим на экран живую жизнь.
Но жизнь, перенесенная с помощью кинокамеры на экран, не является прямым эквивалентом действительности. Рамка кадра, ограничивающая действительность, — уже сама по себе условность, априорно принимаемая и теми, кто снимает, и теми, кто сидит в зрительном зале.
Однако на стадии съемки при киноглазовском подходе к ней первоэлементы искусства неизбежно должны были возникать не только поэтому.
Вертов призывал к тщательной избирательности фактов, к фиксации тех, которые способны сконцентрировать в себе существенные моменты жизненного явления, а такая избирательность прямо вела к образной обобщенности.
Требования, которые Вертов предъявлял к съемке, не означали ничего другого, кроме его вступления на путь искусства, как бы он от искусства ни открещивался.
Тем более что съемкой движение по этому пути не заканчивалось.
Двигаясь дальше, Вертов расширял пределы художественной условности.
Кино-Глаз предусматривал элементы условности не только при съемке. Речь шла также о совмещении запечатленных жизненных фактов с условностью различных форм интерпретации подлинных событий на экране, образного постижения скрытого в них смысла.
Вертов яростно отвергал игру, но, провозглашая Кино-Глаз, не уходил от нее, а тоже устремлялся к ней.
Он навсегда остался противником игры, подразумевающей всевозможные виды бутафории и инсценировки.
Но он бесстрашно устремился в теории (а вскоре устремится и в практике, вызвав огонь на себя со стороны даже недавних единомышленников) навстречу разнообразным проявлениям игры творческого воображения. Именно такая игра, диктуя свои правила, позволит преодолеть внешнее правдоподобие во имя открытия правды сути.
Вертов требовал, чтобы съемка действительности осуществлялась в момент «неигры», то есть естественного состояния действительности, когда она съемкой не потревожена.
Но легко заметить, что Кино-Глаз, ставя задачу не воспроизведения, а воссоздания действительности, ее анализа, предполагал игру в момент съемки. Со стороны не тех, кого снимают, а тех, кто снимает.
Отвергая игру перед кинокамерой, Вертов отнюдь не отвергал ее за кинокамерой. Начиная от таких форм игры, как рапидная съемка, когда на экране возникает действие, не соответствующее действительности, и кончая монтажными сцеплениями, не соответствующими реальному течению фактов. Однако то и другое, как и многие иные формы игры творческого воображения художника, становившиеся с годами все более тонкими и изобретательными, свободно использовались Вертовым, если они соответствовали логике познания мира.
Многие вертовские утверждения нередко прямо вырастали из его же отрицаний, а отрицания нередко непосредственно вытекали из того, что он утверждал.
Но из полемических соображении Вертов в каждом случае был столь категоричен, что соединить множество разбегавшихся по своим дорожкам нитей в один клубок читателю было действительно нелегко.
Ухватиться бы за одну нить, на ней построив свое отношение (отрицательное или положительное) к Вертову, и этого, казалось, довольно.
Но отсутствие связки между одной из нитей с другими чаще всего и приводило ко многим неточностям в оценках вертовского пути, к пониманию Кино-Глаза то как авангардистского выверта, то как какого-то загиба — в левую или в правую сторону.
Заложив прочный фундамент теории Кино-Глаза в первых своих выступлениях, Вертов затем во множестве своих статей, в своих киножурналах и фильмах ее развивал, объяснял, уточнял.
Киноправда, рожденная Кино-Глазом, это не какая-то одна статья Вертова и не какой-то отдельный его фильм.
Это вся его жизнь.
Это и стихотворные строки Вертова. Своеобразный ответ современникам и завет тем, кто пойдет вслед за ним.
Скажите всем. И передайте по наследству.
Кино-Глаз — не цель. Кино-Глаз — средство.
Показать без маски. Показать голыми
Тех, кто ставит с ног на голову —
вопрос, который мы понимаем правильно:
Кино-Глаз не теченье левое или правое,
а движенье за киноправду.
В тридцать втором номере «Советского экрана» за 1925 год ученик актерской мастерской Кулешова Петр Галаджев, ставший впоследствии известным кинохудожником, поместил дружеский шарж на Вертова: лицо было нарисовано точными ровными линиями и казалось вырубленным из камня, в остальном почти ничего не утрировалось, кроме глаз. Они были чуть больше обычного, а зрачки напоминали линзы объектива с расходящимися лучиками диафрагмы.
Рисунок может служить прямой иллюстрацией к словам, подводившим итоги сказанного в манифесте «МЫ»:
«На крыльях гипотез разбегаются в будущее паши пропеллерами вертящиеся глаза».
На этих крыльях Вертов устремился в будущее сразу же.
Ярко и яростно, задиристо и бескомпромиссно, категорично и нередко непонятно, но никогда не бессмысленно изложив свою позицию в первых манифестах, Вертов немедленно стал проверять возможность практического осуществления теоретически выявленного постижения киноправды средствами Кино-Глаза.
Киножурнал, который Вертов начнет выпускать летом 1922 года вскоре после опубликования первого манифеста «МЫ», будет назван «Кино-Правда».
Ближайший фильм, над которым он будет работать параллельно с журналом и который выпустит на рубеже двадцать четвертого — двадцать пятого годов, вскоре после опубликования второго манифеста «Киноки. Переворот», он назовет «Кино-Глаз» (подзаголовок: «Жизнь врасплох»).
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
До революции хронику на экране давали главным образом «Патэ» и «Гомон», французские кинофирмы, имевшие солидное производство в России.
В памяти зрителей, посещавших «иллюзионы», дольше других хранился «Патэ-журнал».
Он отличался относительной регулярностью и оперативностью.
Выпуск каждого номера сопровождался широковещательной рекламой, она уверяла: «„Патэ-журнал“ все знает, все видит».
Чаще всего дореволюционная хроника «видела» парады и похороны. Пышный выход царствующих особ в сопровождении бесконечной свиты, траурные кортежи выглядели на экране очень эффектно.
Вертов, по воспоминаниям брата, впоследствии известного кинооператора Михаила Кауфмана, иронизировал:
— «Патэ-журнал» мало видит, а знает и размышляет еще меньше.
После революции в течение года — с весны 1918 по лето 1919 года — на экраны выходил журнал «Кинонеделя», который сыграл важную роль в раннем накоплении Вертовым кинематографического опыта.
Но, выступая 9 июня 1924 года с докладом, Вертов критически оценил свое первое детище.
— «Кинонеделя», — говорил он, — отличалась от предыдущих хроник разве только тем, что надписи там были «советские». Содержание же оставалось прежним — те же парады и похороны.
Парады и похороны, конечно, были не те же, так что содержание журнала менялось. Прежними оставались принципы отбора фактического материала в журнал.
Уходя вперед, Вертов становился полемически резок и по отношению к самому себе.
Неприятие старой хроники, существо новых принципов, способных преодолеть ее цепкие шаблоны, Вертов, как это не раз случалось, высказал в стихах:
Не «Патэ».
Не «Гомон».
Не то, не о том.
Ньютоном яблоко видеть.
Миру —
глаза.
Чтоб обычного пса
Павловским
оком
видеть.
Кино ли кино?
Взрываем кино,
чтобы КИНО увидеть!
Вертов хорошо понимал, чего хочет от хроники.
Он был полон сил и надежд. Оставалось найти точку приложения сил — точку опоры для осуществления своих сокровенных намерений.
Весной 1922 года, тогда, когда Вертов возглавил работу по использованию передвижного кино для сбора средств голодающим Поволжья, один из руководителей кинематографического товарищества «Русь», режиссер Ф. Л. Оцеп (будущий постановщик популярного кинобоевика «Мисс Менд») направил в Совет Народных Комиссаров и в Московский Совет письма с предложением о выпуске силами «Руси» правительственного экранного журнала по типу «Патэ» и «Гомон».
Нужда в киножурнале в тот момент была острая.
После того как гражданская война прервала издание «Кинонедели», страна не имела регулярно выпускаемой на экран сводки текущих новостей.
Получив письмо Оцепа, управделами Совнаркома Н. П. Горбунов поручил своим помощникам срочно направить предложение о выпуске периодического киноиздания в ведомства и организации, связанные с кино, для того чтобы принять окончательное решение.
Предложение обсуждалось многими учреждениями, сама идея журнала везде получала принципиальную поддержку, но окончательное решение о передаче товариществу «Русь» всех дел по изданию не выносилось. Дольше других задерживало ответ учреждение, от которого окончательное решение зависело прежде всего — Всероссийский Фото-Кино-Отдел. Через две с лишним недели после получения запроса из Совнаркома, 6 нюня 1922 года, недавно назначенный заведующим отдела Лев Либерман направил ответ. В ответе не только поддерживалась идея создания журнала, но сообщалось, что накануне, 5 июня, ВФКО подготовил к выпуску первый номер нового киножурнала.
На следующий день Либерман имел возможность сообщить, что предложение Оцепа о выпуске журнала на пленке по типу «Патэ» и «Гомон» при коллективе «Русь» безусловно заслуживает внимания, но запоздало, так как ВФКО вполне организовал аппарат государственного журнала и в ближайшее время демонстрация социальной хроники «Кино-Правда» (она будет выходить не менее 4-х раз в месяц) начнется на экране 1-го Государственного показательного кинотеатра.
«Кино-Правда», о которой сообщал Либерман, и стала точкой приложения творческих сил Вертова.
В ответе Совнаркому Либерман не мог предвидеть лишь некоторых обстоятельств: новый советский киножурнал не только не будет походить на тип хроники, выпускавшейся фирмами «Патэ» и «Гомон», но пойдет в историю кинематографа как образец хроники прямо противоположного типа.
Либерман не знал, не мог знать (как не мог знать сам Вертов), что впоследствии журнал окажет влияние на развитие советского и мирового кино, что целые школы и направления (даже спустя десятилетия) будут связывать свое возникновение с «Кино-Правдой».
Получив точку опоры, Вертов дерзнул перевернуть киномир.
Но в 1922 году Вертов мог приступить к осуществлению своих сокровенных желаний не только потому, что его взгляды сложились к этому времени в достаточно определенную систему, а авторское руководство новым журналом предоставляло широкое поле деятельности.
Вертов писал, что если с 1918 по 1922 год существовал один кинок (он сам), то начиная с 1922 года их уже было несколько.
В первых манифестах он с полным основанием выступал не от себя лично, а от группы единомышленников.
Люди различных кинематографических специальностей, они не просто встречались с Вертовым на одной съемочной площадке, а готовы были разделить с ним одну творческую платформу.
Наверное, не все они до конца понимали многие тонкости первых теоретических выступлений Вертова (он сам тогда еще вряд ли во всех тонкостях разобрался до конца).
Но увлекал дух новоискательства, размах выдвинутых перспектив.
После демобилизации в 1922 году из Красной Армии Михаил Кауфман пришел к брату посоветоваться, что делать дальше — идти по автоделу (он служил по этой специальности в армии) или продолжить образование в университете?
Вертов сказал: «Надо подумать», предложил зайти к нему на работу в Малый Гнездниковский, 7, в ВФКО.
Там Кауфман просмотрел всю, какая была, хронику, снятую до и после революции, старые ролики «Патэ» и «Гомон», съемки текущих событий.
За несколько часов перед ним пронеслось множество фактов, они складывались в причудливую по пестроте картину времени. Просмотр произвел на Кауфмана сильнейшее впечатление.
А Вертов был недоволен, говорил, что они топчутся на месте, делают то же, что делала старая хроника, произнес те самые иронические слова о «Патэ-журнале», который мало видит, а знает и размышляет еще меньше.
— Следовательно, вести за собой зрителя не может.
Они беседовали еще несколько раз.
Вертов делился своими мыслями о нераскрытых возможностях кино, увлекаясь, подробно объяснял суть того дела, которое он затевает. И однажды предложил брату работать с ним.
Кауфман растерялся, а Вертов вспомнил, как в гимназические годы младший брат не расставался с фотоаппаратом. Михаил любил незаметно снимать во дворе разные бытовые сценки, потом преподносил соседям фотографические сюрпризы. Захватив как-то аппарат в гимназию, он снял ученика, молившего о подсказке. Аппарат щелкнул в полной тишине, Кауфман, пойманный с поличным, был послан за родителями, получил нагоняй от отца и директора гимназии.
Но когда отпечатал снимок, дома все смеялись.
Теперь, вспоминая об этом, смеялись оба брата.
Кауфман принял предложение Вертова.
Сначала он помогал в организации съемок, по скоро стал снимать сам. Заведующий производством ВФКО Борис Александрович Михин разыскал на складе старый аппарат. Кауфман наладил его и уже через месяц снимал хроникальные сюжеты.
Около года спустя после прихода Кауфмана в кинематограф, в марте 1923 года, Вертов составил проект докладной записки в Госкино, где предлагал из ядра киноков сформировать «первую опытную киностанцию» — небольшую студию для съемок одних только неигровых картин. В числе «спаянных внутренней дисциплиной» работников киностудии одним из первых Вертов назвал Кауфмана. Свое предложение он мотивировал краткой характеристикой деловых качеств Михаила («ученик ГИКа, снимает кино и фото, знает автомобильное дело, знаком с электротехникой, кузнечной и слесарной работой, к экспериментам склонен»).
В штат опытной киностанции Вертов предлагал включить и других киноков: оператора Александра Лемберга, специалиста по надписям, будущего оператора Ивана Белякова, электромеханика Евгения Баранцевича, оператора Бориса Франциссона.
В кратких характеристиках каждого он отмечал, как особую черту, склонность к экспериментам. Курс на эксперимент — это был не лозунг, не красивая, но пустая декларация, а программа каждодневной работы.
Документальная съемка требовала глазомера, умения вовремя успеть, стремительно сориентироваться в постоянно меняющейся обстановке.
Потеря скорости из-за нерасторопности, отсутствия средств передвижения или из-за волокиты по согласованию съемки чревата невозвратимой потерей для экрана важного жизненного события.
— Если согласовывать выстрел, — иронизировал Вертов, — промах неизбежен.
При постоянной взаимной помощи киноки быстро осваивали различные кинематографические специальности. Под руководством Кауфмана его молодой помощник по съемке и лабораторным опытам Петр Зотов в сравнительно короткий срок стал оператором. Кауфман помог овладеть кинокамерой и художнику по надписям Ивану Белякову. Во всем этом не было любительщины. В скором времени Беляков снимет один из лучших вертовских фильмов «Шагай, Совет!», многие кадры картины будут отмечены свежестью взгляда, умением передать настроение, тонким пониманием световой тональности.
Вертов поддерживал поиски, легко откликался на всяческие новшества. В своем деле киноки были мастера, часто — первоклассные.
В 1923 году о вступлении в группу Кино-Глаз официально, в прессе, заявила Свилова. Позже Вертов назовет ее одной из лучших монтажниц СССР, это не будет преувеличением.
Некоторое время в группу входил и другой брат Вертова — оператор Борис Кауфман.
Вертов стоял у истоков советской мультипликации, часто использовал ее, привлекал для работы одного из самых знающих художников-мультипликаторов того времени Александра Бушкина.
Стал постоянно сотрудничать с киноками художник Александр Родченко. Он был первым иллюстратором многих произведений Маяковского, выдающимся мастером фотографии, одним из основоположников советского фотоискусства, фотомонтажа, того, что теперь называют «коллажем».
Родченко изготовлял надписи для вертовских журналов и фильмов.
Работа не была чисто технической.
Вертов стремился воздействовать на зрителя не только содержанием текстов, но и их графическим начертанием, величиной букв, смысловым соотношением различных размеров слов и фраз.
Группа киноков была сравнительно небольшой, ее состав не оставался неизменным: кто-то приходил, кто-то уходил. В 1925 году в качестве «киноразведчиков» в группу вступят красноармеец Илья Копалин и юный кимовец, участник и организатор первых в Москве пионерских отрядов Борис Кудинов. Копалин навсегда свяжет свою жизнь с кинематографом, станет режиссером многих известных документальных картин, а Кудинов, проработав с киноками несколько лет, потом увлечется делом, имеющим к кино весьма отдаленное отношение, — развитием альпинизма в стране. Однако десятилетия спустя не только Копалин, но и Кудинов будет вспоминать о первых шагах в кино под руководством Вертова как о времени прекрасном, незабываемом.
А ведь работа с Вертовым не предоставляла ни легкой жизни, ни быстрого, всеобщего признания.
В 1937 году на старой Тверской улице в Москве произошло событие, о котором потом долго рассказывалось в газетах для взрослых, в стихах для детей: дом переехал!
Его отодвинули, чтобы расширить новую улицу Горького и дать место современному зданию.
Современное здание выстроили, потеснившийся дом оказался в его дворе.
В начале двадцатых годов подвал этого дома принадлежал Госкино, а позже Культкино, оно занималось выпуском различных просветительных (в том числе и документальных) лепт.
Здесь, в этом подвале, киноки работали над своими первыми журналами и фильмами.
В подвале было темно и сыро. Между ногами на земляном полу шныряли большие голодные крысы, под ногами хлюпала вода — протекали водопроводные трубы. Разрезанную для
монтажа пленку подвешивали повыше, чтобы не замочить концы. От сырости расклеивались склеенные куски, ржавели ножницы, зачищалки, линейки.
Но работа не прекращалась ни на минуту — ни днем, ни ночью.
Нехотя таяла ночная мгла, леденел рассвет. Где-то под потолком в мутном решетчатом окне, на четвертушку приподнявшемся над мостовой, появились ноги ранних прохожих.
Холодно, зуб на зуб не попадает.
Вертов укутывает Свилову своим полушубком, чтобы она могла доклеить стынущими руками последние отрезки пленки.
И к утру очередной номер журнала готов.
Киноки, будучи мастерами своего дела, работали как настоящие мастеровые.
Когда они снимали свой первый мультипликационный шарж «Сегодня», то на полу расстелили большую карту, по которой ползал Беляков и рисовал, а к потолку привязали Кауфмана с аппаратом: снимать с близкого расстояния было нельзя. Так велись съемки трое суток (тоже не только днем, но и ночью), тут же писался сценарий, тут же рисовали и снимали.
Киноки трудились, не думая о. покое, без всякой жалости к себе, но весело, с удовольствием.
Изнурительный, тяжкий труд мастеровых кинематографа не был им в тягость не только потому, что в них кипели нерастраченные молодые силы. Каждодневный, многочасовой рабочий пот искупался минутами открытий, придумок, находок, тоже почти каждодневными. Эти минуты снимали усталость. Она ощущалась лишь тогда, когда такие минуты не приходили. День, прожитый без них, казался прожитым зря.
Открытия киноков далеко не всегда носили глобальный характер.
Но Вертов считал, что в деле совершенствования киноязыка не может быть мелочей. Каждая, даже самая маленькая деталь оказывает воздействие на какую-то микроклетку зрительского восприятия. Поэтому пренебрегать деталями не следует. Разновеликие надписи — тоже всего лишь деталь. Но постепенно — кадр от кадра — увеличивая размеры надписей, Вертов добивался эмоционального нарастания.
По форме прием был совсем не сложен. Но по смыслу — не так уж прост, многие игровые фильмы, включая самые напряженные сцены «Потемкина», свидетельствуют о том, что прием не остался незамеченным.
А потом киноки придумали «световые» надписи.
Раньше надписи писались на бумажном листе или выкладывались буквами на том или ином фоне. Киноки для целого ряда случаев стали изготовлять надписи в виде прорезей в черной бумаге (в той, в которой упаковывается пленка). Прорези заклеивались папиросной бумагой и высвечивались с обратной стороны. Не бог весть какая хитрость!.. Но на экране надписи горели расходящимися лучами, выглядели торжественными и в нужный момент производили нужный эффект.
Таких «мелочей» у киноков было много: они вдруг соединяли документальный кадр с мультипликацией. Они могли запросто разложить кадр на два разных изображения. Они могли кадр расколоть, на глазах зрителя изображение «взрывалось», разламывалось на части.
Множество открытий Вертова и киноков — от «мелочей» до важнейших принципов кинонаблюдения, монтажа, композиционного построения, киноанализа мира, его расшифровки — стали теперь до такой степени естественными и очевидными, что невозможно удержать вопроса: с чего копья ломались?..
И ладно бы копья.
В хлестких дискуссиях портилось настроение, терялось здоровье.
Правда, считается, что в боевых полемиках мужает характер, крепчает дух, дубеет кожа. Все верно, кроме одного: у истинного художника кожа не дубеет, а истончается.
Несмотря на то, что к середине двадцатых годов кино завершало свое тридцатилетие, оно находилось в младенческом (если не в утробном) состоянии. Поэтому все было внове. Для достижения верхних лестничных площадок надо было пройти все ступеньки. И не перескакивая, а подряд — одну за другой, одну за другой…
По молодости лет познать свои истинные возможности кино тогда еще не успело. Но незыблемых шаблонов установить успело уже немало. Парады и похороны, перешедшие из старой хроники в новую, вообще ее нередко парадно-официальный колер — из числа таких шаблонов.
Вертов помнил и другое: выброшенные монтажницами в корзину коротко резанные кадры для этюда «Бой под Царицыном», вообще насмешливо-настороженное отношение к его ранним монтажным экспериментам.
Наученный горьким опытом, он, несмотря на внутреннюю готовность начать новое дело, в первых номерах «Кино-Правды» был, по собственному признанию, «крайне осторожен».
Эти номера почти ничем не отличались от традиционной сводки текущих событий, пестрых и разноликих.
Журнал сообщал о торжественном открытии электростанции в городе Кашире, курортном сезоне на Кавказской Ривьере, процессе правых эсеров, мотовелопробеге Москва — Вышний Волочок — Москва (первый приз — мотоцикл с коляской).
Маневры броневых частей РККА соседствовали с крушением трамвая у Замоскворецкого моста, съемки в карамельном цехе 1-й кондитерской фабрики Моссельпрома, переименованной в «Красный Октябрь», со съемками пожара в доме на Лесной.
Многие события сами по себе были значительными, но политическая злободневность легко уживалась с привычной для хроники зрелищностью, с пожарами и транспортными катастрофами — в условиях нэпа кино шло на уступки кредитоспособному рынку, а на рынке высоко ценились «страсти-мордасти».
С меньшей или большей торопливостью сменяя друг друга, новости дня мелькали в первых выпусках журнала, как стеклышки в мозаике детского калейдоскопа. И дальше давно знакомого журнальной хронике информационного калейдоскопа новостей не уходили.
Но обуздать себя совсем Вертов уже не мог даже в первом номере, в первом же его сюжете, в тех самых двух фразах, которыми сопровождались кадры голодных детей, снятых на станции Мелекес.
Сюжет не исчерпывался этой съемкой. После нее шли кадры изъятия церковных ценностей в Страстном монастыре в Москве, а затем — кадры детского дома, где дети получали еду.
В движении материала была своя простая и ясная логика: голодные дети — изъятие ценностей в пользу голодающих — накормленные дети. К этому давались исчерпывающие пояснения в надписях: «Работа ЦК Помгола ВЦИК» — «К изъятию церковных ценностей в Москве» — «Каждая жемчужина спасет ребенка».
Но несмотря на большую, чем обычно, стройность, сюжет в общем и целом остался бы лишь в пределах традиционной констатации фактов, если бы не фраза, открывавшая его: «Спасите голодающих детей!!!»
Лозунг. Призыв. Крик, разрывающий тишину молчаливого зала.
И тут же взрывающий один из распространенных шаблонов хроники — бесстрастность фиксации.
Вряд ли зрители первого номера «Кино-Правды» с ходу поняли, что произошло. Фраза стояла в начале журнала. Промелькнув, она исчезала с экрана, возможно, не оставляя резко очерченного отпечатка в сознании.
Но Вертов не был бы тем, кем он уже к тому времени был, если бы эту фразу не поддержал другой, поставленной вслед за кадром изможденных детей: «Нет больше сил».
Ее интонация не схожа с интонацией зачина сюжета: вместо лозунговой требовательности простота обыденности. Не крик в тишину, а вздох в тишине.
Но обе фразы были крепко спаяны друг с другом.
Обыденность второй только подчеркивала масштаб трагедии и этим прежде всего оправдывала накал первой — ее три восклицательных знака в конце.
Возможно, и вторая фраза, промелькнув среди обычных для хроники надписей, не отслаивалась в сознании зрителей и поэтому не помогала в объяснениях, что же произошло.
Но не почувствовать, что что-то произошло, зритель уже не мог.
Поставленные в начало и увязанные с самими трагическими кадрами журнала, эти две фразы определяли высоту тона всего сюжета.
Фразы могли не зацепить сознания зрителя. Но на них был другой расчет, и этот расчет был верен: фразы западали в душу. Они вносили тот градус тревоги, который не снижался уже на протяжении всего сюжета.
Зритель не осознавал источника тревоги. Но отделаться от нее не мог. Это было особенно странным потому, что тревожиться на просмотре хроники зритель вообще-то не привык. Удовлетворяя его визуальные потребности, хроника не слишком претендовала на то, чтобы бередить душу. А здесь она вдруг решительно вторглась в область чувств, и это было непривычно.
Понять, что происходит, было тем более трудно, что происходила вещь далеко не простая: делался первый, еще очень короткий, едва уловимый, но уже реальный шаг от информационности к искусству.
Совершался переворот в художественном мышлении.
Переворот не мог быть одномоментным актом, сразу же осознанным и воспринятым.
Вертов говорил: зафиксированное на пленку мгновение жизни почти всегда таит в себе огромную, сравнимую с внутриатомной, энергию, надо учиться высвобождать ее.
Две короткие фразы в первом номере «Кино-Правды» начали практическое овладение энергией.
Но дело было вовсе не во фразах.
Надписи Вертов и в дальнейшем всегда использовал разнообразно и непривычно. Новое заключалось в том, что надпись не повторяла кадр, а продолжала. Длила его смысл. Давала кадру неожиданное измерение, скрытое от поверхностного взгляда.
В середине двадцатых годов стали появляться статьи, специально посвященные надписям у киноков. Авторы статей утверждали: опыт киноков здесь не замкнут на одном лишь документальном кино.
Сам Вертов вообще никогда не признавал надпись (как и впоследствии дикторский текст) обязательным элементом. Он считал, что кино обладает своими собственными языковыми средствами, способными донести смысл происходящего, не прибегая к словесным связкам. Вертов говорил о возможности фильмов без слов. Эту возможность потом не раз доказывал практически.
Поэтому и тогда, когда в новом киножурнале две фразы своим строем и интонацией нарушили монотонность хроники, то главное заключалось все-таки не во фразах, как таковых, — в принципе их использования.
Принцип совпадал с исходными позициями метода, декларированными (пока туманно по форме, но внутренне вполне определенно) в манифесте «МЫ».
Смысловая и эмоциональная спаянность двух фраз впервые в практике Вертова демонстрировала силу теоретически заявленного полгодом раньше взаимодействия двух основных потоков творческого осознания действительности — материала и темы, факта и вывода, окружающего мира и его анализа. Причем демонстрировала, открывая в этом взаимодействии еще одну грань — неизбежность слияния в его творчестве таких двух начал, как: быт и пафос.
Не пафос вне богатства бытовых опосредований — тогда пафос превращается в голую риторику.
Не обилие бытовых подробностей вне эмоционально воздействующего на зрителя их осмысления — тогда экран превращается в уличного зеваку, бездумно глазеющего по сторонам.
Но то и другое, быт и пафос, — на основах взаимной поддержки.
В съемке голодных детей на станции Мелекес для Вертова был важен не факт, а явление. Оно документально удостоверялось фактом. но не замыкалось в нем.
В размыкании факта, в высвобождении таящегося в нем эмоционального заряда фраза «Нет больше сил» решала очень многое.
Конкретный случай, показанный на экране, мгновенно включался в длинный ряд других фактов, известных тысячам зрителей из газетных сводок, листовок, призывов, правительственных решений, наконец, из собственного жизненного опыта. Все вместе факты сливались в единое понятие, в одно обобщающее слово, каждая буква которого в сознании людей тех лет неустанно отстукивалась, как на телеграфном аппарате: г-о-л-о-д.
«Голод-до-лог…».
«Г
оры г
оря…».
Но сюжет не ограничивался обобщением страшного, бытовой интонацией отчаяния. Тогда бы он оказался всего лишь очередным случаем журнальной сенсации, такой же, как пожары и катастрофы. Еще раз страсти-мордасти. Они вроде бы разрывают сердце, очень пугают, а сигналов бедствия не подают.
Вертов свой сюжет только для того и строил, чтобы подать сигнал.
Он трубил тревогу — громко, во всеуслышание, а не занимался предоставлением публике возможности лицезреть драму. Об этом думал меньше всего.
Главным для Вертова была не драма, а выход из нее.
Это был сюжет отчаяния, но не обреченности.
Не безвольно опущенных рук, а рук, сжатых в кулак: «Спасите!..»
Сделайте все, что можно!
Знаю: нет больше сил, но они должны, должны быть.
Спасите!..
Нельзя, чтобы от голода гибли дети.
«Тел метелица…».
Нельзя революцию отдать на съедение голоду, нельзя!
Спасите!!!
Частные моменты бедствия, особенно страшные бытом своих проявлений, аргументировали звенящую силу призыва.
Эта важнейшая, может быть, даже основная черта метода Вертова — сочетание бытового и пафосного — впоследствии будет проявляться во всех лептах обязательно, хотя и очень разно.
Но символично, что сюжет, с которого начинался не столько новый киножурнал, сколько новый Вертов, намерение слить воедино обыденное и высокое показал сразу же без обиняков: в лозунговом виде.
Отправляясь на съемку, Вертов не собирал в какой-нибудь походный сундучок все свои манифесты, чтобы иметь возможность сверить любое практическое действие с выдвинутой программой, а садясь за монтажный стол, не обкладывался со всех сторон своими декларациями: то в написанное глянет, то на пленку, то в написанное, то снова на пленку…
Связь между провозглашенными принципами и живой, трепетной плотью искусства была гораздо более глубокой и сложной.
Обе фразы, сочетавшие отчаянность момента с пафосом клича, могли принадлежать огромному числу людей той эпохи.
Слова, естественно, могли быть другие, смысл сказанного — тот же: спасти детей, спасти революцию.
Но в данном конкретном случае эти фразы, выражая мысли миллионов, принадлежали Вертову.
Они поднимались из глубины души не потому, что это соответствовало методу, а потому, что соответствовало природе чувственного восприятия Вертовым окружающего мира.
«Горем горя», он кожей своей (никогда не дубевшей) ощущал палящий жар трагедии.
На гребне вдохновения чувства, порожденные соприкосновением с миром, конкретные моменты быта неизменно переплавляли в явления бытия. Переплавляли в обобщения.
Так уж устроено было вертовское мироощущение. Из него и вырастал метод.
Многообразие чувств влекло за собой такое разнообразие форм осуществления, что нередко казалось, будто Вертов не только не подчиняется каким бы то ни было законам, по отступает даже от тех, которые сам себе определил.
А это было не так.
Новые формы (часто действительно резко отличные от предшествующих) являли зрителю разные грани, но одного метода. Первая такая грань на мгновение, пока еще «крайне осторожно» блеснула в первом номере нового киножурнала.
Но «осторожничал» Вертов недолго.
В 1922 году журнал «Кино-Правда» выходил часто — каждую неделю.
Издание журнала СНК временно оставил под своим контролем, наметив дату проверки — третье августа.
В августе ВФКО сообщал Совнаркому: выпущено семь номеров, восьмой выходит в ближайшую неделю, журнал постоянно показывается в 1-м Госкинотеатре (на Арбатской площади), а по воскресеньям с 11 часов ночи под открытым небом на Страстной.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Кино-хроника «Правды»
На днях первые два номера «Кино-Правды» демонстрировались в Первом электро-художественном театре. Эти номера отражают важнейшие за последнее время события в республике… Мы убеждены, что тов. Вертов, заведующий «Кино-Правдой», одолеет все препятствия и двинет вперед кино-хронику, столь нужную в наши дни.
«Правда», 1922, 28 июня
По кино-театрам
1-й Гос. кино (б. Художественный). По четвергам и воскресеньям демонстрируются в театре хроники «Кино-Правды». Публика уже знает «Кино-Правду» и относится к ней с заметным интересом.
«Кино», 1922
Кино-Правда экспортируется в Америку
ВФКО заключил договор… об эксплуатации журнала «Кино-Правда» и ряда хроник ВФКО на территории Северной и Южной Америк. Первый транспорт «Кино-Правды» отправлен в Америку. В Берлине предполагается создание кино-лаборатории для печатании так нужного в Америке количества позитивов.
«Кино», 1922
29 января в 1-ом Госкино состоялся просмотр «Кино-Правды» — октябрьских, новогодних и других съемок. Если до сего времени советское кино хромало на обе ноги, то в отношении кинохроники, умело поданной зрителю, достигнуты значительные результаты.
«Известия», 1923
Журнал привлекал к себе внимание, его хотели смотреть.
«Правда», посвятив выходу первых номеров короткую заметку под названием «Кино-хроника „Правды“, признала журнал своим».
Теперь название журнала пишется слитно. Как и в случае с Кино-Глазом, это соответствует нынешним правилам грамматики, но не соответствует историческому факту.
Слитное написание наводит на мысль, что название было выбрано лишь для выражения существа эстетической программы.
Но журнал назывался не «Киноправда», а «Кино-Правда».
Вертов задумал его как прямое продолжение газеты «Правда» на экране. Он часто называл «Кино-Правду» не журналом, а экранной газетой.
С заметки началась многолетняя поддержка «Правдой» принципиальных позиций Вертова. Заметка заканчивалась призывом демонстрировать «Кино-Правду» в рабочих районах Москвы и всей республики.
В первых номерах «Кино-Правды» Вертов был еще во многом традиционен.
Но уже через месяц после начала издания журнала в маленькой статье, сообщающей зрителю о выходе пятого номера, Вертов писал, что «Кино-Правда», ломая привычки старых хроник, шаг за шагом овладевает образами и ритмом в пределах каждого журнального сюжета, каждой отдельной темы.
Статья была напечатана в журнале «Театральная Москва» в 1922 году и стала следующим после манифеста «МЫ» выступлением Вертова в печати. Но на этот раз не теоретически декларировалось то, что надо сделать. Обобщалось то, что уже сделано. Подводились предварительные итоги нового опыта.
«Кино-Правда», писал в ней Вертов, не только овладевает образами и ритмом в пределах каждой отдельной темы, по и тревожно ищет общий пульс «кинонедели», ритмическое объединение разнородных тем.
Вот что сделало «Кино-Правду» не похожей на журналы, выпускавшиеся до и после нее.
От образного осмысления фактов в пределах отдельного сюжета Вертов сразу же переходил к необходимости осмысленного сцепления сюжетов в пределах отдельного номера.
Факты, как и положено в журнале, могут быть разными, очень далекими друг от друга, но должна существовать закономерность их соединения.
Не просто набор новостей дня, а правда конкретного момента в отборе его новостей.
Один выпуск от другого должен отличаться не порядковым номером, проставленным в начале журнала, а смыслом, открывшимся в конце.
Вертов хотел, чтобы тематическое единство разнородных сюжетов зрителем постепенно угадывалось в движении материала. Ритм движения должен был передать биение пульса временного отрезка, которому посвящался номер, — прожитой недели, ставшей на экране «кинонеделей». Понятием не календарным, а опять же обобщенно смысловым.
Но Вертов не только овладевал образами и ритмом.
Совершались первые приступы к овладению — пусть пока еще на малометражном журнальном пространстве — синтетической картиной времени.
Даже эти первые приступы требовали тщательной подготовки, серьезных размышлений.
Вертов говорил: «Кино-Правда» делается из отснятого материала, как дом делается из кирпичей. Но из кирпичей, добавлял Вертов, можно сложить и печь и кремлевскую стену.
Особенности той и другой кладки Вертов знал не понаслышке.
Одновременно с «Кино-Правдой» учреждение, сменившее Всероссийский Фото-Кино-Отдел, Госкино, стало с мая 1923 года выпускать новый журнал — «Госкинокалендарь».
Его тоже возглавил Вертов.
Называя этот журнал хроникой-молнией, текущей сводкой кинотелеграмм, Вертов четко организовал регулярный выпуск «Госкино-календарей», насыщение их оперативно снятым материалом.
Но кладка материала была иная.
Она соответствовала названию журнала. Факты сброшюровывались в номер, как листки отрывного календаря: в такой-то день — такое-то событие, в следующий — следующее. Их объединяло хронологическое соседство, а не тематическое совпадение.
В марте 1924 года пятнадцатый «Госкинокалендарь» и восемнадцатая «Кино-Правда» поместили сюжеты об «октябринах», новом обряде, пришедшем на смену церковным крестинам.
Оба сюжета схожи не только трогательной чистотой интонации, но и деталями обряда.
И в том и в другом случае обязательными участниками обряда были пионер, комсомолец, коммунист. Согласно ритуалу, в «Кино-Правде» они бережно передавали из рук в руки новорожденного, в «Госкинокалендаре» — салютовали младенцу, произносили напутственные речи. И того и другого новорожденного нарекли Владимирами — в память о недавно скончавшемся Ленине.
Но способ подачи одинаковых сюжетов был не одинаков.
«Госкинокалендарь» точно указал, что «октябрины» происходили в Москве, в Доме крестьянина, что случилось это 27 февраля 1924 года и что отцом новорожденного был рабочий, товарищ Осокин.
В «Кино-Правде» таких сведений нет. Сюжет начинался с объявления, вывешенного на стене: «Октябрины. Сегодня здесь, в мастерской, состоится обряд введения в гражданство нового члена».
Что за мастерская и где находится, в какой день происходил обряд, фамилию родителей нового гражданина сюжет не сообщал. От этого он не утрачивал необходимой конкретности, зримые детали обстановки, облика людей, самого ритуала живо соотносились с тем, что каждый сидящий в зале ежедневно видел вокруг себя.
Но лишенное привязки к определенному дню и месту, событие переставало быть единичным случаем, приобретало черты всеобщности.
Всеобщность касалась не обряда, он был не так уж распространен. Она касалась заложенного в этом факте нарастающего движения массового сознания к новым формам бытия.
«Госкинокалендарь», справедливо дорожа фактом, им и ограничивался.
Для «Кино-Правды», как всегда, важнее другого было явление, его ранние побеги.
«Госкинокалендарь» предлагал посмотреть, «Кино-Правда» предлагала подумать.
Это не значит, что в первом случае размышления не играли никакой роли вообще, а во втором — вообще не играло роли показывание. То и другое в каждом случае не теряло своей остроты.
Разница же заключалась в том, какие задачи в каждом из двух случаев решались по преимуществу.
Сюжет из «Госкинокалендаря» существовал внутри журнала сам по себе, обособленно от других сообщений (об освобождении из исправдома 76 женщин, амнистированных по случаю Международного женского дня, или о встрече на вокзале в Ленинграде великого трагика Сандро Моисси).
Сюжет в «Кино-Правде» находился в непосредственной смысловой связи со всеми прочими страницами выпуска.
Помимо обычного названия выпуск имел подзаголовок: «Пробег киноаппарата 299 м 14 мин. 50 сек. в направлении советской действительности».
Пробег начался подъемом киноаппарата на Эйфелеву башню (в связи со смертью ее строителя), видами Парижа и его окрестностей с верхних площадок башни.
А затем аппарат спускался все ниже и ниже и, наконец, приземлялся уже на территории СССР — в поле со скошенным хлебом (был использован превосходный кадр, снятый со снижающегося аэроплана).
Почтив память недавно скончавшегося инженера Александра Эйфеля, Вертов отдал дань текущей информации, без которой, естественно, не может существовать ни один журнал.
Но вместе с тем эти первые кадры сразу же стали для Вертова пластическим и смысловым оправданием начатого пробега. Подразумеваемое в слове «пробег» быстрое перемещение камеры пластически оправдывалось ее стремительным спуском на лифтах башни, плавно переходящим в приземление вместе с аэропланом.
Однако в таком перемещении была не только пластическая, но и смысловая логика. Совершая скачок из одного мира в другой, аппарат начинал движение по заданному маршруту — в направлении советской действительности.
Став сначала свидетелем финиша на Петроградском шоссе автопробега Петроград — Москва, аппарат затем следовал за одним из финишировавших автомобилей: в сопровождении мотоциклиста автомобиль въезжал на Тверскую улицу, аппарату представилась возможность нырнуть в самую гущу бурлящей жизни городского центра: толпы прохожих… зеркальные витрины шикарных магазинов… нищий на костылях… чистильщик сапог… мальчишка-газетчик… публика у кинотеатра… папиросница «Моссельпрома»…
Вертов назвал это «пробегом», словом, настраивающим на поверхностное восприятие, — при беге все в нечетком виде проносится мимо. На самом же деле этим словом определялся лишь напряженный ритм движения (журнальный метраж не позволял иного).
Высокая скорость движения отнюдь не исключала цепкости взгляда, пристального рассматривания мира — в ералаше окружающих фактов отыскивался тот, который концентрировал в себе признаки новой жизни.
Показывая, как киноаппарат рассматривает действительность, Вертов втягивал в это рассматривание и публику, ее тоже включал в поиск.
После юной папиросницы «Моссельпрома» аппарат как бы невзначай натыкался на абзац свежего номера газеты, там сообщалось: «Моссоветом отстроен дом для рабочих». А затем шел кадр этого дома, на его фасаде висел транспарант: «Привет Московскому Совету, выполнившему задание своих избирателей».
Камера вбирала в себя пестрый поток мгновений, чтобы в конце концов найти единственное, самое нужное.
Автопробег, с которого начинался сюжет, финишировал на Петроградском шоссе. А финиш первого этапа пробега киноаппарата, которым сюжет кончался, был здесь — у дома, отстроенного для рабочих.
Но можно было обойтись без всего этого, просто дать кадр дома, сопроводив пояснениями: в Москве, на такой-то улице, Совет построил новый дом.
Информация была бы вполне исчерпывающей, политически актуальной.
Но смог бы в этом случае Вертов увлечь зрителей рассматриванием действительности? Сумел бы подключить их к поиску?
Обычная информация о построенном доме для рабочих оказалась бы вложенной в сознание зрителя извне.
У Вертова она становилась логическим завершением собственных зрительских поисков. К новой советской действительности здесь зритель исподволь приходил сам.
«Кино-Правда» была журналом политически и социально предельно заостренным.
Но Вертов всячески избегал прямолинейной социологизации и голой тезисности.
Политический тезис не существовал в журнале как некая изначальная данность, подминающая под себя экранный материал, а постепенно вырастал из материала, его живой плоти.
Поэтому и зритель не шел от готового тезиса, а постепенно приходил к нему.
Втянутый в движение, в известной мере заинтригованный им, но идущий пока больше вслепую, зритель в конце пути прозревал, и его прозрение шло в одном направлении — «в направлении советской действительности», как было сказано во вступительных титрах.
Вертову любили предъявлять иск в намеренном усложнении лент, в высокомерии к широкому зрителю. А между тем Вертов о зрителе думал постоянно.
Стоило «Кино-Правде» сойти с экранов (она прекратила существование весной 1925 года), как многие, в том числе недавние критики, начали вспоминать о ней с ясно различимыми нотками ностальгии.
Вспоминались разные особенности «Кино-Правды», но часто они оказывались еще и какими-то гранями довольно единодушного ощущения — особой демократичности этой социальной кинохроники.
Новые дома входили в строй не каждый день.
Чаще, чем такой дом, зритель мог встретить на улице (по соседству с роскошными витринами) нищего на костылях, мальчишку, продающего газеты, девочку, торгующую папиросами.
Вертов не отводил торопливо глаза в сторону. Люди жили трудно, в перенаселенных коммуналках, подвалах и полуподвалах, наскоро возведенных бараках, во времянках, удивлявших долголетием. Новые дома для всех — это было дальней целью, мечтой.
Вертов показывал: мечта — не прекраснодушная, она начинает осуществляться уже сегодня.
Но пока еще только начинает.
Поэтому факт, устремленный в будущее, он не вырывал из сложной повседневности настоящего. Вместе с тем настоящее этим фактом окрылялось. Постройка сюжета здесь шла на доверии к возможностям не только художественного, но и социального опыта зрителей.
«Кино-Правда» никогда не походила на витрину достижений.
Но и никогда о достижениях не забывала.
Только приближалась к ним изнутри.
Дом для рабочих был праздником.
Но шагал праздник в ряду с суровыми буднями.
Отсюда начиналось и ощущение демократичности хроники киноков.
Событие возвышало жизнь, но не возвышалось над ней.
От факта выстроенного дома для рабочих следовал уже естественный переход к другим фактам восемнадцатого номера «Кино-Правды» — к встрече рабочих Надеждинского завода с крестьянами, к посещению сельскохозяйственной выставки в Москве крестьянином-экскурсантом Ярославской губернии Василием Филипповичем Сиряковым.
Движение в направлении советской действительности затрагивало все более глубокие пласты.
Камера видела, как Василий Филиппович беседовал с рабочими в шумной толчее общежития, не отставала от него, когда тот ехал в трамвае на выставку (попутно успевая отметить разные живые детали — в вагоне, на улице за окном), побывала вместе с ним на выставке и на митинге по случаю ее закрытия, где выступили крестьянин-поэт Мишин, агроном Логанов, крестьянин Седов, отправилась с Василием Филипповичем на встречу с рабочими Краснопресненского машиностроительного завода.
Аппарат вглядывался в немолодое, бородатое лицо крестьянина, ловил в нем неподдельный интерес к окружающему, удовлетворение увиденным. Камера отмечала различные оттенки чувств. Но чаще всего на лице Василия Филипповича (как и на многих других лицах, появлявшихся в кадрах этого сюжета) возникала улыбка. Невольная, безотчетная, просто выражавшая состояние духа.
Люди улыбались будущему.
Обитатели общежития, участники митинга, трамвайные попутчики Сирякова, да и он сам были неважно одеты, не выглядели наевшимися досыта.
Многого еще не хватало, но к будущему уже можно было прикоснуться руками. Уже была своя выставка, на нее можно приехать из далекой деревни. Был уже свой поэт-крестьянин, ему дружно аплодировали — может, не за стихи, а именно за это: за то, что он уже был. И уже складывалось горячее стремление соединить рабочую и крестьянскую волю, чтобы перепахать старую жизнь.
Аппарат с поразительной прозорливостью уловил в этих кадрах самые ранние ростки всеобщего энтузиазма, в скором будущем он сольет огромные людские потоки в едином порыве на путях коренной перестройки человеческого существования.
Близилось время героической самоотдачи, седьмого пота, стиснутых зубов, трудового подвижничества — время больших испытаний. Их преодолеть было бы труднее, если бы даже в самые напряженные, хмурые минуты людей не согревала изнутри эта возможность улыбнуться будущему.
Люди улыбались будущему, потому что все тверже верили в него. Они были за него спокойны. Это рождало чувство удовлетворения.
Сюжет в сохранившемся виде кончается надписью: «Скрепляем союз рабочего класса и крестьянства».
Судя по архивным материалам, была еще надпись — слова самого Сирякова: «За выставку вам спасибо. Ленину Владимиру Ильичу спасибо».
Вертов возвращал сюжету мотив ленинского завета. Если вначале — на Надеждинском заводе — этим мотивом определялась высота звучания общей политической задачи («смычки»), то в финале он становился лейтмотивом личного чувства.
Это было важно Вертову, в следующем, итоговом сюжете журнала он хотел дать событие, в котором мотив ленинских заветов пронизывал не то что личные, а самые сокровенные человеческие чувства.
Таким событием стали октябрины.
Они помогли Вертову найти для этого мотива зримое патетическое выражение.
После того как родителям новорожденного были вручены подарки, произнесены последние пожелания («Будь здоров, товарищ!»), собравшиеся расходились по своим местам. Снова включались станки, начиналась работа: шел монтаж крупно снятых деталей работающих станков.
Монтаж был осуществлен с такой пластической точностью, ритмической энергией, что создавалось ощущение, будто во все эти приводные ремни, шестерни, шпиндели вдруг вдохнули жизнь и она запульсировала на глазах зрителей. Веселый, радостный ритм отбивался не только монтажно рассчитанными движениями механизмов, но и периодическим повторением (в виде надписи на фоне работающих деталей) одного и того же имени: ВЛАДИМИР… ВЛАДИМИР… ВЛАДИМИР…
Повторяя это имя, ожившие станки приветствовали нового гражданина — так кончается номер.
Но он так кончается опять же в сохранившемся виде.
А архивные документы свидетельствуют, что после повторений имени Владимир на экране возникала еще одна, заключающая журнал надпись: ЛЕНИН (возможно, она сопровождала и какое-то ленинское изображение, но сейчас установить трудно).
Станки повторяли имя недавно скончавшегося Ленина и только что родившегося и введенного в гражданство нового члена общества.
Смерть вождя не прерывала связь времен. Тема ленинских заветов возникала в предшествующем сюжете неспроста. Новый гражданин получал в наследие не только имя, но и дело Ленина.
Пробег в направлении советской действительности Вертов не представлял вне движения по ленинскому пути. Финал это подчеркивал с полной ясностью и потому был патетичен.
Но патетика не сквозила искусственностью, фанфарной риторикой. Она постепенно подготовлялась фактами, обнаруженными в гуще пестрого быта: новым домом для рабочих, желанием рабочих идти на смычку с крестьянами, чувствами ярославского экскурсанта и тех, кто собрался на октябрины.
Патетика финала не сводилась к выкрикиванию лозунгов. Она опиралась не на котурны, а на идейную убежденность.
Вертов хотел брать зрителя не горлом, не громкими словами, а раздумьями.
Он хотел зрителя не уговаривать, а убеждать.
В 1924 году, выступая перед общественным просмотром только что подготовленного девятнадцатого номера журнала и кратко обозревая предыдущие выпуски, Вертов говорил:
— Не сочтите, товарищи, за хвастовство, но несколько человек сочли нужным сообщить мне, что они рассматривают день просмотра восемнадцатой «Кино-Правды» как день перелома в их понимании советской действительности.
Октябрины и все другие сюжеты восемнадцатой «Кино-Правды» находились в напряженном взаимодействии друг с другом, как детали и механизмы работающего станка.
Октябрины и все прочие сюжеты в пятнадцатом номере «Госкинокалендаря» тоже сравнимы с деталями станка, но только не одного, а разных.
Вертов не жалел времени на «Госкинокалендарь», добиваясь регулярности выпуска. Зато «Кино-Правду» можно было выпускать не так часто. За два года на экранах появилось свыше пятидесяти номеров «Госкинокалендаря». А номеров «Кино-Правды» вышло всего двадцать три, хотя она начала выпускаться на год раньше.
Вертов получил больше времени на обдумывание каждого выпуска «Кино-Правды», на отбор материала и поиск средств, помогающих решить захватывающую задачу: осмыслить жизнь в единстве ее разнообразных (в том числе и противоборствующих) множеств. Дать синтетическую картину мира через его коммунистическую расшифровку.
Разъяв мир, объять его.
Эта задача захватывала Вертова все больше и больше, а в ответ он нередко ловил в глазах, обращенных к нему, холодную иронию людей, твердо знающих, что объять необъятное нельзя.
Но искусство только тогда и поднималось на новые ступени, когда концентрировало в себе элементы глобальных представлений о мире, — от Гомера до Шекспира, от Шекспира до Толстого. Можно добавить и другие имена из любой области искусства, в том числе из кинематографа.
Не все осуществляется, но многое часто зависит от того, на что художник замахнулся.
Пройдут годы — гнев скептиков сменится на милость: заговорят об особой синтетической природе вертовского творчества. Впервые и робко заговорят лет эдак через десять с лишним, уверенно лет эдак через сорок с лишним после того, как в «Кино-Правде» начал Вертов искать способы постижения полной меры вещей.
«Кино-Правда» сразу же стала не только воплощением объявленных намерений, по и опытным полем для экспериментальной проверки различных средств воплощения.
Статейку о пятом номере журнала Вертов написал не случайно. Он хотел предварить просмотр объяснением, что впервые предпринял совершенно новую для зрителя попытку свести разнородные факты в единую «кинонеделю» именно в этом номере.
Их сводил воедино «некто-человек», как называл его Вертов, — он периодически появлялся на экране. Человек читал свежую газету, заголовки из нее становились заголовками сюжетов, а газетные сообщения оживали на экране.
Прочитанное «некто-человек» видел не так, как обычно «видят» то, о чем прочитано, — умозрительно, а видел воочию: присутствовал на эсеровском процессе, знакомился с поездкой наркома земледелия Василия Яковенко по Сибири, переносился на курорты Кавказа в разгар сезона, привстав со стула, напряженно следил за «Красным дерби» — заездами на Московском ипподроме 2 июля 1922 года.
«Некто-человек» объединял разрозненные события внешне — фактом своего присутствия. Он не искал между сюжетами смысловых сближений. В дальнейшем этот прием киноками не использовался (хотя сама идея «некто-человека» не пропала бесследно). Но надо было начать, надо было попробовать; заранее предугадать, чем попытка закончится, не мог никто.
В других номерах, стремясь к более глубокому единству материала, Вертов нередко целый выпуск полностью отдавал одной теме.
Двадцатая «Кино-Правда» рассказывала о пионерском отряде с Красной Пресни (том самом, во главе которого был будущий «киноразведчик» Борис Кудинов), о поездке ребят в деревню Павлово-Ленинскую (ту самую, откуда родом был будущий «киноразведчик» Илья Копалин) и об экскурсии пионеров в зоологический сад. Эта «Кино-Правда» называлась «Пионерской».
Последний, двадцать третий выпуск «Кино-Правды» назывался «Радио-Правда», он целиком посвящался распространению радио в стране.
Вертов готовил этот номер с особым чувством. Тема волновала его не только с общественной точки зрения, но и лично. Радио осуществляло давнюю мечту о воспроизведении слышимого мира.
Факты, собранные в шестнадцатую — «Весеннюю» — «Кино-Правду», объединялись не темой, а настроением. Они были пронизаны лирической интонацией, маем, весной, улыбками.
В журнал вошел короткий фильм — первый в жизни фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном.
Для своего знаменитого, полного головокружительных неожиданностей спектакля «Мудрец» (по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты»), поставленного в Театре Пролеткульта, Эйзенштейн задумал снять киноленту — похищенный у Глумова дневник, где он описывал свои похождения. Под стать спектаклю с его клоунадами, аттракционами, традициями народного балагана лента искрилась веселым лукавством, эксцентричностью и одновременно была ироничной и злой. По-своему, гротескно, но точно она демонстрировала социальную подоплеку мимикрии Глумова. На экране Глумов наплывом превращался в тот или иной предмет, наиболее угодный персонажу, которого он улещивал, — то в осла (это нравилось Помешанному на поучениях Мамаеву, Глумов разыгрывал перед ним совершеннейшую пустоту), то в митральезу, старинное многоствольное орудие (это приходилось по вкусу воинственному Крутицкому), то в душку-младенца (это приводило в восторг тетку, пылавшую страстью).
Эйзенштейн позже писал, что дневник Глумова он решил заменить «Кино-Правдой», «как раз завоевывавшей тогда популярность». Когда он обратился за помощью к управляющему производством Госкино Михину, тот поручил съемку кинокам. Вертов послал снимать Лемберга, потом Франциссона.
Дневник Глумова под названием «Веселые улыбки Пролеткульта» Вертов включил (видимо, несколько перемонтировав) в шестнадцатую «Кино-Правду», показанную 21 мая 1920 года — в годовщину журнала.
Дневник снимали ослепительным апрельским днем у мавританского особняка Саввы Морозова на Воздвиженке, где помещался Пролеткульт.
Написав сценарий ленты, Эйзенштейн посчитал свою функцию исчерпанной. Он долго не подходил к аппарату, наблюдал за съемкой со стороны, полагаясь на умение Бориса Франциссона. Но в конце концов оператор категорически потребовал посмотреть в лупу, и Сергей Эйзенштейн первый раз в жизни подходит к киноаппарату.
Аппарат высоко и неудобно поднят на штативе. Сергей Михайлович не дотягивается.
Ему подставляют чемоданы от аппарата, сверху ставят еще футляр от кассетницы.
Взгромоздившись на шаткое сооружение, Эйзенштейн подпрыгивает и, повиснув на штативе, наконец-то заглядывает в кинокамеру.
Свидетель сцены, верный соратник начинающего режиссера, один из членов эйзенштейновской «железной пятерки», актер Пролеткульта Александр Лёвшин вспоминает, что окружающих забавлял тогда один вопрос: сорвется или не сорвется их молодой мастер?
А теперь, рассказывая о съемке через пятьдесят лет, Лёвшин писал, что не может без волнения вспоминать этот поистине исторический миг. Эйзенштейн вряд ли что-нибудь разглядел в лупу, висел он действительно неудобно, да и изображение в лупе было перевернутым.
В творческой судьбе Эйзенштейна это было веселое время театральной комедии.
Время эпических кинотрагедий было впереди.
Но первый шаг он сделал к ним в «весенних улыбках» — на одной территории с Вертовым.
В числе «Кино-Правд», построенных на тематическом единстве, был еще один выпуск — тринадцатый, сделанный к пятилетию революции и названный «Октябрьская Кино-Правда». Тот самый, которому Михаил Кольцов посвятил в «Правде» вдохновенную статью, считая, что с выходом вертовского журнала миновали в кинохронике прежняя безалаберная кустарщина, изнурительные длинноты, извод пленки: «Музыка на просмотре не играет, но музыка прет с полотна…»
После решительных со стороны Вертова обструкций старой хронике с ее парадами и похоронами самым удивительным в этом номере было то, что он целиком
строился на рассказе о параде и что одним из сильнейших эпизодов внутри рассказа стали похороны.
Но от октябрьского парада на Красной площади, торжественной меди оркестра, ликующих демонстрантов лента постоянно возвращалась назад, к живой, трепетной, как писал Кольцов, дергающей сразу ум, сердце, воображение истории. Возвращалась к пяти прошедшим годам, к беспощадной, кровавой борьбе за новый мир. Трагический эпизод похорон жертв революции был неотъемлемой частицей этой истории.
От праздника уходя в недавнее прошлое, лента затем снова возвращалась к празднику — на Красную площадь. А потом — опять история, потом — снова праздник.
Праздничное ликование не отъединялось от того, что ему предшествовало и его подготовило.
Настоящее осмыслялось через прожитое-пережитое.
В этом номере, может быть, как ни в каком другом (способствовал материал), выявилось неумолимое желание Вертова рассказывать не о параде жизни, а о самой жизни, даже если лента посвящена параду.
Вертов отвергал парад не в принципе, а принципиально. Не как факт жизни, а как метод изложения жизненных фактов.
Похороны героев революции и парад Красной Армии существовали в номере не в виде двух обособленных, взаимно безразличных журнальных сообщений.
Один факт длился в другом, олицетворяя смысловую плотность материала.
Но Вертов искал ее не только в тематических номерах.
В остальных выпусках (их большинство) он стремился к обнаружению невидимого сродства между событиями, лишенными видимого сходства, как это делалось в «Кино-Правде» с Октябринами.
Отсутствие внешних тематических связей усложняло задачу.
Но ни себе, ни зрителю на уступки типа «некто-человек», сшивающие сюжеты белыми нитками, Вертов не шел.
И все-таки именно некто-человек оказался основным инструментом, связующим все начала и все концы.
Только с усложнением задачи усложнились и его функции, укрупнилось значение.
Изгнав некто-человека из кадра, Вертов отнюдь не изгнал его из лент.
Незримое присутствие некто-человека ощутимо с большей или меньшей силой во всех вертовских журналах и фильмах.
Изгнание из кадра пошло ему на пользу. Он освободился от искусственности реального присутствия на экране. Еще важнее: освободился от созерцательности.
Но самое главное, он освободился от необходимости физического перемещения в пространстве и времени (то он в Сибири, то на Кавказе в Гаграх), получив удивительную возможность перемещаться из края в край земли мысленно.
В восемнадцатой «Кино-Правде», как и в большинстве других номеров, свой бег сквозь гущу современного быта на самом деле совершала вовсе не кинокамера, а мысль.
Мысль не Вертова.
Вернее, Вертова, но не одного его.
Маяковский часто писал «я», но это «я» не только вбирало в себя собственные ощущения и мысли поэта. Оно конденсировало мысли и ощущения современника.
«Кино-Правда» давала квинтэссенцию размышлений того самого некто-человека, уйдя из кадра, он одновременно растворился в каждой микроклетке ленты.
Белое полотно в кинозале становилось экраном сознания — не просто автора, а некоего обобщенного человека, современника, напряженно вглядывающегося в глаза жизни с целью понять ее.
В поэзии такого человека обычно называют лирическим героем.
Экран зримо воплощал его мысль во всех поворотах и ассоциациях на путях движения к цели.
Находившийся в кадре некто-человек видел события только глазами. Уйдя за кадр, он стал их видеть умом.
Вместо потока фактов ход мыслей, опирающихся на факты. Вместо единства видения внутрикадрового некто-человека единство мышления Человека за кадром.
Единством своего мышления он опрессовывал разрозненные события внутри каждого номера в монолитное целое.
В дальнейшем метод зримого воплощения пульсирующей мысли лирического героя Вертов будет использовать с возрастающим от фильма к фильму совершенством. Он даст точное определение метода — внутренний монолог.
Каждая его картина была выстроена в форме внутреннего монолога. Опять же не автора, а человека. Точнее, не человека, а Человека — так говорил сам Вертов.
Монологи писались не словами, а кинокадрами. Произносились не вслух, а мысленно (поэтому и назывались внутренними), но воспроизводились на экранном полотне.
Метод внутреннего монолога в конце концов стал общекинематографическим достоянием. Но он стал таким достоянием приблизительно через тридцать лет после того, как Вертов в 1934 году одним из первых (вторым — вслед за Эйзенштейном, теоретически обосновавшим в 1932 году идею внутреннего монолога применительно к игровому кино) заговорил о внутреннем монологе и через сорок лет первым в мировом кино начал практически осваивать этот метод в «Кино-Правде».
Вертовский журнал определил много в развитии советского кино.
Но еще больше «Кино-Правда» определила в развитии самого Вертова. Она была тем заботливо ухоженным участком земли, на котором он вместе с киноками высадил множество саженцев.
Большинство из них принялось.
Саженцы вырастут потом в крепкие, стойкие яблони.
Но, продираясь сквозь чащу непознанного в кино и оставляя за собой проложенные тропы, киноки, однако, не могли сказать о себе: и наутро мы проснулись знаменитыми.
Работая с необычайной изобретательностью и исключительной самоотдачей, они не ждали, что после просмотра очередной «Кино-Правды» зал в едином порыве поднимется со своих мест, восторженно выкрикивая:
— Браво!..
Их неожидания оправдывались.
Часть публики искрение, даже с восторгом принимала журнал. Другая часть (поначалу большая) действительно была порой не прочь вскочить со своих мест, но с криками совершенно противоположного содержания.
Вертов вспоминал: к десятому номеру страсти разгорелись. После выпуска четырнадцатого единодушный диагноз — «сумасшедший». Даже друзья не поняли и качали головами. Кинооператоры заявляли, что не будут снимать для «Кино-Правды».
Огонь страстей, начавший разгораться к десятому номеру, с выходом последующих «Кино-Правд» разбушевался вовсю.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Киноческий метод базируется на отрицании «эстетической кухни» и преследует цель внедрения натурального быта в кинематографию. Госкино обнаружило большую изобретательность в этом направлении, склеивая отдельные кусочки быта (не только парады, митинги и съезды) в осмысленную кино-вещь.
«Известия», 1924
Зрительный зал полон. Рабфак, Комсомол, Свердловия, Вхутемас, Пролеткульт и другая советская молодежь. Почти все киноработники… Юморески вызывают взрыв хохота и шумные аплодисменты. «Кино-Правда» принимается серьезно, время от времени вдруг раздаются хлопки одобрения и в конце молодая советская аудитория дружно аплодирует… Характерно, что по окончании демонстрации в фойе и в выходах нельзя было найти спорящих групп. Самые непримиримые противники киноков на этот раз ушли молча.
«Зрелища», 1924
На последнем госкиновском просмотре (14 апреля) нам показали очередную (19-ю) «Кино-Правду» — новый «пробег киноаппарата на протяжении стольких-то метров, под редакцией такого-то, при киночестве такого-то». Мы не знаем, бегал ли аппарат самостоятельно или вместе с редактором и киноком, но на экране такое накручено, что уму непостижимо…
«Кино-газета», 1924
№ 19 очень удачен, он наглядно говорит о том, что искусный показ быта может быть полон и драматизма, и юмора, и захватывающего воодушевленного интереса. В этом искусстве есть и своя драматургия, и живопись, и некая кино-музыка. Главное же, такая «Кино-Правда» насущно нужна нам по всему Союзу, во всех медвежьих и просвещенных уголках.
X. X. — «Известия», 1924
Становится нудным кликушество «кинока» Вертова… Вертову нужно бросить выспренный «теоретический штиль», взяться всерьез за учебу, и через несколько лет из этого молодого работника может оформиться прекрасный режиссер-постановщик.
Л. — «Кино-газета», 1924
Последним производственником выступил Дзига Вертов. Этот кинока-воин минут десять кино-врал про кино-правду, а потом публике пришлось приобщиться к случившемуся с Вертовым несчастью. Дело в том, что несколько ранее у него сбежал съемочный аппарат, и ни в чем не повинной аудитории пришлось просмотреть пробег этого аппарата, почему-то озаглавленный «Кино-Правда» № 19.
В. Ар. Парад Госкино (фельетон). — «Кино-газета», 1924
19-й № «Кино-Правды» посвящен женщине-работнице, и в фильме перед нами, в ассоциативной связи, проходят типы советских женщин от крестьянки, работающей в поле, до монтажницы, подбирающей негатив для данного № «Кино-Правды». Тов. Вертов дает много интереснейших моментов. Сделан дальнейший шаг вперед в смысле простоты, серьезности и понятности, но в этом направлении тов. Вертову предстоит еще большая работа. «Кино-Правда» заставляет напрягать внимание даже подготовленного зрителя.
Гусман Б. — «Правда», 1924, 13 июня
«Кино-Правда», где ты?
Месяц тому назад мне пришлось быть в одном кинотеатре, где шла «Кино-Правда», которая произвела на зрителей громадное впечатление… Невольно потянуло посмотреть еще раз «Кино-Правду»… Но почему нигде не идет «Кино-Правда»?.. Ведь «Кино-Правда», кроме смычки рабочего с крестьянином, дает нам самую занимательную газету и помогает в политграмоте.
Госкино, куда ты прячешь после показательных просмотров «Кино-Правду»? Откликнись.
Чернорабочий Бюробина. — «Правда», 1924, 19 июля
Своей «Кино-Правдой» т. Вертов, несомненно, завоевал себе полное право на особое внимание со стороны нашей партийно-советской общественности. Его работе должны быть предоставлены самые широкие возможности. Пусть его теория нетерпима и однобока, — его практика говорит за то, что эта экспериментальная работа, выросшая из процесс? пролетарской революции, — большой шаг на пути к созданию действительно пролетарской кинематографии.
Февральский А. — «Правда», 1924, 19 июля
Мнения вокруг киноков возбужденно вились и гудели, как пчелы растревоженного улья, с той лишь только разницей, что до единодушия, свойственного пчелиной семье, было далеко. То, в чем одни прозорливо чуяли медоносные богатства, другие полагали достойным в крайнем случае их жалящего хоботка.
Именем Вертова пестрела пресса, далеко не только кинематографическая. Многие издания украшали свои страницы кадрами из хроник, снятых киноками, рядом с текстами, где киноков вдохновенно поносили.
Высокая (иногда сверхвысокая) температура споров во многом предопределялась пылом собственных вертовских выступлений. Тон, с которым Вертов завязал спор, меньше всего предполагал любезный обмен мнениями в академической тиши.
Резкости в вертовскую сторону, насмешки, вышучивание, снисходительная ирония, возмущенное негодование скрещивались с точками зрения иного рода — в защиту киноков.
В поисках новых дорог Вертов не был одиноким путником, брошенным на произвол судьбы, каким оказался в эти же годы, например, выдающийся американский документалист Роберт Флаэрти — автор знаменитого фильма «Нанук» о жизни эскимосской семьи.
В борьбе за перестройку киномышления Вертов постепенно обретал единомышленников.
Его поддержал Алексей Ган. В своей поддержке Ган нередко исходил из неточных, путаных оснований (это объяснялось ограниченностью представляемых им позиций конструктивизма), что уже само по себе давало повод для полемики. В то же время Ган понял и поддержал важнейшую установку киноков на выявление и фиксацию фактов нового быта.
Чуть позже киноков начнет поддерживать окружение Маяковского, лефовцы.
На страницах «Известий» встанет (поначалу особенно твердо) на защиту вертовских идей и фильмов молодой, по уже известный критик Хрисанф Херсонский (иногда подписывавшийся «X. X.»).
И сразу же возьмет линию принципиальной поддержки Вертова «Правда».
Газета не только публиковала рецензии на вертовские ленты, но периодически печатала его статьи. В них Вертов не ограничивался разговором об общественно-социальном значении документальной кинохроники. Он касался самых кардинальных вопросов теории. Поставив в первой же статье, опубликованной 15 июля 1923 года под названием «Новое течение в кинематографии», вопрос: «Что нужно?», он без всяких обиняков отвечал: «Вместо музыки, живописи, театра, кинематографии и прочих кастрированных излияний на первое время: 1. Радио-Ухо — монтажное „слышу!“ 2. Кино-Глаз — монтажное „вижу!“» Утверждая, что пять лет революции прошли для русской кинематографии даром, поскольку она по-прежнему ориентируется на допотопную «психодраму в 6 частях», построенную по старому рецепту — литературный скелет плюс киноиллюстрации, Вертов выдвигал иную задачу: «Переворот в зрении, следовательно — и в общем восприятии мира человеком».
Поддерживая Вертова, «Правда» никогда не брала его безоговорочно под защиту.
Газету не смущали ни резкость тона, ни полемические крайности вертовской позиции. Но это не значит, что тон и крайности ее устраивали. Первую статью Вертова предваряло короткое вступление: «Помещаем (с сохранением стиля) заметку тов. Вертова с целью ознакомить наших читателей с новым течением в области кинематографии и вызвать обмен мнений по этому вопросу со стороны т.т., работающих в кино».
Вступление давало попять, что редакция считает заметку заслуживающей пристального внимания, несмотря на все неожиданности стиля и крайности оценок.
«Правда» гораздо раньше многих других подчеркивала, что крайности, какими положено, находятся на краях вертовской позиции. А ее сердцевину составляет нечто более существенное, например, вот это: переворот в зрении, способствующий перевороту в общем восприятии человеком мира.
Революция в искусстве не отделялась в исходных намерениях Вертова от целей социальной революции — этого «Правда» не могла не оценить, определяя на годы вперед свое отношение к художнику.
Оно отличалось от отношения к Вертову многих яростных полемистов не деталями, а существом.
А. Февральский в статье, опубликованной в «Правде» 19 июля 1924 года, отмечая однобокость и нетерпимость теории Вертова, одновременно солидаризировался со многими его идеями и горячо поддерживал его практику. «Правда» откровенно говорила о нетерпимых теоретических крайностях, но при этом она всегда проявляла предельную терпимость к экспериментам Вертова, твердо считая, что поиски ведутся на пути к созданию действительно пролетарской кинематографии.
Полемисты тоже критиковали (справедливо) крайности. Но, в отличие от «Правды», им казалось, что крайности и есть сердцевина его позиции, а все остальное — несущественные частности. Это и приводило в ярость, а она, как известно, советчик малограмотный. С ее помощью обоснованная нетерпимость к крайностям легко переходила в нетерпимость ко всему.
Ярость как таковая Вертова (во всяком случае, в молодые годы) не слишком беспокоила.
Но его беспокоило непонимание — не столько теоретических идей, сколько прежде всего практики.
Он хотел в этом разобраться, найти причины.
Вертов задумался.
И в конце концов пришел к выводу, что при всех изъянах «Кино-Правды» в непонимании ее он в общем и целом не виноват.
Установить это ему было необходимо: бессмысленно идти вперед с грузом вины; если груз есть, от него следует немедленно освободиться.
Вертов знал и другое: публика виноватой в общем и целом тоже не бывает. Она никогда не заполняет кинозалы с сознательным намерением не понять то, что должна увидеть, наоборот, она заполняет их обычно с прямо противоположным намерением.
Значит, для затрудненного в ряде случаев восприятия «Кино-Правды» существует какая-то объективная причина, лежащая вне его вины и вне ответственности публики.
Без всякой ярости, спокойно, с единственной целью достичь самого широкого понимания Вертов искал причину, пока сам не поставил диагноз.
«Я не сразу учел, что мои ругатели, воспитанные на литературе, не могут в силу привычки обойтись без литературной связи между сюжетами».
Несвязность сюжетов, их внутренняя неосмысленность — еще со времен старых журналов того же «Патэ-журнала» — была привычной, а потому попятной. В сознании зрителя она давно сложилась в единственно возможную форму существования журнального номера. Но стоило между разрозненными фактами установить действительные внутренние связи, причем установить не столько словесно, сколько зрительно, как начинало казаться в силу сложившихся стереотипов, что композиционно разрозненное представление о мире является более ясным и верным, чем сочлененное, синтезированное.
Самые интенсивные ругатели под свое непонимание стали подводить теоретическую базу. Послышались первые голоса, что киноки отступают от документа: сцепляя воедино различные по времени и месту факты, монтажно создают некую новую кинореальность, неадекватную реальности жизненной.
Одним из поводов послужил эпизод похорон из «Октябрьской Кино-Правды», особенно после того, как его описал сам Вертов в манифесте «Киноки. Переворот»: «…опускают в могилу гробы народных героев (снято в Астрахани в 1918 г.), засыпают могилу (Кронштадт, 1921 г.), салют пушек (Петроград, 1920 г.), вечная память, снимают шапки (Москва, 1922 г.)».
Разные события, а поданы как одно — разве это документальное кино, разве хроника?
Но Вертов уже тогда понимал: документальное кино не есть только хроника событий, а история времени не исчерпывается перечислением дат.
Вертов не сообщал о похоронах участников таких-то событий в таком-то городе такого-то числа.
Он говорил о похоронах Героев Революции, погибших на разных участках борьбы, их хоронил не Кронштадт, не Астрахань, не Петроград и не Москва.
Он хотел сказать, что своих героев хоронила — страна.
Тематически синтезируя факты, Вертов устремлен был к подлинной патетике.
Зрителю он доверял, справедливо считая, что по самому облику запечатленного зритель установит: факты — разные. Они не утрачивали на экране своей достоверной конкретности, не вводили в заблуждение. Но слитые вместе, разные по времени и географии, однако единые по теме, они поднимались до высот трагического.
Установив, что результаты его поисков на данном этапе части публики непонятны из-за того, что новы, Вертов не только не стал от новизны избавляться, а, наоборот, с еще большей настойчивостью принялся следовать избранным принципам целостного постижения мира.
Это не было твердолобым упрямством.
Вертов понимал, что сумеет вступить в безоговорочные контакты со зрителями тогда, когда в публике начнет крепнуть ощущение не столько новизны его методов, сколько их естественности.
А для этого публику надо было к ним приучить и самому неотступно продолжать поиски.
Даже непонятные (но верные в основе) монтажные сцепления, сложные смысловые ассоциации, раздражая непонимающих, тем не менее западали в их головы, начиная подтачивать, разрушать позиции, захваченные привычками, одновременно помогая самому Вертову находить путь к сложной простоте.
Он не стремился к новизне ради обязательного удивления зрителя. Но его не оставляла потребность постоянно решать в искусстве принципиально новые задачи.
В номерах «Кино-Правды», выпущенных после четырнадцатой, осторожность, оглядка и робость в овладении единством анализа и синтеза фактов сменяются все большей уверенностью.
И вот: еще только начинали сшибаться мнения по поводу девятнадцатой «Кино-Правды», а Вертов констатирует: на выпущенный полтора года назад (декабрь 1922 года) четырнадцатый номер, из-за которого группа киноков чуть не прекратила свое существование, теперь поступают повторные заказы. Он также констатирует, что экземпляры всех предшествующих выпусков оказались к тому времени настолько затрепанными на бесчисленных показах, что теперь их уже невозможно посмотреть.
По разным причинам не все удавалось в частностях.
Но не было сомнений в истинности магистрального движения.
Сомнений в истинности магистрального движения у Вертова не было не только при создании журнальных номеров, но первого большого фильма «Кино-Глаз» («Жизнь врасплох»), выпущенного параллельно с «Кино-Правдами» в 1924 году.
Развивая найденное в журналах на гораздо большем метражном пространстве и одновременно еще раз проверяя себя, Вертов ставил в фильме сразу множество задач.
Прежде всего он хотел реализовать на деле теоретически провозглашенный им тезис о неизмеримо больших возможностях Кино-Глаза по сравнению с обычным человеческим зрением.
Чтобы открыть скрытое, киноки должны были быть постоянно начеку и успевать вовремя.
Для съемок «врасплох» часто использовался специальный автомобиль с камерой и постоянно дежурившим оператором, он немедленно выезжал по вызову кинонаблюдателя.
Приехав со съемок из подмосковной деревни на один из московских вокзалов в шесть утра, киноки не разбежались по домам досыпать.
Увидев, как из вагона вывели слона, предназначенного для зоосада, они тут же «расчехлили» камеру и отправились вслед за неторопливым гигантом по ранним, только просыпающимся городским улицам (в фильме кадр прогуливающегося слона сопровождался лаконичной надписью — «350 пудов»).
Исходя из поставленных задач, въедливая камера Кауфмана искала не собственно факты, а внутренние мотивы разнообразных жизненных проявлений. Киноки сняли двух пионеров по прозвищу Цыганенок и Копчушка, с блокнотами в руках они обследовали рынок, проходя сквозь строй торговых рядов, а камера прочитала в провожавших их глазах мясников насмешку, презрение, подавляемое беспокойство.
Фиксируя быт, Кино-Глаз вскрывал его противоречия.
Камера спускалась на «дно жизни»: беспризорники, воришка-кокаинист, убитый служащий пивной Моссельпрома, болезни — наследие старого — туберкулез, сумасшествие (один не может избавиться от галлюцинации погрома, другому мерещится полицеймейстер), сутолока Сухаревки, Ермаковка, валютчики и налетчики, «темное дело»…
А рядом — другая жизнь, иной мир: пионерский клуб, пионерский лагерь — его строят московские пионеры вместе с сельскими (кадры, оставшиеся от монтажа этих эпизодов, вошли в «Пионерскую Кино-Правду»), пионеры участвуют в крестьянских работах, а потом весело брызгаются в реке и прыгают в воду с вышки, открытие лагеря и подъем пионерского флага.
Рыночной стихии противостоит кооперативная торговля, Цыганенок и Копчушка, обследовав цены, вывешивают плакат с призывом вступать в кооператив.
Идет борьба с туберкулезом, пивную Моссельпрома с ее хмельной монотонной гулянкой, с усталой гармонью обходят пионеры, собирающие в металлические кружки пожертвования на борьбу с болезнями и предъявляющие пьяницам «наш ультиматум».
Многим вещам Кино-глаз зрительно возвращал изначальность. Куски мяса на прилавках, проходя в обратной последовательности все стадии, превращались в тушу, затем в ожившего быка, бык попадал из предубойной камеры в вагоны, а оттуда опять в стадо.
То же происходило с хлебными караваями, они превращались в тесто, потом в муку, потом в колосящееся поле.
Взгляд Кино-Глаза был пытливо-сосредоточенным, по никогда не становился насупленно-скучным.
С каждым сделанным шагом он все больше ощущал свои возможности и, как молодой крепыш, наливающийся богатырскими соками, мог себе позволить от избытка силушки пошалить, повольничать.
Задорно, но неумело и угловато ребятня прыгала в воду — тут же возник кадр настоящих спортсменов, они совершали полеты с настоящей вышки, а надпись пояснила мимоходом: «Кино-Глаз показывает, как надо прыгать».
В другом эпизоде трамвай проходил по Тверской улице, встык шла надпись: «То же при другом положении киноаппарата» — и Тверская улица вместе с трамваем непринужденно, как бы между делом, перевернулась и легла на бок.
Сил — хватало; порой неясно еще было, куда их деть, а поиграть хотелось.
При стечении публики силачи издавна любят показать, как умеют переламывать медные пятаки, гнуть подковы. Смысла тут немного, а силу видать.
Народ к сильным относился всегда уважительно, но и посмеивался: «Сила есть — ума не надо».
К Вертову и кинокам насмешка непричастна, они хорошо знали, что их сила — ум.
Сила мысли, а не сила зрения.
Или сила зрения, пронизанная силой мысли.
Кино-Глаз не ради Кино-Глаза, а ради кино правды.
Одной лишь силой зрения они не прочь были иногда поиграть, но на периферии ленты — действительно, мимоходом и между делом.
Это проявление сил киноглазовского зрения придавало ленте дополнительное и своеобразное обаяние, но не заслоняло исходного стремления киноков: не просто показать в острозрелищной форме факты, а зрительно нащупать между ними скрытые тематические связи.
Во «Временной инструкции кружкам Кино-Глаза», опубликованной в составе большой теоретической статьи «Кино-Глаз» (сборник Пролеткульта «На путях искусства»), Вертов перечислял темы, по которым шел монтаж ленты: 1. «Новое» и «старое». 2. Дети и взрослые. 3. Кооперация и рынок. 4. Город и деревня. 5. Тема хлеба. 6. Тема мяса и 7. Большая тема: самогон — карты — пиво — «темное дело»; «Ермаковка» — кокаин — туберкулез — сумасшествие — смерть — «тема, которую я затрудняюсь назвать одним словом, но которую я здесь противопоставляю темам здоровья и бодрости».
Во время съемок и после выхода картины широко сообщалось, что она сделана без сценария. Вместе с подзаголовком «Жизнь врасплох» это подбрасывало хороший повод для обвинений в бесплановости осуществляемых киноками работ.
Не принимая обвинений, Вертов объяснял: киноки работают без сценария только потому, что хроника не может предписать жизни жить по сценарию литератора. Хроника может наблюдать жизнь как она есть и обязана потом делать выводы из наблюдений. «Киноки на основании киноданных обследования организуют киновещь», они идут к ней от материала (а не наоборот, от киновещи к материалу).
— Значит ли это, что мы работаем наобум, без мысли и без плана? — спрашивал Вертов.
И тут же отвечал:
— Ничего подобного.
В другой раз на многие упреки подобного рода он дал исчерпывающий «ответ-реплику» в стихах:
Без сценария! — таково обвинение.
В плену, мол, у фактов
и фактиков.
А мы — живое опровержение —
От созерцания к обобщению,
От обобщения к практике.
Ставя в фильме множество профессиональных задач, Вертов решал их в тесном контакте со множеством задач идейно-тематических.
Из этого несомненного достоинства картины неожиданно выросли и ее недостатки.
Сила фильма была в том, что идейно-тематические задачи ставились.
А слабость — в том, что их оказалось множество.
Каждая из тем, перечисленных Вертовым, имела права на самостоятельность.
Они могли находиться в ленте и все вместе, но только в том случае, если бы одна из них впитывала в себя остальные, была избрана ведущей.
Но все темы оказались в картине равными по значению.
Они набегали одна на другую, терялись, не завершаясь, не прочерчиваясь в обилии прекрасно снятого материала или прочерчиваясь не всегда уловимым пунктиром, слишком зыбким намеком, вроде он и был, а может быть, его и не было.
Вскоре после выхода картины в двух номерах журнала «Жизнь искусства» (44-м и 45-м) за 1924 год появилась умная, задиристая (не без отдельных крайностей и перегибов) статья В. Блюма «Против „театра дураков“ — за кино»: не только «театру» на экране, но и обычной хронике противопоставлялись ленты киноков, в особенности «Кино-Глаз».
Автор сравнивал кадр застывшей жены убитого моссельпромщика с изваянием, достойным резца великого художника, а пионеров, проходящих сквозь сутолоку нэпмановского рынка, с «двенадцатью» Блока.
В одновременно напечатанной в «Кино-газете» статье редактор газеты Владимир Ерофеев, отмечая ряд блестяще снятых и смонтированных кусков, писал, что перед зрителем вместо демонстрации быта предстает «кинематографическая кунсткамера» — слон на улицах Москвы, задохнувшийся сторож, Канатчикова дача.
Две точки зрения взаимно исключали друг друга.
Подобная ситуация в оценке вертовских фильмов и раньше и потом не была редкостью. Но в данном случае это не было связано с искаженным пониманием лепты одной из сторон: для разных толкований она сама давала повод. Некоторые остро схваченные «врасплох» жизненные мгновения могли восприниматься в картине и как «кунштюки» — на уровне случаев, бытовых происшествий, а не фактов бытия, находящихся на пересечении исторических эпох.
Могло возникнуть ощущение, что факты один за другим вытряхиваются на экран, как предметы из рукава уличного китайского фокусника Чан Ги-уана, он тоже появлялся в фильме — в каменном мешке двора показывал свои трюки и, судя по надписи, говорил, вытягивая глаза и рот в совсем тоненькие линии: «Смотли, лука цел»…
Спор продолжался.
Блюм спрашивал: разве «врасплох» добытый эпизод, где недоуменный взгляд лавочника провожал маленького, юркого, но такого настойчивого мальчика в пионерском галстуке и с записной книжкой в руке, «не кричит о будущем торжестве коммунизма гораздо громче и убедительнее, чем казенные и обязательные апофеозы в финалах агитационных фильм?!»
Вопрос не казался чересчур риторическим, Блюм в своем пафосе был прав.
«После просмотра этой картины становится совершенно очевидным, что озорному Кино-Глазу Вертова и его умелым рукам недостает руководящей коммунистической головы» — приходил к совершенно противоположному выводу Ерофеев.
И если был не прав, так только в одном: просчеты картин возникли не от отсутствия идей в голове Вертова, а от их переизбытка.
Некоторые рецензенты пытались не только оценить картину, они давали рекомендации, как правильнее было бы строить ее.
Хрисанф Херсонский в статье, помещенной «Известиями» 15 октября, через день после общественного просмотра картины в 1-ом Госкинотеатре, поддерживая ряд эпизодов «Кино-Глаза» и саму идею фиксации нового быта, тоже отмечал, что в ленте идеология борется с кунсткамерой поверхностных эффектов. Он особо выделил пионерскую линию, считая все остальное пристегнутым к ней — мол, правильнее было бы отстегнуть и отбросить.
В течение последующих десятилетий «Кино-Глаз» часто рассматривался с позиций уверенного противопоставления пионерской линии иным линиям фильма (в чем, кроме всего прочего, выражалось обоснованное желание критики какую-то линию картины выделить в качестве главной).
Но мысль критики была беднее вертовского замысла.
Он меньше всего хотел, чтобы «Кино-Глаз» стал расширенным вариантом «Пионерской Кино-Правды».
Задача выдвигалась более сложная.
Вскоре после окончания работы над фильмом Вертов говорил, что в центре внимания многих его «Кино-Правд» ставятся вопросы взаимоотношения города и деревни и что так же начала строиться первая серия «Кино-Глаза».
По авторскому замыслу, пионерская линия должна была войти с другими линиями в сложное взаимодействие, отражающее сложности реальной жизни, и не носить самостоятельного характера, а выливаться в животрепещущую тему времени — смычку города и деревни.
Эту тему пионерская линия олицетворяла с достаточной полнотой и ясностью.
Но поскольку тема смычки не пронзала лепту насквозь, а лишь стояла в одном ряду с другими темами (в вертовском перечислении тем — под четвертым номером), то пионерская линия не столько входила во взаимодействие с остальными линиями (а они в свою очередь олицетворяли другие равнозначные темы), сколько существовала с ними рядом.
Взаимное проникновение достигалось далеко не всегда.
Вертов это понял очень быстро.
Вскоре после выхода картины в прессе появилось сообщение о заседании киноков: был заслушан двухчасовой доклад Вертова о первой серии «Кино-Глаза», отмечены недостатки этой серии и выявлены их причины.
В позже опубликованной статье «Кино-Глаз» Вертов точно определял просчеты фильма — слишком широкий замах, слишком большое количество скрещенных тем за счет беглости рассмотрения каждой из них.
Он объяснял: такой замах отчасти диктовался намерением произвести по возможности широкую разведку, чтобы углубляться в жизнь в дальнейших сериях (их должно было быть шесть) на основании этой разведки. С другой стороны, такой подход был отчасти вынужденным, так как доведение какой-нибудь из тем до конца требовало больших временных и денежных затрат. Для углубленного освоения действительности не хватало и техники, в распоряжении киноков был один съемочный аппарат, Вертов рассчитывал, что в следующих сериях удастся организовать разведку и наблюдение несколькими камерами.
Вертов в своих объяснениях не оправдывался, а констатировал реальные факты.
Во время съемок фильма он подал (30 июля 1924 года) заведующему конторой кинопроизводства Госкино заявление, в нем писал: условия работы над «Кино-Глазом» крайне тяжелые, не получено и четверти денег, предназначенных по смете, а о технических приспособлениях и говорить нечего — из обещанного не получено ничего, поэтому наблюдение за фиксируемыми местами и людьми не может быть планомерным. Вертов заканчивал заявление словами о том, что считает себя обязанным поставить свою ответственность за судьбу картины в зависимость от получения денежных средств (хотя бы еще 1/5 части по смете) в течение двадцати четырех часов (группа находилась на съемках в подмосковной деревне Павловской).
К заявке на фильм, поданной руководству Госкино еще задолго до съемок, Вертов приложил в свое время списки действующих лиц («вместо актеров») и мест действия («вместо ателье»). Среди действующих лиц назывались кинооператор, почтальон, буржуй, агент уголовного розыска, ученик, торговка рыбой, молочница, отряд пионеров, пожарная команда, скорая помощь, велосипедист, извозчик, спекулянт, китаец-фокусник, старьевщик, дама с собачкой. Местами действий значились пионерский лагерь, поезд, пароход, дом инвалидов, ночлежка, кладбище, хлебопекарня, поле, деревня, комната рабочего, родильный дом, аэродром, спортивная площадка, бани, тюрьма и т. д.
Многое вертовская группа сняла точно в соответствии с планом.
Но многое еще предстояло снять в будущих сериях. Однако снято не было: Госкино посчитал это ненужным, и картина навсегда осталась в одной серии.
Через несколько лет Вертов скажет, что первая серия была попыткой дать стопроцентный Кино-Глаз, перескочив через годы. Взять действительность голыми руками оказалось не просто.
Трезво и открыто констатируя просчеты попытки, Вертов здраво оценивал и ее значение.
Картина обогатила киноков опытом, познакомила с трудностями, которые они не вполне одолели, по дала знание, как с ними справляться в дальнейшем, и предоставила широкой публике — при всех недостатках общего построения, зыбкости ряда связок — зрелище неповторимое, острое, достоверное во многих психологических деталях и основных социальных ощущениях.
Вертов называл фильм — «Кино-Глаз ощупью», «завязкой боя».
«Кино-Глаз на первой разведке» — такая надпись периодически возникала в картине.
Выступая 13 октября 1924 года перед первым общественным просмотром ленты, Вертов призывал зрителей понять это прежде всего и видеть в картине то, что в ней есть, не ища того, чего нет и быть не может:
— Вы разочаруетесь, если пришли сюда, чтобы увидеть развлекательную любовную историю. Вы разочаруетесь, если ждете захватывающего детектива, разочаруетесь и тогда, если вы думаете здесь увидеть какие-нибудь необыкновенные трюки и фокусы. Но если вы учтете, что то, что мы вам сейчас покажем, это только разведка ощупью одного киноаппарата, если вы примете во внимание, что это только первая серия, одна шестая часть первого пути Кино-Глаза, то и эти простые кусочки жизни, снятые как они есть, а не разыгранные, — дадут вам некоторое удовлетворение.
Непредубежденная публика, непредвзятая критика отнеслись с пониманием не только к картине, но и к замыслу.
Еще до выхода фильма, 19 июля 1924 года, «Правда» поместила статью «Кино-Глаз», где в лапидарной форме Вертов излагал принципы работы, ее главные цели.
Выступление сопровождалось статьей А. Февральского «Теория и практика тов. Вертова»: «Программа, намеченная тов. Вертовым, — задание огромного экспериментального значения. Показать жизнь как она есть — это значит агитировать за пролетарскую революцию, — вот основная и совершенно правильная мысль т. Вертова».
После общественного просмотра картины «Правда» напечатала 15 октября 1924 года рецензию Б. Гусмана: он говорил о ярких эпизодах, которые смотрятся с большим интересом, о теме борьбы молодого со старым, о впервые наглядно демонстрируемой в кино смычке города и деревни. В довольно резких словах Гусман тоже отмечал несвязанность эпизодов между собой, но не искал причину этого в идеологической незрелости киноков. По соседству с его рецензией «Правда» поместила заметку о диспуте после первого просмотра фильма, в ней сообщалось, что все рабочие, комсомольцы и пионеры, выступавшие в прениях, называли «Кино-Глаз» крупнейшим достижении советской кинематографии.
На страницах «Кино-недели» новую работу киноков решительно поддержал один из зачинателей и первых организаторов советской кинохроники Г. Болтянский.
Даже «Кино-газета» пришла наконец к мысли, что Вертов достоин не только поучающих выговоров и лихих фельетонов. Через несколько дней после опубликования рецензии Ерофеева (ее тон при всей критичности итогов и выводов не походил на тон прежних оценок вертовского творчества) газета напечатала интервью с руководителем группы киноков — «в целях информации читателей о течении, представляемом Д. Вертовым». Полностью освободиться от ядовитости газета была не в силах.
— Не можете ли вы простыми словами сказать о ваших задачах в кинематографии и в других областях? — спрашивала «Кино-газета», не упуская случая вставить шпильку даже в свой вопрос.
— Могу, — охотно отвечал Вертов, пропуская шпильку мимо ушей. — Мы никому не мешаем жить. Мы снимаем только факты и вводим их через экран в сознание трудящихся. Мы считаем, что разъяснить мир как он есть — и есть наша главная задача…
В коротком, как бы на ходу данном ответе стояло слово, выражавшее суть позиции с исчерпывающей полнотой; главной задачей Вертов считал не показывать, а разъяснять мир как он есть. Этим позиция Вертова отличалась от того, что нередко писали о нем и что ему приписывали.
В интервью был вопрос и о первой серии «Кино-Глаза». Вертов коротко повторил то, что говорил о фильме перед премьерой:
— Это осторожная разведка одного киноаппарата, главная задача которого не запутаться в жизненном хаосе и ориентироваться в той обстановке, в которую Кино-Глаз попал. Сделан один шаг — одна шестая пути.
В марте 1925 года в Париже открылась Всемирная выставка декоративных искусств. Советский павильон, выстроенный архитектором К. С. Мельниковым, пользовался огромной популярностью у посетителей. По сообщениям прессы, Родченко подготовил для павильона макет, рассказывающий о работе «Кино-Глаза», а сам фильм вошел в кинопрограмму, представленную СССР.
Советские газеты и журналы были заполнены фотографиями из «Кино-Глаза». Чаще других публиковались кадры эпизода подъема флага в день открытия пионерского лагеря.
Родченко выпустил знаменитый плакат: наверху огромный, широко распахнутый в мир глаз, а внизу — пионеры; задрав головы и щурясь от солнца, они следят за взвивающимся ввысь куском кумача.
Этот эпизод хорошо смотрелся, надолго оставаясь в зрительской памяти, хотя занимал в ленте всего семнадцать метров. Но эти семнадцать метров Вертов выстроил из пятидесяти трех коротких (иногда просто крохотных, до одной четвертой секунды на экране) моментом: кадрики взбегающего, словно язычок пламени, флага по длинному шесту (то «живьем», то тенью на траве) все время перебивались снятыми с разных точек лицами ребят. Провожая взглядами флаг, они поднимали головы все выше и выше.
Сцена не понравилась Эйзенштейну.
Она дала повод для еще одного теоретического спора с Вертовым, отголоски его погромыхивали на протяжении лет и десятилетий.
Во многих спорах Эйзенштейна с Вертовым неточности ряда оценок и выводов пересекаются с глубокими прозрениями и служат опорой (хотя бы от противного) для дальнейшей шлифовки плодотворных идей.
На этот раз выпад оказался поучительным только одним: лишним напоминанием, что жажда дополнительных аргументов в чрезмерном полемическом азарте способна опустить пелену даже на глаза гения.
При всей видимости правоты удар Сергея Михайловича оказался сокрушительным лишь для него самого.
В горячке схватки он не заметил и не оценил того, чего не мог не заметить и не оценить в более спокойной обстановке, хотя бы в перерыве между раундами, когда имеется возможность отдышаться и стряхнуть с лица пот, застилающий взор.
В статье, где вертовскому «Кино-Глазу» Эйзенштейн показал свой «Кинокулак», была довольно внушительная сноска. Эйзенштейн любил сноски, иногда они интересны не менее текстов. Доказывая в тексте, что Вертов, призывающий постоянно к динамичности, сам в своем творчестве статичен, Эйзенштейн в сноске ссылался на «взвитие флага над пионерским лагерем» в «Кино-Правде» («не помню в которой», писал он, спутав «Кино-Правду» с «Кино-Глазом», эту неточность в книге об Эйзенштейне повторил Шкловский).
Эйзенштейн объяснял, что вся сцепа подъема флага построена на статичных крупных планах, не имеющих никакой внутрикадровой динамики. Вертов создает ее искусственно — стремительной монтажной сменой коротких изображений.
Налицо именно монтажное «гримирование» в динамику статичных кусков, — объявлял приговор Эйзенштейн.
Не просто монтажное, а именно монтажное «гримирование» — вывод несомненный, как хороший апперкот.
Но несомненным вывод мог оказаться лишь в том случае, если бы в полемике не потерял
Эйзенштейн из виду как минимум два важных обстоятельства.
Важных не для самого спора и выяснения личных отношений, а для опыта кино.
Во-первых, Эйзенштейн упустил из виду, что статика — есть всегда момент — более длительный или менее — динамики, что всякое движение соткано из последовательных моментов неподвижности и что иное экранное изображение, в котором движение как бы на ходу застывало, отмечено гораздо большим внутренним динамизмом, чем движение непосредственное — пусть даже на высочайших скоростях. Сам тот факт, что мальчишки и девчонки, находящиеся обычно в вечном беспокойном перемещении, вдруг замерли вокруг флага, был полон динамического напряжения, оно подчеркивало значительность происходящего. Момент располагался между движением, которое только что прекратилось, и движением, которое вот-вот всколыхнется вновь, и от этого статика не только не превращалась в неподвижность, а, наоборот, достигала некоего гребня движения.
Статичные планы, перебивая движение флага, растягивали реальное время. Они замедляли, тормозили его, но это не уменьшало, а увеличивало ожидание того момента, когда флаг достигнет верхней точки. Замедление вело не к статике, а к усилению внутреннего накала сцепы.
«Гримировать» этот эпизод в динамику у Вертова не было никакой нужды.
Разбивая его на предельно короткие куски, Вертов преследовал совсем иную цель. Ее Эйзенштейн тоже не понял, и это было вторым, пожалуй, еще более существенным обстоятельством, упущенным им из виду.
Через монтаж коротко нарезанных статичных планов Вертов передавал главное — нарастающую динамику чувств и мыслей тех, кто окружил флагшток.
Вверх, вперед и выше, поднимался не флаг — поднималось волнение ребят. Флаг становился образным олицетворением взвившихся ввысь ребячьих чувств. Задирая свои прокаленные солнцем головенки, мальчишки и девчонки вместе с куском кумача на какие-то мгновения воспаряли над обыденным, мысленно уносились высоко-высоко — к захватывающему дух ощущению радости от сегодняшнего дня и от счастья, идущего навстречу из дня грядущего.
Выразить все это словами они вряд ли смогли бы.
Разве можно выразить словами всю полноту ощущений?
Но можно попробовать передать другими средствами, как это попробовал Вертов, — через полифонию эмоциональных оттенков, через некую зримую музыку. Взвивающийся флаг солировал, вел основную тему, ребячьи лица отыгрывали ее множественностью оттенков. А может, правильнее сказать, что множественность оттенков отыгрывалась в солирующем флаге.
В эпизоде происходила насыщенная конденсация личных чувств и их социальных мотивировок.
Конечно же, в более спокойной ситуации Эйзенштейн этого бы не просмотрел.
Такой вывод основывается не на отвлеченном предположении, а на констатации совершенно реального факта: не только лучший эпизод (с сепаратором) в «Старом и новом» (как это верно отметил в книге об Эйзенштейне Шкловский), но и самая знаменитая во всем эйзенштейновском творчестве сцена одесской лестницы из «Броненосца „Потемкин“» построены тем же методом — стремительным монтажом статичных крупных планов.
В «Старом и новом» крестьяне с недоверием, но и с любопытством смотрели на диковинную машину: она сама должна была отделить сливки от молока. Лопасти и шестерни наращивали обороты, росло напряжение на лицах, пока первая густая капля белоснежного продукта не скатилась из специального носика, вызвав всеобщий восторг.
Внутрикадровая статика эпизода (неподвижные крупные планы крестьянских лиц) очевидна, а между тем он предельно динамичен.
Но не за счет быстрой монтажной смены планов. И не за счет внешне выраженного движения в коротко нарезанных кадриках работающего сепаратора.
Монтаж лиц и работающих механизмов передавал возрастающую динамику чувств, они концентрировались в основную эмоционально-психологическую тему эпизода — ожидание.
Одновременно основная психологическая тема внутри эпизода переливалась в проблему всей жизни, в раздумье о том, как жить дальше: единолично хозяйствовать или совместно? Быть или не быть артели? Шло ожидание не отделившихся сливок, а ответа на вековечный вопрос: возможна или нет счастливая жизнь?
Вращались не шестерни сепаратора.
Крутились, убыстряя бег, винтики, гаечки, шурупчики в человеческих головах, пока не достигали пика и одновременной разрядки, дающей новый продукт — сгусток идеи: только машина облегчит хлеборобский труд, только артелью можно приобрести машину.
После того как сливки «пошли», крупные планы ликующих крестьян стали перебиваться цифрами, растущими в размерах: 4… 38… 50 членов артели.
Эйзенштейн писал, что сцена с сепаратором по методу и теме («ожидание») дословно повторяет финальную сцену «Броненосца» — встречу мятежного корабля с эскадрой. В подробных сравнительных анализах этих двух сцен не отмеченным осталось лишь одно: то, что их энергия определялась напряженной монтажной сменой статичных планов (в финале «Броненосца» — это моряки, они замирают у своих орудий в ожидании обстрела царской эскадрой).
В «Броненосце „Потемкин“ сцена на одесской лестнице с особой очевидностью, даже изощренностью, демонстрировала отнюдь не обязательную адекватность физической неподвижности на экране понятию статики и физического перемещения — понятию динамики.
Расстреливаемая в упор толпа металась по лестнице, но самыми динамичными были отрывистые кадры людей, в ужасе застывших перед надвигающейся серой солдатской массой.
Как и в „Кино-Глазе“, лица многих были подняты вверх.
Но если задранные — вослед флагу — головы пионеров передавали воспаряющий взлет чувств, их движение ввысь, то в „Броненосце“ поднятые лица в монтажном сочетании с неумолимо двигающейся сверху тупой окаянной силой означали прямо противоположное: только что парившие над толпой высокие мысли и чувства, вызванные обещанными свободами, свинцовым ударом сверху вгонялись обратно, внутрь, бросались под ноги, выбивались из-под ног и вытаптывались тяжелыми сапогами.
Из ума вышибался ум, наступало безумие.
Мысль, не в силах осмыслить бессмысленность происходящего, металась в безумии и, как коляска с непонимающим младенцем, неслась, никем и ничем не защищенная, по ступенькам вниз — к краю бездны, в омут небытия.
В этом эпизоде все, что было связано с динамикой истинно человеческих переживаний, раскрывалось преимущественно в статичных крупных планах лиц, кричащих ртов, разжавшихся рук. Крупным планом выделялись самые острые моменты переживаний, поэтому статичные кадры были исполнены рвущегося через край динамизма.
И только одно находилось на протяжении всего эпизода в постоянном сомкнутом движении, ни разу не распадаясь на статичные крупные планы, — строй палящих из ружей солдат.
Но их неостановимое, монотонное движение было статично по духу.
Оно было внутренне окаменелым.
Солдаты двигались — шли и шли, — а душа их спала.
В неподвижности оставалось то, от чего зависит динамическая энергия, — мысль.
Крупные планы не требовались, выделять крупно было нечего.
В искусстве статика и динамика — понятия смысловые, они могут быть выражены предметами, находящимися в любом физическом состоянии.
Динамика — это не просто движение, как на минуту показалось Эйзенштейну при воспоминаниях о „Кино-Глазе“, а нарастающее (или ниспадающее) движение.
Статика — это не нарастающая неподвижность (тогда бы это тоже была динамика, только со знаком минус), а неподвижность, не способная к нарастанию (или спаду).
Величие Эйзенштейна в том, что строй солдат у него все время двигался, но без какой бы то ни было смены темпа и ритма.
Ступал строй големов, обученных двум вещам: идти напролом и жать на спусковой крючок (пока, конечно, не встанет на пути грозная сила, но тогда строй рассыплется, а големы, охваченные начатками человеческих чувств, станут превращаться в людей).
Внутрикадровое движение солдат передавало внутричеловеческую неподвижность.
Внутрикадровая статика крупных планов людей, настигаемых пулями, передавала обратное — внутричеловеческую динамику, нарастание эмоций.
Сложнейшие в жизни пересечения статики и динамики в их неожиданных, нередко противоположных обличьях Эйзенштейн гениально прочувствовал у себя, и остается только пожалеть, что он не прочувствовал это у Вертова.
Критика, в том числе та, что восторженно встретила „Стачку“ и „Броненосец „Потемкин““, отмечала очевидное влияние на их документальную стилистику хроник киноков, „Кино-Правды“.
Эйзенштейн не отрицал, говорил, что „Броненосец „Потемкин““ воспринимается как хроника, а действует как драма.
Но он не был бы самим собой, если бы ограничился признанием.
Через признание он тут же шел к отрицанию: да, воспринимается как хроника, похожая на ту, что у Вертова, но действует-то как высокое драматическое искусство. В подтексте следовало понимать: у Вертова подобное воздействие просто невозможно, он ведь искусство отрицает.
Эйзенштейн и Вертов довольно уверенно полагали, что живут в творчестве на разных берегах, если и существует мост, то он постоянно разведен и вздыблен двумя половинами, как в фильме Эйзенштейна „Октябрь“ — внизу только свинец невских вод.
У подлинных художников на самом деле так не бывает, они могут двигаться разными берегами, но мост всегда наведен. В ажиотаже схватки спорщики часто даже не подозревают, что он существует, — все еще мечут громы и молнии, а между тем уже давно и не раз пожимали на мосту друг другу руки.
Сходство ряда элементов метода, идентичность способов построения отдельных сцеп никогда не означала прямых заимствований. Разные художники приходят к разному результату, но, оказывается, исходят нередко из одного и того же. Результат сохраняет всю полноту и обаяние индивидуальности, хотя и налицо сходство отдельных точек отсчета.
Оба периодически публиковали широковещательные объявления о том, что их разводит, а творчество и жизнь их периодически сводили.
С конца двадцатых годов Эйзенштейн начал разрабатывать теорию „обертонного монтажа“. Согласно этой теории на зрителя должно воздействовать не только движение основного содержания фильма, но и сопутствующие движению различные тона (пластические, световые, звуковые и т. д.) — помимо смыслового монтажа идет монтаж всевозможных ощущений, работающих на смысл. Эйзенштейн опирался на опыт музыки (там такие тона называют обертонами), в особенности на опыт двух композиторов: Дебюсси и — чаще всего — Скрябина.
Оказалось, что повышенный интерес к Скрябину был у обоих.
Разрабатывая теорию „зрительного обертона“, Эйзенштейн приходил далее к мысли, что он возможен „только в четырехмерном (три плюс время)“ пространстве и что по-настоящему оперировать этим измерением дает возможность лишь такое „превосходное орудие познания, как кинематограф“. В 1929 году он написал статью, она так и называлась „Четвертое измерение в кино“. В ней Эйзенштейн призывал перестать пугаться этой „бяки“ — четвертого измерения.
А в опубликованном в 1922 году манифесте „МЫ“ к тому же призывал, исходя из специфики кино, Вертов, причем призывал почтив тех же словах: „…в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями (3+время), в поиски своего материала, своего метра и ритма“.
Неожиданные точки соприкосновения возникали не только в каких-то теоретических посылках, но и в конкретных практических намерениях. Эйзенштейн хотел осуществить серию фильмов на общую тему — „К диктатуре!“. „Стачка“ была первой картиной, но так сложилось, что, как и „Кино-Глаз“, она оказалась в задуманной серии последней. Стремясь к предельно обобщенному, синтезированному охвату исторических эпох, Эйзенштейн замышлял экранизацию „Капитала“ Маркса. В упомянутой выше заявке на „Кино-Глаз“ Вертов говорил, что, являясь самостоятельной (как в смысле содержания, так и в смысле формального искания), картина в случае удачи этого опыта предназначается в качестве пролога к мировой картине „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“.
Трудно сказать, какими бы вышли эти фильмы, хотя не трудно угадать, что они были бы совершенно разными. Но масштабы замыслов, их направление — совпадали.
Эйзенштейн повторял, что „Стачка“ — это отнюдь не „Кино-Глаз“, а Вертов, соглашаясь, что „Стачка“ — не „Кино-Глаз“, а только игра в „Кино-Глаз“, утверждал в свою очередь, что „Кино-Глаз“ — это отнюдь не „Стачка“.
По многим свойствам картины были совершенно несхожими.
И все-таки жизнь не случайно находила основания для того, чтобы их ставить рядом.
Париж премирует советских режиссеров.
Согласно сообщению, полученному Академией Художественных Наук, на выставке декоративных искусств в Париже получили награды: режиссер МежрабпомРусь Я. А. Протазанов — почетный диплом (2-я награда), режиссер Госкино С. М. Эйзенштейн — золотую медаль (3-я награда), режиссер Пролеткино С. Д. Бассалыго — золотую медаль (3-я награда) и кинок Д. Вертов — серебряную медаль (4-я награда).
„Кино-газета“, 1925, 17 ноября
Новороссийск до востребования Вертову.
Поздравляю получением серебряной медали Кино-Глаз Парижской выставки много шума Пиши=Лиза.
На этом первом международном киносмотре — еще задолго до появления многих знаменитых фестивальных конкурсов — Эйзенштейн был удостоен медали за „Стачку“, Вертов — за „Кино-Глаз“.
После Парижской выставки картина Вертова стала известна в мире. Под ее влиянием элементы документалистики начали проникать в различные жанры искусства. Американский писатель Дос-Пассос написал роман, в котором вымышленное повествование периодически прерывали блоки документов — рекламные объявления, сообщения газет и т. п. Блоки открывались одним и тем же заголовком: „Кино-Глаз“.
Вертов видел: при всех своих недостатках лепта задевает зрителя, оставляет след в сознании.
Просчеты картины не поколебали основ вертовской позиции.
Но отсутствие сомнений в верности магистрального движения не означало, что в каждом конкретном случае Вертову было все заранее ясно. Скорее, наоборот: каждый раз приходилось начинать все сызнова.
Он выбрал путь для движения, а способы движения всякий раз зависели от многих обстоятельств и не могли быть шаблонными. Да и дорога не давала обязательств быть прямой и гладкой — где-то петляла, где-то легко скатывалась с пригорка, а где-то дыбилась крутым тяжким подъемом.
Понимание главного не исключало всевозможных проб и экспериментальных проверок.
Многое потом отметалось, но оставался опыт.
Он не давался даром.
Но и даром не проходил.
Отдельные, даже сами по себе верные критические замечания часто утопали в потоке поверхностных раздражительных оценок.
Болезненно, остро, иногда доходя до отчаяния (это видно по дневникам) Вертов переживал не критику, а непонимание — оно казалось порой фатальным.
На непонимание отвечал резко. Одновременно старался еще и еще раз объяснить свою позицию.
А на справедливую критику почти никогда не отвечал признанием впрямую просчетов и обещанием исправиться.
Между тем Вертов был человеком редкостной, может быть, даже беспрецедентной, восприимчивости к критике.
Среди людей искусства не просто найти другого человека, который бы с такой же внимательностью взвешивал всю без исключения сумму разнороднейших оценок, делая необходимые выводы.
— Говорят, что я не умею признаваться в ошибках, это верно, — говорил он на одном из киносовещаний в конце тридцатых годов. — Но я стараюсь исправлять свои ошибки на экране…
Эти слова не были просто словами.
На протяжении всего творчества каждый последующий фильм становился, с одной стороны, продолжением предыдущего, развивал его принципиальные липни, с другой — решительным отрицанием предыдущего: и того, что в нем оказалось бесплодным, и того, что было органичным для него, но не было обязательным для других, наконец, каждый новый фильм становился открытием неизведанного, того, чего прежде не было вообще.
Шло постоянное осмысление собственного опыта, оно опиралось в том числе и на трезвый учет всего пестрого конгломерата критических мнений.
Через три месяца после премьеры „Кино-Глаза“ Вертов выпустил новый фильм.
Это была 21-я „Кино-Правда“ (подготовленная киноками к 21-му января 1925 года), но по обработке материала и его объему (три части) лента выходила за рамки обычного журнала.
ЗРАЧКИ АФИШ
(газеты, журналы, рекламные тумбы и щиты)
К Ленинским дням выпускается Ленинская „Кино-Правда“, которая снимается рядом операторов и монтируется Дзигой Вертовым.
„Пролетарское кино“
Новости современной кинотехники
Оператором-киноком М. Кауфманом сконструирован аппарат, при помощи которого он имеет возможность производить увеличение предметов и лиц, снятых задним планом, и показывать их в первом плаве…
„Новый зритель“
Новые портреты В. И. Ленина, помещенные на обложке „Экрана Кино-Газеты“, сделаны оператором-киноком М. Кауфманом для ленинской „Кино-Правды“ путем увеличения с кадров, снятых мелким планом, до величины первого плана.
„Кино-газета“
Ленинская „Кино-Правда“ — временная сокращенная сводка части Ленинского материала для демонстрации в траурные Ленинские дни. Эту работу, как и все последующие на ту же тему, работники „Кино-Глаза“ посвящают угнетенному пролетариату всего мира.
Кроме демонстрации в Ленинские дни Ленинская „Кино-Правда“ предназначена для включения (при известной переработке) в большую киновещь „Ленин“ (прежнее название „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“). Сюда же будет включен избранный материал лучших серий Кино-Глаза.
Вся работа по созданию этого грандиозного кинопамятника В. И. Ленину будет согласована и в общем и в деталях с ЦК РКП.
„Кино-неделя“
ЛЕНИНСКАЯ КИНО-ПРАВДА 21-ая
21 янв. к годовщине смерти
ЛЕНИНУ — КИНОКИ
КУЛЬТКИНО
Центрального Государственного Фото-Кино-Предприятия НКП
ГОСКИНО
Москва, Тверская, 24. Телефоны: 5–17–57, 5–70–71 и 4–87–02.
Закончены и поступили в прокат:
„Ленинская Кино-Правда“
(№ 21) В 3-х частях.
„В сердце крестьянина Ленин жив“ („Кино-Правда“ № 22). В 2-х частях.
Работы Дзиги Вертова.
Двадцать первая, „Ленинская Кино-Правда“ вобрала в себя все накопленное умение.
Вертову не удалось бы так сгустить время, если бы раньше он не искал способы воссоздания синтетической картины эпохи со всей ее сложностью и напряжением.
В рассказе о послеоктябрьском времени не было торопливой беглости. Вертов не обкорнал время, а сжал его под высоким давлением. Как и в действительности, время было в фильме острым, как штык, только с гораздо большим, чем у штыка, количеством граней. В ленте пересекалось множество тематических линий. Но она не разбегалась по ним в разные стороны, а, впитывая их, связывала в жесткий узел.
Просчеты „Кино-Глаза“ Вертов хорошо взвесил.
Множественность граней эпохи не только подчинялась ведущей, ленинской теме, но и концентрировалась вокруг одного героя — случай, тогда редчайший в документальном кино.
Судьбы времени смыкались в движении ленты с конкретной человеческой судьбой.
Время Вертов не сводил к Ленину — давал через Ленина.
Ленина давал через время.
Для этого единства важны были не сами по себе факты личной биографии или факты истории, а смысл их связей.
Вертов включил в фильм немало кинокадров Ленина, снятых при его жизни.
Но „Кино-неделя“ ошиблась, сообщая, что „Ленинская Кино-Правда“ — это сводка части ленинского материала.
Кадры живого Ленина входили в ленту не для того, чтобы отметить тот или иной факт его жизни: вот он выступает на празднике Всевобуча 25 мая 1919 г., а вот — на II Конгрессе Коминтерна 19 июля 1920 года. Чаще всего вообще не сообщалось, к какому событию относится кадр. Общее построение фильма, монтаж документов определялись иной целью — не просто дать сводку фактов, а показать, как ленинская мысль длилась в поступи истории, в движении масс и как поступь истории, движение масс длилось в ленинской мысли.
Ленин — массам, массы — Ленину, фильм передавал динамику и многообразие форм этой неиссякаемой взаимосвязи.
Ленинские изображения находились в смысловом контакте с осевыми событиями истории.
А ее штыковая обостренность оправдывала звучание в картине острой драматической поты.
Грани эпохи, как грани штыка, были обагрены кровью борцов: от безвестного конника до вождя революции.
Единство личной судьбы с судьбой народа скреплялось их кровью.
Картина повествовала об этом с первых же кадров. В ней не было тягучего запева, растянутой экспозиции. Она начиналась резко, как выстрел: на экране появлялась надпись: „Я рабочий завода имени Ленина“, затем возникало лицо рабочего, он работал у станка, а надпись продолжала: „Я задержал стрелявшую в нашего Ильича эсерку Каплан“. Рабочий показывал: „Покушение произошло здесь“ — и добавлял: „Раны Ленина никогда не будут забыты“. Встык с этой надписью стоял крупный план браунинга, стреляли из него…
Такое начало задавало тон повествованию, где история была насыщена драматизмом высокого накала.
Подготовленный киноками к траурным ленинским дням фильм рассказывал о героизме борьбы, о силе духа, о победах народа и одновременно был документом скорби и печали.
РСФСР
Н.К.П.
Заведующий
ГОСКИНО
МАНДАТ
24/I —1924 № 525
Выдан сей Центральной комиссией объединенных киноорганизаций при ГОСКИНО по проведению фото-кино-съемок процесса похорон т. Ленина тов. Вертову в том, что он действительно уполномочен в качестве руководителя в Дом Союзов 3-я смена, что подписями и печатями удостоверяется. Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)
печать
Пропуск 840
Тов. ……………………………………………………
На право прохода в Дом Союзов (партер) и на Красную площадь для участия в похоронной процессии Председателя СНК Союза СССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина).
Председ. комис. ЦИК СССР по организации похорон
Ф. Дзержинский
В сценах похорон Ленина драматическая нота зазвучала с особой пронзительностью не только из-за самого материала, а, скорее всего, потому, что тему никогда не иссякавшей связи Ленина с массами Вертов не прервал здесь, хотя, казалось бы, ее прерывала сама смерть!
Вертов нашел для этой темы неожиданный и точный поворот, выстроив эпизод, теперь вошедший чуть ли не во все кинохрестоматии.
На протяжении первой половины ленты во внутрикадровом изображении Ленин и массы находились в постоянном движении.
И вдруг — все обрывалось…
Вслед за черной проклейкой и строками из некролога стояли (именно стояли!) кадры Ленина в гробу, перебиваемые скорбной лептой людской реки, медленно обтекающей постамент с гробом в Колонном зале.
Кадры сопровождались надписью:
ЛЕНИН
а не движется
ЛЕНИН
а молчит
МАССЫ
движутся
МАССЫ
молчат
Эта надпись не только констатировала жизненное и историческое несоответствие, подчеркивающее всю глубину общественной трагедии.
В надписи были и другие оттенки, они создавали особую эмоциональную атмосферу.
После слов „ЛЕНИН а не движется ЛЕНИН а молчит“ Вертов не поставил никаких знаков препинания, а они могли быть разными: точка констатировала трагедию, восклицательный знак означал бы бурный всплеск скорби, вопросительный — интонацию горького недоумения человека, не пришедшего в себя от потрясения, он не в силах осознать масштабы катастрофы.
Не поставив ни один из знаков, Вертов дал тем самым возможность присутствовать им в этих словах всем вместе.
Завершавшая констатацию точка выражала чувства массы в целом, восклицательная и вопросительная интонации вводили мотив индивидуального переживания.
Глубина общественной трагедии (смерть вождя) познавалась через остроту личной потери (смерть близкого человека).
Интонацией личного переживания — без надрыва, без ложного пафоса — „Ленинская Кино-Правда“ пронизывалась с такой щемящей силой, какой редко достигали другие произведения о студеных днях января двадцать четвертого.
У гроба находились близкие, в почетный караул становились соратники и друзья. Эти кадры Вертов не сопровождал официальным перечислением фамилий, а давал надписи, тоже окрашенные личной интонацией: „Жена… Сестра… Осиротелый ЦК…“ Он оставил в ленте кадры, где были сняты „те, кто не вынес тяжести горя“ — из зала выносили упавших в обморок, оказывали им помощь.
Вслед за кадрами похорон перед деревянным мавзолеем проходили колонны пионеров, а над мавзолеем, над зубцами Кремля появлялся (с помощью двойной экспозиции) живой Ленин. Пионеры радостно аплодировали, а Вертов снова вводил горькую, печальную надпись: „Невыполнимое желание“.
Усиливая эмоциональное воздействие, он впервые окрашивал различные куски черно-белого фильма в различные цветовые оттенки: красный, черный, желтый, оранжевый.
Вертов сумел передать остроту переживаний с такой искренней трепетностью, потому что сам ощущал смерть Ленина как огромную личную потерю. Он понимал ее невосполнимость.
Мечту увидеть рядом живого Ленина смерть неумолимо разрушала.
Но начиналось — бессмертие.
Увидеть живого Ленина на Красной площади теперь уже невозможно, и все-таки его появление перед пионерами не было неожиданным — он остался рядом навсегда.
Не только по приему, но и смыслу кадр действительно строился на принципах двойной экспозиции.
Единение личной судьбы с судьбами времени получало новый поворот: человек — мертв, по судьба его по закончилась. Она продолжается в осуществлении идей, в делах, в движении масс, всколыхнутых революцией.
В траурные дни годовщины двадцать первая „Кино-Правда“ прошла по экранам Москвы, а затем и других городов страны.
4 февраля 1925 года „Правда“ в рецензии на фильм сочла необходимым „отдать должное т. Вертову и его энергичным сотрудникам, что работа, так стройно и логически правильно задуманная, выполнена с большим умением и находчивостью“. Газета отмечала некоторую затрудненность ленты для рабоче-крестьянского зрителя, большую ясность вертовского плана, чем самого фильма, и заканчивала рецензию словами: „Антитезисовый“, разрушительный период своей работы т. Вертов прошел. Пора переходить к синтезу».
Этот вывод чутко угадывал направление творческого развития Вертова, хотя рецензент (Б. Гусман) был не совсем прав, отделяя «антитезисовый» период от периода синтеза. Разрушение, отрицание предшествующего опыта шли у Вертова сразу же рука об руку с созиданием.
Секреты синтеза он уже давно искал.
Пока это были первые поиски. Многое только создавалось и поэтому еще не всегда точно улавливалось и точно оценивалось.
Но без попыток воссоздать синтетическую картину эпохи в октябрьской и пионерской «Кино-Правдах», во время кинопробега, закончившегося октябринами, в ходе не во всем удавшегося эксперимента, поставленного в картине «Кино-Глаз», не было бы того уже достаточно заметного уровня целостного постижения времени, каким была отмечена «Ленинская Кино-Правда».
Настолько заметного, что это дало отнюдь не случайный (именно для данного случая) повод критику заговорить о синтезе в связи с творчеством Вертова.
Не случайно и то, что Вертов, внимательный ко всему о нем написанному, в рецензии, сохранившейся пожелтевшей вырезкой в его архиве, отчеркнул на полях фразу о синтезе красным карандашом.
В 1925 году «Кино-Правду» и «Госкинокалендарь» сменил Всесоюзный «Совкиножурнал» (с начала тридцатых годов — «Союзкиножурнал», сокращенно «СКЖ»).
Новый журнал сыграл важную роль в распространении зримой массовой информации, в приобщении широкого зрителя к могучему потоку фактов, каким была отмечена история последующих лет, в создании кинолетописи нашей страны.
«Кино-Правду» и «СКЖ» часто сравнивали, доказывая преимущества одного перед другим.
Споры возникли сразу же после выхода «Совкиножурнала».
Обозревая первые четыре десятка номеров, «Правда» в июне 1926 года писала, что «СКЖ» по методу пока почти ничем не отличается от заграничной хроники у тамошних парадных подъездов и что такой метод «далеко отстает от прежней „Кино-Правды“». В том же году журнал «Советское кино» подчеркивал: для каждого, кто видел «Кино-Правду», становится ясным, что в качественном отношении «Совкиножурнал» есть движение назад, к дореволюционному, а может быть, и к довоенному времени, к ханжонковскому «Пегасу». В конце 1927 года на коллегии Наркомпроса об этом говорила и Н. К. Крупская: «Все показывает заседания да заседания, тянутся однообразные вереницы делегатов».
В дальнейшем фактический материал «СКЖ» становился более разнообразным, упрек в однообразии терял свою остроту.
Преимущества (как и недостатки) существовали у того и другого журнала.
Но важно иное: журналы были разными. Попытки размышлений о времени в «Кино-Правде» сменились оперативной и насыщенной сводкой новостей дня в «СКЖ». Новости отбирались в «СКЖ» тоже осмысленно, но метод построения журнала был другой.
Когда в 1926 году вдруг прошел слух, что выпуск «Совкиножурнала» возглавляет Вертов, то он счел необходимым сообщить в прессе (через «Правду»), что не имел и не имеет к журналу никакого отношения.
Дело заключалось не в преимуществах одного метода перед другим, а в том, что метод построения «СКЖ» Вертову не был близок.
Это же он повторил снова, когда перед самой войной возникла идея переименовать «Союзкиножурнал» в «Кино-Правду». Вертов объяснял, что с «Кино-Правдой» связаны определенные представления и что приклеивание названия одного журнала к другому внесет только путаницу и неразбериху, иное дело — возобновить «Кино-Правду» как отдельное издание.
Отдельное издание возобновлено не было, вертовская «Кино-Правда» навсегда осталась той, какой выпускалась в первой половине двадцатых годов.
В 1944 году снова встал вопрос о переименовании «СКЖ», его назвали «Новости дня».
Название было выбрано правильно и точно.
А «Кино-Правда», просуществовав три года, потом, казалось бы, навсегда забытая, — не забылась. Она не только помогла кинокам в ходе поисков и экспериментальных проверок утвердиться в верности избранной ими линии, по и заложить первые кирпичи в фундамент одного из тех направлений, по которому пошло советское и мировое документальное кино спустя десятилетия.
Киноки получили точку опоры и дерзнули перевернуть киномир.
Мир не перевернулся.
Но и нельзя сказать, что он вообще не сдвинулся с места.
Киноки не уступили ни грана своей художественной, общественной позиции. Они ни разу не поддались искушению ублажить нэпманов, твердо рассчитывающих если и не завоевать мир, то уж точно — купить его.
Легко не было: новое социальное мировоззрение киноки утверждали через новое зрение и новое киномышление.
Вертов говорил: двадцать три «Кино-Правды» — это двадцать три тарана в старый киномир.
Он знал: легко — не будет.
Киноки были готовы к дальнейшей борьбе, опираясь в ней на растущее число сторонников.
Пора осторожного экспериментаторства, лабораторных опытов заканчивалась.
Вертов понимал, что начинается новая полоса творчества и на рубеже 1925–1926 годов подводил некоторые итоги:
— Мы не для того пришли в кинематографию, чтобы кормить сказками нэпмапов и нэпманш, развалившихся в ложах наших первоклассных кинотеатров.
Мы не для того рушили художественную кинематографию, чтоб новыми побрякушками успокаивать и тешить сознание трудящихся масс.
Мы пришли служить определенному классу — рабочим и крестьянам, еще не опутанным сладкой паутиной худдрам.
Мы хотим внести в сознание трудящегося ясность в оценке происходящих с ним и вокруг него явлений. Дать возможность каждому работающему у сохи или у станка увидеть всех своих братьев, работающих с ним в одно время в разных концах мира, и всех своих врагов — эксплуататоров.
Мы перестали быть только экспериментаторами, мы уже несем на себе ответственность перед лицом пролетарского зрителя и, на виду бойкотирующих нас и преследующих коммерсантов и спецов, мы смыкаем сегодня ряды для сурового боя.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ХАРЬКОВ ВУФКУ
ЗДОРОВЬЕ ЛУЧШЕ ВЫЕДУ БОЛЬНОЙ ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО ЭНТУЗИАЗМУ — ВЕРТОВ
В Москве от Садового кольца в сторону Каретного ряда изгибается дугой тихий, неказистый переулок с боевитым названием — Лихов.
В переулке стоит долг, своим обликом неказистости окружающего он ничуть не противоречит: довольно высокий, по какой-то плоскогрудый, невзрачный, с потупленным взором.
Облик соответствует предназначению, дом служил епархиальным училищем.
Видимых следов этого ни снаружи, ни внутри не осталось, хотя внутри дом удивляет странным обилием лестниц и лестничек, непонятных, узких, как кельи, и длинных переходов, круглыми, похожими на купола, комнатами, остатками сводчатых потолков и крепкими стенами, решительно осовремененными лепными виньетками эпохи архитектурного украшательства и древесно-стружечной обшивкой эпохи делового архитектурного аскетизма.
Но еще больше поражает несоответствие унылых архитектурных форм шумному движению, совершающемуся на всех четырех с половиной (плюс подвал со столовой) этажах, лестницах и лестничках, в коридорах и узких переходах.
Можно было бы предположить, что переулок все-таки не зря получил свое название, если бы он так не назывался и тогда, когда по дому бесшумными тенями скользили епархиалки.
При входе суровые вахтеры обычно спрашивают пропуск у робко озирающихся, но, когда в походке есть деловая стремительность, в лице — уверенность, то вахтеры и бровью не поведут, сразу понимая, что это — свой.
И тут же, от порога — на первом этаже — возникает людской водоворот, непосвященному может показаться, что все давно покинули свои рабочие комнаты на всех четырех с половиной этажах этого странного здания, спустились вниз, и теперь вряд ли кто-нибудь взялся бы с уверенностью сказать, вернутся ли они обратно.
Но так только кажется: водоворот не иссякает, но все время обновляется. Одни, на несколько минут оторвавшись от монтажного стола, спускаются сюда перекурить (в других местах курить запрещено). Кто-то сейчас уедет, кто-то только что вернулся. Поездки разные, короткие и долгие, ближние и дальние — могут быть и на какую-нибудь соседнюю улицу, а могут и на другой континент. Всегда есть ворох новостей, ими хочется немедленно обменяться. В мимолетных, на ходу, перебрасываниях словами, в спешке коротких перекуров рушатся старые творческие союзы и создаются новые. Окончательные решения принимаются в тишине кабинетов этажами выше, но многие идеи зарождаются и предварительно обкатываются здесь — между шутками, взаимными розыгрышами, они тоже не иссякают.
А потом снова — к монтажному столу, к круглым коробкам со свернувшейся в них целлулоидными кольцами Историей.
И так — с утра до вечера (а нередко и с вечера до утра), чтобы поскорее показать зрителю события, происходящие с ним, рядом с ним и во всех концах света.
В 1943 году, после возвращения из Алма-Аты (куда были эвакуированы творческие работники студий Москвы и Ленинграда), Вертов пришел в этот дом работать.
Дом ему был знаком по довоенным временам, здесь находилась студия «Межрабпомфильм», он работал на ней в 1934 году над «Тремя песнями о Ленине».
Теперь, с первых месяцев войны, в этом доме располагалась Центральная студия кинохроники.
Придя сюда в конце войны работать, Вертов по совету друзей вернулся к тому, с чего начинал, — к киножурналу, стал монтировать «Новости дня». Главным редактором журнала был сценарист Юрий Каравкин. Они подружились.
Когда в одну из первых годовщин Победы праздничные коридоры студии, как обычно в такие дни, искрились орденами, медалями, лауреатскими значками, Вертов весело сказал Каравкину:
— Сегодня и я — с орденом.
— Где же он, ваш орден, Денис Аркадьевич?
Вертов ответил, и к его ответу мы еще вернемся.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
ЗРАЧКИ АФИШ
КУЛЬТКИНО
Приступлено к работе по созданию фильма мирового значения:
ПРОБЕГ КИНО-ГЛАЗА СКВОЗЬ
СССР
К участию в пробеге привлечены лучшие кинооператоры.
Работа поручена Дзиге Вертову.
Величайшая «поэма фактов».
«Шестая часть мира».
Революционно-патетический кинобоевик.
Автор-руководитель Дзига Вертов.
Ассистент — Свилова. Пом. рук. — оператор Кауфман.
Операторы Беляков, Бендерский, Зотов, Кауфман, Константинов, Лемберг, Струков, Толчан, Юдин.
Киноразведчики — Кагарлицкий, Копалин, Кудинов и др. Консультация — Н. Авилова.
БЕСЕДА с Дзигой Вертовым:
— Надо, на всякий случай, — всем борцам за советскую кинематографию. всем друзьям Кино-Глаза, вообще всем, кто надеется увидеть «Шестую часть мира» на экране — быть на страже, быть готовым, чтобы в решающий момент общими усилиями повести эту картину сквозь строй прислужников Мэри Пикфорд на все экраны советской страны.
Наш лозунг:
Все граждане Союза ССР от 10 до 100 лет должны видеть эту картину. К десятилетию Октября не должно быть ни одного тунгуса, не видевшего «Шестой части мира».
«Кино-газета», 1926, 17 августа
Где? Шестая часть мира
Когда? Шестая часть мира
Скоро ли? Шестая часть мира
Почему? Шестая часть мира
Близко ли? Шестая часть мира
Как возникла? Шестая часть мира
Кого радует? Шестая часть мира
Куда шагает? Шестая часть мира
Далеко ли? Шестая часть мира
Кого атакует? Шестая часть мира
Как открыта? Шестая часть мира
Кого не радует? Шестая часть мира!?!?!?!?!?!?
Шестая часть мира Приближается!
Шестая часть мира Через 15 дней
Шестая часть мира Через 14 дней
Шестая часть мира Через 13 дней
Шестая часть мира Через 10 дней
Шестая часть мира
……………………………………
Через 4 дня Шестая часть мира
в 1-ом Художественном Совкино. Автор —
Дзига Вертов
Через 3 дня Шестая часть мира
в 1-ом Художественном Совкино. Автор —
Дзига Вертов
Послезавтра Шестая часть мира
в 1-ом Художественном Совкино. Автор —
Дзига Вертов
Завтра Шестая часть мира
в 1-ом Художественном Совкино. Автор —
Дзига Вертов
Состоялся черновой просмотр «Шестой части мира» во втором Совкино-театре для печати. Демонстрация сопровождалась горячими аплодисментами. Картина смонтирована блестяще.
«Кино-газета», 1926, 14 сентября
Кое-кто еще будет прищуриваться от этого блеска фактов, предпочитая шаманить над всякого рода категориями так называемого творчества.
Шутко К. Выполненная задача. «Кино-газета», 1926, 21 сентября
Дипломатический корпус на просмотре советских фильм.
Завтра, 1 октября, в Совкино состоится просмотр фильм, организованный Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей, для дипломатических представителей восточных государств. Будут показаны фильмы «6-я часть мира», «Предатель» и «Ветер».
На просмотр приглашены члены Московских посольств Японии, Китая, Монголии, Персии, Турции и Афганистана.
«Веч. Москва», 1926, 30 сентября
Если бы показать «Шестую часть мира» за границей, — о ней и о перевороте в кинематографии писали бы много месяцев.
Уразов Изм. Наши великие победы, — «Сов. экран», 1926, № 40
Пригласительный билет
Правление Совкино просит Вас пожаловать в среду 6 октября в 8 ч. 30 мин. вечера на закрытый экспериментальный просмотр картины «Шестая часть мира» (кино-поэма фактов в 6 частях)… Просмотр состоится в театре «М. Дмитровка».
М. Дмитровка, № 6.
6 октября в кино «Малая Дмитровка» при предельно переполненном зале состоялся общественный просмотр ленты «Шестая часть мира», сделанной киноками под руководством Дзиги Вертова. Картина имела такой успех, какой не имела еще ни одна лента на общественном просмотре. Все время она шла под аккомпанемент не столько музыки, сколько дружных аплодисментов. После окончания ленты собравшиеся оглушительно вызывали Дзигу Вертова.
«Кино-газета», 1926, 9 октября
«Шестая часть мира» — симфония фактов, это фильма, гремящая мощным пафосом труда. И в этом громадное агитационное значение работы Вертова… Эта работа его… — нельзя сомневаться — войдет в историю мировой кинематографии наряду с постановками Гриффита, Чаплина, Ингрэма.
Левидов Мих. Стратег и его солдаты. — «Веч. Москва», 1926, 9 октября
«Шестая часть мира»… смотрится до конца с пылающим вниманием. Куски картины, осколки жизни, схваченные аппаратом врасплох, собраны в одну целую бурную песню эпоса… Картину нужно приветствовать как достижение мировой кинематографии.
И. Рахилло. Текст передачи радиостанции им. Коминтерна, 1926, 10 октября
Неигровая фильма одержала блестящую победу. Дзига Вертов дал на этот раз бесспорный образец неигровой художественной фильмы (не «хроники»!)
Блюм В. Новая победа советского кино, — «Жизнь искусства», 1926, 2 ноября
Из скромного задания — экспортная и импортная работа Госторга — выросло произведение, гигантский патетический размах которого переплеснулся далеко за рамки кинофильмы. Мы получили новое мощное орудие классовой борьбы… «Шестая часть мира» определяет переворот в мировой кинематографии, намеченный предыдущей работой тов. Вертова.
Февральский А. «Шестая часть мира». — «Правда», 1926, 12 октября
«Шестая часть мира» 3 ноября была показана XV партконференции. Картина была принята хорошо и прошла под одобрительные возгласы и аплодисменты. Четыре успешных экспериментальных просмотра фильмы дают нам уверенность в устойчивом ее успехе при демонстрации в кинотеатрах.
«Кино-газета», 1926, 6 ноября
В лице Госторга заказчиком Вертова был СССР…
Ермолинский С. «Шестая часть мира». — «Комс. правда», 1926, 20 ноября
В осенние и зимние месяцы двадцать шестого года Дзига Вертов пережил первый в своей жизни триумф.
Вокруг «Шестой части мира» тоже вспыхивали споры, иногда довольно острые. Но на этот раз они тонули в хоре похвал.
Победа Вертова была столь принципиальной и убедительной, что вдохновляла на принципиальную и убедительную поддержку картины разных людей и разные органы печати.
Газеты и журналы охотно публиковали не только рецензии на фильм и кадры из него.
Они рассказывали о съемках картины, о многочисленных киноэкспедициях, которые снимали материал для фильма по всей стране, печатали биографические сведения о членах группы «Кино-Глаз», посвящали им очерки.
В дни Октябрьских праздников «Шестая часть мира» демонстрировалась в нескольких кинотеатрах, в декабре, в канун Нового, 1927 года, пошла по всем экранам Москвы.
«Шестую часть мира» Вертов снял по заказу.
Это была вторая заказная картина.
Первую, «Шагай, Совет!», группа «Кино-Глаз» выпустила в начале лета двадцать шестого года, работа над двумя фильмами шла параллельно.
В марте 1925 года при Наркомпросе начала свою деятельность новая киноорганизация — Всероссийское фото-кинематографическое акционерное общество Советское кино (Совкино).
Среди пайщиков общества были Моссовет и Наркомат внешней торговли.
Они обратились с просьбой снять две картины: Моссовет — фильм-отчет о его деятельности, Наркомвнешторг — киноленту о Госторге, важнейшем подразделении Наркомата, он осуществлял экспорт исконных русских товаров (пушнины, мехов, льна, пеньки, пшеницы, рыбы), а на вырученную валюту импортировал необходимые стране станки, — собственное их производство Россия наладить была еще не в силах.
Исполнение заказов поручили Вертову и его группе.
По договоренности с заказчиками было решено снять о деятельности Моссовета полнометражную картину, а о работе Госторга — полнометражную и цикл идущих в ее фарватере короткометражек, они должны были касаться конкретных видов экспортно-импортного обмена.
Производство фильмов финансировалось заказчиками.
Вертов сразу же оценил истинный размах выдвинутых предложений (видимо, не до конца оцененный даже самими заказчиками).
Он понимал, что при всем неизбежно рекламном — в большей или меньшей степени — характере будущих лент появилась возможность в одном случае подробно, в полнометражном фильме, рассказать о жизни столицы нового пролетарского государства, в другом — о жизни самого государства; съемка фильма о Госторге предполагалась по всему Союзу: отстрел пушнины на Крайнем Севере, уборка льна на севере и в центральных районах, выращивание овец для выделки каракуля на Кавказе, выращивание хлеба в черноземных и южных житницах, погрузка проданных и выгрузка закупленных товаров в крупнейших портах и т. д.
Кроме того, по договоренности с Госторгом в цикле лент, сопутствующих основному фильму, упоминалось создание картины «Человек с киноаппаратом».
Ее окончательное содержание, объем, метраж пока не были ясны и Вертову, но название, во всяком случае, мало вязалось с рекламно-госторговскими задачами, больше соответствовало вертовским сокровенным планам — рассказать о человеке, вооруженном кино-глазовским зрением.
Заказчиками являлись не нэпманы, не частные, а советские учреждения, — это тоже было существенно. Могли выявиться расхождения, касающиеся понимания форм выполнения заказа, но не могло возникнуть разногласий «на идейной платформе» (как говорили тогда).
Все это вместе впервые создавало условия, которые расценивались Вертовым в качестве наиболее приемлемых для работы над неигровыми фильмами.
Главное — непрерывность: ведутся съемки одного фильма, тут же снимаются заготовки для следующих, монтируется ближайшая картина, параллельно обдумывается и осуществляется монтаж заготовок, они постепенно складываются в новый фильм, а уже снимается материал для дальнейшей работы.
Он хорошо знал, чего хочет от рекламы, мог не бояться потерять себя. Знание не расходилось с избранными принципами, а совпадало.
Вертов писал, что настоящая реклама выводит зрителя из состояния равнодушия и подносит ему рекламируемую вещь только в состоянии напряженном, беспокойном.
Подобную цель Вертов ставил перед любой своей работой.
Одновременно он приводил пример плохой рекламы: съемку всех этажей и всех отделений универсального магазина Мосторга в последовательном порядке.
Такая картина, пояснял Вертов, в лучшем случае может служить описью состояния предприятия на такое-то число и своей непосредственной цели не достигнет, вызовет зевоту даже у самых нетребовательных зрителей.
Если бы некоторым из заказчиков было известно, как Вертов понимал рекламу, они бы, возможно, задумались, прежде чем отдать заказ в его руки, — как выяснилось впоследствии, их вполне устраивала «опись» работ.
Но тогда желания Вертова заказчикам не были известны, а о желаниях заказчиков Вертов в общих чертах знал, но считал, что более высокий уровень выполнения заказа, чем только перечисление достигнутого, не может испортить дела.
В двадцать пятом году Вертов целиком был занят фильмом Госторга: вел переговоры с председателем Госторга Трояновским и его помощниками, организовывал киноэкспедиции, согласовывал сметные расходы, комплектовал группы, составлял маршруты, разрабатывал для операторов съемочные планы и задания, вычерчивал схемы и графики пробега Кино-Глаза сквозь СССР, спорил с руководством, обвиняя его в неповоротливости, выколачивал пленку, разыскивал аппаратуру, проводил оперативные совещания, удивлялся спокойному безразличию одних, равно как и показному темпераменту других, писал докладные и объяснительные, сам участвовал в одной из экспедиций: вместе с Кауфманом снимал в Новороссийском порту.
И все время обдумывал построение будущей картины.
Искал стиль повествования, и нечто даже еще более тонкое, но не менее важное — его интонацию.
В строках дневника прослеживается вызревание некоего единого замысла, он должен был пронизать всю ленту.
Подготовительная работа по фильму Госторга отнимала много времени.
Поэтому снимать картину по заданию Моссовета Вертов поручил Ивану Белякову.
Оператором Беляков стал недавно, опыта накопил не так уж много, но он был давним и бывалым киноком, прошел сквозь все бури и натиски споров и крепко впитал в себя идеи группы.
Не побоялся Вертов дать Белякову в основные помощники и кинока совсем не бывалого, а только-только пришедшего к ним Илью Копалина, знакомство с ним состоялось во время съемок «Кино-Глаза» в копалинской деревне. Вобрать в себя киноглазовские идеи глубоко и прочно Копалин тогда успеть просто не мог, но Вертову нравилась искренность, с какой он эти идеи воспринимал и поддерживал, на нескольких обсуждениях картин киноков в Культкино и АРКе (Ассоциации Революционной Кинематографии) недавний крестьянский паренек, потом красноармеец, ученик авиационного училища горячо ввязывался в дискуссии.
В прессе сообщалось, что Вертов привлек Копалина («выдвиженца деревенских кружков кинонаблюдателей») к составлению плана картины.
По этому плану Беляков и Копалин приступили к съемкам.
Снимали много и неутомимо, вдохновляемые самостоятельностью.
Не раз вели не простую по тем временам съемку с движения. Искали по всему городу интересные объекты. Карабкались по обледенелой крыше гостиницы «Метрополь», взбирались на фабричные трубы Трехгорки, чтобы снять Москву с необычных точек.
Беляков обнаружил вкус, наблюдательность, владение ракурсом.
Он хорошо снял фабричную Москву — строй дымящих труб, фейерверк брызг разливаемой стали.
Он живо уловил нетерпеливую спешку на городских магистралях.
Он прекрасно передал настроение ночной Москвы в многообразии и контрастах ее световых оттенков: скользящие во тьме фары авто, уличные фонари, лампочки праздничной иллюминации, веселые распахнутые навстречу пришедшим огни рабочих клубов и читален, лихорадочно яркий и вместе с тем словно приглушенный серой нелепой свет в окнах Москвы нэпманской, загульной, кабацкой — с проплывающими мимо окон черными тенями лихачей, с приникшими к мутному стеклу пивной требовательно-безразличными глазами проститутки.
После выхода картины многими отмечалось, что она снята «не без импрессионизма».
Иногда отмечалось с благожелательностью, нередко — с усмешкой, «импрессионизм» считался словом нехорошим, ругательным и, казалось, совершенно несовместимым с «голым фактом».
Но документальное кино по самой своей природе улавливает жизнь в ее мигах.
Как и кадры на экране, впечатления, произведенные зафиксированным фактом, часто мимолетны, но это не означает, что они не выражают устойчивых чувств и настроений.
Временная сжатость заставляет их сконцентрироваться.
Впечатления — это тоже способ оценки фактов, в работу операторов, снимавших под руководством Вертова, подобная оценка входила одним из сознательно рассчитанных элементов.
Вместе с Копалиным Беляков точно отобрал и снял факты, демонстрирующие успехи моссоветовской деятельности, — клуб, библиотека, ночной санаторий для рабочих, больница, обучение — от мала до бородатого велика — грамоте, помощь беспризорникам, сирым да голодным, инвалидам труда, слепым и глухонемым. Детский дом, родильный дом, растет транспорт, укладываются трамвайные пути, все больше автобусов, перед выходами на линии они замерли в рассветной мгле широкими шеренгами на площади у здания Моссовета, строится жилье.
Кругом еще бедность, счастливый обладатель квартиры в новом доме, собираясь побриться, неторопливо наводит опасную бритву, а сзади видны тяжелая железная кровать с блестящими шарами, аляповатая женская статуэтка.
Быт хотелось разнообразить и украсить, а украсить было нечем.
И все-таки новая квартира уже была.
А комната в ней, между прочим, освещалась электричеством.
И можно было воспользоваться водопроводом и канализацией.
Критика с восхищением писала, что вместо множества раз снятого в хронике и фотографиях кухонного крана со струей воды Вертов, не смущаясь, взял да и показал унитаз с водяным обвалом, весело, шумно, победительно-мажорно низвергающимся в эмалированную посудину.
В немой ленте шум, конечно, не был слышен, но зрителям казалось, что они слышат его.
В пестром материале угадывались возможные линии будущих монтажных блоков, но пока не был ясен основной принцип сцепления разрозненных частей.
Все снятое Беляков и Копалин показали Вертову.
Он попросил кое-что доснять, затем подобрал со Свиловой кадры хроники недавней истории — гражданской войны, разрухи — и сел за монтажный стол.
Фильм-иллюстрацию к предвыборному отчету о деятельности исполкома за «очередной истекший срок» Вертов не смонтировал.
На материале моссоветовской деятельности Вертов повел рассказ не только о Моссовете, а о Совете.
Реклама уступила место иному уровню воздействия на зрителя — агитации.
Вместо рекламы — агитация за Советскую власть.
Картина утверждала справедливость ее существования справедливостью ее дел во имя огромного большинства.
— Мы были поражены, — вспоминал Копалин. — Вертов столкнул в монтаже два потока — «раньше» и «теперь», сделал такое столкновение принципом строительства картины.
Но прошлое и настоящее не только противопоставлял друг другу.
Прошлое «без хлеба», «без воды», «без дров», «без освещения» (это надписи из фильма), которое сегодня «кажется кошмаром» (это тоже надпись из фильма), существовало еще вчера.
Многое от «вчера» оставалось еще в «сегодня». «Теперь» не было отъединено от «раньше» ни в жизни, ни в фильме.
Если бы Вертов ограничился лишь протокольным отчетом, то можно было бы обойтись и без «раньше».
Отчет требует впечатляющих итогов, агитация — убедительности показа процесса их достижений.
Новым в этом уже известном кинематографу приеме столкновения «раньше» и «теперь» было то, что «теперь» вырастало в картине не из констатации достигнутого, а из напряженного и непрерывного преодоления «раньше».
— Совет одной рукой посылает в бой, другой рукой борется с разрухой — этими словами сопровождал Вертов кадры войны и кадры восстановления.
Фильм говорил: так каждодневно, одной рукой сметается прошлое, другой утверждается настоящее.
Взятая из жизни тема этих рука об руку идущих работ революции определила драматический нерв фильма и его драматургические завязи.
Задание с достаточно ординарными целями Вертов расширил до многоплановой поэмы о мужестве прорыва из тьмы к свету.
В фильме мелькал короткий, но врезающийся в память кадр — рожала женщина в новом родильном доме.
Кадр стоял в картине не ради лишь нового роддома — тогда можно было бы обойтись и без этого кадра.
Просто Вертов знал, что жизнь — не только улыбка новорожденного, это и искаженный криком рот матери, ее муки и мужество.
Муки и мужество рождения.
Новый быт, человеческие условия жизни давались в нечеловеческих испытаниях.
Тем дороже была цена побед.
В картине очень широко использовались надписи, гораздо шире, чем обычно в лентах «Кино-Глаза». Вертов решал в фильме новую задачу — добивался предельного монтажного слияния надписей с кадрами.
Но слияния не информационного, а смыслового — изображения вместе с надписями обязаны были складываться в кинофразы, кинопериоды, в кинотему.
Вертов показывал разруху, нетопленые, заледеневшие дома, больных тифом, умирающих от голода, холеры, но не сопровождал эти кадры простым словесным повторением того, что зритель видел собственными глазами, — разруха… холод… тиф… голод… холера… смерть…
Он добавил к этим словам еще одно, оно не отвергало самого первого, сразу возникающего в сознании зрителя при встрече с изображением смысла кадра (разруха, холод и т. д.), но вместо констатации оно включало смысл кадра в общую систему, определяющую движение главной темы.
Это слово — сквозь: сквозь разруху… сквозь холод… сквозь тиф… сквозь голод… сквозь холеру… сквозь смерть…
Время было отчаянным, бешеным, испепеляющим, но сквозь все это пробивали себе дорогу побеги нового, небывалого.
Вертов не ограничил эпизод показом испытаний, сквозь которые проходили народ и страна.
Как бы постепенно закольцовывая эпизод, он дал кадры с надписями, объясняющими, во имя чего, куда, к какой цели шел парод сквозь лишения: к победе над холодом… к победе над голодом… над болезнями… над смертью… к полной победе революции…
Но надписи не только объясняли путь движения народа, рвущегося сквозь тьму к свету.
В самом строе надписей была заложена восклицательная интонация призыва: итог побед, когда патетика агитационного клича достигает апофеоза — «К полной победе революции!..»
В картине быт и пафос пересекались.
Трагедия быта и пафос преодоления — тоже бытом, но строящимся на новых основаниях.
Не только для этого короткого начального эпизода, но и всего фильма Вертов искал словесные обороты, которые полностью сливались с изображением и одновременно открывали в изображении новые грани главной темы.
В одном из эпизодов каждая надпись чеканилась вступительным рефреном: «На фоне…»
Вертов показывал охваченные огнем железнодорожные составы, огромный черный труп паровоза (он как подкошенный рухнул на бок) и давал надпись: «На фоне расстрелянных поездов», — вслед за ней стояли кадры Ленина, с балкона Моссовета он призывал к борьбе за революцию, Советы. Затем шли новые кадры с новой надписью, но с тем же рефреном: «На фоне взорванных мостов и изуродованных путей сообщения», — их сменяли первые показательные школы, открытые Советом.
На фоне бедствий, неимоверных трудностей Ленин призывал к великим жертвам во имя защиты Советов, а Советы открывали первые новые школы.
В другом эпизоде Вертов утверждал «теперь» через преодоление того, что было «раньше», оборотом «от… к…».
От разрушенных зданий к новым рабочим домам…
От опрокинутых трамваев к новым трамвайным линиям…
От четвертушки хлеба к… (фразу заканчивали не слова, а только что выпеченные караваи).
От искалеченных заводов и фабрик к расцвету промышленности, к электрификации окраин, к электрификации деревень…
Тема электричества освещала всю ленту — от обошедшего множества изданий кадра электрической лампочки на фоне ленинского портрета на стене до горящей в финале (перед несколькими короткими изображениями ленинских похорон) иллюминированной надписи ЛЕНИН на здании Совета.
Лампочка Ильича, свет ленинских идей разрывали тьму.
Стремление народа вырваться из мрака прошлого тема электричества выражала в самом непосредственном виде, однако ею показ стремления не исчерпывался — ему был подчинен весь строй картины.
…На город опускался вечер, скрывая мутное, высвечивая незамутненное.
В оживленной уличной толпе все спешили куда-то.
— Куда вы спешите? — спрашивала надпись. — В ночной диспансер или в Ермаковку? В клуб или пивную? В церковь или в вечернюю школу? Вечер полон контрастов…
Но картина рассказала не только о контрастах вечернего города. Она рассказала о контрастах времени, разломе эпохи, о жестокой схватке с мертвым во имя живого.
Вертов называл картину опытом сложной организации документального материала, основанном на монтаже контрастов.
Рекламы не получилось.
Даже в кадры вполне описательные, казалось бы, просящиеся в добропорядочное рекламное сообщение Вертову удавалось вдохнуть жизнь. Они приобретали высокое звучание, чистоту тона, но решительно теряли свои рекламные свойства.
Беляков и Копалин ранним утром сняли шеренги автобусов на площади у Моссовета — лучший материал, рекламирующий подъем городского транспорта, трудно было придумать.
Но в один из кадров попал раструб уличного громкоговорителя, и Вертов выстроил эпизод, о котором даже извечные спорщики с киноками не могли говорить без волнения.
Замерли на площади автобусы — так начинался эпизод, а затем Вертов поставил кадр с громкоговорителем — «вместо оратора», поясняла надпись.
— Приветствую вас от имени Совета, — держал в тишине утра перед автобусами речь оратор. — Сражаемся на хозяйственном фронте. Вместо винтовок молотки, топоры, лопаты, пилы. Вместо пуль гвозди, винты, кирпичи… Раньше снарядами — теперь многолемешным плугом. На смену танкам миролюбивый трактор.
«Вместо…», «на смену…» — тоже обороты противопоставления настоящего уходящему прошлому.
На этот раз противопоставлялись минувшие тяготы войны и мирная работа.
Все, о чем говорил оратор, проходило на экране во множестве подробностей — люди хотели спокойно трудиться, делать простые вещи: гвозди, топоры, лопаты, пилы, пахать землю многолемешным плугом, а не вздыбливать ее снарядами.
Оратор умолкал.
— На площади тихо, — сообщала надпись, казалось, автобусы продолжают обдумывать то, о чем им поведал оратор. — Только стучат сердца машин, — добавляла надпись.
И тут шло… ну, словом, шло то, что Вертов уже умел делать так, как мало кто умел, — шел ритмичный монтаж заработавших деталей машин, поршней, золотников.
Бились сердца машин, очеловеченное волнение металла энергичными токами с экрана передавалось в зал.
Митинг автобусов — назовет критика эту сцену.
А потом, после митинга, автобусы разъезжались по городу, вращалось снятое во весь экран автобусное колесо, на его фоне возникал герб Моссовета.
Реклама не получилась, хотя Вертов о ней не забывал.
Просто он считал, что сама жизнь с ее напряжением, битвами, завоеваниями будет лучшей рекламой Моссовета.
Однако представителям заказчика многое показалось лишним, мало обязательным для выполнения их требований.
Газеты сообщили о двух просмотрах картины Моссовета в марте и апреле 1926 года, о замечаниях, сделанных заказчиком после первого просмотра, о неудовлетворенности вторым вариантом.
«Правда» писала, что представители Моссовета в целом считают картину неплохой, но неприемлемой для них — исполкому нужен отчетный фильм.
Моссовет картину не принял.
И все-таки то, что она была заказной, а заказчиком являлся Моссовет, оказалось для Вертова редкостной удачей, несмотря на сопутствующие реализации заказа сложности.
Удачей не производственно-финансовой (финансы, кстати, были совсем невелики), а творческой.
В «Шагай, Совет!» угадываются многие смысловые мотивы прежних лет — «Кино-Глаза», номеров «Кино-Правды».
Фильм тоже строился на сложном скрещении этих мотивов по параллельным и ассоциативным линиям. Но моссоветовский заказ прочно сбивал весь материал вокруг самой идеи Советов, Советской власти, не давал разбегаться отдельным линиям в разные стороны.
Картина «Шагай, Совет!» вряд ли осуществилась бы (опять жене с точки зрения производственной, а творческой), если бы предложение о ее создании исходило не от Совета.
Заказом как бы выставлялись два условия: известное ограничение инициативы для педантичного исполнения заказа и безграничность инициативы для выхода к обобщениям, как ни парадоксально, но такая безграничность тоже была заложена в самом заказе.
Первым условием Вертов пренебрег, вторым воспользовался.
Размах обобщений в картине созвучен масштабу эпохи.
Это понял заказчик.
Не приняв картину, Моссовет согласился, что ее нужно выпустить в широкий коммерческий прокат.
Соглашение было достигнуто в двадцатых числах мая.
Но то, что понял, проявив объективность, неудовлетворенный заказчик, не понял прокат, хотя такое соглашение, казалось бы, его должно было удовлетворить вполне.
После нескольких просмотров для печати и дипломатического корпуса, после появления первых благожелательных (и даже восторженных) рецензий картина начала демонстрироваться на одном киносеансе и в одном кинотеатре Москвы — «Форуме».
В условиях нэпа, ставя подчас задачи коммерческие впереди социально-политических и эстетических задач, прокат с пренебрежением относился к показу документальных лент, считая это дело заранее обреченным на провал.
Для такой точки зрения у него имелись свои соображения, он часто ориентировался на трясущую мошной нэпманскую публику, а та твердо предпочитала фактам грезы.
На молодую, комсомольскую, вузовскую аудиторию, на рабоче-крестьянского зрителя коммерческое кино тоже оказывало свое влияние. Новый зритель с интересом следил за первыми шагами советского кино, но оно только-только начиналось.
Для того чтобы к нему прививать вкус, привычку, в прокатной политике требовалась смелость, а она нередко уступала место осторожности, иногда похожей на искренний испуг.
Новые эстетические ценности отпугивали зыбкой неопределенностью их стоимостного выражения в рублях.
А вот победительная улыбка крошки Мэри Пикфорд или обольстительное обаяние ее супруга Дугласа Фербенкса оставались по своей рыночной цене товарами до того стабильными, что тут не то что бояться — думать было нечего.
К тому же тогда даже государственный кинематограф строился на акционерных началах, дальнейшее производство зависело от предшествующих сборов. Экономическое положение в стране и в кинопроизводстве было напряженным, многому в действиях проката можно найти объективные объяснения, но они, однако, не всегда могут ему служить объективными оправданиями.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
«Шагай, Совет!» — образец диалектически построенной фильмы. Деятельность Моссовета взята в движении… Эта фильма… пойдет за границу; там она принесет огромную пользу, являясь наглядным опровержением лжи о Советском Союзе, которая там непрестанно распространяется. Но в особенности надо настаивать на том, чтобы наши прокатные организации немедленно бросили эту фильму в самые широкие массы зрителей.
Февральский А. Шагай. Совет! — «Правда», 1926, 12 марта
Вертов на интересном пути к заостренной «картине фактов». Вертов еще спорен, не вполне доказателен. У него страшный враг — равнодушие к нему коммерческого кино… но мы должны найти путь к широкому ознакомлению зрителя с таким ярким представителем советской кинематографии, каким являются киноки.
Ермолинский С. Шагай, Совет! — «Комс. правда», 1926, 29 июня
«Шагай, Совет!» — за границу.
Торгпредство СССР в Берлине запросило у Культкино список выпущенных им фильм, характеризующих жизнь СССР, имея в виду подобрать картины для демонстрации на германских ярмарках. Из целого ряда фильм, описанных в присланном списке, торгпредство выбрало одну — «Шагай, Совет!»
«Правда», 1926, 13 июля
Около двух месяцев назад в ряде московских газет и журналов появились отзывы о фильме «Шагай, Совет!»… Все отзывы признавали большое политическое значение картины и высокое мастерство, вложенное в нее. Тем не менее до сих пор «Шагай, Совет!» не появился ни на одном экране; мало того, до сих пор не приступлено к печатанию картины. В то же время кинотеатры наводняются такими «образцами» производства разных советских кинофирм, как: «Чужие», «Карьера Спирьки Шпандыря», «Соперники», «Глаза Андозии» и пр… Поэтому мы просим Госкино ответить ясно и просто: почему до сих пор не принято мер для печатания и продвижения фильмы «Шагай, Совет!» на экран и когда же, наконец, это будет сделано?
«Правда», 1926, 16 мая
«Форум». Садово-Сухаревская, 14, телеф. 5–72–20.
Вся Москва сегодня смотрит «Шагай, Совет!» из жизни и деятельности Моссовета. Только в 1-м сеансе.
«Фантастическая Индия». Начало сеансов 8 и 10. Касса с 6 ч.
Газетная информация
Вкратце…
Известная работа Дзиги Вертова «Шагай, Совет!» на тему о деятельности Моссовета наконец-то появилась. Но где? И как?
Без всякой рекламы, без фотографий, в кино где-то на Сухаревке.
И это, несмотря на глубокий, совершенно органический интерес к этой работе.
Несмотря на запросы в «Правде», «Известиях» и других газетах. Когда же, наконец, у нас начнут показывать лучшие советские картины так, как они того заслуживают?
«Кино-газета», 1926, 27 июля
Пройдут многие годы, некоторые историки кино напишут, что «Шагай, Совет!» был, по-видимому, слишком сложен для массового зрителя, потому он на картину не пошел.
Вывод лишен оснований, следствие не опирается на действительную причину. Массовый зритель не то что не пошел, а просто-напросто не получил возможности пойти на фильм.
Ситуация чувствительно воздействовала на Вертова. Но поддаваться обстоятельствам, опускать руки Вертов не умел и не желал.
Тем более что в руках он держал пленку с драгоценными кадрами, снятыми по всему Союзу.
Теперь их предстояло превратить в поэму о стране.
В ранних документах, связанных с госторговским заказом, есть не очень четкие, глуховатые упоминания о съемках не одной, а двух больших картин под условными названиями «Госторг» и «СССР».
Возможно, поначалу планировалось отделить выполнение рекламного заказа от реализации художественных замыслов.
В дальнейшем, особенно когда подоспело время монтажа, речь уже шла только об одной полнометражной картине.
На два фильма, скорее всего, не хватало материала, киноэкспедиции работали в чрезвычайно сложных не только климатических, но и производственных условиях, часто в долгом ожидании пленки, денег.
В дневниковой записи октября двадцать пятого года Вертов спрашивает: сможет ли он из рывками накопленного материала сделать достаточно крепкую киновещь и хватит ли у него сил провести переливание крови из себя в обескровленную картину?..
Если он сомневался в успехе подобной операции по отношению к одной картине, то говорить о двух не приходилось подавно.
У Вертова могли возникнуть опасения, что, отдав все силы ленте об СССР, он чисто формально выполнит задание Госторга.
Выполнять какую-либо работу формально он тоже не умел и не желал.
Предъявляя киноадминистрации претензии в необдуманном руководстве работой его группы, Вертов в одной из докладных писал, что ни он, ни его товарищи не имеют желания, подавив всякие внутренние побуждения, спекульнуть, как «хорошие» коммерсанты, на доверии Госторга и сбыть ему под шумок (благо деньги выданы) моток разного хлама, согласно условленному метражу.
Чтобы моток не был захламлен, чтобы он был чист и честен, Вертов два фильма соединил в один.
Но долго искал точку пересечения.
Понимал: факты экспортно-импортного обмена будут сталкиваться с патетикой обобщенного повествования об СССР.
Слиться два потока могут лишь в створе социального и нравственного осмысления времени.
Тогда процесс обмена одухотворится пафосом обобщающей идеи.
В обдумываниях ее Вертова все больше захватывала не технология обмена, а его смысловой итог: во имя чего!
Вертов писал, что картину, которую они сейчас делают, следовало бы назвать «Женские панталоны или трактор?». Если бы не было монополии внешней торговли, размышлял он на страницах дневника, то привычки, вкусы и навыки буржуазии проникли бы к нам вместе с цилиндрами, бюстгальтерами, порнографическими журналами, парфюмерией, косметикой, фокстротом и прочим.
Вопрос ставился им бескомпромиссно — или — или: монокль или объектив для киноаппарата, бюстгальтер или физкультура, духи «Coty l'arigent» или разбивка садов, посадка цветов и деревьев, кокаин или электрический вентилятор, женские панталоны или трактор, заграничная пудра или искусственные удобрения для полей… Импорт сельскохозяйственных машин, тракторов, станков, инструментов вместо импорта моноклей…
В этих противопоставлениях виден жесткий максимализм эпохи.
Но и ее нравственная чистота: личное бессребреничество многих перед необходимостью немедленного умножения общественных богатств.
В список изделий, отражающих, по мнению Вертова, буржуазные привычки и вкусы, попали и такие, которые вряд ли несли в себе пугающую заразу политического и морального разложения.
Но, как уже говорилось, вещь шла на вещь.
Для понимания замысла, к которому шел Вертов, важно другое: в каждой паре предметов, разделенных Вертовым, по одну сторону «или» стояли вещи личного обихода, по другую — коллективного пользования.
Физкультура обеспечивала здоровье и бодрость широчайших масс, красивенький бюстгальтер удовлетворял индивидуальные потребности.
Не только «Coty l'arigent», пудра, панталоны — трактора, станки, удобрения для полей по своему происхождению были в данном случае изделиями буржуазными, они ввозились из-за границы.
Но трактора и станки способствовали росту общественного могущества, помогали осуществлению планов, которые ставила перед собой страна.
В вертовском противопоставлении вещей было немало наивного и прямолинейного, а смысл за всем этим стоял отнюдь не наивный и не прямой.
Стремлению поскорее удовлетворить свои потребности противостояла жажда удовлетворения коллективных интересов.
Но удовлетворение коллективных интересов начиналось с индивидуальных усилий.
Не с ввоза станков и тракторов, гораздо раньше.
С меткого выстрела безвестного таежного охотника, снявшего соболя с хмурой разлапистой ели.
С выловленной безвестным сибирским рыбаком рыбины.
С хлебного поля, выращенного крестьянином.
С овечьих, «каракулевых» стад, пасущихся под присмотром задумчивых пастухов на пастбищах Дагестана и Туркмении.
С той незаметной, повседневной работы, плоды которой вступали в оборот внешнеторгового обмена.
На всех широтах огромной страны люди с разными темпераментами, обрядами, поверьями, с несхожим обликом, разрезом глаз, с неодинаковыми песнями и танцами, одеждами, угощениями и лакомствами скромно делали свое привычное дело, но впервые привычное дело каждого становилось частицей общего труда во имя лучшей жизни для всех.
Между ткнувшимся в снег соболем и новенькими тракторами, разгружаемыми в Новороссийском порту, пролегли тысячи километров.
А на самом деле расстояния между ними не было. Как его не было между каракулевой шкуркой и товарным составом с заграничными станками.
Самой логикой новых отношений труд каждого поднимал могущество страны, вливался в труд всей республики, хотя охотники из безмолвной тундры, рыбаки с дальних северных рек, пастухи Дагестана и Туркмении, хлеборобы Кубани, льноводы Полесья, сборщицы кавказского винограда, наверное, об этом и не догадывались.
Значит, надо сделать в картине все, чтобы они догадались.
Значит, надо показать, как обыденный, повседневный труд отдельного человека соучаствует в общем строительстве повой жизни и как человек труда становится ее хозяином, распорядителем судеб шестой части мира.
От мотива противопоставления вещей Вертов отказался, он звучал только в самом начале, Вертов рассказывал о труде огромного большинства в странах капитала, в колониях на потребу сытости, уюта, комфорта немногих.
Но заложенная в противопоставление тема коллективного созидания, складывающегося из множества отдельных усилий, постепенно вырастала в главную идею ленты.
Она давала возможность поиска новых форм спрессования пространства и времени.
Пробег Кино-Глаза сквозь СССР имел, как и когда-то в «Кино-Правде», не географический, а социальный смысл, хотя охватывал географию всей страны — от края до края.
Вертов все отчетливее понимал, что перед ним возникает небывалая по размаху и сложности творческая задача: поднять обыкновенного человека до масштабов хозяина шестой части мира в минуту его обыденной жизни. Нельзя было допустить, чтобы обыденность ушла из ленты, тогда между экраном и жизнью установятся искусственные отношения.
Картина должна быть сплетена, как кружева, тончайшим образом из множества рядовых мгновений человеческой жизни, и прежде всего человеческого труда, снятых операторами на всем пространстве Советской земли.
Но необходимо найти способ выведения этих рядовых мгновений из обыденного ряда.
Требовалась такая мощь обобщений, какая возможна и оправданна, пожалуй, в одном виде искусства — поэзии.
Может быть, еще — в музыке.
Появятся только самые первые рецензии после самых первых, закрытых просмотров, а они уже сразу запестрят словами «поэма», «симфония».
Недавний сокрушитель этих традиционных жанров творчества протестовать не станет.
Нет, он не принимался за картину «Пробег Кино-Глаза сквозь СССР» с мыслью, что на этот раз сложит поэму, сотворит киносимфонию.
Но его привела к этому логика замысла.
Своеобразие судьбы этого художника связано с одним довольно редким обстоятельством в искусстве — у него никогда не было прямых и непосредственных учителей.
Существовал, конечно, опыт других видов художественного творчества, он не прошел для Вертова бесследно.
Но учителей в той области, в которой он работал (учителей не ремесла, а методов художественного осмысления фактического киноматериала), не существовало, потому что не существовало самой области, не было предшественников.
Однако прекрасный материал для обучения давал собственный опыт.
Вертов отнюдь не варился в собственном соку.
Был внимателен к другим видам искусства и смежным видам кинематографа, к тому, что происходило в документальном кино.
Многое в нем Вертова не устраивало, в особенности нетворческое отношение к организации снятого материала.
Но плодотворность самоанализа заключалась в том, что многое его не устраивало и в собственном опыте.
Во всяком случае, свое предшествующее он никогда не считал незыблемым для своего настоящего — все зависело от конкретного материала и вызревающей в нем идеи.
Вертов никогда не ходил в учениках, но никогда не забрасывал учения.
Он приходил к лирико-поэтическим, художественным жанрам, которые отрицал.
На самом деле он отрицал не жанры, а старое их понимание.
Он пришел к старым жанрам, но понял их по-новому.
Им высмеивался механический «синтез» искусств на экране.
Ко времени «Шестой части мира» Вертов ощутил в себе силы, способные создать условия для органического взаимодействия различных искусств.
К тому же стремление к смысловому синтезу естественно вело к синтезу средств выражения.
Полифония смысловых оттенков в разнообразных кадрах, концентрирующихся вокруг ведущей темы, движение материала по параллельным и ассоциативным линиям в сочетании с выверенным метром и ритмом вызывало ощущение могучих музыкально-поэтических звучаний.
И во все это вплетался еще один, самый существенный компонент — слово.
Здесь Вертов вступал в полемику с собой не только прошлым, но и будущим.
Никогда слово не приобретало в его лентах такого значения, какое приобрело в этом фильме.
Дело не в количестве надписей, в «Шагай, Совет!» их было не меньше.
Но новая картина выдвинула новые условия.
В прежнем фильме надписей было много, но предельное смысловое слияние с изображением делало их присутствие почти незаметным.
В «Шестой части мира» слово не таилось, не старалось полностью войти в плоть изображения, растворясь в нем, а открыто летело с экрана навстречу зрителю.
Надпись переставала быть обычным титром, она как бы вытеснялась за скобки фильма.
Вертов называл картину опытом уничтожения надписей через их выделение в слово-радио-тему.
Написанное слово превращалось в слово произнесенное, произнесенное как бы за кадром, хотя в условиях немого кино оно, конечно, появлялось на экране в виде надписей в кадре.
Но строй надписей, их интонационная основа делали написанные слова звучащими.
Не случайно Вертов говорил о выделении надписей в слово-радио-тему.
Зрительское ощущение слышимого симфонизма ленты во многом предопределялось ощущением звучащего с экрана слова.
Вертов не информировал, не пояснял, не комментировал, а открыто ораторски обращался в зал.
В частных моментах он предпринимал подобные попытки и прежде — начиная с первого номера «Кино-Правды» («Спасите голодающих детей!!!») и кончая последним перед «Шестой частью мира» опытом «Шагай, Совет!» с митингом автобусов и выступлением оратора.
Но впервые это стало принципом строения целого фильма.
Верный себе, Вертов не подменял словом изображение, не подчинял ему монтаж.
Стягивая множество фактов в один узел, монтаж подчинялся основной смысловой задаче: выявлению генеральной линии страны на строительство новой жизни при всеобщем участии народа, берущего свою судьбу в собственные руки.
Монтаж кадров строился в виде внутреннего монолога (разрозненные картины сближаются друг с другом мысленно).
Монтаж слов, сочетавшийся с монтажом изображений, был монологом, произнесенным вслух.
Но и тот и другой подчинялись логике единой мысли, она выражала логику объективных жизненных закономерностей.
Вне ее вся эта поистине грандиозная конструкция рухнула бы.
Однако открытая патетика обобщений оправдывалась не только точным соотнесением их смысла с глубинной сутью жизненных явлений.
Мера и способ обобщения оправдывались и точно понятыми закономерностями избранного жанра.
Откровенности пафоса соответствовал открыто-лирический строй ленты — надписей прежде всего.
Призыв, брошенный с экрана в зал в первой «Кино-Правде», принадлежал и автору, и еще тысячам и миллионам, они спасали умирающих от голода детей.
Клич передавал эмоции всех и каждого, но был лишен индивидуального выражения.
На митинге автобусов слова, разносившиеся по площади в утренней тишине, принадлежали главному персонажу эпизода — оратору.
В «Шестой части мира» все, что было произнесено, принадлежало автору.
Поэту.
Или, правильнее, — лирическому герою его кинопоэмы.
В строе надписей прежних картин тоже всегда чувствовалось: слова пропущены автором через свое Я.
Но на этот раз автор все слова не только пропустил через свое Я, он их и высказал от своего Я.
Начиная с первого произнесенного в картине слова: «Вижу…» Поэт видел тяготы людей труда в странах капитала, показывал увиденное зрителю, делился с ним своими переживаниями.
Кадры сменяли друг друга, каждая надпись соотносилась со смыслом определенного изображения, и в то же время надписи входили в сцепление друг с другом, складываясь в поэтические строки белого стиха.
Вижу
Золотая цепочка капитала
Фокстрот
Машины
И вы
Вижу вас
На золотой цепочке
Попы
Фашисты
Короли
И вы
И вы
И вы
Вас вижу
На службе у капитала
Еще машины
Еще
И еще
А рабочему все так же
Все так же
Тяжело
Стихотворная ритмика надписей, их поэтический лад вовлекали зрителя в лирическую стихию повествования.
Лиризм ленты, однако, не давал повода к парению в заоблачных далях.
Информацию поэзией Вертов заменил, но не отменил.
Поэзия потребовала емкого слова, от этого информационная насыщенность картины не уменьшилась, а возросла.
Лирические чувства, высокие эмоции рождались из документальных фактов.
Их видел не только лирический герой, но и зритель.
Один из таких зрителей, участвуя в обсуждении фильма на страницах «Комсомольской правды», писал: после нескольких минут просмотра авторское «вижу» он повторял про себя уже как свое — я сам вижу.
Но зрителей и поэта сближала не столько общность зрения, сколько общность чувства.
Переходя к рассказу о шестой части мира, о складывающейся повой жизни, не похожей на ту, которой живет остальной мир, Вертов постарался прежде всего обнажить это чувство. Поднять, может быть, еще не для всех ясные, подспудные ощущения на высоту до конца осознанных эмоций.
Он перебрасывал зрителя из края в край огромной страны. Кадры были разными, потому что разными были люди, их труд, быт, среда, окружающая природа.
А надписи строились одинаково.
Вы, купающие овец в морском прибое
И вы, купающие овец в ручье
Вы
В аулах Дагестана
Вы
В Сибирской тайге
Ты
В тундре
На реке Печоре
В океане
И вы,
Свергнувшие в Октябре власть капитала,
Открывшие путь к новой жизни
Прежде угнетенным народам страны
Вы
Татары
Вы
Буряты
Узбеки
Калмыки
Хакасы
Горцы Кавказа
Вы коми из области Коми
И вы из далекого аула
Вы
На оленьих бегах
И вы
На празднике козлодранья
Под гудки пароходов
Под зурну и барабан
Ты с виноградом
Вы за рисом
Вы, которые едите оленье мясо
Обмакиваете в еще теплую кровь
Ты, сосущий материнскую грудь
И ты бодрый столетний
Мать, играющая с ребенком
Ребенок, играющий с пойманным песцом
Ты, запрягающая оленей
И ты, стирающая ногами белье
Надписи с одинаково повторяющимся началом («Вы…», «Ты…»), казалось, должны были утомить зрителя однообразием.
Но Вертов действовал в согласии с точными композиционными расчетами.
Форма словесных повторов соединялась с неповторимостью зрительной: то стужа тундры, то жара Кавказа, то виноград, то оленье мясо, то младенец, сосущий грудь, то столетний старец — в монтаже Вертов неукоснительно придерживался резких зрительных смен.
Но расчет был и на другое — на множественность словесных повторений, на их неторопливое, длительное накопление.
Долгие повторы утомляют, а сверхдолгие, когда зритель начинает понимать, что это неспроста, наоборот, постепенно возбуждают интерес: что бы это значило?..
Тем более что Вертов этот интерес усиливал, все больше увеличивая размеры слов «ВЫ», «ТЫ», акцентируя на них внимание публики и как бы подтверждая: да, неспроста!
А когда интерес достигал наконец своего пика, то он находил возможность поднять его еще выше.
Вслед за словами «И ты, стирающая ногами белье» (на экране женщина на берегу горной реки барабанила пятками по мокрому белью — таков был древний способ стирки) шла надпись: «И вы, сидящие в этом зале».
В длинную цепь повторов Вертов включал зрительный зал. Объединял сидящих в нем с теми, кто был на экране.
Со всей страной.
А потом уже поэт объяснял, что всем этим хотел сказать.
Вы
По колено в хлебе
Вы
По колено в воде
И вы, прядущие лен на посиделках
Вы, прядущие шерсть в горах
Вы
Все
Хозяева
Советской
земли
В ваших руках
ШЕСТАЯ
ЧАСТЬ
МИРА.
Последние три слова стояли в кадре во весь экран.
Экран сближал людей, живущих в разных уголках Советской земли.
Монтажом показывалась и одновременно преодолевалась географическая и этнографическая пестрота жизни во имя понимания ее новой социальной цельности.
Монтаж закладывал зрительную основу обобщений.
Надписи довершали их словесно.
Слово высвобождало скрытую в документе энергию.
Факты прогонялись через слово, как через атомный реактор.
Получали мощный заряд пафоса.
Превращались, как любил говорить Вертов, в экстракт выводов.
Дело, естественно, было не только в слове — в общем строе ленты, в монтажной системе размышлений, сочетающейся со словом.
Но слово трудилось в фильме неутомимо.
Рефренное «Вы…», «Вы…», «Вы…» придавало репортажно снятым кадрам простой, обыденной жизни сначала оттенок загадочности, потом все возрастающей многозначности и в конце концов поднимало людей, совершающих в кадре каждодневные действия (купают овец, охотятся, прядут шерсть, кормят детей, стирают белье, смотрят в зрительном зале кино), на высоту нового понимания человека и его общественного предназначения.
Предметы в кадре, говоря словами Эйзенштейна, выходили из самих себя. Из своего обычного состояния.
Они обретали новые качества, получали новое измерение.
Жизнь, ограниченная своим привычным микромиром, становилась частицей макромира.
Рефрены меняли характер изображения: хроника становилась зрелищем — ярким, необычным, острым.
Вертовские поиски способов обострения обыденного, выведения заурядного из рядового состояния смыкались с поисками новаторского искусства тех лет, с идеями «остранения», «очуждения» действительности, преломленной искусством.
В этом Вертов оказывался близок даже театру, исканиям Мейерхольда, начинаниям Брехта.
С Мейерхольдом Вертова познакомил Февральский. Вертов ходил на спектакли, смотрел с интересом.
Театр Мейерхольда издавал своеобразный журнал-программу «Афиши ТИМ».
В третьем номере (ноябрь 1926 г.) была помещена короткая, но емкая статья, спорящая со сделанным в это время заявлением Эйзенштейна о гибели театра перед лицом кинематографа. В ней довольно убедительно доказывалось: многие сцены «Потемкина», в частности финальная (встреча с царской эскадрой), воздействуют на зрителя потому, что повторные движения орудий, тень от судна на воде, движение стрелок манометра являются не натюрмортами, а живыми участниками игры, становятся снимками не фактической, а театральной данности, театрального воздействия. Это обеспечивает успех кинематографии Эйзенштейна с такой же закономерностью, с какой отсутствие театральности, замечал безвестный автор (имя его не было указано), до сих пор мешало успеху Дзиги Вертова.
Вывод относительно Вертова был несколько поспешным. То, что касалось сцены «Потемкина» с ожившими благодаря игре предметами, присутствовало во многих лентах Вертова, в том числе в застучавших сердцах машин после митинга автобусов.
Театральность возникала не как впрямую поставленная цель, а как объективно возникающий эффект воздействия — воздействия разворачивающегося, разыгрывающегося на глазах зрителя зрелища. Кино беспредельно расширило возможности игры (по сравнению с театром) за счет введения в игру не только актера, но и предметов, не только актера, но и неактера — живого, подлинного человека.
Люди, втянутые в орбиту «Шестой части мира», оказались сближенными игрой — монтажом, словом.
Все это способствовало созданию необычайного, отстраненного зрелища.
Игра преломляла действительность, но не переламывала ее.
Отстраненность зрелища в «Шестой части мира» помогала обострению мысли — не отвлеченной, вытекающей из суммы реальных жизненных обстоятельств.
Может быть, поэтому автор статьи отметил, что отсутствие театральности мешало успеху Вертова «до сих пор», статья была написана как раз в пору нарастающего успеха «Шестой части мира».
Не случайно этот же номер «Афиш ТИМ» напечатал не безоговорочную, но в итоге благожелательную рецензию на фильм Вертова.
У Вертова не было прямых учителей.
Но у него были свои стойкие привязанности.
«Шестая часть мира» несла на себе отсвет одновременно трех его поэтических пристрастий, верность им он сохранял всю жизнь.
В стремлении рассказать о времени через себя и о себе через время, в желании воспеть шестую часть мира, в пафосе прямых ораторских обращений к массам, чеканном ритме поэтических кадров и строк — во всем этом жила любовь к Маяковскому.
Вертов не «продолжал» и не «развивал» Маяковского, не шел за ним «вслед», как писали позже некоторые критики, справедливо улавливая их близость.
Вертов шел самостоятельно.
Спустя полтора десятка лет, в войну, он говорил:
— Маяковский любил меня за то, что я не Маяковский. А Кацман не любит меня за то, что я не Кацман.
Кацман был редактором, в вертовские работы он постоянно вносил поправки.
Вертов шел самостоятельно — не к Маяковскому, а к себе.
Но понимание целей, методов искусства было предельно сближенным.
Творческая атмосфера, в которой жил Вертов, постоянно озарялась маяковскими молниями.
Существовал настрой на единую волну.
Кино двадцатых годов, в том числе Вертова, нельзя понять без Маяковского.
Но и поэзию тех лет, в том числе Маяковского (может быть, его в особенности), нельзя понять вне кинематографических явлений, в том числе и такого, как Вертов.
Октябрьская поэма «Хорошо» была написана через год после выхода «Шестой части мира».
Маяковский и Брик восторженно рассказывали о фильме немецкому писателю Ф.-К. Вейскопфу, приезжавшему в Москву в 1926 году.
Маяковский числил Вертова среди лефовцев, печатал его в своем журнале.
Вертов считал, что Маяковский в искусстве — Кино-Глаз, видит то, чего обычный глаз не видит, часто делал выписки из Маяковского, подтверждающие это: «Осмеянный у сегодняшнего племени, как длинный, скабрезный анекдот, вижу идущего через годы времени, которого не видит никто».
Выписку Вертов сделал в тридцать пятом году, подчеркнув слово «вижу».
Этим словом девять лет назад начиналась «Шестая часть мира».
В другой раз Вертов записал:
Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
Оставьте!
О нем это,
об убитом телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!
Глаза газет — здесь тоже было что-то киноглазовское.
Вертов вспоминал: Маяковского он полюбил сразу, без колебаний. С первой прочитанной книжки.
Книжка называлась «Простое, как мычание».
Он знал Маяковского наизусть. Защищал его, как мог, от ругани, разъяснял.
Когда впервые увидел поэта в Политехническом музее, не был разочарован — представлял его именно таким.
Позже они познакомились, встречи всегда были короткими: на улице, в клубе, на вокзале, в кино.
Вертову нравилось, что Маяковский называл его Дзига.
— Ну, как Кино-Глаз, Дзига? — спросил Маяковский однажды. Это было где-то в пути на железнодорожной станции, их поезда встретились.
— Кино-Глаз учится, — ответил Вертов. — Кино-Глаз — маяком на фоне шаблонов мирового кинопроизводства…
В последний раз они встретились в Ленинграде, в вестибюле гостиницы «Европейская».
Маяковский увидел Вертова, сказал:
— Надо поговорить без спешки. Поговорить серьезно. Нельзя ли сегодня устроить «полнометражный» творческий разговор?
Вертов поднимался в лифте и думал, что «жизнь прекрасна и удивительна», что «лет до ста расти нам без старости…».
Шел 1930-й год, Вертов увлеченно работал над своим первым звуковым фильмом, отыскивал ключ к съемкам документальных звуков.
В тот вечер он ходил взад и вперед по номеру гостиницы в ожидании Маяковского и радовался предстоящей встрече.
Вертов хотел ему рассказать о своих попытках создать поэтический кинематограф и о том, как рифмуются монтажные фразы друг с другом.
Но Маяковский не пришел.
Вертов ждал его до полуночи.
Что помешало, Вертов не знал.
Вскоре Маяковского не стало.
«…Ах, закройте, закройте глаза газет!»
Некоторые, знавшие и Маяковского и Вертова, находили между ними сходство не только в творчестве.
Они напоминали друг друга глубокой внутренней сосредоточенностью, немногословием, редкой веселостью, кажущейся даже холодностью при огромной доброте и человечности.
Оба взяли на себя роли главарей в своей области искусства.
Многие считали это признаком чрезмерного самомнения, совершенно не задумываясь над тем, насколько трудна эта роль.
Им обоим приходилось выслушивать одно и то же. Чаще всего — упреки и непонятности их произведений широкой массе.
Они казались многим неудобными, какими-то шумными, не знающими хорошего тона — с грохотом вышибают заповедные двери вместо того, чтобы вежливо постучать, спросив срывающимся от застенчивости голосом: «Можно?»
Им приходилось преодолевать множество предубеждений, но верность идее революционного новостроительства жизни была выше усталости, диктовала постоянную готовность к отпору.
В 1946 году на вечере в Доме кино в своем «самодокладе» (рассказе о собственном творческом пути) Вертов вспоминал слова Маяковского:
— Ничего, Дзига. Улыбайся в будущее. Правда свое возьмет.
Была и другая поэтическая привязанность.
В «Шестой части мира» обыденное поднималось до высокого не только лирико-патетической открытостью словесных обращений в зал, но и их эпическим ладом.
Картину называли могучей песней эпоса.
Один из самых рьяных (и, пожалуй, самых бездоказательных) оппонентов Вертова кинокритик Ипполит Соколов на этот раз точно угадал истоки эпических звучаний — «в стиле Уитмена», написал он в бурно шипящей, как ситро, рецензии.
Для Вертова это тоже был поэт — на всю жизнь, с далекой юности и до конца.
Летом пятьдесят второго года, за полтора года до смерти, в душной, переполненной электричке затертые в угол вагона Вертов и ученый-литературовед А. И. Дейч (с Елизаветой Игнатьевной и женой Дейча Евгенией Кузьминичной они ехали на день на дейчевскую дачу в подмосковную Валентиновку), не обращая ни на кого внимания, страстно обсуждали поэзию Уитмена, подтверждая свои мысли отрывками то на английском языке, то на русском.
Ура позитивным наукам! да здравствуют точные опыты!
Этот — математик, тот — геолог, тот работает скальпелем.
Джентльмены! Вам первый поклон и почет!..
Угадав в вертовских надписях «стиль Уитмена», Соколов писал об этом, конечно, с издевкой.
А между тем балладное, эпически-неторопливое накопление фактов (в тех же «Вы, купающие овец в морском прибое» и «Вы, купающие овец в ручье» — почти как у мудрого американца: «Этот — математик, тот — геолог, тот работает скальпелем») не только увеличивало эмоциональное напряжение.
Мерное, чуть тягучее звучание фраз и их несуетное, спокойное нанизывание друг на друга способствовали созданию неспешно разворачивающейся на глазах зрителя гигантской картины, возникновению ощущения огромности пространств Земли, ее шестой части. И одновременно огромные пространства этим крепким, неумолимым нанизыванием фраз и кадров постепенно сбивались в некое единство, создавая впечатление целостности.
Беспредельность пространств и их сопредельность.
Еще одна страсть — Велимир Хлебников.
«Председатель Земшара», ни на кого не похожий поэт, умевший сближать Космос и Землю, звезды и приволье степей, дальние миры и народы, страны и эпохи, открыватель слов, странных, туманных ощущений и щемяще ясных чувств.
Он был математиком, вычислявшим закономерности исторических дат, и в этом был тоже поэтом.
Он складывал математические «доски судьбы», предсказал хронологию некоторых великих событий.
Вертов любил читать Хлебникова вслух, искал для себя и для подарка друзьям редкие в те времена книжки его стихов.
Однажды, уже после войны, на Тверском бульваре случайно встретились Вертов и давний, еще в двадцатых годах, защитник его картин Сергей Ермолинский.
Бывший кино- и театральный критик стал кино- и театральным драматургом, автором многих сценариев, пьес.
Встречались они редко, их интересы и пути разошлись, хотя навсегда оставались взаимные расположенность и доверие.
Разговор не вышел, получился нескладным.
И вдруг Вертов, вспомнив, что когда-то, в конце двадцатых годов, они говорили с Ермолинским о Хлебникове, стал читать хлебниковский «Зверинец».
…Где звери, устав рыкать, встают и смотрят в небо.
Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.
Где олени стучат через решетку ногами.
Где волки выражают готовность и преданность…
Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство.
Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности…
Вертов читал стихи Хлебникова, но Ермолинскому показалось, что он хотел передать свое смятение.
А перед тем, как начать чтение, Вертов объяснил, чем заинтересовало его это стихотворение:
— Там каждый абзац начинается с «где». Это напомнило мне знаете что? Надписи в моих старых фильмах!
Хлебниковские строки могли напомнить Вертову надписи не в старых фильмах, а в старом фильме.
Только в одном — в «Шестой части мира»:
…Где скрипят арбы, запряженные буйволами,
Там, где кочевники гонят свои стада…
Где стада переправляются через реки
Где вогул зубами развязывает узел
Там, где экспортный лен,
В порту,
Где цистерны и баки с подсолнечным маслом,
Где грузят икру
Коров
Цемент
Где хлеб
Непрерывной лентой —
В иноземные корабли…
«Шестая часть мира» была поэтически не только чрезвычайно насыщенна, но и прекрасно оснащена.
В тридцать девятом году Вертов сделал в дневнике запись, ясно и точно, без туманностей, свойственных ранним манифестам, объяснил существо своего метода (как не раз случалось, говорил о себе в третьем лице): «Он — охотник. Охотник за кинокадрами. За кадрами правды. Киноправды. Он не замыкается в кабинете. Уходит из клетки комнаты. Пишет с натуры. Наблюдает. Экспериментирует. Ориентируется в незнакомой местности. Принимает мгновенно решения. Маскируется, используя естественные возможности. И в необходимый момент метко стреляет. Киноснайпер. Спокойствие, смелость, хладнокровие, инициатива, самообладание…
Он — разведчик. Он — наблюдатель. Он — стрелок. Он — следопыт. Он — исследователь.
Но он еще и поэт.
Он проникает в жизнь с художественными намерениями.
Он извлекает из жизни поэтические образы. Он синтезирует свои наблюдения в своеобразные произведения искусства. Делает художественные открытия. Сливает драгоценные крупинки подлинной правды и песни правды в поэмы правды, в симфонию объективной действительности».
Это была не декларация на будущее, а вывод из пройденного. Все песни правды, поэмы правды, симфонии объективной действительности Вертов уже снял.
Он еще этого не знает.
Но дневниковая запись о синтезировании наблюдений в произведения искусства подводила итоги пути, начатого громоподобным потрясением пьедестала искусства.
А между тем поиски возможностей извлечения из жизни художественных образов на практике стали осуществляться одновременно с их декларативным отвержением.
Поначалу осторожно, в виде эксперимента, отдельных открытий и частично реализованных намерений.
«Шагай, Совет!» и «Шестая часть мира» впервые столь прямо и открыто поведали зрителю о том, что прежде лишь неясно предчувствовалось, не выливалось в очевидность: их автор — не только охотник за кадрами правды, наблюдатель и исследователь, он еще и поэт.
Проникает в жизнь с художественными намерениями.
Извлечение из жизни поэтических образов теперь перестало быть отдельной, частично реализуемой задачей, а превратилось в главную цель творчества, хотя как раз в отдельных моментах, в частностях осуществить ее до конца, может быть, и не всегда удавалось.
Пресса замечала: в «Шестой части мира» поэзия порой приходит в столкновение с «прозой» обычной хроники — разгрузка и погрузка товаров в портах, на железнодорожных станциях.
Доброжелательная критика отмечала это без особых акцентов, как частный просчет, он не имел решающего значения.
Недоброжелательная — с иронией: вот вам и поэма, ха-ха-ха!..
Но посмеивающаяся критика не обратила (или не захотела обратить) внимания на то, на что обратила доброжелательная: истоки неполной гармоничности ленты — в ее заказном посыле.
Поэтический замысел Вертова оказался гораздо шире, мощнее деловой прозы госторговского обмена.
Доброжелательная критика (а она на этот раз находилась в очевидном большинстве), то мимоходом сетуя, то поднимая проблему со всей резкостью, спрашивала: почему такой мастер, как Вертов, не получил на такую картину, как «Шестая часть мира», заказа от кино-организаций, а вынужден был работать по заказу ведомства, далекого от кино?
21 сентября 1926 года «Кино-газета» в своем постоянном информационном разделе «Вкратце» сообщала о выступлении на общем собрании киноков Дзиги Вертова, который между прочим сказал:
— Девять лет борьбы за киноправду, и в результате ни одного задания от кинопромышленности. Если бы не кино-глазовские заказы (от Моссовета, от Госторга), мы, может быть, не увидели бы ни одной работы Кино-Глаза. Чтобы сделать из узких ведомственных заказов картины всечеловеческого звучания — нужны нечеловеческие усилия.
Эта речь, добавляла газета, о нечеловеческих усилиях, имеющая характер человеческого документа, должна быть выслушана с тем большим вниманием, что киноки закончили сейчас замечательный фильм «Шестая часть мира».
В работе над картиной образовалась ситуация, аналогичная работе над «Шагай, Совет!». Заказ открывал великолепные перспективы для решения художественных задач грандиозного масштаба и одновременно исподволь суживал этот масштаб.
Но Вертов теперь был более тверд и последователен в осуществлении как собственных намерений, так и задания, полученного со стороны.
Он ни в коем случае не хотел подводить заказчика.
Учитывая опыт предыдущего фильма, Вертов постарался сделать все возможное, чтобы воплощение собственного замысла не помешало Госторгу признать картину.
В интервью, опубликованном печатью 16 октября, предгосторга А. А. Трояновский отмечал, что в фильме нужно было показать роль, какую в строительстве СССР играет Госторг.
— Выполнение этой задачи Вертовым, — говорил Трояновский, — оправдало наши ожидания… «Шестая часть мира» — ценный вклад не только в кинематографию, но и в освещение жизни и работы в СССР вообще… Ценный материал, оставшийся от «Шестой части мира» (который мы считаем нашей собственностью), таким образом, будет использован до конца. Горячий прием, оказываемый фильме на просмотрах, убеждает нас в том, что и с коммерчески-прокатной стороны «Шестая часть мира» оказалась рентабельной.
Вертов полностью удовлетворил заказчика и выполнил задачи, которые ставил перед собой.
Но преодолеть противоречия ситуации до конца, во всех деталях не удалось.
Однако то, что удалось не в деталях, а в главном, было настолько значительным, что частности не смогли заслонить для большинства очевидного: Вертов становится создателем нового направления в советском и мировом киноискусстве — поэтического документального кинематографа.
Временами Вертов еще будет отказываться от своей причастности к искусству, но горячности в это будет вкладывать все меньше и меньше.
Зато — наряду с ростом сторонников — от него начнут отказываться (вкладывая в это дело горячности все больше и больше) те, кто недавно находился в одном с ним стане поборников кино, противопоставляющих документ вымыслу, факт анекдоту.
Впрочем, в стане «голого», «чистого» факта, факта как такового они — остались.
Ушел Вертов (начал свой уход давно).
Это показалось изменой — не стану, а факту.
Изменой факту показалось его слияние с поэзией, с поэтической образностью.
Пыл, сарказм, блестящее остроумие, с какими они сражались за факт на экране и за Вертова, они теперь направили против Вертова, думая, что все еще остаются при этом поборниками чести документа.
«Шестая часть мира», в целом триумфально принятая прессой и зрителем, вместе с «Шагай, Совет!» послужила поводом для одной из самых острых и принципиальных полемик, когда-либо разгоравшихся вокруг Вертова и той области кино, которой он посвятил себя.
Полемика сопровождалась искрометными выпадами, сверкающими белозубьем шутками, не похожими, однако, на зубоскальство Анощенко.
Все было гораздо сложнее и серьезнее.
«Я хочу знать номер того паровоза, который лежит на боку в картине Вертова».
Началось с этой фразы.
Ее бросил — легко, задорно и, конечно, задиристо — Виктор Шкловский.
С исчерпывающей категоричностью она выражала пафос небольшой, но плотно сбитой статьи о «Шагай, Совет!».
Фраза стала знаменитой.
Она коснулась наиболее оголенного, беззащитного участка документализма.
Снова, уже не в первый раз (но, может, впервые с такой прямотой), был поставлен один из сложнейших и тонких вопросов: где зыбкая грань, которая отделяет истинную документальность от ее видимости?
Шкловский ответил со всей определенностью.
Отдавая дань кинематографической талантливости Вертова, он тем не менее считал: хроникальный материал в обработке Вертова лишен своей души — документальности. Объяснял: «Хроника нуждается в подписи, в датировке. Просто стоящий завод или стоящие 5 августа 1919 года мастерские Трехгорной мануфактуры — это разница».
Вне точных временных и географических координат хроникально снятый материал, но мнению Шкловского, терял свою документальность.
Отсюда и требование указать номер паровоза.
К этому требованию Шкловский подводил читателя абзац за абзацем.
А начало статьи содержало шутку, она задавала тон всему остальному.
Возможность шутки предчувствовалась уже в названии «Куда шагает Дзига Вертов?», поскольку статья посвящалась фильму «Шагай, Совет!».
Вопрос, вынесенный в заголовок, как бы заранее предусматривал ответ: Дзига Вертов шагает не туда. Правильность предположения Шкловский подтверждал первыми же строками.
Отметив, что группа Вертова — против актера и снимает настоящих людей, которые «не умеют себя вести перед аппаратом спокойно», Шкловский обратил внимание на якобы возникающую проблему: «Научить всех сниматься».
И тут же весело пояснил — «сложный способ вбивания стенки в гвоздь».
Так как веселая эта фраза находилась в начало статьи, в дальнейшем доказывающей противостояние того, что делает Вертов, истинному документализму, то читателю не трудно было прийти к выводу, что вообще метод Вертова есть не что иное, как вбивание стенки в гвоздь.
Стрела была пущена уверенно, с хорошей оттяжкой тетивы, с расчетом на дальний полет.
Расчет во многом оправдался.
Но он не оправдался в главном: в цель стрела не попала и никогда не попадет.
Правда, придется подождать, пока она, согласно предсказанию Ньютона, ткнется в землю. Шуршание рассекаемого ею воздуха еще доносится. Желающих во что бы то ни стало знать номер опрокинувшегося на бок паровоза всегда можно встретить. Мысль о том, что хроника без подписи и даты — не хроника, своих приверженцев не теряет.
Но с годами она все больше теряет ту ослепительную категоричность, какая была у Шкловского. Она лишается ее не в теоретических дебатах.
Безоговорочности ее лишила практика документального кино. Хроника, построенная на информационном перечислении дат, имен, фамилий, географических пунктов и прочих конкретных сведений, включая номера показанных в кадрах паровозов, займет довольно большое место на экране.
На определенном этапе развития документального кино эта хроника во многом удовлетворяла зрительским потребностям, играя важную агитационную и просветительскую роль.
Но со временем все очевиднее становилось, что подлинный документализм не ограничивается ею.
Точное перечисление конкретных сведений не исчерпывает ни всех возможных способов информации, ни тем более всех возможных форм документальных обобщений.
В зафиксированных на пленку фактах Вертов искал не точность даты, а точность эпохи (которая, кстати, тоже всегда имеет свои хронологические границы).
Шкловский звал к хронологии, летописанию.
Вертов, опираясь на летописание, стремился стать не хронистом, а историком времени.
Ну и, конечно, — его поэтом.
Стоит ли автора «Слова о полку Игореве» упрекать в том, что он пропел песню, сложил поэму, а не вписал еще несколько страниц в «Повесть временных лет»? И правильно ли полагать на основании того, что он сложил поэму, будто он не был историком или летописцем?
Можно ли сказать, где в «Илиаде» кончается поэт и начинается историк, и наоборот? Может быть, и можно. Но — стоит ли?
Каждый одержимый человек сжигает себя и свою жизнь на своем костре.
Надо ли, если вдруг покажется, что отблеск одного из костров вроде бы какой-то не такой, подложить в него полешек из соседнего с целью уравнять силу пламени? Наверное, не надо. Хотя бы потому, что слишком велик риск услышать над ухом шепот пересохших губ: «Святая простота!..»
Мысль о старых хрониках, о летописцах, наверное, не покидала Шкловского, когда он писал рецензию на «Шагай, Совет!»: «Весь смысл хроник в дате, времени и месте. Хроника без этого — это карточный каталог в канаве».
Но сближение старых хроник с кинохроникой как раз и стало главной причиной несомненно ошибочного предположения, будто Вертов пошел по пути вбивания стенки в гвоздь.
В отличие от прежних словесных хроник кинохроника дает не умозрительное, а зримое воспроизведение фактов. Если она дату и место не называет, то очень часто показывает. В самом изображении обычно есть разнообразные приметы дат и мест событий.
Призывая к точной датировке, Шкловский вместо даты, к которой относится кадр с лежащим паровозом, потребовал указать его номер уж не потому ли, что, как человек зоркий, остро схватывающий, он где-то подспудно чувствовал присутствие в кадре вполне конкретной эпохи?
Вертов это чувствовал не подспудно, а реально и ясно. Он отлично понимал, что в самом факте лежащего на боку паровоза есть дата, какую никогда не даст указание номера. При этом важно не только то, что паровоз лежит, но и то, что лежит именно этот паровоз, со свойственным именно ему обликом, или, точнее говоря, обликом, свойственным паровозам именно того времени — периода разрухи.
«Поза» паровоза, его внешний вид, среда, в которую он помещен, сообщают зрителю дату трагедии.
В рецензии Шкловский ссылался еще на одну возможную экранную ситуацию. «Говорящий Муссолини, — писал он, — меня интересует. А просто толстый и лысый человек, который говорит, — пускай он говорит за экраном».
Но просто лысый человек, говорящий за экраном, может оказаться как раз не Муссолини. А Муссолини он может оказаться лишь тогда, когда заговорит на экране. Когда, увидев его, зритель может воочию удостовериться: Муссолини.
Или, наоборот, — не Муссолини, а какой-то другой лысый человек. И если зритель увидел, что это Муссолини и никто иной, так ли уж обязательна подпись и дата?..
Речь не о том, что подпись и дата не важны вообще. Многое зависит от дистанции, отделяющей дату съемки хроникального кадра от даты его включения в фильм, от форм осмысления материала и т. д.
Но информация приходит с экрана к зрителю по многим каналам, а не только с помощью слова. Поэтому важно, чтобы не возникало желания один из возможных методов сообщения выдать за единственно возможный.
Метод, возведенный в принцип, чаще всего лишь кажется принципиальным.
Тем более что метод, который Шкловским рассматривался как единственно возможный и который вроде бы действительно должен с помощью слова обогащать зрение, на самом деле очень часто обедняет его.
Ведь зритель узнает говорящего Муссолини не только по его облику. Существенную роль сыграет и то, что зритель займется рассмотрением его окружения. Он увидит безумный восторг оболваненной толпы, слушающей своего дуче, подобострастие ближайших соратников, знамена, эмблематику, прочие подробности подражания древнеримскому могуществу, короче говоря, то, что сложится не в некое сугубо частное понятие — Муссолини, а в понятие социально-политическое.
Но все это можно заменить и подписью под кадром: главарь итальянских фашистов Муссолини выступил в Риме такого-то числа, месяца, года.
Казалось, слово помогло зрителю, а на самом деле просто-напросто освободило от необходимости напрягать зрение, всматриваться в экран, оставив лишь право посмотреть на него. Зримую информацию он почерпнул лишь в пределах того, что подсказано словом.
Вертов говорил, что слово в документальном кино очень часто берет на себя довольно-таки странную роль: поводыря для зрячих. «Киноязыку надо учиться, — записывал он в дневнике в сентябре 1944 года. — Никто этого не делает. Думают, что диктор все наговорит. А на экране — бестолочь. Никто не замечает. Слушают диктора и через его речь глазеют на экран. Слушатели, а не зрители. Слепые, слепые. А „слепой курице — все зерно“.
Мысль Шкловского о необходимости знания номера паровоза для выполнения житейски естественной операции вбивания гвоздя в стену (а не наоборот) постепенно теряла напористую категоричность под влиянием последующего опыта документального кино, но потребность в полемике с этой точкой зрения возникла уже тогда, когда она была высказана.
Правда, полемика не была в то время доведена до конца. Жизнь еще не выдвинула многих веских и очевидных аргументов в пользу Вертова. Однако в том же номере „Советского экрана“ (№ 32, 1926) сразу вслед за рецензией Шкловского была помещена статья секретаря редакции Изм. Уразова, он отвечал Шкловскому уже самим ее названием. На вопрос, вынесенный Шкловским в заголовок: „Куда шагает Дзига Вертов?“, Уразов давал ответ своим заголовком: „Он шагает к жизни как она есть“.
Никакой нужды, отмечал Уразов, вбивать стены в гвозди у Вертова нет по простой причине: он совершенно не собирается, как предположил Шкловский, научить всех сниматься. Наоборот, он хочет прямо противоположного: чтобы никто вообще не умел сниматься.
У него задача застичь жизнь врасплох, обнажить ее.
Но при этом у Вертова взята установка на показывание не просто вещей и явлений, а сущности вещей и явлений. „Уж даже не судебный протокол, а анализ и научное исследование судебного кабинета. Основное — угол зрения“.
Сказано с той точностью, с какой в то время о Вертове говорили не часто.
Свою статью Уразов открывал общим замечанием, которое могло показаться всего лишь полемической фигурой. „Он (Шкловский. —
Л. Р.) начал о „Шагай, Совет!“ и рассказал главу из теории прозы“.
Далее Уразов впрямую никак не развивал эту тему, а затронула она главное: ненужность непосредственного перенесения закономерностей прозаического, словесного, изложения вещей на вещи кинодокументальные.
Это касалось в том числе и сюжета, Шкловский считал, что его Вертов отвергает.
Уразов согласился: нет сюжета, но и без него картина „занимательней т. н. художественных фильм“.
Насчет занимательности он был прав, а насчет отсутствия сюжета согласиться поспешил. В „Шагай, Совет!“, как и в других вертовских лентах, отсутствовал не вообще сюжет, а сюжет традиционный, в его „прозаическом“, фабульном понимании.
15 декабря 1926 года „Комсомольская правда“ напечатала короткое интервью с Вертовым, текст, видимо, с ним окончательно не согласовали. В интервью вошли слова „Борьба работников Кино-Глаза за новую неигровую (без сюжета) фильму опирается на требования, высказанные еще в 1922 г. т. Лениным“.
В вырезке, сохранившейся в архиве Вертова, он карандашом зачеркнул „без сюжета“, на полях поставил знак вопроса и рядом написал: „Неверно. Д. В.“.
Вертов не отвергал сюжет, а открывал новые способы сюжетосложения.
В своих ответах Шкловскому Уразов не обошел и основную проблему. „В картине никто не хватается за голову, — писал он, — и не разыгрывает трагедий, но пустынный вагонный парк, сотни опрокинутых вагонов, одиночество вещей вырастают в трагедию вчерашней разрухи“.
Наконец, в статье был дан и прямой ответ на прямо поставленный вопрос.
„Что же касается номера того паровоза, который лежит на боку, то вот он: 353.
И узнал я этот номер не по телефону от Дзиги Вертова, а увидел на экране.
Виден он хорошо“.
Почему-то Шкловский жаждал получить ответ именно на этот вопрос, и он его получил.
В то же время ответы были даны и самим Вертовым, правда, они не были тогда опубликованы.
В 1926 году Вертов подготовил тезисы выступления (пли статьи), он говорил:
— Пробегающая по улице собака — это видимый факт даже в том случае, если мы ее не нагоним и не прочтем, что у нее написано на ошейнике.
Совершенно нелепо, считал Вертов, добиваться того, чтобы каждый отдельный кадр, как правило, отвечал бы на целую анкету: где, когда, почему, год рождения, семейное положение и т. д.
Эти и многие другие сведения необходимо учитывать при монтаже, они служат как бы справочником для верного „монтажного маршрута“, но совсем необязательно их выкладывать в картине в виде информационного приложения к каждому кадру.
Тезисы служили ответом не персонально Шкловскому, а выраженной нм точке зрения, приверженцем которой был не только он.
Но Вертов ответил и непосредственно Шкловскому, занес свой ответ 6 марта 1927 года в дневник. В ответе следует опустить слова, отражавшие степень вертовской грусти, вызванной веселыми шутками оппонента, уж очень круто были замешаны слова на ярости, она помешала Вертову „выбирать выражения“.
Если „выражения“ отбросить, останется логически ясная суть:
— Стоит ли доказывать… что: каждый жизненный факт, зафиксированный киноаппаратом, является кинодокументом, даже в том случае, если на него не надеть номерок и ошейник.
Но оттого ли, что ответы Вертова не были тогда опубликованы, или оттого, что ответы Уразова не убедили, или же потому (скорее всего), что в тот момент убедить Шкловского не было дано никому, но в заметке „Киноки и надписи“ („Кино-газета“ от 30 октября 1926 г.), посвященной следующей вертовской ленте, „Шестой части мира“, он почти дословно повторил все то, что говорилось им о предыдущей.
Снова речь шла об исчезновении „фактичности кадра“, его „географической незакрепленности“: показано, как в одной местности овец моют в морском прибое, а в другой — в реке, „прибой снят хорошо, но где он снят, не установлено точно“.
На повторения Шкловского остается отвечать одним — своими повторениями, но вряд ли это имеет смысл. Можно лишь добавить, что в картине Вертова каждый ее кадр имел предельно точную географическую закрепленность.
Только не за тем или иным приморским селением или горным аулом, а за шестой частью мира! И что такая географическая закрепленность одновременно была связана с социально-политической закрепленностью, но выраженной — поэтически.
Последнее обстоятельство необычайно чутко и точно, гораздо точнее многих других, ощутил не кто иной, как сам Шкловский. В заметке он писал о „песенной композиции“ „Шестой части мира“ (которую с милой рассеянностью, присущей богато одаренным натурам, все время почему-то называл „Шестой частью Света“), о „лирическом параллелизме“, о „стихах, красных стихах с кинорифмами“, о том, что „работа Дзиги Вертова — искусство, а не конструкция“.
Слова Шкловского о стихах с кинорифмами были шагом к глубокому осмыслению каких-то граней совершенно новой поэтики документализма.
Но мысль не получила развития, дальнейшего подкрепления всесторонним анализом плоти фильма, и не получила по вполне понятной причине: все, что говорилось Шкловским о поэтическом строе картины, о стихах, о лирике, — все это рассматривалось в рецензии не как удачи Вертова, а как признаки его очевидного поражения, измены себе.
Да, работа Вертова — искусство, а не конструкция, но то и плохо, что не конструкция — вот пафос слов Шкловского.
Раньше у Вертова была твердая „установка на факт“, а теперь вместо фактов — собрание курьезов, анекдотов, ибо какой же может быть факт, если зрителю не сообщено точно, когда и где было снято?..
Оба были близки лефовскому кругу, сама его атмосфера была насыщена верой в безоговорочную силу факта, конструктивистскими принципами „сборки“ вещей.
Но сожаление Шкловского, что работа Вертова — искусство, а не конструкция, не являлось формальной защитой каких-то групповых интересов. Оно диктовалось серьезными опасениями, что художественная обработка фактов, их слияние с искусством приведут к нарушению достоверности, к отходу от объективной жизненной правды за счет слишком личностных форм ее выражения.
Опасения казались тем более основательными, что в практике кинодокументализма к тому времени вообще не существовало примеров единения документального факта с искусством, с поэзией.
Вертов пошел по этому пути, отметая всякие опасения. Понимал: путь ведет к более глубокому и достоверному постижению сути окружающего мира. Становясь поэтом, он не переставал быть документалистом, оставаясь документалистом, он не переставал быть поэтом.
Однако первые вертовские работы не могли развеять у сомневающихся сразу же все тревожные опасения.
Эта тревога наделяла пафосом строки Шкловского, пафосом, находившим свое выражение в том числе в едкой шутке, беспощадной иронии.
Искрометных слов, фраз
рассыпано в заметке о „Шестой части мира“ немало.
Высшей точки ирония достигала в финале, здесь снова затрагивалось главное. „Дзига Вертов, — писал в заключение Шкловский, — повернулся на угол в 730°, т. е. два раза повернулся вокруг самого себя и оказался повернутым на 10°. Его пути совпали с путями художественной кинематографии“.
Опять точное угадывание, только не поворота, а переворота, совершенного Вертовым в документальном кино, по опять со знаком минус. А отсюда вполне естественно следовал совсем уже ироничный вывод: „Но намерения Дзиги Вертова чрезвычайно плодотворны, и те, которые будут снимать настоящую хронику, которые будут указывать долготу, широту, место и день съемки, те, которые будут снимать настоящие поля, будут обязаны своей выдумке — выдумке мимо прошедшего Дзиги Вертова“.
Сказать на это ровным счетом нечего.
Потому что разве скажешь лучше Шкловского?
Ведь Вертов-то действительно прошел мимо этой выдумки, чтобы открыть новые киностраны, невиданные киноматерики.
Вертов прошел, а Шкловский с ней остался. И, оставшись с ней, он прошел мимо вертовского открытия.
Стенок в гвозди Вертов никогда не вбивал.
Если уж придерживаться этого сравнения, то с гораздо большим основанием можно сказать, что всю свою жизнь Вертов занимался прямо противоположным: вбивал гвозди в стенки.
А что и было здесь „смешного“, так лишь одно: вбивать ему их приходилось часто голыми руками.
Не оттого, что не было молотка. Но нередко требовался инструмент более тонкий, более чувствительный.
Подобная операция, естественно, не проходила безболезненно. Но ради правого дела Вертов не жалел себя.
И когда возникала необходимость пробивать стены или вышибать двери, мягкий и деликатный Вертов собирал всю свою энергию и волю. „Если… я известен в кинематографии, — писал он в письме одному из поспешных критиков „Симфонии Донбасса“, — то известен как взломщик запертых кинодверей, в которые входят другие. Это — очень неблагодарная работа…“.
Но Вертов брался за эту лично для него неблагодарную работу, потому что верил в ее общественно важные перспективы.
Он словно предвидел, что сегодняшний его спор со Шкловским не потеряет остроты ни завтра, ни послезавтра, ни спустя годы и десятилетия.
Он словно знал, что и спустя десятилетия не иссякнут фильмы, в которых понимание документализма будет исчерпываться указанием широты, долготы, времени, места съемки и прочими „анкетными“ данными.
Он словно предчувствовал, что отголоски спора отдадутся эхом в вызревании различных тенденций мирового киноискусства, в складывании различных „школ“ и направлений документального кино, особенно тех, которые верность факту будут признавать лишь при условии активного авторского самоустранения.
Наверное, он даже угадывал, что отголоски эти могут переметнуться из документальной области в область игровую.
Годар — один из родоначальников „новой волны“ во французском игровом кино пятидесятых годов, — в дальнейших своих поисках почувствовав неодолимое влечение к левацкому авангардизму, объявил, что всякая социально интерпретированная искусством действительность есть ложь, „эйзенштейновщина“, что искусство должно принимать действительность как фактическую данность, и посему назвал себя последователем Вертова, считая, что своей „выдумкой“ обязан именно ему.
Он ведь не знал, что уже давным-давно один из самых умных и прозорливых современников Вертова с блеском доказал, что Вертов по отношению к этой не сегодня родившейся, но сегодня потрясшей воображение французского режиссера „выдумке“ оказался, слава богу, мимо прошедшим.
Не просто доказал, а доказал — от противного.
Не как защитник Вертова, а как его решительный оппонент.
Но ведь такое доказательство особенно убедительно.
Просто трудно удержаться (отнюдь не впадая в мистику) от размышлений о роковой предопределенности, странной игре судьбы.
Почему немало людей, в том числе и обладавших проницательным (иногда даже необычайно проницательным) зрением, чуткие провидцы, очень многое угадавшие наперед (и тот же Эйзенштейн и тот же Шкловский — список легко продлить), теряли остроту зрения, как только обращали свой взгляд на Вертова?
И у Эйзенштейна и у Шкловского были неточные выводы, сделанные по другим поводам.
Они многое открыли; если бы не ошибались, то, наверное, не открыли бы ничего.
Но осечки в оценке Вертова, его далеко идущих намерений порой оказывались до такой степени стопроцентными, что невольное склонение мысли в сторону присутствия в судьбе некоего наваждения кажется достаточно естественным.
На самом же деле было, скорее всего, другое: совершенно новая, никем не изведанная область творчества, в исследовании ее он добирался до таких глубин, до каких большинству еще предстояло долго добираться.
Намерения были действительно далеко идущими.
Очень далеко.
Столь далеко, что жизнь еще не предъявила на них своих полных прав.
От этого многие намерения казались надуманными, нежизненными.
И от этого многие осечки выглядели стопроцентными попаданиями при стопроцентных (на самом деле) промахах.
Но для того чтобы промахи стали очевидными, должны были пройти годы и десятилетия.
Отношение Шкловского к Вертову это точно отразило.
С течением времени оно менялось.
Шкловский всегда отмечал кинематографическую талантливость Вертова, но в двадцатые годы отмечал как бы в скобках, основное место уделял несогласиям.
С годами он стал все больше обращать внимание на талантливость, скобки убирая.
Исчезает и категоричность тона в отношении вертовского метода. После выхода „Трех песен о Ленине“ Шкловский напишет удивительные, взволнованные строки, хотя ведь и в этой картине документальный кадр в большинстве случаев лишен подписи и даты, хотя и она — несомненно, искусство, а не конструкция.
В 1931 году Шкловский уверенно и резко обрушился на „Симфонию Донбасса“.
А в 1973 году в книге об Эйзенштейне он напишет: „Помню просмотр „Симфонии Донбасса“ Дзиги Вертова. Прослушав и посмотрев эту картину, вышел я на улицу и пошел не в ту сторону, куда мне надо было идти: был оглушен. Прошло двадцать лет. Случайно я опять посмотрел эту картину. Она мне стала понятной. Во-первых, изменился способ проекции, иначе стали записывать звук. Во-вторых, изменился мой художественный опыт. Я больше видел и ближе подошел к тому, что предугадал другой художник“.
В этих прекрасно сказанных словах есть не только то, что относится к научной добросовестности, но и нечто большее — чистота той нравственной волны, на которую настроена сама личность Шкловского.
Но несогласия не исчезли.
Во многих высказываниях более позднего времени (вплоть до 60–70-х годов) Шкловский будет находить случай в той или иной вариации повторить мысль о значении номера паровоза, подписи и даты, широты и долготы и т. д.
Чаще всего поводом для этого будет служить противопоставление методу Вертова метода Эсфири Шуб.
Шкловский увидит превосходство Шуб в том, что она не лишала явления „документальной полноценности“, а Вертов лишал, так как давал куски „без точного документального адреса“ (это написано не в двадцать шестом году, а в шестьдесят пятом).
Тут все неверно.
В 1927 году Шуб выпустила первый в мировой практике фильм, смонтированный из старой (дореволюционной) хроники, — „Падение династии Романовых“.
Монтаж у нее строился на долгих планах, а не на достаточно быстрой смене кадров, как у Вертова в „Шагай, Совет!“ и „Шестой части мира“.
Но принцип монтажа Шуб отражал вовсе не превосходство метода, а отличие целей.
Она рассказывала зрителю о времени десяти-пятнадцатилетней давности. Срок сравнительно небольшой.
Но старая хроника была отделена от зрителя второй половины двадцатых годов еще и рубежом двух эпох.
В десять послереволюционных лет Россия прошла путь, равный веку. Хронологически недавнее время для огромного большинства стало временем необыкновенно далеким, почти доисторическим.
Даже отъявленному монархисту Хворобьеву из романа знаменитых сатириков снилось вместо желаемых государя-императора при выходе из Успенского собора или хотя бы ялтинского градоначальника Думбадзе членские взносы, стенгазеты, совхоз „Гигант“, демонстрации, торжественное открытие фабрики-кухни.
Для того чтобы понять эпоху, подготовившую падение царской династии, Шуб должна была вернуть это время из небытия, напомнить зрителю, поподробнее показав его.
Вертов делал „Шестую часть мира“ на современном материале, и перед ним такая задача не возникала.
Шкловский также ошибся, полагая, что полноценность видения всегда связана с длительностью рассматривания.
Видимую картину глаз фиксирует мгновенно, а необходимость в более длительном рассмотрении или менее длительном диктуется быстротой осмысления зрителем увиденного.
В свою очередь быстрота осмысления зависит не от того, как долго одна и та же картина держится на экране, а от того, что эта картина показывает. И как показанное связуется с социальным и духовным опытом зрителя, со знанием демонстрируемого материала и т. д.
Та или иная длительность плана подчинена объему содержащейся в нем аргументации.
Короткий кадр может концентрировать в себе (и вокруг себя) аргументов гораздо больше, чем обилие длинных, тягучих, но бездоказательных по смыслу планов (что не исключает и обратно ситуации).
Дело не в длине монтажных „слов“ и „фраз“.
Шуб для полноценного осмысления дореволюционной эпохи нужны были длительные планы. Но это не значит, что короткие планы у Вертова не служили полноценному осмыслению эпохи послереволюционной.
Если длительность куска превышает скорость его понимания, следовательно, кусок должен быть уменьшен (и наоборот).
Иначе возникает усталость зрения.
Монтажная стремительность — не синоним смысловой беглости. И при замедленном монтаже смысл может оказаться беглым.
Вертов призывал к длительному наблюдению за жизнью, за поведением человека. Но это не означало, что все результаты наблюдений должны войти в законченный фильм, из них надо отобрать те, в которых идет накопление и концентрация смысла, отбросив те, в которых смысла нет.
Еще в двадцатые годы Шкловский бдительно предупреждал: „Вертов режет хронику!“
Этого делать нельзя, считал (и считает) Шкловский, Шуб — не делала.
Делала, и еще как! Только иначе, чем Вертов.
Потому что был разный материал и ставились разные цели.
Но от этого один не становился лучше (или хуже) другого.
А „резать“ хронику (вернее, жизнь, фиксируемую хроникой) начинают вовсе не ножницы режиссера при монтаже, а камера оператора при съемке — об этом нельзя забывать.
Но всегда ли оператор „режет“ в нужный момент?
Если раньше, чем нужно, то тут уж ничего не поделаешь.
А если позже, то почему бы не отрезать при монтаже ненужное?
В указаниях дат и мест съемки Шуб действительно проявляла несколько больший педантизм, чем Вертов, но и это не имело никакого отношения к превосходству метода, а объяснялось все тем же: она строила историческую картину.
Но педантизмом она себя вовсе не связывала, не превращала „анкетирование“ кадра в обязанность — чтобы убедиться в этом, надо чуть-чуть внимательнее посмотреть ее фильм.
Шуб брала хроникальные кадры, где крестьяне пашут помещичью землю под наблюдением управляющего, но не указывала, что кадры сняты, скажем, в Орловской или Курской губернии.
Не указывала, потому что для понимания времени конкретный „адрес“ не имел ровным счетом никакого значения.
Вернее, имел, но совсем иной, чем требовал Шкловский.
Адресом была вся Россия.
Указав такой адрес, не оказалась ли и Шуб мимо прошедшей?
Нет ли в таком обобщении свойств, гораздо больше сближающих Шуб с Вертовым, чем их разъединяющих (при всех отличиях путей к обобщению)?
Шуб открыла новую область документального кино, но ведь не мог для нее пройти бесследно предшествующий десятилетний опыт Вертова.
Лента „Падение династии Романовых“ появилась уже после „Шестой части мира“, в атмосфере возросшего общественного интереса к возможностям документального кино, вызванного последней вертовской работой, — это не случайно.
В книге воспоминаний, написанной через тридцать лет, Шуб называла себя учеником, а Вертова — учителем — это тоже не просто дань уважения памяти Вертову.
Кадры со вспашкой помещичьей земли отличались в ее картине неторопливостью, зрителю надо было дать поподробнее рассмотреть (и обдумать) то, что ушло в прошлое.
Но монтажные принципы двух художников сближались.
Кадры точно „адресуются“ в фильме Шуб в очень немногих местах, там, где нужно прочертить историческую канву.
Обязательная адресованность — это „выдумка“, которой Шуб обязана не себе.
Когда она снимала фильм на современном материале „Сегодня“ пли „Комсомол — шеф электрификации“ („КШЭ“), — она вообще не связывала себя адресованностью и широко использовала короткие кадры.
Хроника без мест и дат съемок, утверждал Шкловский, это карточный каталог в канаве.
Необязательно, все зависит от рук, в которые хроника попала, можно сделать и кинопоэму, как сделал Вертов.
А вот хроника, сведенная к датам, местам съемки и номерам паровозов, действительно часто становится похожей на каталог, только не в канаве, а на экране.
Хвала и честь Вертову! — он избежал этого.
Хвала и честь Шкловскому! — он доказал, что Вертов этого избежал.
Но каково Шуб? Обрадовалась бы она, узнав, что пошла по пути каталогизации?
Вряд ли, потому что на самом деле она занималась не кинокаталогом времени, а социально-историческим осмыслением эпохи и художественным переосмыслением материала, который отражал ее.
Иначе использованная Шуб „царская кинохроника“, покоившаяся в коробках с пугающей надписью „Контрреволюционный материал“, не стала бы картиной такого революционного накала.
Каталог бесстрастен к материалу, и в этом его достоинство.
Искусство — пристрастно.
Контакты между Вертовым и Шуб складывались не просто.
Разные обстоятельства порой разводили их, они сами этому не раз способствовали.
Нередко спорили друг с другом, нередко — теперь очевидно — по-пустому.
А шли — рядом, в одном сомкнутом строю.
В противопоставлениях Вертова и Шуб Шкловским его несогласия с Вертовым продолжали существовать, но все с меньшей аргументированностью, как бы по инерции.
Если талантливость Вертова в высказываниях Шкловского шестидесятых — семидесятых годов стала все чаще выходить из скобок, то несогласия стали все чаще в них попадать.
Все это отражает эволюцию, порой медленную, но — неуклонную, в общем понимании Вертова.
Но окончательные точки над „i“ не поставлены.
Заблуждения еще живут, хотя и в скобках, а их пора изжить вообще.
Это важно для понимания „истинных путей изобретения“ (выражение Эйзенштейна).
В конце декабря двадцать шестого года „Шестая часть мира“ пошла в большинстве московских кинотеатров, поступила в клубную киносеть.
На дискуссии в Ассоциации Революционной Кинематографии в январе следующего года представитель Госторга сообщил, что Гос-торгом собраны сорок два положительных отзыва партийной печати на фильм.
А четвертого января директор объединенной кинофабрики и член правления Совкино И. Трайнин подписал приказ об увольнении Вертова.
Отношения с правлением Совкино, особенно с Трайниным, у Вертова давно складывались напряженно. Возникла личная неприязнь, но она отражала принципиальные несогласия. Трайнину была чужда не только поэтика нестандартных вертовских фильмов, он вообще недооценивал роль документального кино в процессе кинопроизводства. Об этом много писалось и говорилось в то время. На диспуте „Пути и политика Совкино“ в октябре 1927 года об этом со всей резкостью говорил (как и многие другие участники диспута) Маяковский.
Формальным поводом для увольнения Вертова послужило то, что он не представил к сроку подробного сценария следующего своего фильма — „Человек с киноаппаратом“.
В ответ многие газеты и журналы немедленно выступили с осуждением принятого Совкино решения. В конце концов под давлением общественности правление согласилось принять Вертова на работу, но он понимал, что сложившаяся ситуация мало соответствует реализации тех совершенно новых творческих замыслов, которые им связывались с „Человеком с киноаппаратом“.
В Совкино Вертов не вернулся.
И все-таки картину „Человек с киноаппаратом“ он завершил.
В апреле в газетах появились сообщения: Вертов принял приглашение ВУФКУ (Всеукраинского фото-кино-управления) на постановку фильмов в плане Кино-Глаза и 1-го мая выехал в Киев и Одессу.
„Таким образом, — писала „Кино-газета“ в своем разделе „Вкратце“, — Совкино окончательно потеряло Вертова, по крайней мере на ближайший период“.
С отъездом Вертова на Украину перестала существовать как единый коллектив группа „Кино-Глаз“.
Рядом с Вертовым осталась Свилова, чуть позже к Вертову присоединился Кауфман.
Остальные разошлись по разным студиям и киногруппам.
Некоторые начали вести (с успехом) самостоятельную авторскую работу, в той или иной степени сохраняя верность киноглазовским традициям и принципам.
Но группа „Кино-Глаз“ распалась.
Вскоре Вертов получил из Москвы письмо от Копалина.
Дорогой Дзига!
Шлю привет и лучшие пожелания.
Читал недавно твое письмо Кауфману — очень рад, что ты хорошо себя чувствуешь в новой обстановке. Будем надеяться, что она не изменится в продолжение всей твоей первой работы на Украине. В этом залог успеха работы…
Ну, вот на днях уедет Кауфман, уйдет Лиза, и я останусь кинок в единственном числе на фабрике. Знаешь, как-то жаль вас всех! Раньше как-то недооценивал, насколько привык к вам, а вот уезжал ты, так чтобы не стыдно было, пришлось слезу проглотить. А теперь вот Кауфман… Ну, будем надеяться, что связь не порвется.
Картину „Человек с киноаппаратом“ Вертов, согласно предварительной договоренности с ВУФКУ, завершил на Украине.
Но прежде он снял на Украине (тоже согласно предварительной договоренности) другой фильм — юбилейную картину к 10-летию Октября. Вертов назвал ее „Одиннадцатый“ (имелось в виду вступление Советской страны в одиннадцатый год своего существования).
ГЛАЗА ГАЗЕТ
ВУФКУ на новых рельсах.
Беседа с новым председателем правления тов. А. И. Шуб.
…Новое правление придает особое значение работе в области неигровой фильмы и возлагает большие надежды на работающего сейчас в ВУФКУ по созданию юбилейной картины Дзигу Вертова.
„Кино-газета“, 1927, 14 июня
Руководитель киноков Дзига Вертов, снимающий для ВУФКУ к 10-й годовщине Октябрьской революции фильму „11-ый“, закончив съемки на Днепрострое и заводе им. Дзержинского, возвращается в Киев.
„Кино-газета“, 1927, 16 августа
Для съемок некоторых моментов октябрьских торжеств по фильме „11-ый“ в Москву приехала группа Дзиги Вертова. По окончании съемок Вертов приступает к монтажу картины.
„Кино-газета“, 1927, 15 ноября
В производстве ВУФКУ закончена фильма „Одиннадцатый“, сделанная по методу Кино-Глаза; автор — руководитель Дзига Вертов, главный оператор М. Кауфман. Содержание фильмы посвящено индустриализации страны. Все съемки по фильме „Одиннадцатый“ производились в экспедиции по маршруту: Волховстрой, Харьков (машиностроительные заводы), Днепропетровск (металлургические заводы), Гыврово — электрифицированная деревня, Одесса (маневры морского и воздушного флота) и Днепрострой. При съемке фильмы оператор Кауфман применил ряд технических приемов, углубляющих технику съемки неигровой фильмы. Дзига Вертов при монтаже фильмы стремился построить ее при минимальном количестве надписей.
„Правда“, 1928, 13 января
Советской Украине и всему красному СССР этот фильм посвящает автор.
Дзига Вертов
Съемки „Одиннадцатого“ протекали в очень сложных условиях, но киногруппа на них шла сознательно.
Выразительный, новый для зрителя материал доставали буквально из-под земли.
Искали его на земле, над водой, в воздухе — не в переносном, а в прямом смысле этих слов.
Как всегда, одна из мелодий в полифоническом звучании фильма должна была передавать тему электрификации страны.
Для этого в июне отправились на Волховскую станцию, но не просто сняли общие, „открыточные“ виды ГЭС.
Вертов и Кауфман вели съемку из подвесной люльки канатной дороги — камера проезжала над водяным обвалом у плотины.
Потом этот кадр Вертов совместил двойной экспозицией с ленинским изображением. Кадр запомнился, стал одним из самых знаменитых в истории советской кинохроники.
Во время съемки неожиданно появилось некое административное лицо, вызвало караульного начальника, управляющего станцией, устроило разнос и заявило, что всех арестует, — риск при съемке был велик.
В июле группа снимала в Днепропетровске, на металлургическом заводе им. Дзержинского.
На заводе выдали пропуска с большой черной надписью: „Будьте осторожны!“ и припиской: администрация не несет ответственности за несчастные случаи с посетителями завода.
Помощник Кауфмана, будущий оператор Б. Цейтлин, рассказывал в августовском номере „Советского экрана“, что Вертов, слепнущий от жары и искр, Гарри Пилем перелетает от аппарата к аппарату через кипучий поток чугуна, а у оператора брызгами чугуна выпалены „дырочки“ на коже, и они гноятся.
В съемочном дневнике Вертов записывал: лазили на домну, под домну, снимали сквозь огонь, дым, воду и угольную пыль.
Во время съемок горели подошвы ботинок.
Потом снимали взрывные работы на строительстве Днепрогэса (вокруг гремели фугасы, вздымалась земля, строительная площадка напоминала огромное поле боевых действий), а под Одессой — большие маневры Красной Армии.
Маневры частью сняли с воздуха, из самолета, и там, в воздухе, неожиданно встретились со старым другом, недавним киноком Александром Лембергом — из другого самолета он вел съемки фильма „Люди в кожаных шлемах“.
В августе группа с небес опустилась глубоко под землю — в четвертую лаву Лидиевской шахты Донбасса.
В первый раз они спустились в шахту на другой день после приезда. Накануне предупредили: падаете в бездну, разрывается сердце, как бы у вас не лопнули барабанные перепонки, вы входите в клеть и вдруг срываетесь камнем вниз, с боков и сверху хлещет вода, дышать трудно и т. д.
Так напугали, что путешествие в клети Вертову по крайней мере потом показалось приятной прогулкой в быстром лифте, хотя действительно со всех сторон поливал дождь и воздух ударял в уши, но это даже доставляло удовольствие своей новизной.
Опаснее оказалось путешествие по штреку, где в абсолютной темноте проносились, согнувшись и вытянув шеи, коногоны.
Они попали между двух коногонов, один спереди, другой сзади, очень испугались, спасла находчивость сопровождавшего инженера.
Но они спускались снова и снова, чтобы снять необходимые кадры, а потом, „отсыревшие“, с насморками и бронхитами, поднимались наверх и долго отогревались на солнце.
В одном из репортажей со съемок Кауфман призывал зрителей не смотреть шахты, снятые в ателье, — истинного представления не получите.
Возникали и другие трудности: то выходила из строя аппаратура, то не хватало пленки, то давала брак лаборатория во время проявления материала.
Участились столкновения с братом. В дневнике Вертов сетует на его несговорчивость, пишет, что „Кино-Глаз“ снимать с Михаилом было легче.
Но дело было не в несговорчивости брата.
Кауфман вырастал в самостоятельного художника, чувствовал в себе силу и опыт. Воля Вертова, наверное, иногда слишком сдерживала его, а Вертов, видимо, не всегда это ощущал и учитывал.
(После „Одиннадцатого“ они снимут вместе еще одну картину, потом творческие пути разойдутся навсегда.)
Но, несмотря ни на что, работа в целом двигалась слаженно.
Вертов снимал картину с упоением.
В сущности, впервые появилась возможность по-настоящему осуществить то, что декларировалось еще в ранних манифестах, — передать пластическое совершенство техники, машинного ритма, величие и гармонию индустриальных форм.
В журналах, фильмах Вертов не пропускал такую возможность и прежде.
Но он впервые встретился с подлинными гигантами промышленности и строительства того времени — с огромными заводами, шахтами, со строительством крупнейшей в Европе Днепровской ГЭС.
Строки его дневника дышат необыкновенной нежностью и любовью.
Он писал, что породнился с бессемером, с бегущими раскаленными рельсами, с вертящимися огненными колесами, со сверкающей проволокой, которая, как живая, поднимается, изгибается, кривляется, вращается, прорезает, как молния, воздух, и вдруг покорно сматывается спиралями в аккуратные пучки.
Картина, однако, не стала запоздалой платой давнему чувству, сегодняшним осуществлением не осуществленного вчера.
Эмоции Вертова, его влюбленность в завод, в трубы и бессемеры, пришлись ко времени, оказались даже более реальными, чем тогда, когда были впервые объявлены. Как раз в эти часы, дни, месяцы стремительно разворачивалась эпоха индустриализации страны.
Нэп еще бушевал вовсю, но близился его конец.
Страна получила (и получала все больше) то, ради чего он был введен, — силы и средства для выхода из темноты и отсталости.
Многие прежние ленты Вертова были связаны с периодом временного отступления: вчерашняя жизнь, казалось бы, навсегда провалившаяся в тартарары, вдруг стала уживаться в некоем противоборствующем равновесии с ростками будущего, часто еще не окрепшими.
Нэп не кончился.
Тем более не кончилось противоборство.
Но кончилось равновесие — Вертов это чутко уловил.
Ростки окрепли.
„Одиннадцатый“ совпал с началом решительного наступления и рассказал о нем.
Рассказал о стране, превращавшейся в огромную новостройку.
Рассказал о вековой тишине, расколотой динамитными запалами, перезвоном тысяч и тысяч лопат, перестуком топоров и молотков, взвизгом пил, надрывным свистом юрких маневровщиков, ухающими ударами молотов.
Фильм начинался с первобытного спокойствия приднепровских пейзажей и разрытой у днепровских порогов скифской могилы, черными глазницами смотрел древний воин в далекое небо, вслушиваясь в тишину.
И вдруг подавала сигнал труба, ударял предупредительный колокол, запалялся шнур, и, через мгновение, вздрогнув, земля вставала дыбом — раз, и еще раз, и еще…
А рядом с могилой перекатывались по рельсам сорокатонные краны. Приседая на стрелках, шли тяжелые поезда с грузами. Сновали вагонетки.
„Скиф в могиле — и грохот наступления нового“, — записывал Вертов.
Слово-радио-тему Вертов исключил из этого фильма, вообще свел количество слов к минимуму.
Он вступал в спор со своей прежней картиной, но не ради спора.
Патетика „Шестой части мира“ наиболее полно выражалась сочетанием изображения со звучащим словом.
Патетику „Одиннадцатого“ Вертов стремился выразить иначе: через звучание самого изображения.
Исключив слово-радио-тему, он не исключил радио-тему.
В предыдущей картине зритель слышал (обращенные прямо к нему) надписи. В новом фильме он видел изображения, которые звучали.
Это был поиск новых форм, но он вытекал из конкретной смысловой задачи: передать пафос индустриального строительства через грохот наступления нового.
Через то, что в картине было названо „октябрьской перекличкой“ — заводов и шахт, строек и деревень.
Днепрострой, электрификация, добыча угля, выплавка чугуна — все это были как бы отдельные мускулы пары могучих рабочих рук, отдельные усилия в общем напряжении, в едином коллективном порыве к труду.
Передавая монолитность порыва, плотность общих усилий, Вертов рассекал кадр по горизонтали: в верхней части трудились два молотобойца, в нижней проходил товарняк, груженный рудой, без нее нельзя было ни сделать этих молотов, ни уложить рельсы, ни вбить упругий костыль.
Вариантом названия картины были „Великие будни“.
Октябрьская перекличка сливала, не давая потеряться в будничном грохоте новостроек, все голоса.
В нее вплетались и голоса часовых Родины, участников маневров, красноармейцев и краснофлотцев, они стояли на страже Октября, на страже ленинских заветов — в финале над ликующей во время октябрьских торжеств Красной площадью, над Мавзолеем возникали краснофлотцы с отомкнутыми у винтовок штыками.
„Если это та самая фильма, — писал Михаил Кольцов в „Правде“ 26 февраля 1926 года в большой статье об „Одиннадцатом“, — из-за которой Вертову пришлось уйти из Совкино, то в выполненном виде она является живым упреком людям, препятствовавшим ее постановке“.
„Одиннадцатый“ повторял некоторые прежние мотивы.
Он стал еще одним пробегом Кино-Глаза в направлении советской действительности.
Но менялась действительность — менялся маршрут киноглазовского движения. „Шестая часть мира“ рассказала о коллективных усилиях, подготавливающих плацдарм для наступления, „Одиннадцатый“ — о всеобщих усилиях народа, поднявшегося уже в атаку.
Новым поворотом прежней темы Вертов откликался на биение пульса эпохи.
Но в этом показе нового, индустриального среза времени Вертов порой оказывался монотонен, несмотря на многоголосие, слившееся в грохоте наступления.
Голосов было много. Но много было одинаковых голосов — не по физическому звучанию (гул взрывных работ мало походил на удары молотов, шум водяного обвала у плотины выстроенной ГЭС на перезвон лопат в котловане строящейся), а по вызываемым голосами чувствам.
Пафос прежних лент обычно вырастал из преодолений контрастов: вчера — сегодня, раньше — теперь. В „Шагай, Совет!“ народ одной рукой очищал жизнь от грязи прошлого, другой — строил будущее.
В „Одиннадцатом“ будущее строилось обеими руками.
С прошлым еще не было покончено, но изменение в соотношении сил этим ощущением свободы рук передавалось прямее всего.
Новое соотношение сил, предвещая невиданные победы в ходе развернувшегося наступления, вдохновляли Вертова.
Но энтузиазм будущих побед порой обгонял будничное напряжение сегодняшней атаки.
Пафос не вырастал из быта, а в какой-то степени отрывался от него.
Высокая нота звучала мощно, но ей недоставало переливов и модуляций.
Кольцову показалось, что в картине слишком „подрезаны“ места, где вместе с машинами действуют люди, возникает, как он считал, некоторая „механистическая сушь“ — начинаешь скучать по живым строителям.
Это отмечали и другие критики, считая, что в „Одиннадцатом“ прекрасно снятая и энергично смонтированная индустрия заслоняет человека.
Но дело было не в количественных соотношениях техники и человека и не в длине планов, в которых были сняты люди.
Людей в картине было немало, а короткие „человеческие“ планы Вертов давал и раньше.
Сам поэтический жанр требовал предельно концентрированной во времени выразительности. К тому же документальное кино еще не знало (не знал этого и Вертов), как углубиться в человека и через его облик, внешнее поведение вскрыть индивидуальный внутренний мир. Держать одного человека на экране долго было делом бессмысленным и скучным: увеличение времени не служило гарантией того, что Кольцов перестал бы скучать по живым строителям.
С другой стороны, в „Одиннадцатом“ за движением машин и механизмов ясно угадывалась воля миллионов, „коллективного человека“, как писала критика.
Вертов стремился в картине к предельно укрупненному и монолитному изображению человека.
Он как-то заметил: киноки никогда специально не рвутся к символике, однако, если обобщения вырастают до символа, то это не приводит их в панику.
Но в „Одиннадцатом“ человек не вырастал до символа, а сразу же давался как символ. Кадры, подобные тому, где гигантский рабочий поднимался с молотом над днепровскими порогами, подчеркивали это.
Человеческое начало уступало место технике не потому, что техники было много, а человека мало, а потому, что техника на экране была живой, а люди — символами.
Они не жили, а представительствовали — от того пли иного класса, той или иной социальной группы.
Их изображения на экране как бы писались с прописных букв: не рабочий, а Рабочий, не шахтер, а Шахтер, не крестьянин, а Крестьянин, не краснофлотец, а Краснофлотец, что подчеркивалось ракурсами, съемками с нижних точек.
С одной стороны, это соответствовало новому могучему развороту времени.
Но с другой — лишало человеческое начало того, что свойственно человеку и не свойственно символам, — внутренней сложности, разнообразия и индивидуальности душевных порывов.
В грохоте наступления Вертов не оставлял мгновений тишины для раздумий и переживаний.
Так появилось ощущение, что на экране „людских ресурсов“ недостаточно, хотя их было не меньше, чем в других лентах Вертова.
Так возникла некая монотонность интонации при всем симфонизме вещи.
О симфоническом звучании „Одиннадцатого“ писал не только Михаил Кольцов („героическая симфония труда“), но и Сергей Эйзенштейн: „Одиннадцатый“ от поэмы фактов переходит в ряде фрагментов к симфонии из фактов».
Снова, как уже бывало прежде, просчеты картины оказались продолжением ее достоинств. Издержками уникального для своего времени открытия: концентрированного воспроизведения звуковой партитуры фактов в немой картине зримыми средствами. Средствами киноязыка: связь между фактами (в том числе и звуковая связь) открывается в самом изображении и в его монтаже.
На одном из обсуждений фильма 28 февраля 1928 года Вертов говорил:
— «Одиннадцатый» написана
[7] непосредственно киноаппаратом. Не по сценарию. Киноаппарат заменяет перо сценариста. «Одиннадцатый» написана: 1) на чистом киноязыке, 2) документальном языке — языке фактов и 3) социалистическом языке.
Этими свойствами новой картины, точно отмеченными Вертовым, он отвечал на полемику, возникшую вокруг предыдущей.
Он отвечал на упреки в идейной незрелости, незнании политграмоты, подчеркивал, что «Одиннадцатый» написан на социалистическом языке.
Он отвечал тем, кто требовал от автора неигрового фильма подробной предварительной сценарной записи, наподобие сценарной записи игрового фильма.
Он отвечал тем, кто после «Шестой части мира» посчитал, что Вертов не сможет вообще обходиться без надписей.
Он отвечал и тем, кто считал, что поэтическая интерпретация, ассоциативное сцепление фактов лишают их документальности.
Вертову его ответ справедливо казался достаточно убедительным, всесторонним. Он мог надеяться, что полемика исчерпала себя.
Но именно в этот момент в четвертом номере «Нового ЛЕФа» за 1928 год появилась статья об «Одиннадцатом» Осипа Брика.
Остроумный, презрительно едкий, злой сокрушитель безоговорочно всех противников факта на экране и всех противников Вертова теперь с той же резкостью защищал факт от Вертова. Защищал грудью.
Брик говорил, что сценарий Вертов пытается заменить титрами, семантику кадров семантикой надписей, что фильм лишен цельности, так как не было тщательно проработанного тематического плана, такого, какой был у Шуб в «Падении династии Романовых» (этого противопоставления следовало ожидать).
Тоном человека, располагающего неопровержимыми уликами, Брик категорически заявлял: Кауфман во время съемок не знал, для чего те или иные кадры снимаются, с какой семантической точки следует «натуру взять». Кадры сняты, утверждал Брик, как самому Кауфману казалось интересней, с операторским вкусом и мастерством, но сняты в плане эстетическом, а не хроникальном.
В сущности, Брик повторял Шкловского: эстетическое противопоставлялось хроникальному.
В совпадении точек зрения неожиданности не было, таких взглядов держались многие (не все) лефовцы, статья лишь суммировала взгляды.
Неожиданность была в другом.
Воинственный апологет факта, праведный боец за широкий прокат документального кино в своей аргументации против картины Вертова совершенно сошелся с теми, кто испытывал к факту и к прокату документального фильма полное равнодушие.
К неожиданностям Вертов уже привык.
И все-таки он пришел в редкое для его деликатной натуры состояние, которое ближе всего определить словом «бешенство».
Рассуждения о бесплановости, подчинении изображения слову, надписям ему казались особенно несправедливыми и обидными именно сейчас, когда он предпринял труднейшую попытку почти полного освобождения фильма от надписей, попытался построить целую ленту на основе зрительного и звукового контрапункта.
Вертов не считал, что к картине надо относиться как к безгрешной, но стремление искать грехи, где их не было, отметал.
Вместе с Кауфманом и Свиловой он немедленно написал «письмо в редакцию» (опубликовано не было).
Попытку представить отрицание Кино-Глазом обычного сценария как отказ от плановой работы, утверждение, что «Одиннадцатый» писался словами, а не самими кадрами, преподнесенное, как факт, предположение («дикое»), будто оператор картины, снимавший ее не за Полярным кругом, а под непосредственным руководством автора фильма, не знал, для какой цели он снимает, рассматривались в письме как откровенные «извращения» позиции группы.
В похвалах Кауфману (наряду с подчеркиванием губительного для дела беспланового подхода к съемкам со стороны руководителя) Вертов точно уловил еще один оттенок. В письме стояли слова, резко протестующие против попыток восстановить членов группы друг против друга.
Вертов и Кауфман вскоре разойдутся; причинами послужит множество моментов, объективных и субъективных, более важных и менее важных, и даже, может быть, важных в очень малой степени.
Но зазвучавший в бриковской статье мотив противопоставления будет подхвачен и, наверное, тоже сыграет какую-то роль в принятом решении, возможно, подтолкнет его.
А правильно ли оно было принято? И нужно ли было его подталкивать?
Кто может теперь сказать?
Мотив между тем окреп и постепенно вырос в еще одну легенду, связанную с Вертовым.
Пафос легенды обычно сводится к многозначительному сомнению: стал бы Вертов Вертовым, если бы рядом не было Кауфмана? «Ведь Кауфман — глаза Вертова», — говорят сторонники легенды, наряжая ее в яркие одежды.
Звучит действительно красиво и даже вроде бы убедительно, глаза для кинематографиста, как известно, главный инструмент.
Если бы не эти глаза (таков подтекст красочного наряда), то что же осталось бы от Вертова?..
Между тем у Вертова были свои глаза, он не нуждался в других, а у Кауфмана не было никакой нужды делиться с кем-то своими, даже с братом.
Оба превосходно обходились собственным зрением. Многое видели необыкновенно зорко и остро, и часто — с необычайной синхронностью.
Но если отбросить предвзятость, всякие намеки и многозначительные подтексты, то Кауфман действительно был в известной мере глазами Вертова. Как и Вертов был глазами Кауфмана.
Иное в кино просто невозможно, в содружествах Эйзенштейна с Тиссэ, Пудовкина с Головней, Козинцева и Трауберга с Москвиным режиссерское и операторское зрение дополняли друг друга на основах взаимопонимания.
От того, что один стоял рядом с камерой, а другой — за камерой, ничего не менялось с точки зрения величины вклада в общее дело.
До и после Кауфмана, параллельно работе с ним Вертов снял множество (гораздо больше, чем с братом) лент с самыми разными операторами. Большинство лент (среди них «Шагай, Совет!» и «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и «Колыбельная») отмечено выдающимся операторским искусством, хотя некоторые из операторов впервые самостоятельно снимали большие фильмы.
Это свидетельствует о силе Вертова, но не умаляет силу Кауфмана.
Если бы Кауфман снял с Вертовым один лишь «Кино-Глаз», то и его было бы достаточно, чтобы встать в ряд с крупнейшими мастерами. А он еще снял «Одиннадцатый», «Человек с киноаппаратом», участвовал как главный оператор в съемках «Шестой части мира», был оператором ряда «Кино-Правд» и короткометражек.
Это свидетельствует о силе Кауфмана, но отнюдь не умаляет силу Вертова.
Сомнение, положенное в основу мифа о Вертове и Кауфмане, не трудно переиначить: стал бы Кауфман Кауфманом, если бы рядом не было Вертова?
Но ход слишком дешевый, второе сомнение столь же сомнительно, сколь первое, вроде девичьего гаданья на кофейной гуще.
Разве есть ответы на оба эти, если вдуматься, бессмысленнейшие вопросы?
Важно не что получилось бы, если бы они не были рядом, а что получилось от того, что они рядом были, — не один с другим, а друг с другом.
Не только «Одиннадцатый», но и прочие их наиболее крупные совместные картины снимались не за Полярным кругом, а при непосредственном руководстве Вертова.
Когда в разные концы страны разъехались киноэкспедиции картины о Госторге, братья могли поехать по отдельности с любой из них, но они отправились вместе в одной группе.
Вдвоем им хорошо работалось, они понимали друг друга с полуслова. Между прочим, во время съемки из движущейся вагонетки подвесной железной дороги на Новороссийском цементном заводе встречная железная балка ударила Вертова по голове, снимавший рядом Кауфман повернул аппарат, снял сперва окровавленного Вертова с зажатым в руках «Сентом» (киноаппаратом), а потом бросился брату на помощь, позже Вертов с гордостью писал, что это и есть настоящая школа Кино-Глаза.
«Кино-Глаз», «Шестую часть мира», «Одиннадцатый», «Человеке киноаппаратом» они снимали вместе, находясь рядом друг с другом.
Служит ли это хоть малейшим поводом к непризнанию заслуг кого-нибудь из них?
Кауфман был учеником Вертова — факт очевидный.
Ученик научился многому.
В 1929 году он самостоятельно снял фильм «Весной» — одну из самых прекрасных, лирически тонких и пластически совершенных документальных картин того времени.
Кауфман опирался на опыт Кино-Глаза, использовал разнообразные
средства киноанализа окружающего мира.
Это была победа Кауфмана, но ею мог гордиться и Вертов. Это была победа кино-глазовского направления.
Быть за Кауфмана, будучи против Вертова, нельзя. Это ведет к мифическому извращению, на него первыми обратили внимание в «письме в редакцию» оба основных действующих лица тогда еще только зачинавшейся легенды.
Но легенды редко исчерпываются одним каким-нибудь извращением, это тоже показали авторы письма.
В годы посмертной славы Вертова, когда о нем заговорили с новой силой во всем мире, как-то незаметно, само собой стало порой уходить в тень имя Кауфмана.
Вертов был велик, но не был изобретателем-одиночкой.
Нельзя быть за Вертова, забывая Кауфмана.
Дело не в раздаче именинных пирогов, а в трезвом учете реальных сил художественного процесса.
Своей последней совместной работой — фильмом, выпущенным вслед за «Одиннадцатым», — оба брата «под занавес» еще раз продемонстрировали, какая мощь таилась в их союзе.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
ЗРАЧКИ АФИШ
Пiсля ухвали Правлiния ВУФКУ, режиссер Дзига Вертов (автор «Одинадцятого») взявся до черговоi постави — «Людина з кiноапаратом».
«Кiно-вiсти», № 6, 1928, 20 квiтня
Хроника ВУФКУ Новые фильмы
«Человек с киноаппаратом». (Постановка группы Кино-Глаз. Руководитель Дзига Вертов. Оператор М. Кауфман.) Экспедиция закончила работу в Москве, где снят ряд кадров из «жизни большого города». Теперь экспедиция находится в Одессе.
«Веч. Киев», 1928, 10 июля
Хроника ВУФКУ
«Человек с киноаппаратом» и говорящее кино
Последние вещи Вертова, в особенности «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом», могут быть переведены на язык слышимого кино без какого бы то ни было перемонтажа. Дело за техническими приборами.
Фильма «Человек с киноаппаратом»… значительно отличается от первого варианта этой фильмы, почти законченной Вертовым в Сов-кино и невыпущенной по независящим от него причинам. Новый вариант «Человека с киноаппаратом» строится на свежем материале за исключением некоторых специально снятых моментов, которые будут взяты от первого совкиновского варианта.
«Веч. Киев», 1928, 23 октября
В ВУФКУ закопчена монтажом экспериментальная фильма «Человек с киноаппаратом». Автор- руководитель — Дзига Вертов, главный оператор — М. Кауфман, ассистент по монтажу — Е. Свилова. В фильме нет ни одной надписи. Таким образом, вслед за отказом от ателье, актеров, декорации, от сценария, группа «Кино-Глаз» в этой «фильме без слов» производит интересный и значительный опыт полного отделения языка кино от языка театра и литературы.
«Правда», 1928, 1 декабря
Никакого кризиса в подлинной кинематографии нет. Есть — паника работников суррогатной кинематографии (театральной) перед лицом все растущей пропасти между актерской кинематографией и неигровой…
Тонет бутафорский корабль театро-кинематографии. Да здравствует расцвет стопроцентной кинематографии! Да здравствует победный марш неигрового кино!
Дзига Вертов «Кино», орган ЛенАРК’а, 1928, № 50
Самый необычный фильм Вертова.
Может быть, вообще единственный в своем роде.
Казался совершенно не похожим на то, что Вертовым делалось прежде. А впоследствии — и на то, что им делалось потом.
На самом деле многие излюбленные смысловые мотивы, многие приемы повторялись. Но все имело такой неожиданный и смелый ракурс, что ни в какие привычные рамки не укладывалось.
Выпуск сопровождался накаленными страстями, они поделили зрителей на горячих сторонников и не менее горячих противников фильма без шансов хотя бы на какое-то единодушие.
Но смолкли споры, последующие фильмы Вертова вытесняли из памяти ленту, она вспоминалась лишь как нечаянная вертовская «описка» (тем более что не походила ни на что) и в конце концов вроде бы забылась навсегда.
И вдруг в конце сороковых годов картину вспомнили снова, но только для того, чтобы обрушиться на нее, в этот раз довольно единодушно и как будто с целью напомнить, что бывает за нечаянно.
А дальше — опять тишина, иногда лишь робкие всполохи давних впечатлений, словно мгновенно сникающие огоньки в пепле угасающего костра — в пепле забвения.
Но шли годы, время способствовало объективному осознанию роли фильма в развитии искусства.
Резкие перепады в судьбе фильма вызывались периодически возникавшими сомнениями, граничащими с уверенностью и опасениями, переходящими в убеждение: картина уклоняется в эстетство, служит удовлетворению формальных авторских потребностей, сводится к «каталогу кинематографических трюков».
Убеждение не раз оспаривалось, но и не раз брало верх.
Повод давала лента: ее замысел, само название предполагали демонстрацию всех возможностей человека, вооруженного киноаппаратом.
Вместе с камерой Кауфман взбирался на самые высокие городские точки и ложился на железнодорожные рельсы. Ставил треногу с аппаратом посредине оживленных улиц и площадей. Врезался в водоворот уличных толп. Неспешно двигался на автомобиле за пролеткой, отвозящей пассажиров с вокзала, и мчался на дрожащей от нетерпения пожарной машине, снимая рядом мчащуюся другую пожарную машину. Крутил ручку аппарата то в прямом, то в обратном направлении. Крутил то нормально, то очень медленно, то предельно быстро. На экране сверхкрупные планы сменялись сверхобщими. Одно и то же изображение расслаивалось внутри кадра на множество. Монументальное здание Большого театра, трепетно вздрогнув (будто вздохнув), нехотя, но бесповоротно разламывалось пополам. Бурно нарастало движение, летели трамваи, авто, пролетки, людские толпы, вращались колеса поезда, детали заводских станков, стирались частности, но в кажущемся всеобщем хаосе резче обозначались путеводные нити. И тут же все обрывалось, на ходу застывали, как в детской игре «замри», трамваи и авто, пролетки с седоками и станки в цехе, машины и люди — много людей крупными планами на стоп-кадрах, — начинали проясняться частности, выясняться подробности. А в следующее мгновение весь этот материал умирал, ложась на полочки монтажного стола мертвыми целлулоидными кольцами с этикетками-надгробиями: «Машины», «Завод», «Движение города», монтажница подбирала куски, просматривала на просвет, подклеивала одно к другому, прокручивая пленку на бобине. И от этого вращения снова все оживало, будто кто-то шепнул «отомри». Трамваи, заводские машины, пролетки, авто, люди мгновенно срывались с места, город продолжал свой будничный поход…
В наброске к автобиографии Вертов писал, что, стремясь делать фильмы социалистическими по содержанию, он учится их делать кинематографическими по форме, по киноязыку.
Но языка документального кино не существовало.
Вертов создавал его (естественно, не он один, но он — в самой большой мере) ступенька за ступенькой, начиная с азбуки.
«Человек с киноаппаратом» был букварем, первой книгой для чтения, или точнее — первым фильмом для зрения, — от «а» до «я».
Но интенсивные лингвистические поиски не исчерпывались лишь азбучными задачами.
Вертов параллельно вел опыты по созданию грамматики документального киноязыка. Своеобразие поисков заключалось в том, что параллельно.
Собственно алфавит Вертова не интересовал.
Его не интересовала пластическая выразительность кадра, замкнутая в себе.
Его волновали сцепления и смены значений.
То, что до конца не удалось в картине «Кино-Глаз» из-за отсутствия технических возможностей, Вертов попытался осуществить теперь — дать фильм, построенный на «стопроцентном киноязыке». Кадры должны были не только что-то зрителю показывать, но и что-то говорить.
В «Человеке с киноаппаратом» азбука шла рука об руку с грамматикой, подчинялась ее законам сцепления, ее синтаксису, всем запятым и точкам, восклицательным и вопросительным знакам, тире и многоточиям. Обычно раздельные ступени овладения языком, начальная школа и средняя, проходились одновременно, на территории одного и того же фильма, это не облегчало восприятие картины, но, как известно, облегченных путей Вертов не искал.
Фильм был не только первой книжкой для чтения, но и хрестоматией для уже овладевших им и желающих прикоснуться к не простым кинематографическим формулам более высокого ранга.
Не сложение кадров. И даже не умножение их, а высшая математика. «Высшая математика фактов» — так говорил сам Вертов.
Лента рассказывала о жизни огромного современного города (традиционный вертовский материал) от раннего летнего утра до раскаленного зноем полудня.
Когда в начале фильма вместе с просыпающимся городом пробуждалась от сна женщина, омывала лицо, протирая и распахивая огромные, на весь экран глаза, когда поднимала веки, опушенные длинными ресницами, то встык с этим поднимались жалюзи магазинных витрин.
Она, мигая, снова распахивала глаза — и поднимались шторы в окнах жилых домов.
Пробуждаясь, город открывал свои глаза — глаза магазинов, глаза домов.
Глаза женщины мигали снова — распахивалось окно в ее комнате, а за ним клонился напоенный свежестью летнего утра куст сирени…
Знание азбуки и грамматики позволяло овладевать следующей ступенью использования языка — ступенью зрительных ассоциаций, метафорического строя.
Лингвистика становилась служительницей поэзии, а поэзия опиралась на лингвистические познания.
Азбука шла рука об руку с грамматикой, а азбука и грамматика шли рука об руку с живой действительностью. Богатство языка помогало полнее выразить богатство жизни, ее фактов и человеческих чувств.
Непрекращающиеся языковедческие поиски были поисками средств, целью, как обычно, оставалась правда.
Но даже если бы «Человек с киноаппаратом» был лишь блистательной, поистине виртуозной демонстрацией возможностей и достижений кино, то стоил ли бы он упреков?..
Эйзенштейн усмехался: называть человека, исследующего художественную форму, формалистом — все равно что врача, исследующего сифилис, называть сифилитиком.
В исследованиях (теоретических и на практике) кинематографической формы Вертов достигал таких глубин, что вряд ли есть надобность терять столь щедрое наследие.
Это наши достижения, открытия нашего кино.
В одной из статей, предшествующих выпуску «Человека к киноаппаратом», писалось: полет летчика Чухновского и тормоз Матросова сами по себе не имеют социального значения, но то, что этот полет осуществлен советским летчиком и что этот тормоз создан в Советской стране — есть явления именно такого значения; это же касается, говорилось далее в статье, фильма Вертова, обогащающего язык киноискусства.
«Поэтому попытку построить фильму, посвященную вопросам формы, никак нельзя рассматривать только как уклон в эстетство или в формалистику. Ибо и прекрасные темы и намерения, вследствие беспомощности формы, оказываются „пристегнутыми извне“», — писал 29 марта 1929 года другой орган печати, и этим органом была газета «Правда». Как и всегда, она поднималась в понимании не только социального, но и художественного значения вертовской картины на голову выше множества путаных рассуждений специальной кинематографической прессы, та все еще решала (еще долго будет решать), какую же отметку выставить картине и не поставить ли пока Вертова, на всякий случай, в угол.
Статья в «Правде» появилась тоже до выхода фильма, газета хотела оказать давление на прокат, он отметку уже, видимо, поставил, заранее решив, что массовый зритель картину не поймет. «Как будто не в интересах самих прокатчиков, — писала „Правда“. — изощрять вкус зрителей, а не поощрять его отсталость!»
Какое емкое слово для определения взаимоотношений новаторского зрелища с массовым зрителем нашел автор статьи, старый партиец и известный кинематографический деятель Кирилл Иванович Шутко, — изощрять!
Употребив это слово, он одновременно не скрывал, что зрителя ожидает далеко не простая работа. Но это обстоятельство не умаляло ни Вертова, ни зрителя.
Учась языку, Вертов учил других.
Это была борьба за чистоту киноязыка.
За культуру киноречи.
За всеобщую кинограмотность в условиях происходящей культурной революции.
Это был один из участков ликбеза на одном из передовых участков кинофронта.
«Человек с киноаппаратом» Вертов не раз называл фильмом, производящим фильмы.
Многие из него многое вдохновенно черпали, даже те, кто его отрицал.
Один из режиссеров-документалистов в начале тридцатых годов прямо заявил: Вертова надо решительно критиковать, беря у него все, что можно.
Вертова это не смущало, он для того и работал, считая даже, что берут гораздо меньше, чем следует. Сомневался лишь в том, нужно ли столь уж решительно критиковать его? Но одновременно с полной объективностью понимал: такое с изобретателями случается.
В силу своей необычности новое изобретение должно пройти «обкатку» жестокой критикой. Но постепенно разрастается понимание, оно доходит иногда даже до восхищения, в том числе и недавних критиков, они спешат воскликнуть: «И я! И я!» А от восхищения до похищения, шутил Вертов, один шаг.
Но и тут не обижался, снова считал: для того и живет, чтобы накопленное не сваливать в пропахшие нафталином сундуки, а делиться всем, что есть. Если что и было обидным, так только то, что некоторые из недавно восхищавшихся с течением времени вместо «И я!» все чаще начинают повторять: «Я! Я! Я!», забывая, кому обязаны своими успехами.
И все-таки «Человек с киноаппаратом» никогда не был лишь экранным учебником, сборником упражнений, каталогом кинотрюков.
Вертова такая цель увлечь просто не могла.
Фильм рассказывал не о кинематографе — о времени.
Многие критики после выхода фильма, не находя в нем привычных атрибутов изображения социальной нови (к которым их приучил сам Вертов прежними картинами) в виде заводов и шахт, огнедышащих домен и дымящих фабричных труб, работающих станков и плотин электростанций, не обнаружив лозунгов и агитационных призывов (или хотя бы все разъясняющих надписей), отказали картине в социальном звучании.
Буквально вчера (в связи с «Одиннадцатым») они сетовали: очень много станков и машин, а уже сегодня затосковали: где станки и машины?
Станки и машины были и в этой картине, но занимали в ней действительно не много места.
Зато с экрана не исчезали люди. Вертов сделал необычайно важный шаг навстречу человеческому материалу, отвечая на критику предыдущей ленты, как всегда, не словом, а делом.
Но дело заключалось не в количественных показателях.
Человек, его поведение лишились на экране чисто символических значений.
Люди просто жили: пробуждались от сна, умывались, спешили на службу, на фабрики, втискивались в трамваи, густой толпой вываливались из утреннего поезда на вокзальную платформу, трудились, прерывались на обед, отдыхали в парках и загорали на пляжах, кружились на каруселях и мчались по велотреку, судачили в парикмахерских, доводили до блеска сияние своих штиблет у веселого уличного сапожника под вывеской «Чистильщик-специалист с Парижа», глазели на китайского фокусника (до чего же Вертов был верен себе!) и на оркестр ложечников, торопились на свидание, женщина рожала в роддоме (до чего же был верен!), по улицам неторопливо двигалась похоронная процессия, в загсе оформлялись браки и разводы (люди смущались, отворачивались от камеры, но смутиться по-настоящему не успевали — все происходило быстро и просто), выдавались свидетельства о рождении и смерти, в клубе играли в шахматы и слушали радио (сквозь черный блин репродуктора сначала возникали растянутые мехи гармони, а потом — ухо человека, «радио-ухо»), высоко в небе пролетали аэропланы. К полудню город, истекая зноем, плавился не только от жары, но и неугомонного темпа жизни, он достигал высшей точки, бешеной круговерти, даже Театральная площадь вместе с Большим театром, не выдержав, разламывалась на части…
— Винегрет! — угрюмо говорили насупленные критики.
Участник проведенного 31 марта 1929 года в московском кинотеатре «Уран» диспута по фильму рабочий Янин спросил под «аплодисменты» (свидетельствует стенограмма) присутствующих:
— А не винегрет ли вообще все наши города?..
Накапливая материал не по линии больших событий, подчас уже в самих себе несущих элементы социальных обобщений, а по линии маленьких случаев, бытовых деталей, Вертов, казалось, изначально противополагал эту ленту предшествующим.
На самом деле она прямо и непосредственно продолжала их.
Была не чем иным, как еще одним пробегом Кино-Глаза в направлении советской действительности.
Кино-Глаз лишь снова поменял маршрут. Но не поменял цель.
На этот раз пробег был — в будни. Не в великие, как в «Одиннадцатом», а в самые простые, житейски повседневные.
Но Вертов, в отличие от многих критиков, считавших себя вправе экзаменовать его по политграмоте, понимал: в житейски простых буднях не может не быть отсвета великих.
Он это экспериментально проверил и доказал.
Картина была закончена поздней осенью двадцать восьмого, на экраны вышла весной двадцать девятого — в год, который назовется годом великого перелома.
Коренные перемены происходили во всех сферах жизни — в экономике, производстве, в деревне (начиналась коллективизация) и в городе.
Грохот развернувшегося наступления не мог не откликнуться в буднях, в повседневном быте.
Но если наступление олицетворяли гигантские строительные площадки, рекордные выработки, трещавшие на всех ветрах кумачовые транспаранты, призывные кличи, начинавшиеся словом «даешь» (Даешь Магнитку!.. Даешь встречный план!.. Даешь перелет!.. Даешь подписку на заем!.. Даешь новые ясли!..), то перестройка будней, обыденного сознания шла часто скрытыми каналами.
Обнажить каналы только перечислением громких фактов, лозунгами и дидактикой вряд ли удалось бы, требовались более тонкие инструменты — надо было заглянуть в глаза, проникнуть в души.
Грохот великого наступления здесь откликался лишь одним — новым мироощущением.
Не гулким эхом сражения, а — тишиной.
Но тишиной не мертвой, а живой — надо было суметь в нее вслушаться.
Вертов отказался от надписей, зримо звучащего слова и даже от зрительной имитации реальных шумов не только ради стопроцентного киноязыка (это была важная и все же побочная задача), но потому, что понимал или, скорее, художнически предугадывал: раскрыть новое мироощущение может не поэзия слов и музыка реальных звуков, а поэзия и музыка чувств. Слова, звуки уже смолкли, когда остались порожденные ими стойкие ощущения.
Никакого хаоса, никакого «винегрета» в картине нет, это выдумка критиков, не понявших фильма.
Великое множество разнообразных и характерных деталей быта в картине монолитно спаяны именно этим — единством нового мироощущения, вошедшего в души людей.
И если часть критики на хаосе все же настаивала, то не оттого ли, что коренной перелом, происходивший в социальном мировосприятии, она сама пока больше воспринимала через слова, лозунги и призывы, а Вертов к новому восприятию мира давно прикипел душой? Ведь уже давно свои журнальные выпуски и фильмы он строил на том же принципе — разрозненные факты пронизывал единой логикой нового мироощущения.
В этой ленте Вертов очень многое повторял, только теперь на более высокой ступени мастерства, на более глубоком знании азбуки и грамматики киноязыка, с блеском и виртуозностью подлинного артистизма.
Единую логику нового мироощущения в наиболее полной мере выражало главное действующее лицо фильма, тоже хорошо знакомое по другим вертовским картинам, — человек с киноаппаратом.
Многие издания, посвященные Вертову, иллюстрируются теми кадриками из «Человека с киноаппаратом», где оператор снимает или отправляется на съемку.
Но картина называлась «Человек с киноаппаратом» не оттого, что Кауфман сам появлялся в нескольких местах на экране. Фильм не сводился к рассказу об операторе и особенностях его работы, как это чаще всего считается.
Дневниковые записи Вертова двадцать седьмого года заполнены всевозможными вариантами будущего построения картины (дополнительное опровержение разговоров о бесплановости работы).
Сами по себе наброски очень живы и интересны, иногда даже с детективно-приключенческим уклоном.
Но картина на них мало похожа (дополнительное подтверждение отдаленности предварительных построений на бумаге от окончательных — после исследования конкретно снятого материала). Во всех умозрительных вариантах героем картины был почти все время присутствующий на экране оператор (или его камера; уставший оператор засыпал на пляже и видел во сне, как камера отправлялась сама гулять по жизни).
В самом фильме героем стал не оператор, а человек с киноаппаратом — при всей внешней близости понятий они в данном случае оказывались отнюдь не адекватными.
Человек с киноаппаратом — не тот, что иногда мелькал с камерой в руках в кадре.
Но тот, что постоянно присутствовал (как и во многих других лентах Вертова) за кадром.
Не Кауфман.
И не Вертов.
И не кто-либо другой из авторов.
Вообще не конкретное лицо, а традиционный лирический герой вертовской поэзии.
Не обретая реально зримых очертаний на экране, он тем не менее был наделен, как и всякий человек, своеобразием черт.
Индивидуальность проявлялась в особой остроте в
идения окружающего мира. Но врезаясь в гущу жизни, человек с киноаппаратом не только пристально наблюдал ее подробности. Он чутко реагировал на них, передавал всю полноту эмоций от восприятия действительности.
Фильм был еще одним опытом внутреннего монолога, на этот раз высказанного языком чистой пластики.
Форма монолога была индивидуально неповторимой, а сконцентрированные в нем чувства отражали мироощущение, свойственное людям эпохи в целом.
Человек с киноаппаратом умел смотреть на мир так, как не умел никто, но выражал чувства всех.
Не одного человека, а миллионов.
Чувства народа.
Для истинного понимания человека с киноаппаратом к месту украинское слово «людина» — выражая человеческую единичность, оно самим своим звучанием представительствует (как и лирический герой фильма) от людей.
Можно бесконечно спорить (тем более если есть желание) по поводу тех или иных кинематографических приемов, использованных Вертовым, их оправданности.
Но одного у картины отнять невозможно — ее жизнерадостного настроя, светлой, мажорной тональности.
Картина просвечена доброй улыбкой, пересыпана шутками (в косметическом кабинете женщинам накладывают на лицо пригоршнями белую, будто известковую, маску; параллельно повязанная до бровей штукатурщица, улыбаясь щелками глаз, ловко обмазывает шматками глиняной массы кладку доменной печи — всему требуется своя косметика…).
Новое мироощущение открывалось в той особенности восприятия действительности, которая определяется приятием ее.
Действительность (может быть, впервые в истории) вступала в согласие с жизнью миллионов. Этот лад человека с действительностью и рождал бодрое, жизнелюбивое восприятие окружающего мира.
Оно проявлялось не только в добром, улыбчивом, жизнерадостном отношении ко многим зорко схваченным житейским деталям.
Новое мироощущение, может быть, полнее всего раскрывалось в ритме фильма.
В ритме, а не в сменах темпа (быстро — медленно), в замедленных, даже застывших изображениях обычно тоже продолжали существовать бодрые по ритму, жизнелюбивые интонации.
Ритм не только определял способ поэтического строения картины, но и отражал характер настроения людей.
Ритм фильма как выражение внутреннего ритма человеческого существования, здорового жизненного тонуса.
Переплавить ритм картины со всеми его особенностями в слова на бумаге — трудно; как и все в ленте, его восприятие рассчитано на зрительное воздействие. Но неожиданным помощником в такой «переплавке» может стать один из документов, сохранившийся в архиве Вертова, — «Музыкальный конспект к „Человеку с киноаппаратом“».
В конспекте, согласованном с автором, указывался характер музыкального сопровождения каждого эпизода во время демонстрации фильма в кинотеатрах. Подавляющее большинство эпизодов должна была сопровождать «оживленная музыка», «живая музыка», «аллегро» (почти везде), «бравурная музыка», «веселая, бодрая маршеобразная музыка», «веселая русская музыка», «веселый вальс бостон» (для сцен пляжа), «комическая музыка» (эпизод с китайским фокусником), «веселая музыка ритмического характера» (эпизоды физкультуры), «бурное аллегро, доходящее до престо, ударник все время делает дробь на маленьком барабане» (это, естественно, для финала). И только в самом начале, когда просыпается город, — «спокойная, легкая музыка, пианиссимо, анданте», и в сценах загса, разводов, похорон — «повествовательный характер, лучше, если этот эпизод играет один рояль».
Восприятие действительности, основанное на приятии ее, не только вселяло бодрость в людей, окружавших человека с киноаппаратом, но вдохновляло его самого на столь свободный рассказ, свободное движение ассоциаций, на столь смелое построение внутреннего монолога.
Свободное поведение выражало его внутреннюю раскрепощенность, подготовленную окружающей действительностью, атмосферой новой жизни. В самом строе рассказа особенности художественного мышления человека с киноаппаратом были неотделимы от его социальных ощущений. От его понимания, что в увиденных им мимолетных мгновениях повседневного человеческого бытия вызревает нечто непреходящее, хотя само по себе и очень простое, — хорошее настроение людей.
Много это или мало для социальной насыщенности художественной вещи — передать хорошее настроение людей?
Критики, отказавшие ленте в социальном звучании, видимо, посчитали — мало. Заводы, стройки, машины, станки — это фундаментально, материально ощутимо. А настроение?.. Уж больно зыбко, идеализм какой-то.
Но то, что в это время закладывалось не только в фундамент экономики, а и в фундамент хорошего настроения, потом отзовется в истории.
В первые трудные месяцы войны, пользуясь возникшим преимуществом, фашистская авиация, танки и артиллерия сносили заводы, уничтожали станки и машины, недавно выстроенные плотины и рабочие поселки, но одного так и не сумели (при всех стараниях) истребить: вот этой памяти о хорошем настроении.
В трагические минуты люди теряли очень многое, но ее не теряли даже в трагические минуты.
Победа пришла в мае сорок пятого, а исход войны был предрешен летом сорок первого — в тот день, когда гитлеровские части двинулись через границу.
В первые дни войны (между 22-м и 26-м июня) Вертову было предложено подумать о возвращении к теме «человек с киноаппаратом» — на этот раз «человек с киноаппаратом на войне». Тот, у кого возникло предложение, охладел к нему так же быстро, как и загорелся. Но тогда, когда предложение было выдвинуто, Вертов записал в дневнике: «Моя постоянная тема… я с радостью согласился».
Он согласился с радостью, потому что понимал: с помощью своего постоянного лирического героя не только расскажет о событиях войны, о тяжких и высоких минутах испытаний, но и раскроет через чувства человека с киноаппаратом чувства народа — веру в неминуемость, вопреки тяжести испытаний, мгновения, когда снова вернется к людям хорошее настроение.
Фашизм потерпел крах не в майские дни сорок пятого, и даже не в июне сорок первого, а задолго до начала войны — в те двадцатые годы, когда трудного, неясного, не до конца понятого еще было немало, но люди нет-нет да и ловили себя на мысли, что настроение у них совсем даже ничего — неплохое!
Так много это или не много для осознания движущих сил эпохи?..
Вертов уловил дух нового в момент зарождения.
Его оппоненты не уловили.
Но Вертов в том не виноват, наделенный обостренным социальным чутьем не обязан отвечать за промахи обделенных.
Вскоре эту обделенность подтвердило еще одно обстоятельство.
Увидеть в рядовом не рядовое, в обыденном значительное нередко помогает взгляд со стороны, на расстоянии — взгляд по контрасту.
В мае двадцать девятого года Вертов выехал в заграничную командировку.
После награждения в 1925 году картины «Кино-Глаз» медалью на Парижской выставке имя Вертова получило известность в мире.
Но о дальнейшем его творчестве, теоретических позициях, исканиях известно было мало. Отголоски страстных споров доходили до Европы и Америки (не только Северной, а и Южной), однако подчас в искаженном, противоречивом, невнятном виде.
Еще хуже доходили фильмы, их почти никто не видел.
Но интерес к истинной сути поисков Вертова (как и вообще других художников молодого советского киноискусства) постоянно возрастал.
Эхо полемики интерес увеличивало.
На Западе появилось немало друзей советского кино, в трудных условиях официальных государственных запретов, цензурных рогаток они делали все возможное для пропаганды открытий и достижений нового революционного кинематографа.
Летом 1929 года в Штутгарте открылась международная выставка «Фильм унд Фото». Вертов был приглашен для показа «Человека с киноаппаратом» и выступления перед просмотром с докладом о направлениях в советском документальном кино, о принципах и методах работы группы Кино-Глаз.
По просьбе ВОКСа (Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей) советский отдел штутгартской выставки оформлял художник Эль Лисицкий, с которым Вертов потом близко подружился. Ему помогала жена, Софья Лисицкая, тоже художница и литератор, она недавно приехала из Германии в Москву и познакомилась с Вертовым. Лисицкая отбирала для выставки весь необходимый материал, включая наиболее интересные кадры из лучших фильмов для их фотоувеличения.
В начале двадцать девятого года Вертов пригласил Лисицких на один из первых просмотров «Человека с киноаппаратом». Просмотр был устроен для писателей и художников. Лисицкая вспоминает, что после просмотра многие резко нападали на Вертова, а он («побелев, как мел») отстаивал свою работу. Сама Лисицкая была восхищена фильмом, вскоре написала для немецкого журнала «Кунстблат» (май, 1929) статью «Смотрите на жизнь Кино-Глазом Дзиги Вертова», тонко анализировала своеобразие поэтических постижений новой революционной эпохи в последних работах Вертова, особенно в «Одиннадцатом» и «Человеке с киноаппаратом».
Перед отъездом Вертова в Германию Лисицкие разослали письма в знакомые им организации, художественные общества и просто своим друзьям — всем, кто интересовался культурными начинаниями в Советском Союзе, — с просьбой о содействии Вертову и оказании ему теплого приема.
Вертов свободно владел немецким языком, с другой стороны, «Человек с киноаппаратом» не требовал перевода, — оба обстоятельства тоже имели немаловажное значение. Торгпредство заранее организовало пересылку копий фильма, была достигнута договоренность о показе картины и выступлениях Вертова не только в Штутгарте, но и в Берлине, других городах.
Поездка Вертова была хорошо подготовлена и творчески, и технически.
3 июня 1929 года Вертов выступил с докладом «Что такое Кино-Глаз» в Ганновере, 9-го — в Берлине, 10-го — в Дессау, 11-го — в Эссене, 16-го — в Штутгарте.
Он получил также приглашение показать фильм во Франции. Париж, писал он в письме, принял меня в лице критики, газет, журналов, работников искусств — очень хорошо, а в лице министра иностранных дел, префектуры и т. д. — неважно. Было предложено выехать до 1 августа, что и пришлось сделать.
Немецкие газеты и журналы публиковали портреты Вертова с подписью «Moskauer Filmregisseur Dsiga Werthoff» (московский кинорежиссер Дзига Вертов), давали информацию о нем и статьи с анализом особенностей его творчества.
От выступления к выступлению рос успех вертовских встреч с кинематографистами, с любителями кино и кинозрителями. Он получил предложения прочесть доклады из Мангейма, Гамбурга, Аугсбурга, а также из Лондона, Амстердама, Вены и Цюриха. Две немецкие кинофирмы (в Ганновере и Франкфурте) и одна швейцарская (в Цюрихе) предлагали совместные постановки, швейцарская, сообщал Вертов, «на очень выгодных для СССР условиях».
«Перед нами 200 газет, — писала 8 сентября 1929 года „Кино-газета“, — 200 отзывов о девяти докладах, прочитанных Вертовым».
Среди тех, кто писал о докладах Вертова и его фильме, был тогда еще сравнительно молодой, а впоследствии один из крупнейших немецких теоретиков и историков кино Зигфрид Кракауэр, режиссер-документалист Ганс Рихтер, теоретик фотоискусства профессор Моголи Наги. Статью для «Юманите» написал французский писатель, неутомимый пропагандист советского кино Леон Муссинак. 27 августа 1929 года «Кино-газета» сообщала, что в Лондоне просмотр «Человека с киноаппаратом» с докладом Вертова предполагает устроить Айвор Монтегю — режиссер, сценарист, один из известных английских критиков и теоретиков кино.
При всем доброжелательном, подчас восторженном отношении (главным образом, со стороны прогрессивной, левой интеллигенции) к вертовской ленте, его принципиальным идеям поездка протекала отнюдь не безоблачно. Вернувшись, Вертов писал Лисицким из Киева, что при встрече в Москве сможет им много рассказать о поездке, о впечатлениях, о стычках. Поводы для стычек возникли очень быстро. Вскоре после первых просмотров в немецкой прессе появились сообщения, что в своих установках Кино-Глаз продолжает принципы некоего Блюма. Сообщения иногда содержали почти неприкрытый намек на плагиат.
Вертова сообщения заинтересовали, он посмотрел фильм Блюма «Им Шаттен дер Машине», на который ссылались газеты, и сразу же установил, что под этим названием в Германии демонстрировалась последняя часть «Одиннадцатого» с добавлениями из «Звенигоры» Довженко. Вертов тут же послал протест в газету «Франкфуртер Цейтунг».
Одновременно часть прессы принялась достаточно настойчиво подчеркивать, что, несмотря на очевидные кинематографические достоинства работ Кино-Глаза, «Человек с киноаппаратом» является лишь как бы более «фанатичным» повторением другой немецкой картины «Берлин. Симфония большого города» Вальтера Ратмана. На этот раз речь шла не о жульнической подделке, а об одном из самых прекрасных документальных фильмов мирового кинорепертуара.
Рутман снимал картину почти одновременно с «Человеком с киноаппаратом», но его фильм вышел раньше, в 1927 году (выпуск вертовского фильма искусственно отодвинулся не по вине автора).
Между двумя картинами действительно было много общего. И та и другая строились на рассказе об одном дне огромного современного города, оба автора стремились вести рассказ языком пластики, зрительных ассоциаций и метафор.
Но в том же письме в редакцию «Франкфуртер Цейтунг» Вертов объяснял, что Кино-Глаз существует не с 1929, а с 1918 года и что фильмы, построенные на жизни одного дня города, делались Кино-Глазом задолго до «Симфонии большого города» и «Человека с киноаппаратом» («Кино-Глаз», «Шагай, Совет!»).
Приступая к работе над картиной, сам Рутман заявил, что собирается снять свой фильм по методу Кино-Глаза (об этом наша печать сообщила тогда же, когда немецкий режиссер сделал свое заявление, от которого он никогда не отказывался).
Фильм Рутмана появился как результат длительного влияния на режиссера работ и выступлений Кино-Глаза, а не наоборот, что «хронологически и по существу абсурдно», писал Вертов.
Но, споря о хронологии, приоритете формальных достижений, зарубежная печать о существе не спорила.
В понимании основного отличия — социальной страстности и определенности вертовского фильма и социальной неопределенности фильма Рутмана — западная пресса была практически единодушна.
Левая и правая пресса, естественно, относились к этому преимуществу картины Вертова по-разному, но не только левая, но и правая печать не могли этого преимущества не признать.
Журнал «Советский экран» (1929, № 37), подводя итоги обзора зарубежной печати в связи с поездкой Вертова, подчеркивал: «Западная критика отмечает, что Кино-Глаз органичен для советской почвы и что Вертову удалось в своих вещах выразить радость жизни, непосредственность чувств, вихрь веселых, заразительных настроений, характерных для людей кипучей советской стройки…»
Западная критика почувствовала органичность Кино-Глаза для советской почвы не через виды заводов и шахт, виды кипучей стройки, а через радость жизни, вихрь веселых, заразительных настроений, характерных для людей стройки.
Она поняла это по контрасту со своей жизнью.
И по контрасту вертовского фильма со своим фильмом — фильмом Рутмана.
Социальная неопределенность картины Рутмана была выражением вполне определенных социальных особенностей мироощущения человека той социально не менее определенной среды, к которой принадлежал немецкий автор.
Радость бытия, несмотря на все имеющиеся житейские неудобства, бытовые и прочие трудности, как характерная черта жизни, окружающей человека с киноаппаратом.
И отсутствие радости бытия, как характерная черта существования человека не просто из другого большого города, а из другого мира.
Особенно четко это выявлялось опять же в ритмических интонациях, у Рутмана совершенно иных, элегических, окрашенных часто печальным настроением, душевным неспокойствием.
Автор влюблен в свой город — и ему трудно его любить.
Нельзя сказать, что он не принимает действительность, но и никак нельзя сказать, что принимает.
А главное, он словно сам не может твердо сказать, принимает ли действительность его. Не безразлична ли она к нему? Не оттолкнет ли от себя в критическую минуту?
Может быть, в этом предчувствии нелада между человеком и действительностью Рутман угадал то, что потом отзовется в истории, — дымящимися камнями поверженного «большого города», которому он посвятил свою симфонию?
Некая зыбкость жизнеощущения, социальная неуверенность не дали умному, зоркому, тонкому наблюдателю полно и до конца выразить свое отношение к наблюдаемому.
Выразить не в частностях, а в цельном миропонимании.
Вертову же удалось выразить сполна.
Об этом писали соотечественники Рутмана. Постоянный обозреватель «Франкфуртер Цейтунг» Кракауэр в статье о «Человеке с киноаппаратом», опубликованной 19 мая, отмечал: «Рутман дает только чередование, не объясняя его. Вертов же, показывая, интерпретирует».
Для понимания социальной страстности «Человека с киноаппаратом» приобретало особое значение не только то, о чем рассказывалось, но и как рассказывалось. «Как» — не в смысле приемов, а отношения рассказывающего к рассказываемому, к увиденной жизни.
В цепочке фильмов, подготовивших самую значительную вертовскую картину «Три песни о Ленине», Вертов непосредственно перед ней ставил «Человека с киноаппаратом», несмотря на их, казалось бы, полное различие. Но слова Вертова, определяющие главные особенности «Трех песен», четко объясняли глубинную близость лент при всем их внешнем несходстве: «Это внутренний монолог идущего из старого в новое, из прошлого в будущее, от рабства к свободной культурной жизни раскованного революцией человека».
По сравнению с ленинской картиной «Человек с киноаппаратом» еще не обладал такой же ясностью и глубиной, не был столь же совершенен и строг в отборе средств. Но, как предшествующее звено, нес в себе наиболее существенное, что их связывало, — был внутренним монологом человека, раскованного революцией.
Построение по законам внутреннего монолога определяло формальное новаторство картины.
А принадлежность монолога человеку, раскованному революцией, определяла ее социальную насыщенность.
Вертов не бросался словами, говоря, что «киноки — дети Октября». Они были ими не только тогда, когда работали над «Кино-Правдами» и «Тремя песнями о Ленине», но и когда снимали «Человека с киноаппаратом».
Внутренний монолог раскованного революцией человека — предельно емкая формула сопряженности художественных интересов и идейных устремлений.
Вне ощущения сопряженности разбить «Человека с киноаппаратом» на мелкие, несклеиваемые осколки проще простого.
Хотя ощутить сопряжение было также не просто. Уловить вызревание нового в том, что происходит рядом, происходит не в праздники, а в незаметном, обыденном шуршании часов и дней, трудно.
Но, может, это и было главным богатством, накопленным революцией к тому времени, — то, что новое мировосприятие становилось само собой разумеющимся свойством жизни? До того привычным, что вертовские оппоненты на это свойство жизни, ставшее свойством фильма, не обратили внимания.
Между тем то, что они не обратили на это внимания, — тоже было завоеванием революции, еще одним подтверждением привычности новых форм бытия.
Неудивительно, что на Западе, где привычки к восприятию действительности, связанному с массовым приятием ее, не было, сразу же обратили внимание на это свойство жизни, ставшее патетическим свойством фильма.
Быт, сотканный из бесконечного множества простых и вместе с тем необыкновенно тонких, глубоко человечных подробностей, соединялся с художническим пафосом — Вертов не отступил в картине и от этой традиции.
Только если в прежних фильмах старый быт соотносился с пафосом борьбы за новый, то теперь молодой новый быт соотносился с пафосом его утверждения.
Отбросив пафос, не почувствовав его, раздосадованная критика оставила лишь быт, калейдоскопический хаос подробностей, помноженный на калейдоскопический хаос кинематографических трюков. После этого уже нетрудно было прийти к выводу о холодной формальной изощренности, о механическом смешении средств и разобщенных жанровых начал. Вертов раздражал противозаконными взаимоотношениями, соединениями несоединимого — прозы с поэзией, репортажной эпичности хроники с лиризмом впечатлений. Критики были твердо убеждены, что если есть обыденность, то уже не может быть монументальности, если есть патетика, то интимность уже просто невозможна, а призывный клич не переходит в шепот признания, эпос в лирику, лирика в драму.
Полифонию метода в «Человеке с киноаппаратом», как и в других лентах Вертова, его противники считали заумью,
надуманной эклектикой.
Но, противопоставляя полифонию реалистического метода монотонности натурализма, Вертов сам вообще ничего не придумывал. В искусстве решительно наступала эпоха ломки канонических жанровых границ и создания новых жанров на стыке старых, в их единстве, взаимопроникновении.
Но эту полифонию средств и жанров придумывал не Вертов или какой-то другой художник. Их придумывала жизнь, ее динамика, разнообразие каналов, по которым в двадцатом веке стала приходить к человеку информация: плакат и поэма, газетная сводка и документальный киножурнал, кумачовый лозунг и листовка на стене, правительственный декрет и новая песня, площадное театральное действо и статьи, доклады Ленина. Все это одновременно входило в сознание, которое училось перерабатывать разнородные (по существу и по форме) сообщения в систему, обобщение, вывод.
Кино родилось накануне двадцатого века не потому, что технический прогресс позволил наконец удовлетворить древнюю мечту человека о конкретно зримом, достаточно точном отражении живой действительности.
Рождение кино, несомненно, было связано с тем, что для массового сознания в новой исторической эпохе огромное значение приобретали монтажные формы мышления — не столько последовательное чередование событий, сколько их совокупность.
Но совокупность разнородных фактов, требующих осмысления, по-рождала и совокупность разнородных чувств. В старые, добрые времена человеческое мышление преимущественно обходилось более или менее четкими отграничениями между эпосом, лирикой и драмой. В формах мышления новейшего времени неиссякаемый напор событий, с одной стороны, требовал эпического спокойствия в их обдумывании, одновременно вызывая поток сложных и бурных лирических переживаний, как правило, пронизанных к тому же острым драматизмом.
До того, как войти в произведения искусства, полифония средств мышления вошла в обыденное сознание.
Жанры искусства творит время, формы и способы человеческого мышления и чувствования, свойственные данной эпохе.
Истинные художники не выдумывают жанры, а открывают их. Они как бы сопрягают жанровые формы своих произведений с существующими (или нарождающимися) формами мышления широких масс. Величие же подлинных художников состоит лишь в том, что они угадывают существование новых форм мышления порой раньше, чем они осознаются самим массовым сознанием. Люди уже думают (или начинают думать) по-новому, но еще не знают об этом и цепляются за старое.
Печать сообщала, что один из представителей конторы проката заявил по поводу «Человека с киноаппаратом»:
— Вертов делает то, что будет понятно зрителю через пятьдесят лет. Так пусть он и начинает делать свои картины через пятьдесят лет.
Но поскольку Вертов не собирался откладывать работу над своими картинами на срок, предлагаемый прокатом, то прокат решил отложить выпуск «Человека с киноаппаратом» и, судя по всему, примерно на тот же срок — лет эдак на пятьдесят.
В марте 1928 года проходило Всесоюзное партийное совещание по кинематографии, на нем резко критиковалась политика проката, его коммерческий уклон — средний доход от западных боевиков был приблизительно на одну треть выше, чем от отечественного производства.
Пресса, после предварительных просмотров и первых диспутов разделившаяся в оценке «Человека с киноаппаратом», была довольно единодушна в том, что фильм должен выйти на экран и встретиться с широким зрителем.
ЗРАЧКИ АФИШ
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Вертов принадлежит к числу крупнейших новаторов не только советского, но и мирового кино…
Но есть ли у нас кинорежиссер, картины которого были бы так мало известны широким массам советского зрителя?
Надо дать широкий экран в лучших кинотеатрах «Человеку с киноаппаратом».
«Веч. Москва», 1929, 25 января
Насколько нам известно, до сих пор для Москвы не заказана еще ни одна копия этой картины, законченной производством в ноябре.
«Кино-газета», 1929, 19 февраля
Кто может сказать, кто решится утверждать, что фильмы Вертова лишены социальной значимости, что они непонятны, недоступны и т. д.? Кого спрашивали? Где были анкеты? В каких районах? В каких предместьях?
Дорогу Дзиге Вертову!
«Веч. Киев», 1929, 9 марта
Дело Вертова в особенности ярко рисует отсталость и дряхлость проката. В прокате укрепилась дореволюционная психология мелкого хозяйчика, не понимающего, что убытки на Вертове — это прибыль на его подражателях, что без Вертова мы зачахнем.
«Кино и Культура», 1929, № 4
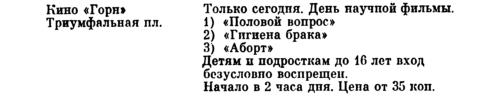

Письмо в редакцию.
Разрешите вместо ответа на бесчисленные запросы о судьбе «Человека с киноаппаратом» довести до сведения редакций, приветствовавших появление фильма «Человек с киноаппаратом», ОДСК, АРРК, членов клуба ЦК и ЦКК, до сведения всех товарищей, обсуждавших фильму на многочисленных диспутах в Москве и на Украине, что фильма «Человек с киноаппаратом», выпущенная производством в ноябре прошлого года, до сих пор (вот уже 5-й месяц) никак не может пробиться на первые экраны Москвы и Ленинграда, маринуется и бойкотируется всеми доступными прокату средствами.
…Вы, товарищи, спрашиваете, когда в театрах пойдет фильма «Человек с киноаппаратом»? Очевидно, тогда, когда мнение общественности и печати будет значить больше, чем мнение людей от проката, увлеченных «Шестью девушками, которые за монастырской стеной».
Москва, 12 марта 1929 г. Дзига Вертов «Кино-газета», 1929, 19 марта
Кто кого?.. Советский художник или прокатчик?.. Неужели отдадим в жертву вкусам наших прокатчиков и Д. Вертова?
«Веч. Москва», 1929, 26 марта
Необходимо оказать всяческое давление общественности, чтобы прокат не думал за зрителей, а предоставил бы именно зрителям решать вопрос, удачен ли эксперимент или нет. Необходимо, чтобы «Человек с киноаппаратом» был широко показан на советском экране.
«Правда», 1929, 23 марта
Несмотря на регулярные запросы и реплики в газетах, несмотря на знаменитую карикатуру художника В. Нинемяги «Вход человека с киноаппаратом воспрещен» (прокатчик, отгородившись массивным столом, жестом просит понурого, сильно смахивающего на Вертова человека с камерой под мышкой покинуть, — говоря канцелярским языком, — помещение), несмотря на проведенное 19 марта в редакции «Кино-газеты» специальное совещание представителей московской печати, кипопроизводственников, режиссеров, критиков, работников московского отделения ВУФКУ и Моссовкино, где обсуждался вопрос о необходимости массового показа фильма и была принята резолюция с требованием пустить картину по московским кинотеатрам не позже 2 апреля, прокат оставался если не глух, то нем.
Второго апреля картина не была выпущена, своей немотой прокат подтверждал, что срока в пятьдесят лет готов держаться.
И тогда газета «Правда» в течение недели стала ежедневно помещать без всякого комментария крупно отпечатанные и заключенные в жирные квадраты объявления: «Требуйте ответа! Когда Москва увидит первый в СССР фильм без слов „Человек с киноаппаратом“?» (31 марта). «Отвечайте, где „Человек с киноаппаратом“?» «Первый фильм в СССР без слов?» (2 апреля, 1 апреля был понедельник, газета в этот день не выходила), «Не играйте на нервах! Где же первый в СССР фильм без слов „Человек с киноаппаратом“?» (3 апреля), «2 500 000 москвичей теряют терпение: где „Человек с киноаппаратом“, первый фильм в СССР без слов?» (4 апреля).
Аналогичные объявления в те же дни печатали «Известия» и «Вечерняя Москва».
На этот раз прокат дрогнул, 5 апреля «Правда» опубликовала новый квадрат: «Спокойно! Завтра сообщим ГДЕ и КОГДА „Человек с киноаппаратом“, первый в СССР фильм без слов». На другой день: «Всем, Всем, Всем!!! ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ. „Человек с киноаппаратом“. Первый фильм в СССР без слов. Автор Дзига Вертов. Со вторника, 9 апреля, в крупнейших кинотеатрах Москвы. Следите!» На следующий день, 7 апреля: «Со вторника, 9-го апреля. Премьера. Первый фильм в СССР без слов. „Человек с киноаппаратом“. Автор-руководитель Дзига Вертов. Главный оператор М. Кауфман. Ассистент по монтажу Е. Свилова. Производство ВУФКУ. В кино: „Эрмитаж“, „Тверская, 46“. Удивительные приключения киночеловека: на земле, на воде, под землей и в воздухе. Впервые — превращение киночеловека из великана в лилипута и наоборот. Кино-Гулливер. Приключения под поездом. Случай с извозчиком. Остановка жизни. Люди в воздухе. Застывшая лошадь. Киновоскрешение людей и животных. Человек в опасности. Трамвай над зрительным залом… На помощь! Новая тревога. Грохот поездов. Взрыв времени. Что случилось с Театральной площадью? Взбунтовавшийся маятник. Погоня за временем. До 1000 километров в час. До 15 минут в минуту». А еще через день, 9 апреля (8 апреля был понедельник, газета не выходила): «Сегодня, 9-го апреля, премьера…»
Правда, уже 18 апреля «Вечерняя Москва» писала, что, несмотря на очевидный успех, фильм спят с показа. Успех подтверждала «Кино-газета» (23 апреля): по «Эрмитажу» доход от проката лепты был выше среднего (более 4000 рублей), по кинотеатру «Тверская, 46» — средний (7000 рублей). «Человек с киноаппаратом» только начал набирать зрителя, по тут же был вынужден уступить место фильму «Бабушкин внучек» с Гарольдом Ллойдом. Статья в «Вечерней Москве» так и называлась: «Для прекрасных глаз Гарольда Ллойда. Итоги одного саботажа».
Но дело было сделано: фильм вышел на экраны, пошел по стране.
И постепенно дошел до самых ее окраин.
В конце 1930 года Вертов получил письмо, подписанное И. Лихошерстом и начинавшееся так: «Я — простой пионер — работник, работаю, можно сказать, в самой глуши Союза, на Дальнем Востоке, на конечной станции Сучанской ветки — Кангаузе». Автор письма сообщал, что он такой же энтузиаст, как и все комсомольцы, возлагает на пятилетку большие надежды, а недавно ездил с товарищем во Владивосток посмотреть «Человека с киноаппаратом». «Картина произвела на меня огромное впечатление. Кровь в жилах так и шумела, хотелось двигаться, работать… Я не знаю достоверно, коммунист ли Вы или нет, но судя по Вашим работам, я думаю, что обращаюсь к коммунисту…».
Слова «судя по Вашим работам» в машинописной копии письма, которую Вертов бережно хранил всю жизнь, подчеркнуты карандашом и дана сноска: «подчеркнуто мною. —
Д. В.».
Вертов не был коммунистом, но, как писал сам, беспартийным себя не считал, хотя и не имел партбилета. Спустя четыре года своим партбилетом он назовет «Три песни о Ленине».
Простой пионер-работник из глухого дальневосточного селения, комсомолец, энтузиаст пятилетки, сразу почувствовал то, в чем еще долго разбирались искушенные (как они сами считали) в кино и умудренные (как они сами считали) жизнью вертовские оппоненты.
…Осенью шестьдесят четвертого года кинокритики двадцати четырех стран во время опроса, проведенного в рамках тринадцатого международного кинофестиваля в Мангейме, назвали «Человека с киноаппаратом» в числе двенадцати лучших документальных фильмов всех времен и народов.
Вертову дорога была эта картина.
Он страдал от непонимания ее, защищал от поспешных, искажающих авторские намерения оценок. Иногда даже признавал формальные излишества и все-таки старался уберечь свое детище от боли, хотя это не всегда легко давалось (и удавалось).
Он дорожил лентой, потому что чувствовал: в полифоническом использовании кинематографических возможностей для передачи синтетической картины жизни он достиг каких-то ступеней, каких не достигал прежде.
И одновременно Вертов понимал: для полнокровного полифонического звучания все еще не хватает одной важной жизненной краски — самого звучания. Не слово-радио-темы, не имитации слышимого мира зрительными средствами, а подлинных звуков жизни.
— Ухо не подсматривает, глаз не подслушивает, — требовал Вертов. — Разделение функций. Радио-Ухо — монтажное «слышу»! Кино-Глаз — монтажное «вижу»!
Но теоретические и практические работы киноков опережали технические возможности: глаз подслушивал, ухо подсматривало. Патетика ораторских обращений в зал, интонационное разнообразие речи лирического героя, грохот наступления и предшествующая ему тишина до сих пор проникали в ухо через глаз — иного способа не существовало.
Во второй половине двадцатых годов овладение звуком в кино стало реальностью.
Большинство кинематографистов мира, представителей самых различных течений и стилей — от Рене Клера до Чарли Чаплина — встретили приход звука с редким единодушием — растерянно.
Великий Немой переставал быть немым, казалось, что от этого он перестанет быть Великим. Немота заставляла его искать предельную выразительность. Теперь многое из того, что в лучших лентах с таким совершенством говорилось языком пластики, легко и просто можно будет сказать языком обычных слов и природных звуков.
Становясь звуковым, говорящим, не станет ли кинематограф подслеповатым?
Этим совсем не безосновательным опасением диктовался пафос одной из наиболее глубоких и трезвых деклараций о звуке — «Будущее звуковой фильмы. Заявка» — С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина и Г. Александрова, опубликованной «Советским экраном» в 1928 году. Авторы предостерегали от главного — превращения фильма в театр на экране, когда натуральность звуков и слов начнет убивать пластическую метафоричность и монтажную образность.
Но растерянность коснулась и этого выдающегося для своего времени документа. Не просто смиряясь с неизбежностью звука, а всячески приветствуя его приход, авторы «Заявки» считали, что для преодоления натурализма и сохранения специфики кино важно избегать прямых совпадений изображения и звука — предмета, который показан на экране, и предмета, который является источником звучания. В изображении — одно, в звуке — другое, а их контрапунктическое слияние рождает третье — образ.
Это было принципиальным открытием. Открытием одного из путей.
Но не единственного.
Эйзенштейн позже как-то заметил, что ему важен не скрип сапога, а реакция на этот скрип его персонажа. Но ведь реакцию можно передать изображением персонажа, услышавшего закадровый скрип сапога, и изображением скрипящего сапога, «говорящим» зрителю о закадровой реакции персонажа.
Кинематограф еще не зазвучал (только собирался), по уже зазвучали призывы к искусственным ограничениям.
Среди наиболее крупных фигур мирового кино, пожалуй, только Вертов встретил звук без капли растерянности.
Так сказано не потому, что эта книга о нем, а потому что так было.
11 мая 1930 года газета «Кинофронт» напечатала пространное интервью с Вертовым, в ответе на вопрос о роли звука в кино Вертов резко полемизировал со многими неточными высказываниями: «Ни для документальных, ни для игровых фильмов вовсе не обязательны ни совпадения, ни несовпадения видимого со слышимым. Звуковые кадры, так же как и немые кадры, монтируются на равных основаниях, могут монтажно совпадать, могут монтажно не совпадать и переплетаться друг с другом в разных необходимых сочетаниях. Совершенно следует также отбросить нелепую путаницу с делением фильмов на разговорные, шумовые или звуковые».
Но Вертов избежал растерянности не только потому, что осознал некоторые основополагающие теоретические принципы точнее других. Он их осознал и гораздо раньше других, задолго до наступления новой эры в кино.
О том, что глаз не подслушивает, о монтажном «слышу» он впервые написал в двадцать третьем году в манифесте «Киноки. Переворот», тогда, когда на эту тему говорить всерьез никому в голову не приходило. Статья «Кино-Правда и Радио-Правда», помещенная в «Правде» 16 июля 1925 года, была уже законченной программой овладения зрительными средствами кино в сочетании со звуковыми.
Почти десятилетие Вертов не упускал случая наряду с Кино-Глазом говорить о Радио-Глазе, Радио-Ухе, о монтаже не только видимых, но и слышимых явлении.
Никто не сомневался, что кино в конце концов разорвет немоту, но где-то в туманном будущем. Поэтому вертовские разговоры о звуке казались еще одним чудачеством неисправимого чудака — хочет прыгнуть выше головы, обогнать самого себя.
На самом деле Вертов не обгонял, а догонял себя.
Он догонял мечту — мечту мальчика.
Ведь и в кино пришел, потому что когда-то запало в душу неизъяснимо волнующее желание научиться воспроизводить слышимый мир в его сложных звуковых сочетаниях.
Это был случай редкостного человеческого упорства в осуществлении детской мечты, пронесенной сквозь годы.
Вертов не ждал своего часа, твердо знал, что он придет, и готовился к встрече. Поэтому оказался внутренне подготовленным лучше многих, может быть, даже лучше всех.
В отчете ВУФКУ о зарубежной командировке, перечислив города, где были прочитаны им доклады, проведены просмотры и дискуссии, Вертов между прочим сообщил, что ознакомился с имеющимися в Европе тонфильмами, с немецкими и ввезенными американскими, осмотрел фабрики звуковых фильмов в Берлине и Париже и что к постановке «звуковой фильмы» может считать себя готовым, осталось лишь ознакомление с техникой звукового монтажа.
Вернувшись из-за границы, Вертов писал из Киева в Москву Лисицким, что после Парижа его пригласили на интернациональный киноконгресс в Швейцарию, но приглашением он не смог воспользоваться, телеграфно был вызван на Украину для новой работы над «Донбасс-картиной». «Настаиваю, — писал Вертов, — чтобы фильма была звуковой, хотя со звуковым съемочным аппаратом здесь пока обстоит туго».
В то время как очень многие продолжали теоретизировать о звуке, совершенно не зная, с какой стороны к нему подступиться, и стараясь подальше оттянуть встречу с ним, Вертов настаивал, чтобы ближайший его фильм делался звуковым.
«Донбасс-картина» стала той «звуковой фильмой», к постановке которой Вертов считал себя готовым.
В конце лета 1929 года, когда формировалась группа «Симфонии Донбасса», Михаил Кауфман завершал самостоятельно им снятую ленту «Весной». Он окончательно вышел из состава Кино-Глаза, картину о Донбассе под руководством Вертова снимал помощник Кауфмана по «Одиннадцатому» молодой оператор Борис Цейтлин.
Опыт «Одиннадцатого» не прошел для «Донбасс-картины» бесследно. Многое снималось примерно в тех же местах — шахты, заводы, металлургические комбинаты Горловки, Макеевки, Лисичанска.
В могучем развороте индустрии на экране, в кадрах разливаемой стали, доменных печей, снятых с нижних точек, в строе коксовых батарей на фоне заходящего солнца и летящих облаков было то же стремление к символическому обобщению, монументальности, какое было в «Одиннадцатом».
Но для «Симфонии Донбасса» не прошли бесследно и просчеты «Одиннадцатого».
Донбасс-картина давала не столько сгусток внешне монументальных проявлений трудового порыва, сколько сгусток трудового напряжения. Не сгусток действий — сгусток эмоций.
Техника была величественно монументальной, эмоции — подвижными. Крупные планы доменщиков, шахтеров фиксировали трудовой пот повседневности. Напряжение не мышц, а духа. Люди стояли не на пьедесталах, а на земле (к сожалению, значительная часть человеческого киноматериала, снятого для картины, погибла из-за технического брака).
Второе, так сказать, настроенческое название картины («Энтузиазм») не являлось случайным.
«Симфония Донбасса» была картиной не итога, а процесса. Энтузиазм, с которым комсомолия штурмовала Донбасс, рождался в драматических преодолениях.
К концу двадцатых годов в Донбассе сложилось острое положение — упала производительность, мало делалось для улучшения быта. Партией принимались специальные меры, чтобы вывести Всесоюзную кочегарку из прорыва.
Фильм был об этом.
Тишина захолустных российских углов, расколебленная гигантскими стройками пятилетки, когда все сдвинулось с места, завертелось, и — жизнь, будто застывшая в своих вековечных привычках: пьяная гульба, слезы баб, прогульщики.
Страна, ждущая уголь Донбасса, пересохшие от жажды огня пасти потухших домен и — заброшенные шахты, мертвые вагонетки. Телеграфные аппараты лихорадочно отстукивали слова: тревога, тревога, Донбасс в прорыве.
Но неодолимая взрывная сила повой жизни взламывала старую.
На митинге ораторы призывали вернуть стране угольный долг. В Донбасс спешили комсомольские бригады добровольцев. Оживали шахты. Трогались с места вагонетки. Шел уголь, мчались груженные им железнодорожные составы. Пламя гудело в доменных печах. Дымились трубы. Лился металл.
И лился пот по лицам рабочих, а телеграф выдавал цифровые сводки итогов ударного труда.
События повседневности, не просто чередуясь, а постепенно накапливаясь, сталкиваясь во взаимном преодолении, соединялись не в протокольный обзор. Они сливались в симфонию трудового порыва Донбасса — в симфонию энтузиазма.
Но на этот раз симфонизм впервые достигался не только монтажным накоплением и ритмической обработкой видимого материала. Полифонию смысловых оттенков, тонов и полутонов передавал и реально слышимый, звучащий материал. Глаз — не подслушивал, ухо — не подсматривало, теперь они могли выполнять свои обычные функции.
С тем же энтузиазмом, с каким молодежь шла на штурм шахт Донбасса, Вертов со своей группой шел на штурм (он сам так говорил) звуков Донбасса.
И так же как энтузиазм рабочих не исключал трудностей повседневного напряжения, так и энтузиазм вертовской группы отнюдь не предвещал легко и безмятежно добытой победы.
Газета киевской кинофабрики сообщала: группа «Симфония Донбасса» «працюе по-ударному».
Вертов старался не потерять ни минуты.
Когда в конце осени натурные съемки в Донбассе были прерваны (в связи с наступлением зимы), Вертов представил дирекции Киевской кинофабрики обширную программу работ группы на зимний период. Программой предусматривалось изучение всех существующих теоретических исследований и практических опытов по звукозаписи, установление контактов с лабораториями, ведущими опыты, ознакомление с имеющимися в стране образцами звуковой съемки, выяснение практических возможностей документальных звуковых съемок вне звукового ателье, а также радиосъемок и записи звука на расстоянии, выбор композитора, создание звуковой бригады и проведение первых экспериментальных работ «по добыванию звуков, необходимых для „Симфонии Донбасса“».
Созданием звуковых систем для кино в это время занимались главным образом две лаборатории — П. Тагера в Москве и А. Шорина в Ленинграде. Киевская кинофабрика установила связь с группой Шорина.
Вертов детально разработал для картины музыкальный план, по нему композитор Тимофеев написал звуко-шумовой марш, рассчитанный на озвучание пятисот метров фильма. Марш озвучил оркестр Ленинградской филармонии.
Но симфонические задачи ленты не исчерпывались музыкальным сопровождением.
Вертов мечтал не об озвученном фильме, а о
звуковом, о ленте, которая звучала бы подлинными голосами живой действительности: строек, заводов, шахт, машин, улиц и площадей.
Его слова о штурме, о том, что Кино-Глаз наступает, перевооружаясь на ходу, не были образно-возвышенными оборотами, они констатировали реальные обстоятельства. Группе предстояло в самые сжатые сроки стремительным броском преодолеть не только массу технических (предвиденных и непредвиденных в силу совершенной новизны работы) сложностей, но и обилие заранее возникших опасений, пугающих предсказаний, высокомерных насмешек.
По поводу использования звука взвешенных убеждений существовало еще крайне мало, но зато нелепых предубеждений можно было встретить сколько угодно.
Лучше других суть предубеждений сформулировал И. Соколов, на страницах журнала «Кино и жизнь» он с полной уверенностью предсказывал, что звукозапись в самой жизни, вне заглушенных стен тонателье ничего не даст, кроме звукового хаоса, бессмысленного нагромождения шумов. Эти предсказания были иронически сведены им в «теорию кошачьего концерта».
Сложную гамму подлинных звуков слышимого мира Вертов пытался передать тогда, когда технически это было неосуществимо, еще в далеком детстве. А теперь, когда это технически стало возможным, его со всех сторон начали пугать бессмысленностью затеи.
Вертов и перед микрофоном жаждал подлинной бури, а не бури в стакане воды.
Кроме программы зимних подготовительных работ он той же осенью двадцать девятого составил подробный план «звукозрительных съемок» по картине, наметив их на март и апрель следующего года. Планом предполагалась звукозапись заводских гудков, ударов паровых молотов, радиовечера, посвященного Донбассу, первомайской демонстрации.
В марте Вертов и его группа приехали в Ленинград. 24 марта 1930 года «Литературная газета» напечатала сообщение: киносъемочная группа Киевской фабрики ВУФКУ по картине «Симфония Донбасса» получила в свое распоряжение звукозаписывающий аппарат системы товарища Шорина и приступила к звукосъемкам. Далее газета писала, что группа объявила себя ударной и ставит перед собой задачу выполнить задание с превышением на сто процентов.
От лаборатории Шорина в вертовскую группу были направлены звукооператор Н. Тимарцев (потом его сменил П. Штро), лаборанты Чибисов и Харитонов.
Оснащенная звукозаписывающим аппаратом группа отправится на заводы, выйдет на улицы.
Одну из записей она сделает на вокзале.
Разве мог Вертов не сделать эту запись на вокзале: шум проходящего поезда, говор толпы, вздохи и гудки паровозов?..
Ведь весной восемнадцатого года звуки предотъездной вокзальной сутолоки, застряв в памяти, снова напомнили о давнем желании каким-то образом передать слышимый мир и непосредственно предшествовали встрече с Кольцовым, пригласившим работать в кино.
Вертов не знает, что с этой встречи, обещающей осуществление детской мечты, трудные, порой мучительные поиски, не раз приводившие к открытиям, станут постоянным уделом его жизни.
Такой же окажется и цена открытий — его жизнь. Цена весомая, прочная. Наверное, оттого открытия столь прочно войдут в наследия кинематографа.
Каждая запись, проведенная в Ленинграде, была экспериментальной с начала и до конца. Предугадать результат не мог никто.
Пятого апреля они соберутся, чтобы впервые услышать записанное.
Вертов, как всегда, спокоен, даже, пожалуй, чуть ироничен, никаких следов внутреннего напряжения.
На прослушивании присутствует технический директор ВУФКУ…
Вертов коротко сообщает о том, что сделано.
Лента со звуковой дорожкой заправляется в звуковой проекционный аппарат — можно начинать.
В маленьком просмотровом зале гасят свет, хотя это необязательно, — изображения пока нет, должен идти только звук.
И звук… И звук… Звук — пошел!
…А когда все кончилось, зал наполнился возбужденными голосами.
Только Вертов, как обычно, спокоен, даже вроде бы слегка ироничен, никаких следов внутреннего напряжения.
В тот день был составлен официальный акт: конечные результаты произведенных в марте месяце группой «Симфония Донбасса» опытов по съемке звукового документального материала не только теоретически (Радио-Глаз), но и практически до конца и полностью разрешают спорный вопрос о звуковой документальной съемке.
Далее — подписи.
И дата.
Никаких следов внутреннего напряжения, он спокоен, но это была счастливая минута.
18 апреля 1930 года «Правда» оповестила своих читателей: «опыты по съемке звукового документального материала группы т. Вертова (съемка индустрии, быта, вокзала, отдельных моментов текущей хроники) закончились успешно…»
Месяц спустя создатель звуковой системы Шорин писал в журнале «Кино и жизнь»: впечатление иной раз такое, будто находишься не в театре, а на улице, заводе, вокзале, чувствуется даже воздух, глубина.
Обращая внимание на некомпетентность в оценке технических возможностей звуковой системы со стороны И. Соколова, Шорин подчеркивал, что работы Вертова сразу открыли глаза на то, что студийные шумы сухи, безжизненны и так подделать натуральные шумы и звуки, как они записываются на натуре, совершенно невозможно.
Сам Вертов подвел итоги первых опытов в небольшой статье, она называлась по-весеннему — «Март Радио-Глаза».
(…Именно в один из этих весенних дней, когда отыскался ключ к съемке документальных звуков, в номере гостиницы «Европейская» Денис Аркадьевич ждал Маяковского, чтобы рассказать о своих попытках создания поэтического кинематографа, ждал с нетерпением и радостным чувством, но так и не дождался.)
Группа не только записала подлинные шумы и звуки.
Она впервые осуществила серию синхронных съемок — одновременную съемку изображения с записью звука. В газете ленинградского комсомола «Смена» рассказывалось: 25 апреля коллектив фильма «Симфония Донбасса» провел на набережной Мойки, у Делового клуба, первую съемку красноармейской части с оркестром.
Таким же способом через несколько дней была снята первомайская демонстрация.
Помимо запланированных пятисот метров музыкального звукомарша в общей сложности в Ленинграде записали и сняли еще пятьсот метров звукового документального материала. Группа, как и обещала, выполнила задание с превышением на сто процентов.
Картина еще не появилась, а об экспериментах Вертова ширилась молва.
Много писали газеты и журналы.
Летом продолжались съемки.
В августе тридцатого года прошло первое всесоюзное совещание по звуковому кино. Основными докладчиками были технические специалисты. Но среди них — Вертов. В докладе им обобщался опыт документальных записей вне ателье.
Когда в ноябре картина была закончена, во вступительных титрах Вертов перед своей фамилией с удовольствием поставил не «автор», как обычно, и, уж конечно, не «режиссер», а — «инженер» фильма.
Это легко можно было принять за новую выходку — опять хочет быть не как все.
Между тем в таком поступке тоже существовала своя давно предсказанная логика, еще в двадцать третьем году в манифесте «Киноки. Переворот» Вертов говорил, что сегодня в помощь «глазу механическому» необходим «кинок-пилот», управляющий движениями аппарата в пространстве, а в дальнейшем понадобится «кинок-инженер», управляющий аппаратами на расстоянии.
Под «дальнейшим» имелась в виду будущая неизбежность дистанционного управления звуковыми (а впоследствии и телевизионными) аппаратами.
Художественные интересы совмещались с обоснованным техническим расчетом.
Люди, которые вообще не думают о «дальнейшем», о перспективах жизни, своего дела, вряд ли существуют, но в суетности повседневного дальнейшее для многих рисуется часто размытыми, неясными контурами.
Однако всегда находятся единицы, способные нарисовать контуры завтрашнего дня с максимальным приближением к тому, что будет. Только нам-то эти наиболее точные контуры нередко кажутся и наиболее фантастичными. За будущую реальность мы с гораздо большей охотой принимаем свои зыбкие предположения. Конкретность точных прозрений легко опровергается привычными представлениями сегодняшней жизни, а наши неясные мечтания не опровергаются ничем — нечего опровергать.
И тогда фантастическая (по сегодняшним меркам) и реальная (с точки зрения завтрашнего дня) точность проекций, опрокинутых в будущее, воспринимается нами всего лишь как веселая словесная чепуха.
Круг людей, весело настроенных по отношению к Вертову, «Симфония Донбасса» в момент своего появления значительно расширила.
В круге этом оказались на миг и такие безжалостные насмешники, как Ильф и Петров.
В варианте «Золотого теленка» у Зоей Синицкой, внучки старого ребусника, существовал поклонник — тихий греческий мальчик с любопытствующими глазами и именем Папа-Модерато, смененным после окончания курса кинематографических наук на псевдоним Борис Древлянин.
Среди черновиков романа осталась запись: «Борис Древлянин (кинок)».
Этот «кинок», став ассистентом поруганного в Москве и прикатившего на Черноморскую кинофабрику режиссера Крайних-Взглядов, «великого борца за идею кинофакта», восхищенно следил, как московский ниспровергатель всяческой бутафории снимал с нижних точек настоящую уличную урну для окурков, чтобы она походила на экране на гигантскую сторожевую башню, как ложился на железнодорожные рельсы, снимая высокие колеса, проносившиеся по обе стороны тела, и при этом безмерно пугал машинистов — те бледнели и судорожно хватались за тормозные рычаги.
Написан кусок был весело, зло и несправедливо. В роман он не попал: в сюжетные рамки греческий мальчик вместе с «порывистым» режиссером не укладывался (мальчик на минуту выскользнет лишь на последних страницах в облике юного супруга Зоей и секретаря изоколлектива железнодорожных художников Перикла Фемиди).
Текст куска остался тогда не известен читателю.
Но написанный буквально накануне появления вертовского фильма, он как бы подготовил почву для пересмешников.
Музыкальная бестолочь… Кастрированная музыка… Вместо ударников Донбасса — «медный бас» с готовыми лопнуть от натуги щеками… Фильм правильнее было бы назвать «Какофония Донбасса» и вообще не демонстрировать… Море индустриальных звуков, которое вас затопляет… Симфоническая «музыка» визжащих, грохочущих, стонущих машин… На донбасского рабочего вас принуждают смотреть, стоя на коленях…
Ожесточенность спора вокруг каждой повой работы Вертова давно перестала быть новостью.
Но споры о «Симфонии Донбасса» достигали необычайного накала, не жалелись ни бумага, ни чернила, ни слова, ни время (в протоколе дискуссии, прошедшей 8 февраля тридцать первого года в 1-м «Союзкинотеатре звуковых фильмов», ныне московский кинотеатр «Художественный», поставлено точное время — просмотр картины в 12 час. 15 мин. ночи, обсуждение с 1 час. 40 мин. до 3 час. 35 мин. ночи).
В статьях и дискуссиях многими говорилось о социальном размахе ленты, блестящем разрешении сложнейших технических задач, виртуозно сделанных эпизодах.
И тем не менее любители посмеяться смеялись на этот раз уверенно, как никогда.
Даже «Крокодил» откликнулся (случай не частый) обширным фельетоном. Писал об идущем по улице военном оркестре, за которым непременно бежит толпа зачарованных ребятишек, и о том, что Вертов, приехав в Донбасс, затесался, видимо, вспомнив детство, в эту толпу и оказался в плену у тявкающих труб.
Весельчаки оттачивали свои и без того острые языки, а сторонникам теории «кошачьего концерта», казалось, впору было устраивать товарищеский ужин победителей.
Что же произошло?
Ближе других к ответу оказался Виктор Шкловский.
Как помнит читатель, после просмотра фильма он пошел не в ту сторону, в какую ему надо было идти, — так был оглушен.
Но Шкловский не только пошел не в ту сторону, он еще и написал статью. Из общего насмешливого настроя статья не выпадала.
Анализируя причины очевидной (с точки зрения Шкловского) неудачи фильма, он обнаружил ее в том состоянии, в каком находился, покидая зрительный зал: «Перейдя к звуковой кинематографии, Вертов дважды перегрузил зрителя: звуком и изображением. Зритель физически истребляется Вертовым во время просмотра картины. Это оглушающее кино».
Статью Шкловский назвал: «Есть звуки, нет ленты».
В названии — отгадка драматической ситуации, в которой оказался вертовский фильм в момент выпуска.
Но поскольку Шкловский пошел все же не в ту сторону, то ответ на вопрос: «Что произошло с фильмом?» угадан им был не совсем, а почти.
Чтобы ответ дать совсем точный, название необходимо переориентировать в нужную сторону, несколько переиначив его смысл: есть лента, нет звука.
Да, лента была, а вот звука, как оказалось, в тот момент еще не было.
Не впервые ясные творческие замыслы и планы опережали состояние техники. Причем не столько звукозаписывающей, сколько звуковоспроизводящей. Записи, прослушанные в «чистых» лабораторных условиях, давали прекрасный результат. Но аппаратура, которая устанавливалась в первых звуковых кинотеатрах, была еще очень несовершенна: плохо «держала» звук, не имела микшерского регулирования. Возникала и масса организационно-технических сложностей при совмещении звука с изображением в процессе монтажа и последующей печати копий. Вертов предложил приспособить обычный метро-мер под синхронную монталку, писал дирекции кинофабрики, что монтаж «Симфонии Донбасса» — это путешествие пешком из Киева во Владивосток, дайте хотя бы телегу — специально приспособленный метромер.
«Телегу» тогда так и не дали, но Вертов был готов продолжить путешествие пешком, хотя силы, конечно, терялись изрядные. Несмотря на все технические трудности, от реализации творческих намерений он не отступал.
И все-таки преодолеть самое последнее препятствие — несовершенство звуковой аппаратуры в кинотеатрах, где проходили первые общественные просмотры и диспуты, — Вертов, естественно, не мог.
Но дело было не только в звуке.
Как и всегда у Вертова, лента строилась на разнообразном скрещении зрительных ассоциаций, полифонии видимого материала, к которой теперь присовокупилась полифония материала слышимого. Натуральные шумы не просто увеличивали документальную достоверность, создавая особую атмосферу подлинности, а включались в общее симфоническое звучание вещи на основе сложных смысловых взаимодействии с изображением.
В финале ленты растекавшийся по улицам и площадям гигантский поток первомайской демонстрации перебивался кадрами могучей индустрии Донбасса. Но Вертов построил эпизод таким образом, что кадры работающих цехов, шахт, машин, станков сопровождались звуками оркестра, криками приветствий, шумом праздничных толп.
Неизменная для Вертова тема будничной работы и праздничного итога воплощалась в сложном сочетании совершенно новых, звукозрительных, возможностей кинематографа.
Это было принципиальным открытием, опытом, нацеленным на далекую перспективу.
Но этот опыт (вместе с другими открытиями и находками фильма) во время просмотров пропадал впустую из-за неуправляемого, искажающего звук воспроизведения.
Партитура картины строилась на многоголосье, разнообразных модуляциях, а вместо этого возникала гремящая однотонность.
Зритель терялся: приходилось чрезмерно и порой нерезультативно напрягать слух, чтобы разобраться в звуках, и уже не оставалось сил на то, чтобы, сосредоточив мысль, объективно разобраться в новаторстве поэтического замысла. Тогда и появлялось ощущение физических перегрузок, и даже такой крепко закаленный зритель, как Шкловский, пошел не в ту сторону.
Во время штурма звуков Донбасса (штурма, предпринятого почти врукопашную) потери в боевых порядках фильма стали неизбежными.
Вертов это сразу понял, в одной из своих статей, появившейся в ходе дискуссии по фильму, говорил о препятствиях, перед которыми группа не отступила, хотя понесла при этом значительный урон.
Но недостатки фильма, во много раз усиленные хрипящими динамиками, явились результатом не ложных творческих намерений, а данного этапа развития звукового кино, — это Вертов тоже понимал и учитывал.
Лента все-таки была, была, несмотря на то, что звука по-настоящему еще не было.
Поэтому он справедливо считал, что о недостатках нужно говорить, но как «о недостатках фильмы, немного покалеченной в бою. Разодранной. Охрипшей. Покрытой ранами. Но все же фильмы, не отступившей ни перед какими трудностями».
Картина впервые в мире проложила дорогу на экран хроникальным звукам, организованным в патетическую симфонию.
Это был эксперимент, притом — бесстрашный.
Недостатки лепты возникали по причинам, за которые группа не могла нести ответственность. Но у «Симфонии Донбасса» были свои принципиальные достоинства, за которые группа полностью отвечала перед современным и будущим кинематографом, перед его историей.
Для «Симфонии Донбасса» Вертов требовал массового выпуска (прокат, но обычаю, не спешил) с такой страстью, с какой не требовал ни для одной своей картины.
Именно во время борьбы за широкую демонстрацию ленты он написал (в письме руководству украинской кинематографии) те самые слова, что поставлены эпиграфом к книге:
— Я, слуга рабочего класса, отдаю все силы без остатка на службу этому классу не по принуждению и не по обязанности, а сознательно и добровольно.
«Я отказываюсь, — продолжал Вертов, — уподобляться тем романсистам и полуромансистам, которые воспевают Донбасс, отвернувшись, заткнув нежный нос, нежные глаза и уши, я живу звуками Донбасса и написал фильму голосами машин, голосами ударников и звуками радио-телеграфных сводок. Пусть бегут в ужасе романсистские болонки и болоночьи критики.
„Энтузиазм“ должен быть опубликован. Я этого требую, обязан и вправе этого требовать. И вы, руководители украинской кинематографии, друзья и защитники этой фильмы, вправе и обязаны принять самые немедленные, самые решительные меры к широкой демонстрации фильмы».
1 апреля 1931 года (через полгода после окончания работы над «Энтузиазмом») картина наконец пошла на экранах Москвы.
А в июле Вертов выехал за границу для демонстрации первого советского «тонфильма».
Германия встретила Вертова как хорошего знакомого. В связи с его прибытием в Берлин газета «Берлин ам Морген» напечатала большую статью.
В Берлине Вертов выступил с докладом о советских звуковых фильмах, его выслушали с большим интересом.
Был намечен следующий доклад.
Но как только в столице и других городах Германии Вертов начал показывать фильм, так тут же возникла полемика еще более ожесточенная, чем у нас в стране. Она нарастала день ото дня.
Полемика не касалась технических моментов. Звуковое кино на Западе появилось чуть раньше. Аппаратура, установленная в кинотеатрах, была более отработанной. Существовали возможности регулировки звука прямо из зала (а не сигналами механику). Вертов говорил, что сам впервые услышал свой фильм.
Перенапрягать слух публике не требовалось. Это облегчало понимание вертовского
замысла.
В появляющихся одна за другой статьях фильм не упрекали в какофонии, музыкальной бестолочи, — подобная тема просто не возникала. Говорилось о цельности художественной композиции, о том, что она изумительна, фильм даст так много нового, что по нему может еще долго учиться целое поколение режиссеров.
Композитор Ганс Эйслер считал, что не только режиссеры — все музыканты мира могут учиться по нему, ибо «Энтузиазм» «есть самое гениальное из того, что нам дало звуковое кино».
Никто не упрекал фильм и в формальном любовании машиной, трудом в абстрактном смысле, когда зритель будто бы не видит, что все происходит в социалистической стране.
Наоборот, осевой линией предельно яростного спора стала социальная патетика ленты.
Коммунистическая, левая печать восторженно принимала «Энтузиазм», видела в нем поэтический и политический документ о строительстве и строителях пятилетки.
То же самое видела (и видела очень хорошо) правая печать, на этом основании решительно фильм отвергая.
«Энтузиазм» оказался в водовороте политической жизни Германии. Просмотры сопровождались рабочими и студенческими демонстрациями и полицейскими кордонами у кинотеатров.
Это же происходило в соседних швейцарских и австрийских городах. В пограничном Базеле показ совпал с выборами, коммунистическая молодежь включила просмотр в свою избирательную кампанию и была поддержана городским студенчеством.
В октябре министр внутренних дел Германии Вирт письменно уведомил Германскую Лигу независимого фильма, что не разрешает дальнейший показ «Энтузиазма» на всей территории страны «по принципиальным соображениям».
Д-р Вирт ничего не добавил, но этого было достаточно.
Газеты и журналы опубликовали протест крупнейших деятелей немецкой культуры. Он заканчивался словами: «Господин министр внутренних дел д-р Вирт высказал свое мнение: „Запрещается по принципиальным соображениям“. Каждый, кто этот фильм видел и слышал, должен протестовать против этого запрещения также по принципиальным соображениям».
Против запрещения картины выступили и немецкие рабочие, особенно решительно в Гамбурге.
Но восстановить фильм на экранах Германии не удалось.
Тогда один из активнейших в Европе пропагандистов советского киноискусства Айвор Монтегю организовал приглашение Вертова и его фильма в Лондон. В Англию Вертов поехал через Голландию.
Во время встречи с ним в Амстердаме крики революционно настроенной аудитории заставили выступавших обращаться к режиссеру не «господин Вертов», а «товарищ Вертов».
Девятого ноября он был в английской столице, а пятнадцатого, в воскресенье, лондонское «Фильм сосайте» (кинообщество) свой седьмой зимний сезон открыло «Энтузиазмом» в присутствии автора. Вступительное слово произнес Монтегю.
В информации газеты немецких коммунистов «Роте Фане» сообщалось, что на премьере в Лондоне половина зала состояла из левых представителей, другая — из официальных лиц, последние, чтобы снизить эффект, произведенный фильмом, в конце встали и единодушно запели «Боже, храни короля».
Ситуацию раздвоенности и противоборства отразила и английская пресса.
«Тем, кто любит, чтобы воскресенье было днем отдыха, — писала одна из газет, — определенно не следовало ходить на открытие этого сезона в кинообщество, где одним из номеров программы был „Энтузиазм“ („Симфония Донбасса“) — русский звуковой фильм, показывающий нам, каковы, как думают большевики, будут идеальные условия для выполнения пятилетнего плана». Далее автор советовал советским женщинам чаще пудрить лица и обращаться к косметике, не считая это «грязным буржуазным предрассудком».
Но даже ироничная и респектабельная английская буржуазная пресса не могла отказать фильму в страстной захватывающей силе. «Картина является, — писала на другой день после премьеры „Энтузиазма“ „Морнинг пост“, — определенным прославлением пятилетки и выполнена так драматично и живо, что поднимает энтузиазм убежденных коммунистов и убеждает колеблющихся… Правительства других стран, — продолжала газета, — должны тщательно изучить этот фильм как образчик пропаганды, потому что он представляет собой первоклассное пропагандистское произведение, будучи вместе с тем одним из интереснейших экспериментов в области повой техники звукового кино».
Полемика не касалась частностей, в бескомпромиссном споре стороны сталкивались по принципиальным соображениям.
…Через день после показа «Энтузиазма» в лондонском Кинообществе к Вертову явился незнакомый человек.
— Я пришел к вам от имени Чарли Чаплина. Он прислал за вами авто и настойчиво просит сейчас же приехать к нему…
— С какой целью?
— Чарли Чаплин просит продемонстрировать ему «Энтузиазм». В маленьком зале студии «Юнайтед Артистс» состоялся просмотр.
Вертов записал: «17 ноября. Встреча с Чарли Чаплином. Прыгает во время просмотра. Что-то восклицает. Много говорил о фильме. Передал через Монтегю письмо — отзыв об „Энтузиазме“»:
Я никогда не мог себе представить, что эти индустриальные звуки можно организовать так, чтобы они казались прекрасными. Я считаю «Энтузиазм» одной из самих волнующих симфоний, которые я когда-либо слышал.
Мистер Дзига Вертов — музыкант. Профессора должны у него учиться, а не спорить с ним.
Поздравляю.
Чарлз Чаплин.
Этот отзыв был опубликован берлинской газетой «Фильм-Курир», а затем перепечатан многими киноизданиями мира.
Но Чаплин этим не ограничился.
Отвечая на анкету газеты «Таймс» о лучшем фильме 1931 года, он опять назвал «Энтузиазм».
Такая стойкость его отношения к вертовской картине вряд ли объясняется только формальными достоинствами ленты (удачей звукового эксперимента), как это чаще всего принято объяснять.
Кино (тем более документальное, и уж тем более то, которое делал Вертов) — не абстракция, а Чаплин — не тот художник, которого могли бы покорить сами по себе хроникальные звуки, пусть даже виртуозно организованные.
Он назвал «Энтузиазм» не просто симфонией, а одной из самых волнующих симфоний, которую когда-либо слышал.
Вряд ли его взволновало лишь то, что он услышал, вне того, что увидел, — вне симфонической слитности этих двух жизненных потоков. И вне ощущения истинного драматизма, человечности и страстности увиденного и услышанного. Скорее всего, Чаплин обнаружил в ленте нечто очень важное для себя. Может быть, неожиданный, новый поворот своей излюбленной темы маленького, незаметного человека, пытающегося обрести право на достоинство. В картине Вертова он увидел простых людей, которые выполняли те же трудовые операции, что выполняются в любом уголке мира, но это были люди, уже обретшие право на достоинство.
Не случайно польский журнал «Кино», перепечатав ответ Чаплина на анкету «Таймс», сопроводил ее — по сообщению одной из наших газет — язвительным примечанием: «Чарли Чаплин в восторге от „Энтузиазма“. Характерно, как может Чаплин — миллионер — симпатизировать строю, против которого восстала вся Европа. Чаплин, как никто, знает прекрасно капиталистический мир. Почему же он в нем разочаровался?»
Речь шла о симпатиях не фильму, а строю.
Задав свой вопрос: «почему он разочаровался?», журнал сам на него и ответил — ведь Чаплин знает капиталистический мир, как никто…
О своей зарубежной поездке Вертов расскажет в статье «Чарли Чаплин, гамбургские рабочие и приказ доктора Вирта».
Статья выйдет в третьем номере журнала «Пролетарское кино» за 1932 год.
А в следующих двух номерах, четвертом и пятом, развернется еще одна дискуссия о вертовском творчестве.
В конце концов о ней можно было бы и не вспоминать — сколько их уже развертывалось!..
Но по своему похожему на объявление войны зачину, по своей, как тогда говорили, боевитости эта превосходила все прежние.
Однако война была странной.
Несмотря на гром всех калибров, удары наносились по малозначительным объектам. Стороны вступали в бесконечные терминологические споры, позиционные конфликты, цепляясь за слова, второпях сорвавшиеся фразы.
Ответственный редактор журнала В. Сутырин (его статьей в четвертом номере «Вол или лягушка?» открылась баталия) и давний, еще с начала двадцатых годов, противник вертовских начинаний критик Н. Лебедев, не заботясь об эволюции во взглядах художника, считая его собственные поправки к прежним высказываниям вынужденными отступлениями, неискренними прикрытиями старых ошибок, порой точно «ловили» Вертова на отдельных противоречиях, на некоторых естественных и неизбежных просчетах практики.
Вертов, поддержанный В. Ерофеевым, в ответ вынужден был тоже касаться частностей, вести разговор о вещах второстепенных, давно им пройденных, отброшенных в пути.
Лебедев писал: в статьях Вертова и Ерофеева невозможно понять, что те защищают, из-за чего лезут на стенку.
Лебедев был не совсем прав, но если бы даже был прав совсем, то это не помешало бы отнести его собственные слова к самому себе и своему стороннику Сутырину.
Смысл полемики — глубокий и принципиальный — не улавливался.
Зато вполне определенно улавливались ее цели. И они у сторон были разными.
За мелочами теоретических разногласий маячило существенное: быть или не быть тому кинематографу, который открыл Вертов?
Вступив в спор по мелочам, Вертов ни на мгновение не терял из виду этот главный вопрос затеянной (не им) полемики, утверждая — быть!
Он вынужден был утверждать это, казалось бы, естественное право, так как его оппоненты не то что ставили под сомнение естественность подобного права, а без каких бы то ни было сомнений это право отвергали. Не быть!
Дискуссию сопровождал редакционный комментарий, призывалось всякие дальнейшие дискуссии с «документализмом» (то есть Вертовым) закончить. «Мы стоим, — ясно и спокойно объяснял журнал, — на позициях непримиримой борьбы с документализмом, мы поставили задачей его окончательный разгром».
В соответствии с задачей Сутырин и написал статью (большую, с продолжением в пятом номере), доказывал, что «документалисты» — это лупоглазые лягушки, они пытаются надуться до размеров вола (под ним подразумевалось игровое кино), но в конце концов, конечно, лопнут. «Если это случится, — весело шутил Сутырин, — им будет очень больно, а их папа и мама начнут плакать горькими слезами».
Не менее крут был и Лебедев, считал, что документализма как творческого течения уже нет, оно разложилось, превратилось в «труп, по этот труп еще не выброшен на свалку истории».
Поле полемической битвы превращалось в поле брани.
Под прикрытием гремящих, воинственных (и часто по топу совершенно безжалостных) вульгарно-социологических обобщений оппоненты Вертова вели наступление, они выражали рапповскую позицию руководства АРРКа, журнал был органом ассоциации.
С позиций узко-ограниченного рапповского толкования художественных процессов против Вертова и особенно против «Энтузиазма» достаточно громкие голоса раздавались и прежде. Голоса принадлежали нередко по-настоящему талантливым людям (А. Фадееву, В. Киршону). Но зашоренность рапповской догмой мешала в тот момент понять масштабы вертовских открытий.
Утрата верного ориентира приводила к желанию с позиций, казалось, подлинной (а на самом деле видимой) идейности «разоблачать», «выбрасывать на свалку истории» (а потом еще недоумевать, из-за чего люди лезут на стенку).
Но у истории свои пути.
Она и на этот раз пошла иной дорогой.
Первая часть статьи Сутырина печаталась в апрельской книжке «Пролетарского кино».
А 24 апреля «Правда» опубликовала Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Все рапповские организации ликвидировались ввиду опасности «превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству».
В пятом номере журнала «дискуссия» с документалистами продолжалась вовсю. Именно в этом номере редакция призывала покончить всякие споры с документализмом, приступить к его разгрому, разоблачению и выбрасыванию на свалку истории.
В откликах на Постановление ЦК ВКП(б) эти материалы еще долго цитировались для подтверждения осужденных партией методов. «Это не критика, — писала газета „Советское искусство“, приводя отрывки из статьи Сутырина „Вол или лягушка?“, — …но издательство над художниками, плохо или хорошо, по с большой искренностью работающими 15 лет в советской кинематографии, обогатившими ее своим опытом».
В то же время стали появляться (в том числе и в «Пролетарском кино») статьи, заново оценивающие «Симфонию Донбасса», писалось, что картина, несмотря на отдельные просчеты экспериментальных исканий, неизбежных в области нового мастерства, совершила главное — прорвала цепь стандартных документальных фильмов.
23 апреля Вертов назовет днем своего «освобождения от раппства».
В жизни Вертова предельно обостренные минуты выпадали не раз. Но он знал: правдоподобие никогда не возьмет верх над правдой. Бескрылость никогда не спалит крыльев энтузиазма.
Даже если это восковые крылья Икара.
Можно ошибиться в конкретном расчете и, сгорев на солнце, рухнуть в море.
Но ошибка конкретного расчета далеко не всегда синоним конечного идейного просчета.
Вертов об этом часто думал.
Нельзя научиться летать, не падая.
Второе название «Симфония Донбасса» имело для Вертова глубокий смысл.
Энтузиазм тружеников первой пятилетки.
И энтузиазм художника, решившего рассказать о людях эпохи.
Энтузиазм как форма, мера, степень творческого бытия.
«Выеду больной, если это необходимо энтузиазму», — телеграфировал Вертов на «молнию» из Киева об обязательности его присутствия на просмотре.
Речь шла о фильме, но кавычки в телеграммах не ставятся, и игра слов оказалась точной.
Вертов был готов на все во имя энтузиазма без всяких кавычек.
Во время работы над Донбасс-картиной он набросал в дневнике маленькую, аккуратную схемку: посредине слово энтузиазм (снова без кавычек), а с нескольких сторон на это слово ведут наступление стрелки с подписями «неразбериха», «организационные меры» и т. п.
Все то, что мешает энтузиазму — не фильму, а опять же состоянию творческого бытия.
Вертов на многих производил впечатление человека замкнутого, высокомерного, но внутренне был чрезвычайно расположен к людям. Однако на дружбу легко не шел, особенно с годами.
Рядом друзей было не много.
Но он никогда не считал, что их мало вообще.
Они разбросаны по всему земному шару, записывал ой в дневнике в апреле тридцать седьмого года, мечтал когда-нибудь устроить их перекличку.
«Мои друзья — это изобретатели, энтузиасты, дети, влюбленные, композиторы в момент вдохновения, поэты, забывающие об обеде и сне, испанские герои, отдающие свою жизнь (запись сделана в разгар боев с фашизмом на испанской земле. —
Л. Р.) за светлое будущее… Этих людей вы чувствуете сразу с первого взгляда, с первого рукопожатия… И они вас любят и чувствуют…».
Но они очень непрактичны, добавлял Вертов, и живут неуклюже, с трудом приспособляясь ко всяким «строго воспрещается».
Энтузиазм не втискивается в строго воспрещающие рамки.
На пути к истине могут быть ошибки, но на пути к истине. Ошибки в конкретных расчетах не совершаются как раз на противоположных путях. Здесь важно не завтрашнее достижение истины, а комфортабельное спокойствие сегодняшнего дня.
Какой уж тут энтузиазм?!..
«Симфония Донбасса» была третьей и последней картиной, снятой Вертовым на Украине.
Он провел здесь около пяти лет.
Это были годы необыкновенно трудной, но вдохновенной работы.
Случалось всякое: и «неразбериха», и «организационные меры», и волокита, и бестолковщина. Однажды большим газетным фельетоном его даже обвинили в «рвачестве и дезертирстве» (потом принесли печатные извинения за совершенно неверную информацию). В другой раз во время съемок в Горловке некий «товарищ из центра», случайно натолкнувшийся на группу, бессмысленно и в грубой форме запретил съемку, несмотря на имеющиеся разрешения со всеми печатями, группа оказалась в простое, государство несло убытки. За Вертова вступилась газета «Вечерний Киев», предлагала консервировать в кассете кинокамеры каждого бюрократа, каждого помпадура, странствующего или оседлого, каждого, кому надоело пребывать в безвестности…
Но всевозможные организационные и прочие трудности кинопроизводства не шли ни в какое сравнение с главным: украинская советская кинематография протянула Вертову дружескую руку в одну из трудных минут его жизни.
На Украине он осуществил свои сокровенные замыслы: и юбилейную картину о десятилетнем октябрьском марше страны, и сложнейший пластический эксперимент в области чистой кинописи фактов нового быта и бытия, пронизанных острым взглядом человека с киноаппаратом, и давнишнюю мечту о воспроизведении звуковой картины мира, ритмически и смыслово организованной в патетическую симфонию.
Одна из газет того времени справедливо писала, что внимание, проявленное к Вертову, навсегда останется исторической заслугой украинского кино.
Вертова пригласила Москва, студия «Межрабпомфильм».
Когда в начале двадцать пятого года вышла «Ленинская Кино-Правда», газеты сообщали: лента является частью готовящейся следующей большой работы киноков — фильма «Ленин».
С тех пор прошло почти десять лет. Поиски, раздумья, ошибки, догадки, драматические столкновения и постоянное накопление нового опыта.
Вертов снял за эти годы разные, не похожие друг на друга фильмы.
Каждый из них имел самостоятельное значение.
Но все вместе они теми или иными гранями подготавливали главный фильм вертовской судьбы.
Ликвидация партией рапповских методов создавала творческую атмосферу для работы.
Вертов шел к своему второму (после «Шестой части мира»), еще большему и безоговорочному, триумфу.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Вопрос: Ваши творческие замыслы на будущий год?
Ответ: В 1932 году я думаю поставить фильм о Ленине.
Вопрос: Какие задачи Вы ставите при этом?
Ответ: Пока ставлю лишь одну задачу — подать этот фильм в форме, понятной миллионам.
Д. Вертов. Новогоднее интервью газете «Рот-Фронт»
Мною закончена работа над фильмом «Три песни о Ленине».
Д. Вертов. Как мы делали фильм о Ленине. «Известия», 1934, 24 мая
На советский экран выходит картина поистине замечательная, картина большой силы, заражающая зрителя — слушателя глубоким волнующим чувством… То, что было в свое время кинохроникой, стало выразительным элементом художественного рассказа.
«Правда», 1934, 23 июля
…Движение идей сквозь весь фильм…
Они переплетаются, повторяются, развиваются от детали к обобщению, всегда оставаясь предельно конкретными, как всякий кино-документ.
«Известия», 1934, 29 июня
Это настоящий гимн нашей великой стране, которой указал путь Ленин…
«Лит. газ.», 1934, 16 июля
Портрет Ленина Дзига Вертов дает как лицо класса.
«За коммунистическое просвещение», 1934, 5 сентября
Картина о Ленине сделана с изумительной простотой, но в этой простоте языка побеждающая сила ее воздействия.
«Раб. Москва», 1934, 12 сентября
14 сентября посол США г-н В. Буллит и находящийся в Москве известный английский общественный деятель Сидней Вэбб в сопровождении ответственных работников Наркоминдела были в «Межрабпомфильме» на просмотре фильма «Три песни о Ленине».
В книге записей г-н В. Буллит написал:
«Я редко бывал настолько взволнован произведениями искусства. Фильм превосходен. Он дает потрясающее впечатление о мощи человеческой воли, преодолевающей все препятствия в своем стремлении к утверждению новых форм жизни. Выражаю свои сердечные поздравления и глубочайшую благодарность».
«Правда», 1934, 16 сентября
Вертов как бы подымает зрителя на огромное возвышение, с которого виден весь Союз, весь мир…
«Веч. Красн. газ.», 1934, 31 октября
Первого ноября в 11 крупнейших кинотеатрах столицы началась демонстрация звукового фильма «Три песни о Ленине». Фильм был восторженно встречен зрителями… В первый же день «Три песни о Ленине» в Москве просмотрело до 30 тысяч человек. В этот же день началась демонстрация фильма во всех крупнейших городах Союза.
«Сов. торговля», 1934, 4 ноября
Вчера командный состав Московской пролетарской дивизии на фабрике «Межрабпомфильм» просматривал кинокартину «Три песни о Ленине». От просмотренной картины командиры остались в восторге. Завтра в 10 час. утра красноармейцы Пролетарской дивизии в строю и с музыкой пройдут по городу и направятся в два кинотеатра «Форум» и «Горн», где для них организуется специальный просмотр.
«Веч. Москва», 1934, 31 октября
Вся площадь движется, поет, гремит: оркестры сливаются с молодыми голосами, заглушают четкое вышагивание полков. Люди, владеющие в совершенстве и мастерстве оружием и военной техникой, поддерживают перед собой пурпурные полосы плакатов: «Мы идем слушать „Три песни о Ленине“». Это Московская Пролетарская дивизия в полном составе идет в кино.
Полки расходятся по кинотеатрам «Межрабпомфильма». Красноармейцы перестают петь, чтобы слушать песню всей страны.
Дзига Вертов удачно и талантливо сконцентрировал в одном клубке все нити нашего жизненного многообразия: песни борьбы, песни скорби и утрат, песни радости и счастья. И когда в «третьей песне» на экране появляется бетонщица, скромно и непосредственно повествующая: «Ну, так вот я перевыполнила план, и меня наградили орденом Ленина…», красноармейцы заглушают этот тихий, еле слышный голос восторгом и овациями.
«Правда», 1934, 2 ноября
Нью-Йорк. 8 ноября (ТАСС). Американская печать с восхищением отзывается о советском фильме «Три песни о Ленине», который начал демонстрироваться в американских кинотеатрах 7 ноября. «Нью-Йорк таймс» пишет, что фильм отражает «необычайно прекрасный порыв. Он является волнующим даром памяти Ленина…». «Геральд трибюн» отмечает, что фильм отличается «исключительной живостью и зачастую настолько красноречив, что фильмы Голливуда кажутся рядом с ним бледными ученическими произведениями».
«Правда», 1934, 10 ноября
Рим. 19 ноября. Еженедельный литературно-художественный журнал «Квадривио», издающийся в Риме, поместил статью своего корреспондента Виничио Паладини о советском кинофильме «Три песни о Ленине».
Автор восторженно отзывается о картине… «Я считаю, — пишет Паладини, — что фильм „Три песни о Ленине“ можно несомненно причислить к ряду наиболее выдающихся фильмов в истории кинематографии по его высокой драматичности, глубокому лиризму и документальной ценности…»
«Правда», 1934, 20 ноября
Много песен поют о Ленине, тысячи страниц написано о нем, сотни картин изображают его, но нет еще художника, поэта, писателя, драматурга, который показал бы Ленина во весь рост полно и всеобъемлюще. Он должен явиться. Будем думать, что поэт Н. Полетаев перехватил в строках, утверждая: «Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет». Прошло десять лет, и вот первое подлинное произведение искусства о Ленине уже появилось. Д. Вертову принадлежит честь создания фильма, в котором Ленин — человек, вождь, организатор, гений — показан с огромной силой, взволнованностью, убедительностью и правдивостью.
«Пролетарий» (Харьков), 1934, 3 ноября
Об этой картине писали Фадеев и Вишневский, Вс. Иванов и Кукрыниксы, Февральский и Шкловский, Юткевич и Эренбург, многие давние друзья и многие недавние недруги. И каждый находил слова неожиданные, не просто любезные и комплиментарные. В них всегда было больше, чем простое поздравление с удачей, — драматизм и радость потрясения. Не умилительное сюсюкание, а всегда ощутимые слезы искреннего переживания.
Лисицкая вспоминает: после одного из первых просмотров для прессы и киноработников, как только в зале зажегся свет, один из присутствующих громко сказал:
— Товарищ Вертов, вы знаете, что до сих пор я был вашим противником. Но разрешите мне сейчас пожать вашу руку в благодарность…
Руку благодарности в бесчисленных рецензиях, статьях Вертову протягивали кинокритики и журналисты, в письмах — рабочие, колхозники, красноармейцы со всего Союза.
И выдающиеся мастера культуры — со всего света.
Луи Арагон писал, что со времени «Потемкина» ничто не достигало такого величия на экране.
Испанские поэты Рафаэль Альберти и Мария Тереза Леон называли картину «исключительной в мире».
Жан-Ришар Блок утверждал, что племя советских режиссеров не угасло и честь надежд возлагается теперь на плечи Вертова, он желал успеха «новому Христофору».
Гарольд Ллойд считал фильм в числе тех, которыми СССР может особенно гордиться.
Мартин-Андерсен Нексе говорил, что ему нужно время, чтобы прийти в себя от потрясения.
Ромен Роллан отнес «Три песни о Ленине» к фильмам, по которым он «изголодался».
Список можно было бы продолжить.
Но выпуску картины, ее триумфальному успеху предшествовала небывало трудная работа.
С января до осени тридцать третьего года велись съемки в Москве, Харькове, на Днепрострое, в Азербайджане и главным образом в Средней Азии — в Узбекистане и Туркмении.
Снимали картину три разных (и по возрасту и по опыту) оператора — Д. Суренский, Б. Монастырский, М. Магидсон. Но рядом всегда находился Вертов, в отснятом материале не терялось стилистическое единство.
Труднее всего добывался материал в Средней Азии. Не хватало денег и средств передвижения, от Мерва до Ферганы Вертов и Суренский почти весь путь прошли пешком. Донимали болезни, испепеляющая жара днем, холод ночью. «Мне тоже, как и другим, голодно, — отвечал Вертов „Межрабпомфильму“ на предложение прекратить съемки в Узбекистане, ограничась фильмотечным материалом. — Думаю, даже значительно голоднее, так как я нахожусь на съемке в поле, вне города и вне пищи. Мне так же, как всем, угрожает и тиф, и малярия, и пендинка и пр. и пр. прелести здешних мест. Тем не менее я не бегу отсюда и не считаю возможным бежать в Москву, пока мы не кончим в основном работу».
Группа снимала остатки старого быта и новую жизнь Востока.
В Ферганской долине участники экспедиции преодолевали путь в 20–30 километров от кишлака к кишлаку, Чтобы послушать и записать народные песни о Ленине, а седобородые певцы (вспоминал звукооператор П. Штро) не могли взять в толк, какое отношение к их песням имеет странная белая коробочка микрофона.
Песенников было много, но не каждый знал песни о Ленине, приходилось искать снова.
Киноэкспедиция в Среднюю Азию была самой тяжелой в жизни Вертова.
Но бежать в Москву он себе позволить не мог, это означало бы бегство от собственного замысла.
Вертов вынашивал его долго и трудно.
Он изучил свои прежние ленты о Ленине — киножурналы, одночастевки, «Ленинскую Кино-Правду».
Сохранилось множество заметок, записей, набросков, композиционных этюдов, сценарных планов то в строгой форме последовательно чередующихся эпизодов, то в свободном изложении поэтических ассоциаций. В каждом был свой поворот темы. Затем многое опять отметалось, оставались лишь крупицы, но самого существенного, они вновь соединялись между собой в поисках окончательного решения.
Харьковская газета «Пролетарий» была не права, когда писала о фильме как о первом подлинном произведении о Ленине, ведь уже существовала поэма Маяковского. Но газета не случайно почувствовала первопроходческую сущность вертовской ленты по отношению ко многим тогда уже появившимся произведениям на ленинскую тему (и, можно добавить, ко многим, которые еще появятся).
Вертов все время думал об одном: как сделать о Ленине фильм-документ при сравнительно небольшом количестве сохранившихся ленинских кадров, к тому же эти кадры уже многократно использовались?
После долгих поисков он в конце концов пришел к единственно верному решению: дать Ленина через «отраженный показ».
Вертовская картина о Ленине не была картиной о Ленине в прямом, так сказать, биографическом смысле слова.
Но она была картиной о Ленине с начала и до конца. Его мысли, понимание человеческих драм, взгляд на мир и историю существовали во всех кадрах и эпизодах, хотя многие из них повествовали не о Ленине, — о фактах, отделенных от его смерти последующим десятилетием.
Вертов, разумеется, не обошелся вообще без ленинских прижизненных съемок. Наоборот, он включил в фильм не только известные в то время кадры, но и найденные Свиловой во время работы над картиной. В фильмотеках Москвы, Тбилиси, Киева, Баку, Ленинграда и других городов она просмотрела около 100 000 метров архивного материала. Ей удалось разыскать десять новых киноснимков Ленина. Вторая песня картины почти целиком строилась на монтаже кадров живого Ленина и кадров его похорон.
Но ленинская тема не исчерпывалась ленинским материалом.
Студийная газета «Рот-фильм» в информации о ходе съемок приводила слова Вертова: «Нужно показать, как Ленин отразился в Днепрострое, в песнях слепого туркменского поэта, в ленинском призыве на постах пятилетки, во всем том, во что вошел Ленин в наши дни».
Однако Вертов понимал, что отраженный показ не должен сводиться к простому перечислению достижений, к монтажному калейдоскопу недавно возникших заводов, плотин, совхозов-гигантов и т. п. Нужно найти такой поворот темы, который был бы конкретен, по-человечески прост и одновременно давал возможность выхода к широким социальным обобщениям.
Этот поворот Вертов нашел в рассказе о судьбе женщины Востока.
В находке была точность: самое забитое условиями старой жизни, темное существо, глядевшее на мир сквозь сетчатую клетку чадры, освобождалось от рабства тысячелетних предрассудков.
«В черной тюрьме было лицо мое…» — зачин первой песни.
Вертов вкладывал в него образный смысл: черная тюрьма (чадра) — царская тюрьма народов.
О женщине Советского Востока, сбросившей чадру, рассказывала первая песня. Вернее, сама женщина рассказывала в песне о себе:
В черной тюрьме было лицо мое,
Слепая была жизнь моя.
Без света
И без знаний, я была
Рабыней без цепей.
Но взошел луч правды,
Утро правды Ленина.
Она открыла лицо навстречу лучам правды. Царская тюрьма народов рухнула.
Рассказывая о женщине, сбросившей чадру, Вертов говорил об освобождении народов, прежде загнанных в тюрьму бесправия.
В частной судьбе он фокусировал судьбу всеобщую.
Вертов говорил о разломе эпох и о том, что у гребня разлома стоял Ленин.
Об этом пелось в народных песнях, собранных и записанных Вертовым и его группой. Безымянные певцы передавали их из уст в уста, из юрты в юрту, из кишлака в кишлак, из аула в аул, из селения в селение.
Песни звучали на разных языках. Переводы Вертов давал надписями, не доверяя диктору — обезличенные дикторские интонации могли лишить песни своеобразия, обаяния индивидуальности, детской мудрости и недетски мудрого величия.
Это были песни о женщине, которая скинула чадру, о лампочке, которая пришла в аул, о воде, которая наступает на пустыню, о неграмотных, которые стали грамотными, о том, что это и есть Ильич — Ленин. Это были песни об Октябрьской революции, о том, что это и есть Ильич — Ленин. Это была песня о войне за новую счастливую жизнь, о том, что это и есть Ильич — Ленин.
Женщины, открывшие лицо свету, почувствовали себя хозяевами не только своей судьбы, но и судеб страны.
В «Трех песнях о Ленине» была перекличка с «Шестой частью мира». Но в прежней картине ее пафос диктовался авторским стремлением внушить метким сибирским охотникам, отстреливающим пушного зверя, крестьянам, убирающим хлеб, пастухам, перегоняющим стада овец, тем, кто сидел в зрительном зале, что ВЫ и есть хозяева шестой части мира. В ленинской картине девушки, убирающие хлопок, севшие на трактор, ввинчивающие электрическую лампочку в юрте, слушающие радиоголос Москвы, пришедшие в университет, баюкающие со счастливой улыбкой детей, теперь уже сами знали, что шестая часть мира принадлежит им: вместо «ВЫ» они говорят «МОЙ» — мой совхоз, моя страна, мой университет, моя фабрика, моя семья, мои руки, моя партия.
В неразделимости жизни каждого и жизни всех их убедил Ильич — Ленин.
…он убедил слабых и
бедных,
что миллион песчинок
образуют бархан,
что миллион зерен
образуют мешок,
что миллион слабых
большая сила!
Он убедил их в этом и отдал им все, что имел: свой мозг, свою кровь, свое сердце.
Начиналась вторая песня. Песня скорби и печали. Один из самых сильных по трагическому накалу кусков в мировом кинематографе.
Вертов называл эту песню «40 километров пути» — от Горок до затянутого крепом Колонного зала.
Он повторил в этой части фильма лучшие куски из «Ленинской Кино-Правды»: движение по призыву Ленина народных масс сквозь разруху, холод, голод на защиту Октября.
Он повторил движение нескончаемого потока людей мимо гроба Ленина. Они всегда видели его в страстном, темпераментном движении, а теперь он не движется и молчит.
Но к прежним эпизодам Вертов добавил короткие современные кадры, поначалу это даже не осознается, но сразу же ощущается пронзительной интонацией. К кадрам похорон Ленина, снятых десятилетие назад, Вертов добавил короткие портреты скорбных лиц узбекских и туркменских женщин, они как бы тоже находятся в этот момент в Колонном зале. Скорбь людей студеного января двадцать четвертого года и скорбь людей нынешнего времени сливались воедино.
Во второй песне Вертов чередует кадры живого Ленина и Ленина, неподвижно лежащего в гробу. Еще совсем недавно он выступал на Красной площади, с балкона Моссовета, а теперь лежит недвижим, и скорбь становится неизбывной.
Трагедия смерти, но не только вождя. Это трагедия смерти близкого человека, ближе которого нет, он освободил от «черной тюрьмы» женщин, теперь в горе они опустили глаза, склонили головы, застыли в печали.
Вертов вводил разнообразные детали, простые и житейские. Но как раз их простота воздействовала на самые тонкие струны человеческой души.
В экспозиционных кадрах, еще до начала первой песни, он снял Горки — тихие, в шелесте пышных деревьев, в еще не опавшей листве, окно, выходящее в парк, дорожки, аллеи, стволы уносящихся ввысь деревьев, и скамейку с отброшенной от деревьев тенью на спинке. Вертов дал знаменитую фотографию: Ленин отдыхает на этой скамейке. Второй песне эта фотография снова предшествовала. А потом скамейка была снята еще раз с бушующей вокруг летней листвой деревьев. Дальше шли кадры Горок, траурного поезда, Колонного зала, людской реки, молчаливо обтекающей постамент с гробом, выноса тела, военного салюта: минута всеобщего молчания, когда замерли люди, остановились поезда, застыли в воздухе вагонетки, остановился среди песчаных барханов одинокий путник, поник чахлый кустик в безбрежном море пустыни.
Затихла в скорби природа.
И слова Горки.
Зимние Горки: беседка, дом с приспущенным траурным флагом, снежные сугробы, скамейка. Она покрыта снегом. Снег не расчищен. Отдыхать на ней некому. Тот, кто любил здесь посидеть, навсегда покинул и этот дом, и этот парк, и эту скамейку, запорошенную снегом.
Третья часть фильма зачиналась новой песней — «В Москве, в большом каменном городе на площади стоит кибитка и в ней лежит Ленин». Шкловский писал об этих словах, сопровождавших кадры Мавзолея: «…Кибитка, которая стоит посреди каменного города, запомнилась мне на всю жизнь и греет мое сердце».
Мавзолей был снят неповторимо: его четкие темные контуры на фоне погруженных в легкую воздушную дымку Спасской башни и Василия Блаженного. А дальше шли кадры ночной Москвы, сияющей электрическими огнями, кадры Днепрогэса, Магнитостроя, колхозов и людей, строящих новую жизнь: сталеваров, бетонщиков, инженеров, колхозников. Рефреном этой третьей песни, ее лейтмотивом была мечта людей, выраженная в словах: если бы Ленин увидел нашу страну сейчас!..
Но уместить в слова картину трудно.
Фильм соткан из множества ассоциаций: зрительных, словесных в виде надписей, музыкальных (музыку к фильму написал Юрин Шапорин). Ассоциации то развивались параллельно, то сложно перекрещивались, высекая новые образы, новые ощущения.
Ассоциации не навязывались фактам, а вырастали из них. Была ясна конечная задача, но фильм не шел по пути изначальной схемы. Вертов не конструировал связи между фактами, а извлекал их из фактов. Он говорил о картине как о претворении природы, а не еще об одном дубликате стандартного образца.
Начиная работать над фильмом, Вертов записывал в дневнике: «Сводка образов. Мысли мыслей».
Фильм точно строился не только в тематическом, но и эмоциональном, чисто человеческом плане.
Драма жизни, драма страшной женской доли, и высвобождение, выход к свету.
Искренность человеческого горя, горя вот этой самой девушки, которая, сбросив чадру, села на трактор, открыла книгу, пошла в университет, — искренность ее горя по поводу смерти человека, давшего ей свободу.
А через эту трагедию человеческой смерти выход к бессмертию. К возрождению мира по заветам умершего. К апофеозу жизни.
Вертов делал не очередной фильм.
Ленинская тема была для него темой высшей справедливости, ничем не замутненной правды. «В какие бы крайности ни бросало меня воображение, — писал Вертов, — на какие бы отчаянные опыты ни устремлялся, я неизбежно возвращался к мысли о Ленине как вожде и человеке…».
Вертов нашел в картине верное и живое соотношение двух начал: Ленина — вождя и Ленина — человека. Это лишило фильм дидактики, официозности, превратило картину в человеческий документ эпохи.
Свое постоянное обращение к мыслям о Ленине Вертов передал и в фильме. «И если у тебя большое горе, — поется в третьей песне вслед за словами о кибитке-мавзолее, — подойди к этой кибитке и взгляни на Ленина. И печаль твоя разойдется, как вода, и горе твое уплывет, как листья в арыке».
К Октябрьским праздникам фильм пошел в Москве широким экраном, вызвал огромный интерес у советских и зарубежных зрителей.
Одним из зрителей оказался Герберт Уэллс. В это время он находился в Москве. Его пригласили на студию. Как известно, Уэллс встречался с Лениным, ко многому относился скептически и видел Россию «во мгле».
Сохранилось описание, как английский писатель смотрел картину Вертова.
При первых кадрах фильма, при первых звуках он чуть-чуть наклонился вперед, и в такой позе оставался до надписи «конец». Он не произнес за время просмотра ни одного слова. Он не задал ни одного вопроса…
Когда зажегся свет, писатель оставался несколько секунд все в том же положении — чуть наклонившись вперед. Он продолжал смотреть на белый экран, словно ожидая продолжения. Потом стал говорить о своих впечатлениях, в конце назвал фильм великим. Сказал, что все было ясно без перевода. Ему возражали: как можно понять, что говорит ударница Днепростроя (ее рассказ был снят синхронно). Уэллс ответил:
— Я писатель. Я — не киноработник. Но как литератор я прекрасно воспринял все сказанное этими искренними жизнерадостными людьми. В их голосе, в их словах не было ни одного непонятного оттенка.
Уэллс оставил письменный отзыв, его напечатала «Правда»:
«Я имел счастье увидеть „Три песни о Ленине“ до выхода фильма на экран. Это один из самых крупных и самых прекрасных фильмов, которые я когда-либо видел. Поздравляю Дзигу Вертова и всех, кто работал над этой картиной… Я бы хотел иметь возможность просидеть всю ночь и смотреть такие фильмы, по в Москве столько очаровательных вещей, которые она может показать, что я очень устал и пойду спать, чтобы мне снились „Три песни о Ленине“».
В начале августа 1934 года на Венецианскую выставку (потом ее стали называть Венецианским кинофестивалем) выехала советская делегация с большой кинопрограммой («Гроза», «Петербургская ночь», «Веселые ребята», документальная хроника челюскинской эпопеи и др.).
5 августа в «Комсомольской правде» появилась статья поэта Александра Безыменского. Он привел высказывания крупнейших зарубежных деятелей искусства о «Трех песнях о Ленине», отметил, что на выставке в Венеции советская кинематография представлена прекрасными работами. «Однако необходимо, — писал Безыменский, — в Венеции обязательно показать „Три песни о Ленине“».
8 августа «Комсомольская правда» снова вернулась к предложению Безыменского. Газета считала особенно значительным показ фильма Вертова, так как еще на первом международном конгрессе в Париже в 1925 году одна из первых наград досталась картине Вертова «Кино-Глаз».
10 августа «Вечерняя Москва» сообщила, что «сегодня» в Италию отправлен самолетом фильм «Три песни о Ленине» для демонстрации на выставке в Венеции.
Советская программа прошла в Италии с неслыханным триумфальным успехом. Жюри Венецианского кинофестиваля сочло возможным присудить Гран-при не отдельному фильму, а целиком всей программе, представленной СССР. 8 сентября член советской делегации кинорежиссер Григорий Рошаль, подводя итоги фестиваля, писал в «Известиях»: «Наши документальные фильмы, и в первую очередь „Три песни о Ленине“,
воспринимались как полотна огромного мастерства, совершенно недостижимого для документального иностранного фильма».
Однажды Вертов решил рассказать о пройденном им пути стихами — о снятых ста пятидесяти журналах, короткометражных картинах и больших фильмах. Это был отчет режиссера. В нем говорилось:
Полтораста опытов
— мой кинорапорт.
«Три песни о Ленине»
— мой партбилет.
Кинорапорт был приурочен к пятнадцатилетию кино. В начале 1935 года страна готовилась торжественно отпраздновать юбилей.
Тогда и появилась в «Правде» статья Михаила Кольцова с рассказом о том, как весной восемнадцатого года он вместе с отрядом красноармейцев обошел комнату за комнатой бывший особняк нефтепромышленника Лианозова, а затем занял его под первое кинематографическое учреждение — Московский кинокомитет.
О чем вспоминал Вертов, читая статью Кольцова? О том, как монтировались им номера «Кинонедели»? Или о первых манифестах и выпусках «Кино-Правды»? Или о полнометражных картинах, рассказывающих о Москве, о нашей стране, шестой части мира? Или вспомнился ему монтаж самой первой большой картины «Годовщина революции»?
А может, вспомнил он совсем о другом — не о фильмах, не об экспериментальных поисках, а о погожем осеннем дне, когда взобрался на вершину декоративного грота, что стоял во дворе лианозовского особняка, потом, пересилив себя, прыгнул вниз, и с этого прыжка все, все, все началось?..
Среди тех, кто писал о Вертове, выступал на диспутах по его картинам, встречалось немало людей, то споривших с ним до хрипоты, то совершенно и безоговорочно принимавших его, то споривших с ним снова.
Были и такие, которые не смирились с ним ни при его жизни, ни после его смерти — остались непримиримыми до конца.
Но были и такие, которые всегда понимали творческие потенции Вертова, талантливость его личности. Среди них — Сергей Юткевич. Они не были личными друзьями, многое их разводило: когда Вертов в своих манифестах, статьях середины двадцатых годов все еще сбрасывал искусство с пьедесталов, Юткевич уже окунулся в него с головой.
Но Юткевич никогда не утрачивал понимание вертовских масштабов. Он это нередко доказывал словом (а впоследствии и делом).
27 октября 1934 года «Три песни о Ленине» обсуждали кинематографисты. Говорилось о поэзии фильма, сплаве факта и лирики. Но главные слова, касающиеся не частностей формотворчества, а сердцевинной сущности вертовского пути в искусстве, произнес Юткевич:
— Если бы не было «Кино-Глаза», «Кино-Правды» Вертова, глаза самого Вертова, мы бы не имели в художественной кинематографии многого из того, что имеем сейчас. Это бесспорно. Нужно сказать, что это один из тех людей, которые формировали стиль советской кинематографии. Вертов с ошибками проходил мучительный путь, свойственный каждому художнику, а не приспособленцу.
В январе 1935 года был опубликован указ о награждении большой группы кинематографистов. Впервые работники кино награждались орденами, получали почетные звания.
Вертова наградили орденом Красной Звезды.
Он гордился им: это был боевой орден.
— Где же он, ваш орден, Денис, Аркадьевич? — спросил Юрий Каравкин Вертова в одну из первых годовщин Победы, когда коридоры Центральной студии документальных фильмов, как обычно в такие дни, сверкали орденами, медалями, лауреатскими значками.
Улыбающийся Вертов расстегнул пиджак. К внутренней его стороне был прикреплен орден Красной Звезды.
— И всегда так?
— С самого начала. С 1935 года. А ношу не только в торжественные дни, как сегодня, ношу и в мои собственные праздники.
Как и все, особенно в послевоенные годы, Вертов носил орден.
Но даже орден он носил не как все.
ЭПИЛОГ
У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
За всех расплачусь,
за всех расплачусь.
В. Маяковский. Про это.
После «Трех песен о Ленине» Вертову оставалось еще двадцать лет жизни.
За эти годы он смонтировал несколько десятков журнала «Новости дня» (главным образом, после войны), выпустил несколько картин.
Но они не шли в сравнение с прежними лентами.
Нет, не с лентами — с масштабом вертовского дарования.
Ближе других к тому Вертову была «Колыбельная».
Она пошла в тридцать седьмом году — к двадцатилетию Октября. Через всю картину о завоеваниях и победах звучала рефреном колыбельная песня матери.
Картину сравнивали со старым и великим немым фильмом Гриффита «Нетерпимость». Там тоже через все повествование мать (Лилиан Гиш) качала люльку с ребенком. Каждое ее появление символизировало начало новой эпохи в истории человечества.
Эпохи были новыми, трагедии повторялись.
Наша пресса, вспоминая «Нетерпимость», писала, что колыбельная песня у Вертова открывает новый поворот истории — к счастью.
Песня была хорошая. Музыку написали бр. Покрасс, слова — Лебедев-Кумач. Своей интимностью песня согревала официальный материал. В фильме было много парадов — военных, физкультурных. Из человеческих тел выстраивались пирамиды, они раскачивались волнами, походили на гигантские фонтаны. Демонстранты несли лозунги, кумачовые транспаранты, огромные портреты. «Спи, моя крошка, спи, моя дочь, — пела мать над колыбелью, — мы победили и холод, и ночь, враг не отнимет радость твою. Баюшки! Баю-баю!».
Статья о «Колыбельной» в журнале «Искусство кино» называлась «Красивый мир».
Вертов и Свилова добились в картине компактности, емкости, ритмической четкости монтажа.
Но у самого Вертова отношение к картине было двойственным.
С одной стороны, он считал ее прямым продолжением предыдущей ленты, называл «четвертой песней о Ленине». И одновременно в его собственных высказываниях о фильме заметна некоторая холодность.
Но потому, что в фильме порой преобладала «парадная», «красивая» сторона жизни, — это всегда ему не нравилось.
Но на этот раз Вертову не нравилось совсем другое — тип, жанр картины.
После «Трех песен о Ленине» Вертов понял, что достиг для себя некоего предельного рубежа в создании массовидных, своего рода обзорных картин о жизни страны в целом — от края до края.
Вертов пришел к этой мысли как раз в то время, когда жанр обзорных картин все настойчивее утверждал себя на документальном экране. Авторы фильмов вряд ли догадывались, да и вряд ли задумывались, кому они обязаны. Правда, на вертовские фильмы подобные картины чаще походили внешне — в них не всегда была та же зоркость, та же глубина мысли, но они были насыщены злободневным материалом, и это искупало многое.
Забылись упреки Вертову в беглости, в отсутствии живого человеческого материала, хотя некоторые картины второй половины тридцатых годов вообще-то отличались порой и беглостью и невниманием к изображению отдельных людей на экране. Машины, станки, турбины, домны заслоняли людей. С легкой руки Ильфа и Петрова о содержании подобных съемок говорилось: «Куют чего-то железного».
Вертов к такого рода обзорным фильмам просто-напросто утратил интерес.
После «Трех песен о Ленине» его захватил совершенно новый замысел, о нем он думал все оставшиеся двадцать лет жизни. Он мечтал его осуществить, не догадываясь, что время для осуществления еще не пришло.
Об этих последних двадцати годах написано много и разноречиво. Одни считали, что Вертов творчески иссяк. Другие, что он не сумел перестроить себя в условиях нового времени, оно выдвинуло перед хроникой новые задачи. Третьи, что во всем виноваты бездушные администраторы, они не проявили должного внимания к вертовским предложениям (так считал и сам Вертов).
В некоторых объяснениях была доля истины, в некоторых не содержалось истины вообще (например, что Вертов творчески иссяк).
Новаторство Вертова с самого начала его творческой жизни и до ее конца органически вытекало из новаторской сути Октябрьской революции, созданной ею духовной атмосферы. Вертов никогда не прекращал поисков. В силу тех или иных обстоятельств менялась их форма, методика. Он разрабатывал различные проекты производственно-творческого типа, писал заявки, сценарии, стихи, постоянно вел дневник — оставил исключительно ценное теоретическое и литературное наследство, актуальное и в наши дни.
Поэтому если в некоторых объяснениях и была доля истины, то истина в целом заключалась совершенно в другом.
«Три песни о Ленине» стали отсчетом нового рубежа. Плацдармом, с которого Вертов хотел начать новые поиски на экране, открывая новый киномир.
В дневнике Вертова со второй половины тридцатых годов появляется все больше записей — наблюдений над поведением самых разных людей.
В конце февраля сорок первого года он приехал на две недели в подмосковный санаторий Узкое и больше всего обрадовался возможности увидеть новых людей.
Он описывал известного изобретателя Александра Александровича Микулина и его жену Веру Тихоновну, академика Каблукова, знаменитого своей рассеянностью, своих соседей по комнате.
Вертов пишет о «странности» появившейся у него привычки, когда в голове застревают разные человеческие характеры, оказавшиеся в той или иной ситуации, а между тем странного ничего не было.
Это отголоски, частички, элементы новой художественной задачи, она захватывала Вертова все больше и больше.
А началось с «Трех песен о Ленине», в картине было снято несколько очень коротких, но выразительных синхронных кусков.
Курносенькая, востроглазая и совсем юная бетонщица с Днепростроя Мария Белик со смехом рассказывала, как упала в яму с бетоном, ее еле успели вытащить, а она, едва обсохнув, опять пошла работать и работала тогда и потом хорошо. «И меня наградили за то, — тут она смущенно заулыбалась, стесняясь, стала отворачиваться, — орденом Ленина за выполнение и перевыполнение плану…».
А еще говорил колхозник-ударник, потом женщина, председатель колхоза имени Ленина.
В простых, незамысловатых рассказах была неподдельная правда поведения, естественность внутреннего состояния.
Это поражало зрителя, Герберт Уэллс не случайно заметил, что ему не потребовался переводчик, — открытость и искренность чувств были не менее выразительны произносимых слов.
Эти съемки Вертов называл синхронными. (Впервые документальную синхронную съемку людей Вертов использовал в «Симфонии Донбасса»).
Потом, спустя годы, уже после смерти Вертова, прием станет расхожим. Но авторы многих картин, вооруженные более совершенной техникой, используя скрытую камеру, пряча от персонажа микрофон, далеко не всегда сумеют добиться той же неподдельной искренности, какой добился Вертов со своими громоздкими съемочными и звукозаписывающими агрегатами.
В отличие от своих последователей и подражателей он под синхронной съемкой подразумевал отнюдь не технику приема (единство съемки и звукозаписи). На дискуссии в АРРКе о «Трех песнях о Ленине» в октябре тридцать четвертого года он вспомнил о прыжке с грота во дворе лианозовского особняка, прыжок помог тогда увидеть и прочитать мысли. Вертов считал, что подобный «прыжок», говоря символически, есть и в «Трех песнях о Ленине». Особенно в рассказе бетонщицы.
— Почему он воздействует, — спрашивал Вертов, — потому что она хорошо играет? Ничего подобного. Потому, что я добился от нее… синхронности слов и мыслей.
В самом термине «синхронная съемка» Вертова меньше всего волновала техническая сторона (хотя, конечно, он ничего не имел против более совершенной аппаратуры).
Но главное другое — синхронность произносимых слов с тем, о чем в этот момент думает персонаж. Камера не просто фиксировала ударницу во время ее рассказа. Она следила за сменой состояний по ходу рассказа, сменой мыслей, выраженной не только словами, но и мимикой, жестом, обликом, всем внешним поведением.
Если человек говорит заученные слова, не выражающие его мысли и эмоции, то никакой синхронности не будет, хотя технически кусок отснимут синхронным методом.
Людей, у которых слово расходилось с делом, Вертов называл несинхронными людьми.
Вертов приходил к догадкам, которые теперь стали очевидными. Но задолго до того, как они стали очевидными, Вертов говорил, что одни и те же люди в различных ситуациях играют какую-нибудь роль, иногда очень неплохо. Он говорил о необходимости научиться снимать «ролевую» маску, добираясь до истинной человеческой сути.
Документальное кино неотделимо от истории. Не только вчерашней или десятилетней давности, но и той, которая снимается сегодня, в это конкретное мгновение. Потому что завтра оно уже тоже станет историей.
Ударница Днепростроя говорила не очень стройно, с оговорками, так, как все мы говорим, если это не написанная нами или для нас роль. Нестройность речи придавала рассказу особое обаяние и достоверность. Она создавала ощущение, что бетонщица извлекает слова со дна своей души. Не стесняясь, открывает себя, не боится в момент съемки сказать то, о чем в другой ситуации, в общении с другими людьми, возможно, и умолчала бы.
В ее простой, незамысловатой речи была причастность к истории, к эпохе массового энтузиазма.
История была «подслушана» Вертовым. Почти во всех рецензиях говорилось о поразительной естественности синхронных рассказов, их слитности с временем.
Но они поразили не только зрителей.
Они поразили и автора фильма.
Вертов понял, что синхронная съемка открывает огромные возможности наблюдения за человеком.
Дело не только в том, что экран заговорил словами не диктора, а живых людей, находящихся в кадре.
Главное заключалось в другом: синхронная речь была не только слышимой, но и видимой.
Зритель получал возможность увидеть, как рождаются слова, как они вызревают на его глазах. Он мог улавливать перепады мысли, смены внутреннего состояния, разнообразные оттенки чувств. Зритель мог прикоснуться к тончайшим нюансам интимных переживаний человека.
Фильмы, сюжеты киножурналов о конкретных людях снимались и прежде — о передовиках, стахановцах, ударниках пятилеток. Но в эпоху массового энтузиазма эти фильмы обычно рассказывали о тех чертах героев, которые сближали их с такими же, как они, людьми.
В синхронных эпизодах «Трех песен о Ленине» существовало пока еще робкое, экспериментальное, но уже достаточно результативное прикосновение к индивидуальному характеру.
— Это, может быть, самое важное, — говорил Вертов, — самое интересное из того, что достигнуто в третьей песне нашего фильма.
После картины о Ленине Вертовым и его группой было принято решение перейти от работы над поэтическим фильмом обзорного типа к работе над фильмами о поведении человека.
Вертов, которого так часто упрекали за увлечение машинами, домнами, станками, плотинами, заслоняющими живых людей, предпринимал шаги навстречу конкретному герою. Еще снимая фильм о Ленине и заранее зная, что в него войдут портреты отдельных героев эпохи, он писал о необходимости съемки людей в ситуациях, принципиально характеризующих человека. Иначе ударники не будут отличаться друг от друга. Надо снимать и записывать людей в тот момент, когда они перестают реагировать на аппарат, когда появляется возможность показать людей без маски, без игры и можно прочесть на лицах обнаженные киноглазом мысли.
«Колыбельная» родилась из различных предложений Вертова о съемках фильмов, женщины должны были стать их героинями. Не женщины вообще, а люди с именем, фамилией и со своей судьбой. Он предлагал снять фильм «Женщины двух миров» — в отдельных новеллах рассказывалось о жизни женщины в нашей стране и за рубежом. Из всего этого появилась на свет «Колыбельная». Вертов рассматривал ее как увертюру к будущей галерее кинопортретов.
Одновременно он понимал, что при существующей системе кинопроизводства создание портретов на экране затруднено.
Масса времени уходит на обсуждение, уточнение, согласованно съемок. Нельзя подходить к фильмам-портретам со стандартными мерками, требуя сценария будущей картины во всех деталях. Нельзя заранее написать, говорил Вертов, что «Иванов утонул во время купания». Может, он не будет ни тонуть, ни купаться. Я не могу, объяснял Вертов, снимать выступление Марии Демченко на съезде через неделю после того, как съезд окончится.
Можно кинописать об определенных лицах, снимать человека от пеленок до старости. Но все это возможно лишь при непрерывной информационной, съемочной и монтажной работе.
Разрешение организационных трудностей Вертов видел в создании творческой лаборатории.
Его записи тридцать шестого года, особенно после того как был ликвидирован «Межрабпомфильм» и Вертов со Свиловой перешли на Союзкинохронику, заполнены первыми набросками, многочисленными вариантами, схемами, постепенно они вылились в оконченный документ.
Основной смысл лаборатории Вертов видел в непрерывности работы. Остатки от предыдущих фильмов не являются ненужным хламом, а становятся заготовками для следующей работы. Авторская кинотека лаборатории постоянно пополняется новыми специально снятыми поэтическими заготовками. Четко налажена информационная работа, всегда наготове передвижной агрегат для немедленного прибытия на место съемки, сообщенное наблюдателем. В лаборатории постоянный штат сотрудников, они участвуют в непрерывном процессе производства. У режиссера есть кабинет с небольшим экраном для спокойного обдумывания и поисков наилучших форм разрешения той или иной темы. Наконец, существует специальная «операционная» для монтажных операций от первых набросков до окончательного монтажа.
Лаборатория необходима, объяснял Вертов, для перехода от непрерывных согласований к системе непрерывных действий.
Нестандартные условия производства дадут возможность создания нестандартных произведений. Прежде всего поэтических картин, основанных на наблюдении индивидуального поведения человека.
Проект был большим, занимал немало страниц. Но Вертов считал, что лаборатория создаст условия, при которых можно делать не только картины в виде «последних известий», но и картины иного тина. Он не отвергал необходимость текущей оперативной хроники. Но писал о расцвете всех видов хроникального фильма (очерков, поэм, несен), а не о прокрустовом ложе только одного вида — сводки кинотелеграмм.
— Мы не против винтовок, — говорил Вертов, — но мы и не против 42 см и более орудий. Для победы нужны и те и другие.
В дневниковых записях Вертов начертил круг и над ним написал: «Три работы 1-й очереди». Круг разбил на три равные доли: одна была отдана фильму о женщине, другая — «Трем песням о Ленине» (исправление звукового позитива, внесение в третью песню современного материала и очистка его от несовременного). А в третьей части круга было написано: «Творческая лаборатория», а над ней: «Главное». И это «главное» Вертов подчеркнул.
Он ставил разработку проекта лаборатории выше всего остального.
Потому что желание делать фильмы об индивидуальных судьбах, фильмы, построенные на длительном наблюдении, на синхронных съемках, захватывало его.
Но нужна была точка опоры.
Точка опоры и доверие к особому методу работы.
Вертов писал, что на данном этапе своей кинематографической учебы он монтирует фильм не по частям, не по эпизодам, а весь сразу, вводит во взаимодействие все находящиеся в его распоряжении куски. Излагать это словесно, в сценарии, который от него постоянно требуют, бессмысленно. Он мыслит кадрами, а не словами.
Актер на сцене может проливать слезы (в кино слезы часто добываются с помощью глицерина), он может держать в руке бутафорское яблоко.
А если не актер? Если исследование подлинной драмы подлинного человека в быту, в естественных условиях? Снимать нельзя? Сценарием не предусмотрено? Задав эти вопросы самому себе, Вертов опять приходит к единственному ответу:
«Нужна лаборатория, иначе ничего не выйдет».
Папка с проектом лаборатории пошла по инстанциям.
Одновременно в папку Вертовым были вложены документы, касающиеся бытовых дел.
Он и Свилова жили в Козицком переулке на шестом этаже в большой перенаселенной квартире.
На первый взгляд кажется странным совмещение двух вопросов: творческого и бытового.
На самом деле это был все тот же один вопрос организации нормальной творческой работы. В дневнике у Вертова есть подробнейшее описание одного дня его нелегкого коммунального быта.
Вертов пишет Шумяцкому, что по его, Вертова, сведениям, папка с предложением о творческой лаборатории и его квартирных делах передана Шумяцкому. Вертов ждет той пли иной резолюции о творческой лаборатории, а также разрешения квартирных дел. Вертов пишет еще письмо в Президиум Моссовета, говорит о том, что бесконечные бытовые мелочи нередко обращают в бегство ценные и неповторимые мысли и образы и нужны нечеловеческие усилия, чтобы, вопреки этим мелочам, слагать поэмы о счастье. «Для меня квартира — это не удобства жизни, а обстановка и условия творческой работы».
Член фабкома кинофабрики Б. Козлов составил «Акт обследования бытовых условий режиссера-орденоносца тов. Вертова».
Бумаги пошли по инстанциям.
И миг блаженства наступил. В декабре 1937 года Вертовы въехали в двухкомнатную квартиру — в дом на углу Большой Полянки. Вертову казалось, будто до сих пор он и не жил: не слышно кухонных скандалов, можно чайник вскипятить в любую минуту, с потолка не капает.
А проект творческой лаборатории, гуляя по инстанциям, не нашел своей дороги, — так и не был реализован.
В феврале тридцать седьмого года он впервые почувствовал боль в сердце, ему шел сорок второй год.
«Ночи с открытыми глазами. Сердце. Вот оно. Дребезжит. А ведь я — веселый…
Сердце. Откуда оно? Куда оно? Не хочет оставаться в теле. Просит: вынь меня. Хочет уйти. Плохо. Но нет зависти. Убил ее. Рад общей радостью. Придет и мой черед. „Сеять, но не жать“. Придет и мой черед. Сеять! Сеять! Сеять!
Сердце! Отдохни. Остановись. Вырываться не надо. Спокойно. Счастье придет. Труд придет. Радость придет. Если бы только не эта усталость. Если бы выдержало сердце…».
Вертов говорил: прожил сто лет в сорокалетний срок.
Частично Вертов попробовал осуществить свои замыслы в картинах «Серго Орджоникидзе» (он делал фильм совместно с Я. Блиохом и Свиловой), «Три героини» о знаменитых летчицах Расковой, Осипенко и Гризодубовой. Во время войны Вертов написал своеобразный сценарий «Тебе, фронт!» в расчете на своеобразный фильм. Многие эпизоды Вертов снял синхронно. Сохранился документ, в десяти основных пунктах со множеством подпунктов в категорической форме синхронные съемки заменялись дикторским текстом, а в следующих семнадцати пунктах не менее категорически указывалась схема построения фильма.
Понимая, что проект творческой лаборатории вряд ли будет реализован, Вертов стал предлагать заявку за заявкой на образные поэтические фильмы с центральным действующим лицом. Его записи заполнены множеством фамилий с адресами, телефонами людей, они могли бы стать героями будущих фильмов!
Заявки были оригинальны.
Вертов предлагал съемку одного и того же события с разных точек зрения его участников.
Во время войны он выдвинул идею наряду с фильмами о восстановлении разрушенных городов, заводов дать серию картин о «восстановлении человека».
Темы «лавиной» шли на него и отличались от всего, что делалось им прежде, одним: в немногом, но глубоко исследованном показать многое. Через конкретную биографию человека рассказать о судьбе поколения.
Заявки подавались им до войны и во время войны. После войны не подавались. Но могли вообще не подаваться, они оставались без ответа, не находили реализации.
Вертов считал, что все дело в бездушии и непонимании.
Но Вертов не учитывал ряда обстоятельств.
В годы первых пятилеток хроника неукротимого напора событий, показ только что возведенных домен, заводов, электростанций, целых городов, сошедших с конвейеров тракторов, автомобилей была не просто информацией.
Хроника была пафосна, эмоциональна.
Пафос изначально закладывался в сами факты.
Они рассказывали, на что способны коллективные усилия.
Хроника давала возможность массовому зрителю приблизить событие, эмоционально приобщиться к нему. Увидеть, как меняется облик страны. Ощутить радость от наступления нового.
С начала тридцатых годов создаются выездные киноредакции на важнейших стройках пятилеток, кинопоезд под руководством Александра Медведкина — своеобразная студия на колесах.
Оперативный репортаж занимает на документальном экране основное место.
Он удовлетворял зрителя по существу и по форме.
Между экраном и зрительным залом не возникало барьера. Те, кто был на экране, могли сойти в зрительный зал, а сидящие в зрительном зале могли подняться на экран.
Такой процесс происходил и в игровом кино: Алейников, Андреев, Крючков, Ладынина, Макарова, Марецкая, Орлова были свои. Когда в «Большой жизни» бригада во главе с Андреевым поднималась из шахты, установив новый рекорд, и их встречала массовка из настоящих шахтеров, то артисты легко растворялись в массовке.
Люди были счастливы общностью дел, взаимной причастностью к тому, что происходило в стране. Поэтике дней слишком явное выделение одних казалось противоестественным, неудобным, смущающим обстоятельством.
Кинорепортаж удовлетворял зрителя масштабами. Запечатленным размахом поднимающейся страны.
Репортаж удовлетворял время.
Факты говорили сами за себя, не требовали поэтических ассоциаций, сложных монтажных композиций.
Но важно не только это.
К сложным кинематографическим построениям еще не был подготовлен массовый зритель.
В тридцатые годы зрительская аудитория резко увеличилась. С одной стороны, за счет притока из деревень в города рабочей силы, с другой — за счет расширения кинопроката в деревне. В передовой газеты «Правда» «Важнейшее из искусств» 14 февраля 1940 года приводились цифры: в 1928 году фильмы просмотрело триста десять миллионов зрителей, а в 1939 году миллиард двести миллионов. К 1940 году в стране существовала тридцать одна тысяча киноустановок (в дореволюционной России около двух тысяч), больше половины которых в деревне.
В стране фактически появился новый зритель, он еще только начинал учиться смотреть кино.
Неприятие многочисленных вертовских замыслов объяснялось не субъективными качествами того или иного административного лица (хотя, конечно же, и этот момент, связанный с проявлением в практике киноорганизаций догматически-вульгаризаторских взглядов на искусство и с волюнтаристскими действиями отдельных руководителей, не следует сбрасывать со счета). Это неприятие вытекало из процессов в развитии документального кино.
Вертов обогнал время ровно на двадцать лет.
Как раз на те двадцать лет, которые ему оставалось прожить.
Ему говорили: он нарушает им же установленные документальные правила, в заявках на кинопортреты Вертов делал основной упор на синхроны (диалоги, интервью, монолог), на сложные, казавшиеся вымышленными построения.
Вертов отвечал, что нарушает не документальные правила, а стандартные представления о документальности. Кому же как не ему этим заниматься, поднимаясь на более высокую ступень? Кроме того, добавлял Вертов, человек тем и отличается от обезьяны, что однажды против правил спустился с дерева и взял в руки палку. Без нарушения правил не может быть развития.
Тогда ему объясняли, что фильмы о конкретных людях — это вообще прерогатива игрового кино.
Так говорилось не для того, чтобы отмахнуться от Вертова, отвязаться от его притязаний. Говорившие совершенно искренне считали, что говорят правильно.
Неумолимость происходящего процесса чувствовал и сам Вертов. Если не удастся с творческой лабораторией, писал он, придется либо уходить, либо перейти на событийную хронику. Во время войны в 1944 году он сделал фильм «Клятва молодых», в нем было все, что нужно по установившимся канонам.
Не было только одного — Вертова.
А потом он снова подавал заявки, а ему снова объясняли, что этим должна заниматься не хроника, а художественные студии. Для хроники исследование характера — неподъемное дело.
Вертов считал, что вполне подъемное, о неподъемности говорят те, которые некомпетентны в его вопросе. «Когда станут компетентны, — добавлял он, — не будет их или не будет меня».
Он как в воду смотрел, — многие стали компетентны.
Только Вертова уже не было.
Но однажды появилась возможность новаторского выхода в совершенно неизведанную область.
На базе студии «Межрабпом» был создан «Союздетфильм». Художественным руководителем студии назначили Сергея Юткевича. Он пригласил Вертова. «Нас часто спрашивают, — писал Юткевич в газете „Кино“ 29 ноября 1940 года, — почему Дзига Вертов работает в Союздетфильме? Говорят — что общего между Союздетфильмом и им, который всю жизнь был антиподом художественно-игровой кинематографии? Это неправильно. Дзига Вертов — талантливый художник. То, что Дзига Вертов задумал с писателями М. Ильиным и Е. Сегал („Сказка о Великане“), очень интересно. В области познавательного фильма надо много экспериментировать, и совсем не обязательно средствами актерской выразительности».
Михаил Ильин — псевдоним Ильи Яковлевича Маршака, родного брата Самуила Маршака, Елена Александровна Сегал — жена и соавтор многих книг М. Ильина. Книги рассказывали детям о происхождении вещей. Авторы добивались не упрощения, а ясности. О науке они говорили увлекательно и поэтично.
Осенью 1939 года сотрудники сценарного отдела свели их с Вертовым.
Поначалу работа шла трудно, не выходила за пределы традиционных сказочных атрибутов: ковров-самолетов, сапогов-скороходов и т. п. Но однажды пришла мысль рассказать в сказке о реальном человеке. Вернее, о человечище. Или точнее — о человечестве, изменяющем мир.
Великан олицетворял человечество.
Он рушил горы, прокладывая широкие дороги на месте узких горных троп, поил влагой оазисы пустынь. Он волшебно преобразовывал землю, но в его делах была мудрость плана, осуществление самых дерзких чаяний людей.
Научное познание воссоединялось с поэзией и симфонизмом мысленных ассоциаций. Вертов и писатели встретились вроде бы случайно, но, как вскоре выяснилось, это была встреча единомышленников.
Вертов приходил к Ильиным каждое утро и уходил поздно вечером.
Официально авторами сценария были Ильин и Сегал. Вертов работал с ними на равных. Смущенные этим обстоятельством, Ильин и Сегал не раз уговаривали Вертова поставить его фамилию тоже, пока не убедились, «что этому человеку (вспоминает Е. Сегал) совершенно безразлично: подписать или не подписать свое имя, получить или не получить гонорар».
Они не знали, что у Вертова в дневнике есть запись:
— Я не работаю ради денег. Это необходимо понять. Если бы я работал ради денег, я не зарабатывал бы в среднем меньше всех режиссеров. Меньше, пожалуй, ряда наших монтажниц. Для меня выпускаемый мной фильм — мой ребенок. Никто не может больше болеть и тревожиться о здоровье и судьбе ребенка, чем это делает мать.
Ему не терпелось работать, стоять у камеры, держать в руках пленку, только что вышедшую из лаборатории. Монтировать фильм, собирать отдельные куски правды в правдивую картину мира и его преобразования.
Сценарий понравился на студии. Члены художественного совета отмечали его экспериментальный характер, но предлагали в режиссерском варианте сократить его. Вертов проделал огромную работу, вместо 752 кадров в окончательном варианте оставил 452.
Но начальник Главного управления по производству художественных фильмов отнесся к сценарию отрицательно. Сказал, что будущий фильм рассчитан на профессоров Сорбонны, эстетов от кинематографа, а не на школьников. Много Вертова, объяснял он, который мешает Ильину.
На художественном совете Юткевич рассказал, какими доводами он защищал сценарий, а затем выступили М. Донской, Л. Кулешов, Я. Протазанов — люди, отнюдь не близкие Вертову своей стилистикой, но они все принципиально поддержали сценарий, его экспериментальный характер, нестандартность жанра.
Потом сценарий будет поддержан ЦК комсомола, секретарь ЦК Н. Михайлов позвонит И. Большакову — тогдашнему председателю Комитета по делам кинематографии.
Но противодействие сценарию начальника Главка сыграет свою роль в окончательном решении.
Первого февраля Вертова и Ильина принял Большаков. Разговор был долгим, полуторачасовым. Большаков выдвинул доводы против сценария: многое технически не выполнимо; показывали сценарий на студии Техфильм и там сказали, что в сценарии ничего нового нет, они могут в месяц сделать нечто подобное из фильмотечного материала.
На это Вертов ответил притчей: одна женщина двенадцать лет ткала замечательный ковер и назвала его «Моя жизнь». Ковер оценили в громадную сумму денег. «Ха-ха-ха! — посмеялась присутствующая при оценке танцовщица. — Я вам такой ковер сделаю за 20 рублей и в течение одного часа». Она собрала валявшиеся у нее разные куски материи и рваные тряпки, быстро сшила их в один кусок на швейной машинке, выгладила и быстро подписала тряпку мелом «Моя жизнь». А так как тот и другой ковер назывались одинаково, то первой женщине, талантливой и трудолюбивой, ничего не оставалось делать, как повеситься на дверном крюке, что она благоразумно и сделала.
Когда Вертов и Ильин обсмеяли таким образом трюк Техфильма, Большаков выдвинул еще один аргумент: фильм не актуален, не современный. Сценарий сам по себе хороший, интересный, но не актуальный.
— Разве «Сказка о Великане» не актуальна? — спросили Вертов и Ильин.
— Она не актуальна в данный момент, она никогда не устареет. Пусть лежит, когда-нибудь поставим.
Кроме того, Большаков говорил о больших расходах на картину и предложил другую тему «История авиации» — это актуально, это сейчас нужно.
Все подробности переговоров Вертов записал в дневник, не забыв рассказать о напряжении Сегал, которая сидела у телефона, о напряжении Свиловой, она и другие члены группы ждали Вертова дома.
В 1967 году на экран вышел документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».
В одном из эпизодов картины М. Ромм занялся изучением излюбленных поз Гитлера и установил, что самое характерное положение рук фюрера — это крепко сплетенные пальцы где-то пониже пояса, примерно у того самого места… в общем, у того самого места. Ну и что из этого? Как любили повторять блюстители расовой чистоты: каждому свое!
Но Ромм на этом не успокоился. Он взял самую обычную фотографию, на ней группка сиятельных бонз третьего рейха после очередного совещания, встав полукругом, снялась на память. Ромм попросил зрителей присмотреться к рукам этих бонз — все они без исключения, оставляя о себе память потомкам, сплели пальцы рук пониже пояса, у того самого места, у которого их обычно сплетал фюрер.
Отправляя разных, не похожих друг на друга людей в печи, газовые камеры, могильные рвы, они прикрывались роково-глубокомысленным: каждому свое! Но меж собой они больше всего не хотели, чтобы у каждого было что-то свое, отличительное от другого. Они отдали фюреру все свои права на собственную мысль, на оценку путей, целей, личных поступков, а уж тому после этого было просто плевым делом связать им руки где-то пониже пояса при их полном и добровольном согласии. Может быть, все-таки они и не держали бы руки в соответствии с идиотской привычкой любимого вождя, если бы знали, что будут впоследствии выглядеть такими дураками. А впрочем, наверное, все равно держали. Ибо злободневная необходимость походить на того, кто был учителем, научившим «всему», и кто был отцом, отпускавшим все грехи, была важнее исторического предположения (возможно, и посещавшего их иногда), что фюрер оставил их в таких непроходимых дураках.
Вот какие (да еще, наверное, и многие другие) ассоциации рождает кадр, увиденный не с точки зрения его даты и подписи, а рассмотренный, исследованный во имя его осмысления. Слово М. Ромма здесь играло, конечно, тоже огромную роль. Но оно не сводилось к простейшей констатации, а вело к размышлениям, вытекающим из внимательного изучения изображения. Из изучения, проведенного М. Роммом, а затем совместно с ним зрителями его картины.
Но возможно ли было бы все это, если бы за несколько десятилетий до «Обыкновенного фашизма» Дзига Вертов в «Шагай, Совет!» и «Шестой части мира», в «Человеке с киноаппаратом» и «Трех песнях о Ленине» не открыл новые пути документализма? Возможна ли была сама картина «Обыкновенный фашизм», если бы не то новое переосмысление вертовских методов, не та волна огромного интереса к его творчеству, которые возникли в годы работы М. Ромма над фильмом?!
Невозможна, об этом писал и сам М. Ромм. Писал взвешенно, с оговорками, не раз подчеркивая, что он понимал Вертова, а сердцем принимал Шуб. В роммовских высказываниях о Вертове конца 60-х годов без труда улавливается принципиальная осторожность художника, как бы впервые, совершенно наново открывающего для себя другого художника. Открывающего постепенно, без поспешной восторженности.
Но по логике своего творческого развития Ромм уже не мог обойтись без того, чтобы не приглядеться к Вертову. Не примериться к нему.
Роммовское же пристрастие к работам Шуб вряд ли противоречило возрастающему интересу к Вертову.
При всей не раз декларируемой любви к лентам Шуб Ромм в целом строил свою картину не в формах историко-летописного повествования, присущих Шуб, а иначе — как политическое и философское размышление о социальных корнях нацизма, о его морально-нравственных истоках. То есть как раз в формах, присущих Вертову. В отличие от Шуб и вполне в традициях Вертова Ромм не сковывал себя канонами исторического изложения, хронологической последовательностью фактов. Хроникальный материал группируется у него не вокруг событий, а вокруг выдвигаемых проблем. В этом отличие «Обыкновенного фашизма» не только от «Падения династии Романовых», но и от большинства лучших советских и зарубежных антифашистских лент, которые обычно тоже строились в формах своего рода исторических киномонографий.
Но если в своем общем построении роммовская картина была близка вертовским традициям, то в его бережном, необычайно внимательном отношении к летописному кадру, в умении выявить истинное смысловое значение нацистской хроники, сняв шелуху тех мнимых значений, в угоду которым эта хроника снималась, во всем этом был и отсвет роммовской любви к творчеству Шуб. В «Обыкновенном фашизме» линия Вертова и линия Шуб, заново переосмысленные и развитые, пересекались.
Прийти к ясному пониманию этого Ромму было не так-то просто по многим причинам. Вряд ли он, в частности, мог забыть, что одна из последних попыток Вертова создать нечто свое, близкое себе, была потеряна тогда, когда в 1940 году начальнику Главка по производству художественных фильмов решительно не понравился сценарий Вертова и Ильина «Сказка о Великане», и это послужило исходным поводом для последующего отказа в его реализации. И конечно же, Ромм не мог забыть, что этим начальником Главка был Михаил Ильич Ромм.
Сценарий он не принял по вполне принципиальным соображениям. Поэтика Вертова казалась тогда, видимо, слишком чуждой его художественному мироощущению.
Кто же мог предположить, что почти через тридцать лет между ними произойдет сближение на орбите именно этой поэтики?
Ромм, к сожалению, не прислушивался тогда к оценкам решительных защитников этого своеобразного сценария — Сергея Юткевича и других членов художественного совета «Союздетфильма».
Надо было прожить сложную жизнь в искусстве, жизнь, отмеченную преодолением себя во имя дальнейших поисков самого себя, чтобы прийти сначала к «Девяти дням одного года», потом к «Обыкновенному фашизму» и чтобы в 1971 году иметь мужество сказать: «Документальный кинематограф будет успешно развиваться как в согласии с вертовскими принципами, так и в полемике с ними. При всех случаях очевидно следующее: хорошо было бы к каждому художнику относиться с тем спокойным уважением, которого он заслуживает».
Вертов засел за материал по истории авиации.
Потом делал первые наметки сценария. Ильин и Сегал работали на этот раз без особого энтузиазма. Первый вариант сценария был закончен в спешке.
Сценарный отдел студии обсудил сценарий 10 июня 1941 года, нашел его сырым, недоработанным. Вертов не спорил, сам считал, что спешка отразилась в сценарии, как в зеркале.
Ильин и Сегал уехали в Ригу, на обсуждении их не было.
11 июня Вертов записывает о необходимости срочно, на высоком творческом уровне выполнить замечания сценарного отдела.
17 июня в два часа ночи был телефонный разговор с Ильиным, он все еще находился в Риге.
А через пять дней началась Великая Отечественная война.
3 июля 1941 года Вертов написал письмо Председателю Комитета по делам кинематографии И. Г. Большакову, в письме говорилось, что в гражданскую войну он сражался кинематографическим оружием, был руководителем киносъемок при РВС, гражданская и воинская специальности у него совпадают — кинематографическое оружие. «В данный чрезвычайный момент было бы преступлением… неиспользование моей способности сражаться с пленкой в руках, делать фильм за фильмом, очерк за очерком, кинопесни, киноновеллы, кинофельетоны и т. д.
Каждый фильм — удар по врагу.
„…Надо, чтобы к штыку приравняли перо“, — говорил Маяковский.
Язык кино — не менее грозное оружие. Ваш приказ — и мы работу начнем».
К письму присоединяли свои подписи и просили одновременно с Вертовым переключить их на оборонную работу Е. Свилова и Д. Суренский.
Вертов и Свилова монтируют несколько одночастевок и тематических выпусков «Союзкиножурнала» на фронтовом материале.
В октябре среди ночи их вызывают срочно на Ярославский вокзал — основные кинематографические силы эвакуируются в Алма-Ату.
Пешком, в полной темноте, под дождем пополам со снегом они добираются по ночной Москве до вокзала. Вещи оставлены дома, за ними должна приехать машина. Но поезд ушел, а машина вещей не привезла. Из-за этого
поездка и быт в Алма-Ате оказались очень трудными. Вертов описывает ситуацию в стихах: «Приехали голые, как Адам и Ева, в город яблок — Алма-Ата. Тем и питались — яблочком с древа познания добра и познанья зла».
В Алма-Ате Вертов сделал еще несколько журналов, оборонных очерков, фильм «Тебе, фронт!».
Но большинство собственных замыслов не осуществилось.
Аполлон пока не требовал поэта к священной жертве.
Время документального человека на экране еще не пришло. Плодов было великое множество, но не созрело время сбора урожая.
От этого не было легче. Может быть, было даже труднее. Вертов записал казахскую пословицу: у дерева, отягощенного плодами, верхушка клонится вниз.
Во время войны он оказался в одном вагоне с Большаковым, тот вдруг сказал:
— А жаль, что вашу сказку не поставили.
Но этот плод, уже перезрев, упал на землю.
Вертов не верил фильмам, сшитым наскоро, хотя и из хорошего материала, с хорошим дикторским разговором за экраном. Нужно еще лучшее из возможных режиссерское решение. А фильмы делаются часто без авторского решения, вытягиваются за счет экзотического материала. «Чем говорить о серебре на твоем ружье, поговорим лучше о его попаданиях», — записывает Вертов, любитель фольклора.
Портного надо хвалить за сшитый костюм, а не за качество материала, принесенного заказчиком.
В 1944 году в Москву вернулся сначала Вертов, потом Свилова. Они сделали в этот год фильм «Клятва молодых» — последний в вертовской жизни.
Вертов снова предлагает темы, ими заполнены дневники. Но все чаще он пишет больше для себя. У Вертова возникает ощущение человека, которому дали смычок, но забыли о скрипке.
В конце войны друзья и близкие посоветовали, оберегая здоровье, отказаться от фильмов и целиком переключиться на то, с чего Вертов начинал, — на монтаж журнала «Новости дня».
Поразмыслив, Вертов согласился.
Теперь он делился ворохом идей и тем только со Свиловой и со своим дневником.
Ночной сон нередко съедала бессонница.
Он уходил в другую комнату и печатал на старенькой, но верной машинке или записывал: свои размышления, стихи.
Стихи были разные — веселые, ироничные, беспощадно саркастические, мудрые.
Стихов о правде — больше всего. Длинные и короткие, укладывающиеся в две, в четыре строки.
В стихах часто отвечал тем, кто правду сводил к стандартному правдоподобию:
Иногда уместно,
Отбросив банальности,
Дать новый план реальности.
Наизнанку — по-детски.
По-человечески
и по-советски.
Вовсе не обязательны
Одни и те же прилагательные,
Разлинованные тетрадки.
А Чаплин в «Золотой лихорадке»
Ест шнурки, как макароны:
Законно это или не законно?
Что бы ни говорили полуответственные лица —
Я за детские небылицы.
За мудрость народного творчества,
Где без имени и без отчества
Узнаешь себя и своих знакомых
В образе животных и насекомых.
«Новости дня» он тоже старался монтировать нестандартно. Меняя привычную схему построения, увеличивал количество сюжетов, они были короткими, как выстрел. А потом монтажница их удлиняла до размеров обычной стереотипной практики. Все, в общем, оставалось прежним, только сюжетов становилось меньше, и они — не стреляли.
На студии появилась молодежь — выпускники ВГИКа.
— Здравствуйте, Денис Аркадьевич, — весело бросали мальчики и девочки, встречая его в коридорах студии, и бежали дальше, у них были свои заботы.
Вскоре они будут проклинать себя за то, что, будучи рядом с ним, могли у него учиться, а не учились.
И этого не вернешь.
Но те, кто сталкивался с ним в работе над журналом, быстро становились с ним друзьями — он охотно шел навстречу, его стареющее, с серебром в висках, но по-прежнему красивое, в чем-то загадочно значительное лицо светилось встречной улыбкой.
Нинель Лосева (ее воспоминания о Вертове вышли уже после ее трагической гибели в автомобильной катастрофе) и режиссер Лия Дербышева помогали ему в нескольких журналах, успокаивали его, когда он волновался, что не получит интересный материал или будет какой-нибудь брак. Им иногда казалось, что он ждет все время какой-нибудь неприятности. Но с ними он шутил, рассказывал всякие истории, «оттаивал», называл их обеих Лиянеллой. В канун нового, 1952 года он написал обеим добрые, шутливые стихи.
А неприятности случались.
Запланированный за ним номер журнала неожиданно передавался другому режиссеру. Вертов писал дирекции письма-протесты, объясняя, что для него журнал — единственный вид кинематографической деятельности.
Однажды сделанный им журнал Министерство кинематографии вернуло обратно для поправок. Случай — редкий. Главный редактор вызвал тогда еще молодого, начинающего сценариста Леонида Браславского, поручил переделку текста журнала. Браславский отказался. Когда он вышел из редакторского кабинета, Елизавета Игнатьевна сказала, что Вертов хочет поговорить с ним. Браславский поднялся на третий этаж.
В тот раз, вспоминает Браславский, голос Вертова был чуть приглушенным:
— Я прошу вас, Лепя, взяться за эту работу.
— Я не хочу этим заниматься, Денис Аркадьевич.
Браславский пишет, что разговаривать с Вертовым было легко, он все понимал.
— Журнал все равно должен выйти, — по-прежнему спокойно возразил он. — У вас будет другой режиссер. Вам будет помогать Елизавета Игнатьевна.
Браславский вспоминает, что, к счастью, у него хватило ума понять: раз за это дело берется Свилова, то его отказ оскорбит их обоих.
«— А вы? — только спросил я.
Он впервые улыбнулся, еще больше прикрыв глаза.
— Обо мне не беспокойтесь, Леня, — сказал он с едва уловимым юмором. — Дзига Вертов умер».
Вертов любил веселую шутку, но в трудную минуту шутил мрачно.
В свободное время Вертов ездил в гости на дачу к Ильину и Сегал, к Дейчу, с Каравкиным купаться в подмосковных речках.
По дороге он любил отгадывать профессии соседей по электричке. Игра в отгадывание была отзвуком мечты о съемках живых документальных людей.
Канун Октябрьских праздников, 6 ноября, Вертов и Свилова проводили всегда с Ильиными.
В 1953 году Илья Яковлевич лежал в больнице, ждал операции.
Вертов все равно приехал к Елене Александровне и отправился с ней в больницу. Он думал, что его не пустят, и написал записку Ильину: «…Уверен, что Ваша победа подтолкнет и мою».
Вертов худел, черты лица заострились.
Десятого ноября Ильину сделали операцию, в ночь на шестнадцатое он скончался.
Вскоре положили в больницу Вертова.
Через некоторое время он пишет письмо хирургу Сергею Сергеевичу Юдину с просьбой отпустить его домой на месяц или хотя бы на три недели, чтобы снять нервное переутомление, вызванное двухмесячными исследованиями и личной травмой — похоронами после успешной как будто операции своего лучшего друга — брата писателя Маршака — Ильина. У творческого человека переживания боли другого иногда принимают, объяснял Вертов, образный характер. Ты начинаешь чувствовать его боль, мучаешься вместе с ним после операции, лежишь с ним в гробу, опускаешься в крематорий.
(Он даже болезнь и смерть воспринимал образно — это страшно.)
Юдин соглашается, вообще считая все сроки для операции упущенными.
Приехав домой, Вертов занялся приведением в порядок архива.
Он перекладывал или, наоборот, разъединял пожелтевшие, посеревшие, ставшие ломкими документы.
Перед ним проходила вся жизнь — в мандатах Наркомпроса, ВЦИКа, РВС фронтов и Республики, в статьях, в неистовых спорах о правах и бесправии факта вторгаться в искусство, в стихах, строках дневника.
О чем он думал? Что видел перед собой?
Может быть, людей, которые были сняты на пленку и прошли вместе с пленкой через его руки?
Скорбь жены задохшегося сторожа.
Цыганенка и Копчушку в красных галстуках, идущих сквозь строй рыночных рядов.
Марию Ильиничну Ульянову и Надежду Константиновну Крупскую.
Ленина, выступающего на Красной площади, темпераментного — весь в движении.
И Ленина неподвижного — в гробу на постаменте, обтекаемом бесконечными людскими потоками.
Наверное, Вертов вспомнит и целую галерею портретов в «Человеке с киноаппаратом».
Потом первые звуковые опыты вне заглушенного тонателье.
Первые синхронные записи: бетонщица в «Трех песнях о Ленине», рассказ парашютистки о первом прыжке в «Колыбельной», мягкий, певучий голос Сауле из «Тебе, фронт!».
Он вспомнит пылкие споры с критиками.
Споры разворачивались перед ним в вырезках из газет и журналов. Критики старались запеленать его в схему. А Вертов в ответ писал в бессонные ночи — «Смотрят в Дзигу — видят фигу».
Он вспомнит борьбу за ленинскую пропорцию показа фильмов, за честь и достоинство документального кино, за прокат своих нестандартных лент. Он был принципиален и смел в этой борьбе. Новое не воссоединяется со старым на основе беспечного дружелюбия. Так было и так будет всегда. К этому надо быть готовым. Дерзновение или разбивает камни или разбивается о них. Только не нужно ничего бояться («Не белейте, волосы, рот, не леденей-ка… не пищи вполголоса дохлой канарейкой!»).
Вертов был предан идеалам Октября не только в творчестве, в эстетике, но и в этике каждодневного поведения. «Давай, Лиза, не завидовать ни самодовольному дельцу, ни ловкому проходимцу. Сбережем немного здоровья, и тогда чего-нибудь добьемся».
Это писалось в сорок первом году.
А теперь сберечь здоровье стало невозможным.
Накануне Нового, 1954 года Вертов получил телеграммы и поздравление, написанное от руки на вдвойне сложенном листке. На обложке была нарисована елка и написано печатными буквами: «Денису Аркадьевичу Вертову». А внутри текст: «Дорогой Денис Аркадьевич! Сердечно поздравляем Вас с наступающим 1954 годом. Желаем Вам здоровья, здоровья и здоровья. Мы с нетерпением ждем Вас на студии, на которой Вы создали много прекрасных, незабываемых картин и на которой Вы еще создадите не одну интересную работу. Уважающие Вас Саша Рыбакова, Зоя Фомина, Лия Дербышева, Валя Катанян, Элик Рязанов, Леонид Кристи. 31 декабря 1953 года».
2 января ему исполнилось 58 лет. 12 февраля 1954 года его не стало.
Вертова похоронили на Миусском кладбище, рядом с могилой матери Елизаветы Игнатьевны.
И МОЛНИЯМИ ТЕЛЕГРАММ…
Москва Лихов пер. 6
Центральная студия документальных фильмов
Коллектив киностудии Мосфильм глубоко скорбит по поводу смерти одного из старейших деятелей советской кинематографии выдающегося мастера хроникально-документальных фильмов Дениса Аркадьевича Вертова и выражает свое соболезнование семье покойного = Александров Пырьев Ромм Столпер Калатозов Довженко Райзман Кузнецова Строева Юдин Тиссэ Косматов Шеленков Магидсон Уткин Фролов
Местная Москва Большая Полянка 34 кв. 11 Елизавете Игнатьевне Свиловой-Вертовой Глубоко сочувствую Вашему горю Желаю бодрости сил навсегда сохраню памяти образ Дениса Аркадьевича замечательного человека который был другом моего любимого брата — Маршак
Местная Москва Б. Полянка 34 кв. 11 Свиловой
Дорогая Лиза только сейчас узнала о смерти моего старшего товарища дорогого Дзиги скорблю от всего сердца целую — Эсфирь Шуб
Москва Лихов пер. 6
Центральная студия документальных фильмов Дирекция творческий коллектив киностудии Ленфильм скорбит и выражает свое глубокое соболезнование коллективу студии и семье связи смертью крупнейшего мастера советской документальной кинематографии Дзиги Вертова = Глотов Эрмлер Козинцев Иванов Лебедев Хейфиц Рошаль Москвин Назаров Шапиро Левитин Хмельницкий
Москва Кинохроника Свиловой
Творческий коллектив Укркинохроники вместе вами скорбит тяжелой утратой дорогого товарища друга крупного мастера документальной кинематографии Дениса Аркадьевича Вертова=Творческий коллектив.
Вертов знал, что он человек из «будущего города». Единственно, чего боялся — старения пленки. Погибнут фильмы — тогда навсегда уйдет в небытие накопленный опыт. А в силу опыта верил всегда.
Но вряд ли представлял, что все произойдет столь молниеносно.
Дата смерти Вертова стала датой его бессмертия.
Уже в пятьдесят пятом году на вечере советского кино во Франции в зале Плейель его имя звучало во весь голос.
Он не дожил нескольких месяцев, максимум года до начала триумфального шествия его фильмов по экранам мира.
Все это не было лишь данью уважения к умершему художнику.
Пришло время сбора плодов с яблони, которую он посадил.
Во второй половине пятидесятых годов в документальном кино произошел взрыв.
Он был обусловлен многими обстоятельствами.
Документальное познание жизни, истории становится пристрастием времени. Дневники и мемуары, беллетризованные исторические биографии в литературе, романы и пьесы в письмах, эстетика документальности в игровом кино. И, наконец, взлет документального кино.
Смысл происходящих в нем перемен подчинялся основной и совершенно новой задаче: раскрыть социально-общественные явления через показ документальными средствами отдельного человека, его характера, индивидуального внутреннего мира, нюансов психологических движений.
Интересна не масса вообще, интересны самые простые обыкновенные люди, увиденные как личности со всем своим, что в них есть.
Сама история для большинства людей перестала быть лишь воспоминанием о давно минувшей старине. Люди видят в истории нечто гораздо более близкое и живое. Их интерес к ней вызван осознанием историчности сегодня переживаемых событий. Люди хотят понять свое место и предназначение в истории.
Как раз на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов в советское документальное кино приходит новое поколение. Вместе с опытными мастерами (Р. Карменом, Р. Григорьевым, С. Юткевичем, Л. Кристи. А. Медведкиным, М. Роммом) молодые художники ищут пути к внутреннему миру своих героев, раскрывая в личном важнейшие процессы общественного бытия. В своих поисках они опираются на революционный, новаторский опыт двадцатых-тридцатых годов, и прежде всего на опыт Вертова. Многие картины, созданные студиями Москвы, Ленинграда, Риги, Фрунзе, Минска, Кишинева, Вильнюса, Тбилиси, Еревана, Свердловска, Хабаровска, Куйбышева отразили принципиальные перемены, связанные с новым осмыслением передовых традиций киноискусства, рожденного Октябрем.
Одновременно возникли новые школы и направления в документальном кинематографе мира — в ГДР, Польше, Франции, Англии, США, Канаде, Японии и других странах.
В фильмах Аннели и Андре Торндайков, Г. Хайновского и В. Шоймана из ГДР, в картинах польской школы документального кино во главе с Е. Боссаком, в лентах Ж. Руша, Э. Морена, К. Маркера, Ф. Россифа, Ф. Рейшенбаха, А. Рене, Ж. Рукье, Ж.-Л. Годара (в начале его пути), А. Фабиани, А. Варда, Б. Блие во Франции, Л. Андерсона, К. Рейсца, Т. Ричардсона в Англии, Л. Рогозина, Р. Ликока, Р. Дрю, Б. Меддоу, С. Майерса, Д. Стрика в США, в работах Н. Макларена и других представителей документальной канадской школы, в фильмах кубинца X. Альвареса и многих других мастеров зарубежного документального кинематографа нетрудно увидеть (прежде всего в стремлении добиться живых и непосредственных контактов с действительностью и в отдельных формах обработки материала) то или иное влияние вертовского опыта, об этом они и сами говорили и говорят постоянно. Во Франции, например, одно из ведущих направлений было прямо названо по-вертовски — «синема-верите», «киноправда». Один из самых видных представителей французской «синема-верите» Ж. Руш в интервью болгарскому журналу «Киноискусство» (1971, № 9) объяснял, что термин «синема-верите» придуман не критиками в 1961 году, когда он вместе с Э. Мореном выпустил фильм «Хроника одного лета», целиком построенный на синхронном опросе, а был дан Вертовым — этим Жюлем Верном, который предусмотрел, каким будет кино через пятьдесят лет после него. Руш добавил, что все, что он сделал (и не только он), он мог бы посвятить памяти Дзиги Вертова.
Вышедшее в Париже в 1974 году наиболее полное исследование новых направлений в документальном кинематографе (Жиль Марсоле «История прямого кино») начинается анализом творчества Вертова как источника (или, точнее, первоисточника) достижений шестидесятых-семидесятых годов.
Многие новые зарубежные школы связывали себя лишь с какой-то одной частью вертовского наследия, в дальнейшем развитии теории касались лишь какой-то одной стороны вертовских размышлений.
Односторонность сказывалась на результатах.
Но документальное кино нашей страны и прогрессивное кино мира без Вертова уже не могли обойтись.
Не могли обойтись без множества его попыток дать живого человека на экране. Без «жизни врасплох», она помогала воссозданию достоверного поведения человека и той среды, в которой он находился. Без принципов синхронной съемки, она стала одним из ведущих способов проникновения в духовный мир людей, средством познания их мыслей, сокровенных мечтаний.
Без вертовского умения через людей вслушиваться и всматриваться в эпоху.
Были и другие причины, влиявшие на поиски в документальном кино: рост общественного сознания, подъем зрительской культуры в условиях НТР, появление такого мощного соперника в области визуальной массовой информации, как телевидение, оно оказалось гораздо более оперативным, чем кино.
У документального кино возникла возможность говорить не только о результатах (как это делается в текущей информации), но вскрывать внутренние процессы, ведущие к итогу, — рассказывать об эпохе через человека, не просто фотографируя его как на Доску почета, а приблизиться к его характеру и судьбе.
Двадцать лет Вертов ждал этого часа и не дождался двух-трех лет.
«Сыграете в ящик!» —
— язвили берущие.
Они — в настоящем.
Я весь — в будущем.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
На днях в Центральном доме кино президиум Оргкомитета Союза работников кинематографии организовал вечер, посвященный творчеству одного из основоположников советского документального кино режиссера Дзиги Вертова… С воспоминаниями о творческом пути Вертова выступили кинорежиссер И. Копалин, кинодраматург Ю. Каравкин, критик Н. Абрамов и писатель В. Шкловский. Собравшимся были показаны фрагменты из фильмов Д. Вертова.
«Моск. правда», 1959, 29 марта
В связи с фестивалем мне пришлось впервые посмотреть документальную кинокартину «Шестая часть мира» Дзиги Вертова. Этому фильму уже более тридцати лет. Он вошел в историю. Но он до сих пор сохранил актуальность.
Жорж Садуль, — «Правда», 1959, 11 августа
Вера в целеустремленную правду, в силу эмоционального воздействия документа, в образность факта объединила талантливую группу «киноков» и вдохновила одного из интереснейших деятелей советской кинематографии, новаторство и влияние которого на развитие киноискусства невозможно переоценить. Без «Симфонии Донбасса» и «Трех песен о Ленине» не было бы многих кадров и сюжетов в наших документальных фильмах, хотя авторы их, может быть, и не подозревают, что они приняли эстафету Дзиги Вертова.
С. Образцов. — «Искусство кино», 1960, № 8
Поэтому не случайно и свой славный путь советское киноискусство начало с боевой хроники, с «киноправды» Дзиги Вертова, воспевшего первые трудовые подвиги советских людей.
С. Юткевич. — «Правда», 1961, 9 июля
ДЗИГА ВЕРТОВ… Человек большого таланта, оригинального ума и горячего сердца. Человек трудной судьбы. Работы Вертова «Кино-Правда» и «Кино-Глаз», его фильмы «Человек с киноаппаратом», «Три песни о Ленине» прославили советское кино во всем мире. Издательство «Искусство» готовит к печати книгу Дзиги Вертова «Избранное» — первое систематизированное собрание основных творческих трудов мастера поэтической «киноправды».
«Сов. экран», 1965, № 4
Документальный фильм — совесть кино… В лучших фильмах Вертова отчетливо ощутимы влюбленность художника в новую действительность, создаваемую революционным творчеством масс, его постоянное и страстное стремление сделать документальный фильм оружием борьбы за социализм.
Л. Караганов. — «Моск. правда», 1964, 2 июня
Вслед за итальянским издательством «Бьянко э неро», выпустившим в переводе на итальянский книгу советского историка кино Н. П. Абрамова «Дзига Вертов», лионское издательство «Первый план», специализирующееся на монографиях о выдающихся деятелях киноискусства, напечатало французский перевод этой книги.
«Искусство кино», 1965, № 5
В свое время Виго и Клер во Франции, Вертов, Эйзенштейн, Александров, Козинцев в СССР опередили кино на 20–30 лет, и сейчас их творения свежее «новой волны».
Джузеппе Де Сантис. — «Спутник кинофестиваля», 1965,№ 12
Миллионы зрителей в зарубежных странах восторженно встречали фильмы С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко, Дзиги Вертова, рассказывавшие о великих классовых битвах, о строительстве социализма, начавшемся на одной шестой части земного шара.
«Правда», 1965, 23 ноября
В связи с юбилеем во Всесоюзном государственном институте кинематографии постановлением правительства учреждены стипендии имени выдающихся кинематографистов — Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, братьев Васильевых и Дзиги Вертова.
«Веч. Москва», 1969, 9 августа
Все западное кино в долгу перед Вертовым за его революционный поиск. До Вертова документалисты снимали изображение, после Вертова они научились снимать идеи.
Фредерик Россиф. — «Искусство кино», 1971, № 2
Жан Руш и Крис Маркер настолько открыто заявили себя последователями Вертова, что вызвали к жизни жанр, заимствованный у Дзиги Вертова — жанр «киноправды» (синема-верите).
Жорж Садуль. — «Искусство кино», 1971, № 2
Когда мы надеемся найти что-нибудь новое, то вдруг обнаруживаем, что в 20-е или 30-е годы Вертов уже изобрел все это в теории и доказал на практике… Все современное кино вышло из его фильмов.
Жан Руш, — «Искусство кино», 1971, № 2
Женева. 27 января (ТАСС). Показом музыкальной кинокомедии Александрова «Волга-Волга» вчера в Женевском университете открылась кинонеделя советских фильмов. В течение семи дней зрители ознакомятся с 14 произведениями советского киноискусства 20–30-х годов… Зрители также увидят кинофильмы «Дезертир» режиссера Пудовкина, «Симфония Донбасса» Вертова, «Земля» Довженко и другие.
«Веч. Москва», 1971, 27 января
Проходят годы, и то, что раньше смотрели немногие, начинают смотреть многие. Примеров сколько угодно — вспомним хотя бы новое возрождение фильмов Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна в мировых театрах классического кино.
Г. Козинцев. — «Сов. экран», 1971, № 10
Р. Серебренников (корр. ТАСС — для «Советской культуры», Париж): В Париже издана книга Жоржа Садуля «Дзига Вертов», последняя работа крупнейшего французского кинокритика, посвященная творчеству выдающегося советского документалиста. Автор собрал богатейшие материалы, которые позднее были систематизированы и изданы его друзьями. Книга является одной из самых фундаментальных монографий, появившихся на Западе по творчеству Дзиги Вертова.
«Сов. культура», 1971, 21 декабря
«Броненосец „Потемкин“» возглавил список 100 лучших фильмов мира… Инициатором опроса выступило в прошлом году крупнейшее итальянское издательство «А Мондадори» (Милан)… В этом же ряду находится шедевр советского мастера Всеволода Пудовкина «Мать»… Замыкает список первых десяти фильмов уникальная кинопоэма «Земля», созданная Александром Довженко. В списке ста фильмов мы находим еще семь советских картин: «Андрей Рублев» Тарковского, «Чапаев» братьев Васильевых, «Александр Невский» и «Старое и новое» Эйзенштейна, «Арсенал» Довженко, «Человек с киноаппаратом» и «Три песни о Ленине» Дзиги Вертова.
Вайсфельд И. — «Веч. Москва», 1978, 13 марта
Вскоре после смерти Вертова в различных кинематографических изданиях нашей страны появляются подборки документов из архива Вертова. В 1962 году выпускается монография И. П. Абрамова «Дзига Вертов». В 1966 году выходит избранное Вертова, книга «Статьи. Дневники. Замыслы», собранная в архиве Елизаветы Игнатьевны Свиловой-Вертовой историком кино Сергеем Дробашенко с его вступительной статьей. Режиссер Леонид Махнач по сценарию Дробашенко выпускает полнометражный фильм о Вертове «Мир без игры».
Печатаются статьи, частично или целиком посвященные Вертову.
Союзом кинематографистов СССР создается выставка о его жизни и творчестве, побывавшая во многих странах.
В 1967 году прах Вертова перенесли на Ново-Девичье кладбище, на могиле была установлена стела из темно-красного полированного мрамора с фамилией и именем и с вырубленным контуром пламени.
В 1970 году к 100-летию В. И. Ленина выпускается в новой редакции фильм «Три песни о Ленине». В 1972 году в серии «Шедевры советского кино» об этом фильме издается книга. В 1976 году выходит в свет сборник «Дзига Вертов в воспоминаниях современников», собранный Е. И. Свиловой и А. Л. Виноградовой под общей редакцией профессора И. В. Вайсфельда. Елизавета Игнатьевна Свилова-Вертова не успела увидеть книги, сборник вышел вскоре после ее смерти.
Киноэнциклопедии мира (в частности, вышедшая в 1967 году во Франции «Энциклопедия кино» Рожера Буссино), не жалея места, посвящают Вертову обширные статьи.
Синематеки и киномузеи социалистических стран, а также Франции, Австрии, Италии, Латинской Америки периодически и с огромным успехом проводят вертовские ретроспективы.
Но художественное наследие Вертова не остается лишь «музейным экспонатом» киноклассики.
В разгар массовых молодежных выступлений на Западе конца 60-х годов директор французской синематеки Ланглуа, приглашенный для чтения курса по истории кино в самый «мятежный» университет в Нантере, свою первую лекцию (по свидетельству С. Юткевича) прочитал о Вертове.
В шестьдесят восьмом году во Франции Люда и Жан Шнитцеры в серии «Антология кино» (апрельский выпуск) публикуют книжку о Вертове.
А в 1978 году во французском журнале «Экран-78» печатается статья «Кому принадлежит Вертов?».
В мире имя Вертова до сих пор находится на острие не только яростных эстетических, но и политических споров.
Споры не иссякают, а выводы из них часто далеки от точного понимания истинных позиций художника и так же пестры, как пестра картина мирового документального кино.
Но Вертов словно и это предвидел. Он давно ответил на вопрос «кому принадлежит?», стоит лишь еще раз вспомнить его стихотворные строки: «Кино-глаз — не теченье левое или правое, а движенье за киноправду».
Этими строками Вертов не ставил себя вне политики, над схваткой. Наоборот. Борьба за киноправду, как всегда, была борьбой за коммунистическую расшифровку действительно существующего. Он вошел в искусство художником, рожденным Октябрем. Им навсегда и остался.
26 мая 1946 года секция документального фильма Дома кино устроила встречу с Вертовым. Он рассказал о своем творческом пути, построил рассказ, как это делал часто, в третьем лице.
Свое выступление закончил словами: «Дзига Вертов только начинается. Он посадил и вырастил необыкновенную документальную яблоню, которой привил сотни культурных яблок. Мы пока пользуемся только двумя-тремя сортами. Но мы должны честно признать: Дзига Вертов сделал то, что он сделал».
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Дружеский шарж худ. П. Галаджева

«История гражданской войны»

«История гражданской войны»

«Кино-Правда»

«Кино-Правда»

«Ленинская Кино-Правда»

«Ленинская Кино-Правда»

«Ленинская Кино-Правда»

«Ленинская Кино-Правда»

Плакат худ. А. Родченко

«Кино-Глаз»

«Кино-Глаз»

«Кино-Глаз»

«Кино-Глаз»

«Кино-Глаз»

«Шагай, Совет!»

«Шагай, Совет!»

«Шагай, Совет!»

«Шестая часть мира»

«Шестая часть мира»

«Шестая часть мира»

«Шестая часть мира»

«Одиннадцатый»

«Одиннадцатый»

«Одиннадцатый»

«Человек с киноаппаратом»

«Человек с киноаппаратом»

«Человек с киноаппаратом»

«Человек с киноаппаратом»

«Человек с киноаппаратом»

«Симфония Донбасса»

«Симфония Донбасса»

«Симфония Донбасса»

«Симфония Донбасса»

«Симфония Донбасса»

«Симфония Донбасса»

«Симфония Донбасса»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Три песни о Ленине»

«Колыбельная»

«Колыбельная»

«Колыбельная»

«Колыбельная»

«Колыбельная»

«Серго Орджоникидзе»

«Серго Орджоникидзе»

«Три героини»

«Тебе, фронт!»

«Тебе, фронт!»

«Тебе, фронт!»

ОТ АВТОРА
В течение многих месяцев я почти каждое утро звонил в дверь квартиры на шестом этаже большого кирпичного дома на углу Полянки и Хвостова переулка, в который еще в конце тридцатых годов переехали Денис Аркадьевич и Елизавета Игнатьевна. Елизавета Игнатьевна открывала мне дверь и проводила в комнату. На стенах висели фотографии, фотокопии различных документов — материалы выставки Дзиги Вертова, побывавшей уже во многих странах мира.
Я садился за письменный стол, и на него ложились папки. Елизавета Игнатьевна снимала их со специально сделанных полок. В папках хранились пожелтевшие листки, заполненные четким почерком или аккуратным шрифтом старой вертовской машинки. Каждая строчка дышала сжигавшей человека страстью — творить на киноэкране правду, только правду.
Написав эту книгу, я принес бы, конечно, первые слова благодарности Елизавете Игнатьевне Вертовой-Свиловой, но, увы, я могу только низко поклониться ее праху…
За поддержку, советы и помощь я обязан глубочайше поблагодарить многих людей. Не имея возможности перечислить всех, хотел бы назвать И. В. Вайсфельда, A. Л. Виноградову, H. Н. Клеймана, В. С. Листова, В. М. Магидова, С. И. Юткевича. Я благодарю также сотрудников Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР, Государственного Фильмофонда СССР, Центрального государственного архива литературы и искусства СССР, даривших радость встречи с документами Вертова на пленке и бумаге.
Москва, 1981 г.
Примечания
1
Датой отсчета для юбилея служил Декрет СНК «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения», подписанный В. И. Лениным 27 августа 1919 года.
(обратно)
2
9 ноября 1921 г., обсуждая отложенный на неделю вопрос об отпуске просимой П. И. Воеводиным суммы (около 2 млрд. рублей) для закупки пленки, СТО отклонил проект декрета по этому вопросу. В. И. Ленин на данном заседании не присутствовал.
(обратно)
3
А. А. Падерина — заместитель секретаря Совнаркома.
(обратно)
4
Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. М., «Искусство», 1973, с. 163.
(обратно)
5
Вертов Дзига. Статьи. Дневники. Замыслы. М., «Искусство», 1960.
(обратно)
6
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 7–8.
(обратно)
7
Вертов имел в виду: написана фильма, в женском роде, как тогда употреблялось это слово.
(обратно)
Оглавление
Л. М. Рошаль
Дзига Вертов
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЭПИЛОГ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОТ АВТОРА
*** Примечания ***

 Путь, который проходит художник, сродни дорогам сказочных богатырей: неизведанный, таинственный, со множеством препятствий, неожиданностей и с неистребимой жаждой дойти до цели.
Есть шуточный рисунок — васнецовский богатырь застыл в задумчивости перед волшебным камнем с начертанным на нем искренним, дружеским советом: «Иди домой!»
Тот, о котором рассказывает эта книга, никогда не возвращался.
Шел дальше.
Это был путь обретения.
Путь открытий в искусстве, рожденном Октябрем.
Эти открытия поставили Вертова в ряд выдающихся мастеров советского и мирового киноискусства.
Многое на этом пути было внове. И принципиальная поддержка тех, кто ясно осознал плодотворность для революционного искусства предпринятых Вертовым поисков, нередко сталкивалась с мнениями, основанными на непонимании его открытий, на не очень верных или совсем неточных подсчетах только промахов и ошибок.
Путь, который проходит художник, сродни дорогам сказочных богатырей: неизведанный, таинственный, со множеством препятствий, неожиданностей и с неистребимой жаждой дойти до цели.
Есть шуточный рисунок — васнецовский богатырь застыл в задумчивости перед волшебным камнем с начертанным на нем искренним, дружеским советом: «Иди домой!»
Тот, о котором рассказывает эта книга, никогда не возвращался.
Шел дальше.
Это был путь обретения.
Путь открытий в искусстве, рожденном Октябрем.
Эти открытия поставили Вертова в ряд выдающихся мастеров советского и мирового киноискусства.
Многое на этом пути было внове. И принципиальная поддержка тех, кто ясно осознал плодотворность для революционного искусства предпринятых Вертовым поисков, нередко сталкивалась с мнениями, основанными на непонимании его открытий, на не очень верных или совсем неточных подсчетах только промахов и ошибок.