Вершины, уходящие в космос
 «Новое свидетельство больших достижений — и больших возможностей — нашей науки и техники — это успешные полеты космических станций «Луна-16» и «Луна-17», впервые осуществивших автоматическую доставку лунного грунта на Землю и исследование поверхности Луны с помощью управляемого с Земли автоматического лунохода».
Из речи товарища Л. И. Брежнева в Ереване на праздновании 50-летия Советской Армении
«Новое свидетельство больших достижений — и больших возможностей — нашей науки и техники — это успешные полеты космических станций «Луна-16» и «Луна-17», впервые осуществивших автоматическую доставку лунного грунта на Землю и исследование поверхности Луны с помощью управляемого с Земли автоматического лунохода».
Из речи товарища Л. И. Брежнева в Ереване на праздновании 50-летия Советской Армении
Годы как горы. Надо, пусть мысленно, отдалить взгляд, чтобы предстал масштаб сделанного страной в минувшее пятилетие. Этому самое место и время в канун XXIV съезда КПСС.
Но какие журнальные страницы вместят все? Впрочем, о размахе и силе волны можно судить по взлету ее гребня. Такому хотя бы, который в минувшее пятилетие донес творения ума и рук советского человека до равнин далеких миров солнечной системы. А теперь отступим во времени, чтобы шире был обзор.
Голос человека унесся в космическое пространство задолго до полета Гагарина. В этой ушедшей с Земли радиопередаче не было ничего необычного; просто радио оказалось тем первым изобретением, которому стали тесны пределы земного шара. Не исключено, что волна, десятилетия назад умчавшая в космос звук человеческой речи, невероятно ослабленная и стертая, вибрирует сейчас где-то в окрестностях Сириуса...
Еще одна «космическая» черта проявилась в радио: для его развития потребовались лампы со средой, отдаленно напоминающей межпланетный вакуум.
На первые робкие признаки космизации техники никто, понятно, не обратил внимания. Они, однако, множились. Экспериментаторы достигли температур, близких к абсолютному нулю. Вспыхнула нагретая до звездного жара плазма. Радиация стала инструментом науки и практики. Все больше становилось зон, куда человеку нельзя было войти для работы и опытов из-за господствующих там неземных условий. Человек вызвал к жизни космические силы прежде, чем столкнулся с ними лицом к лицу вне Земли. Назревала научно-техническая революция, и искусственное создание этих сил, так же как и освоение пригодной для космической среды техники и технологии, было существенным ее признаком.
Это бы характерно и для тех работ, которые отнюдь не были нацелены в космос
О чем писал академик Иоффе, занимаясь теорией полупроводниковых преобразователей лучистой энергии в электрическую? О домах, покрытых батареями, которые обогревали бы и освещали город. Этого нет и по сей день, но солнечные батареи решили проблему питания лунохода, как перед этим они решили проблему подзарядки спутников и автоматических межпланетных станций.
Нужды практики категорически потребовали сварить друг с другом металлы, которые известными способами надежно соединить не удавалось. Они вызвали к жизни теорию и метод сварки в вакууме до того, как поведение самопроизвольно «сваривающихся» в космосе металлических поверхностей прибавило забот конструкторам внеземных машин.
Если бы рост гор не сдерживался эрозией, их вершины одна за другой очутились бы в космосе. Развитие творений человеческого ума не знает ограничений. Они неизбежно должны были выйти за пределы Земли. Это всем было ясно, этого все ждали. Но когда это случилось в октябре 1957 года, мир тем не менее ахнул.
Чем выше пик, тем шире его основание. В технике то же самое. Миру тогда впервые столь бесспорно открылась мощь научно-индустриального фундамента нашей страны, когда первый в мире советский спутник и первый в мире советский космонавт пробили человечеству дорогу в космос.
Научно-техническая революция — вот двигатель, которым надо было овладеть для выхода в космос. Социализм показал здесь образец использования научно-технической революции для направленного достижения великой цели.
Когда Колумб причаливал к берегам Америки, то его мечта не шла дальше пряностей и золота. Пряностей там не оказалось, золота, правда, нашлось немало (это, кстати сказать, затормозило развитие ремесел в Испании, расстроило экономику и способствовало крушению могучей империи).
Золота в космосе никто не искал и искать не собирается. Есть рудник куда богаче, чем все прииски мира, и его поля в космосе безбрежны. Этот рудник — знания.
Житель Магадана, включая телевизор, знает, что передача стала возможной благодаря спутникам связи. Житель какого-нибудь тропического острова, вовремя предупрежденный об урагане, может и не знать, что его спас метеорологический спутник, следящий за движениями циклонов. Дело от этого не меняется. Все это стало реальностью за десять с небольшим лет благодаря освоению околоземного пространства.
(Все-таки поразительно: какая-то частичка нашего труда, вложенного в космос, где-то за тридевять земель окольными путями вдруг сохранила чью-то жизнь...)
Впрочем, реальностью стало не только это. Доказано, что спутники могут предупреждать о лесных пожарах, таянии льдов, болезнях растительности подчас гораздо быстрей и эффективней, чем наземные службы. Возникает вопрос — в какой отрасли народного хозяйства, в чьей сугубо земной деятельности не присутствует или не будет завтра присутствовать космос? В труде колхозников, которые слушают метеосводку, чья точность и надежность непрерывно повышается спутниками? В труде лесоводов? Ирригаторов, которым важно знать, как ведут себя горные ледники?
Но не всякая отдача столь молниеносна. В 1893 году американский конгресс урезал ассигнования топографическому управлению. «Топографическое управление стало настолько бесполезным, — заявлено было в конгрессе, — что один из самых выдающихся его работников (геолог Гров Гилберт) не может найти лучшего применения своему времени, чем сидеть целую ночь и глазеть на Луну».
Действительно, куда уж дальше — геолог глазеет на Луну!

Даже сегодня трудно определить истинную ценность подобного занятия. Но мерки изменились. Ждем ли мы от лунохода известия, что он набрел на россыпь алмазов? Нет. Даже если бы такое, случилось, то значимость подобного факта определялась бы отнюдь не обилием найденных драгоценностей, а вкладом в теорию. Ибо нет ничего практичней хорошей теории.
Прогнозисты озабочены тем, на сколько десятилетий человечеству хватит нефти. Во многих странах, как, например, в СССР, геологи непрерывно открывают все новые и новые крупные месторождения, — мы богатеем, хотя добыча и растет. Но в некоторых странах запасы иссякают, несмотря на усиленную разведку.
Какое отношение имеет эта злободневная, казалось бы, чисто экономическая проблема к далеким лунным равнинам? Имеет, однако.
Нефть, по мнению большинства, продукт жизнедеятельности организмов былых геологических эпох. Раз так, то ее запасы, быть может, огромны, но конечны. Есть, однако, другая точка зрения: нефть — вся или частично — результат глубинных химических реакций; поэтому ее источник практически неиссякаем.
Спор длится со времен Менделеева, и от установления истины зависит многие. Как и на что тратить нефть? Хватит ли ее нашим внукам? Где ее искать, наконец? Вот именно — где искать. Практики свято верят теории органического происхождения нефти и верят не зря: она дает рекомендации, которые оправдываются. Сильны и научные доказательства правоты «органиков». А сомнения остаются. Поверхностные слои земли столь богаты органикой, что нет места, которое дало бы «чистый» результат. Вот, казалось бы, граниты... Во всех учебниках сказано, что граниты — это глубинные породы, которые возникли при остывании расплава. Верх бессмысленного искать в них, допустим, раковины моллюсков. Тогда чего проще — надо пробурить граниты на большую глубину: нет там нефти — конец теории неорганического происхождения; есть — да здравствует эта теория!
Однако совсем недавно советские ученые нашли в гранитах фауну. (Это столь важное и интересное событие, что мы подробно расскажем о нем в очередном номере.) Стало ясно, что по крайней мере часть гранитов возникла не из расплава, возникла без участия высоких температур. Не так-то просто на Земле найти место, где природа поставила опыт образования толщ без участия органики...
Этот опыт тем не менее поставлен самой природой на Луне. Там не обнаружено ни малейших признаков жизни. Окажется там нефть — значит, и на Земле она способна возникать без участия организмов. Не окажется.... Что ж, будет получен по, крайней мере однозначный ответ.
Вот, в частности, чего ждут геологи, «глазея на Луну?»
Не одного этого; конечно. Странно, но до конца 50-х годов среди ученых господствовало мнение, что Луна — геологически мертвый мир. Не очень даже понятно, почему такое мнение сложилось; были факты, которые явно показывали, что на Луне происходят какие-то загадочные и крупные изменения. В 1645 году астроном Гевелий отчетливо наблюдал кратер, чей поперечник равнялся 11 километрам, кратер Линнея. Вскоре после этого кратер... исчез. Почти двести лет астрономы отмечали на его месте какое-то белое пятно. Однако в первой половине XIX века кратер снова появляется. Его наблюдают, зарисовывают, измеряют. Но в 1866 году его снова не обнаруживают! Нет кратера Линнея на положенном месте и по сей день.
Были и другие случаи «пропажи». Сначала был, потом исчез, затем снова появился и снова исчез кратер Таке. Что ж, это маленький кратер. Но менее ста лет назад пропал и больше не появлялся кратер Альхазен, чей поперечник равен примерно 30 километрам!
Однако убеждение, что Луна — это мертвый геологический мир, было настолько велико, что когда в 1958 году советский астроном профессор Н. А. Козырев обнаружил извержение лунного вулкана, то ему сначала не слишком поверили.
Все это сейчас уже «древняя история». Ясно, что Луна имеет сложную геологическую судьбу и что силы тектонизма там отнюдь не уснули. Изучение ее может решительно повлиять на все геологические теории. И вот почему.
Случай с гранитами, о котором уже шла речь, показывает, что наши знания каменной толщи Земли весьма далеки от совершенства. Главная причина, пожалуй, та, что по-настоящему исследована лишь тонкая пленка поверхности; в глубины нам пока доступа нет. Земную же кору формировали как внутренние тектонические процессы, так и процессы внешние — деятельность атмосферы, гидросферы и биосферы. Поэтому в явлениях геологии не всегда просто выделить долю труда каждого «скульптора». Ситуация примерно та же, как если бы по образцу бронзы мы пытались установить отдельно свойства меди и отдельно олова без надежды разделить смесь.
На Луне нет атмосферы, нет гидросферы, нет биосферы. Результат деятельности тектонических процессов там замаскирован куда менее, чем на Земле. Можно даже сказать, что планетарные глубины, скрытые на Земле толщей переработанных воздухом, водой, жизнью пород, на Луне предстают обнаженными. Конечно, тут необходимы поправки — лунные породы подвергались еще воздействию температур, радиации, метеоритов. И все-таки на том берегу космического пролива мы попадаем прямо в кузницу Плутона, которая на Земле глубоко спрятана.

И это не все. Представьте себе ботаника, которого подвели к незнакомому растению, предупредив, что препарировать и класть под микроскоп растение нельзя; выкапывать и пересаживать тоже; его можно лишь наблюдать и трогать, да и то в течение секунды. А выяснить нужно, как живет это растение, каково его «устройство» и какие надо предпринять меры, чтобы оно плодоносило круглый год. Безумные условия, но именно так приходится работать исследователям Земли. Одна-единственная планета, над которой не поставишь эксперимент, которую нельзя препарировать и которая кажется взгляду застывшей, потому что наши столетия для нее миг. А ответ надо дать и чисто практический: где, почему и как концентрируются руды; можно ли рудообразованием управлять; что такое землетрясения и как с ними бороться.
Вопрос задан самой жизнью, а ответ...
Есть все основания думать, что освоение космоса ускорит его, как ничто другое. Ибо природа, как уже говорилось, сама ставит эксперименты. Если химик желает знать, как поведет себя объект при повышенной температуре, он ее повысит. С земной корой так не поступишь. Но есть Венера, чья кора нагрета с поверхности куда сильней, чем земная, есть Меркурий — уж совсем раскаленная планета.
Неясно, какую роль в распределении элементов и рудообразовании играет поле тяготения Земли? Пожалуйста, имеется Луна, чья гравитация куда слабей, Венера почти с таким же, как у Земли, полем тяготения, Марс, занимающий промежуточное положение.
И так далее. У исследователей появилась возможность сравнивать и сопоставлять планеты. Вот что приблизит искомый результат — способ управления геологическими процессами, будь то землетрясения или таинство накопления металлов.
История, однако, свидетельствует, что самым важным часто оказывается не то, чего ждешь, а, наоборот, то, чего заранее нельзя предвидеть. От Нового Света ждали вещей привычных. Не кукурузы, не картофеля, не того, что животный мир никому не нужных Галапагосских островов подскажет Дарвину идею возникновения видов.
Вот это самое интересное — что в космосе сыграет роль Галапагосских островов?
Странно, если первым таким местом не окажется Луна. И до полетов туда было известно немало ее загадок. Не только исчезающе-возникающие кратеры. Были, например, еще кратеры-призраки. Были и есть. На одноцветной равнине глаз наблюдателя вдруг замечает какое-то бледное кольцо. Кратер? Но его вал не отбрасывает тени. Кольцо иначе окрашенной породы? Тогда почему оно не всегда видно?
Точно так же до сих пор неизвестна природа светлых лучей, которые радиально тянутся от многих кратеров, не считаясь с рельефом, на сотни, иногда на тысячи километров.
Сейчас нелепо строить гипотезы о том, что все это значит. Подождем немного — и выяснится. (Судя по последним сообщениям с лунохода, имеются, например, кратеры, обнаружить которые непросто даже с близкого расстояния. Чем не кратеры-невидимки?)
Но возможно, что выяснение одной загадки поставит перед нами другую, еще более трудную. Мы уже знаем, что Луна на этот счет таровата. Уже были добыты первые образцы лунных пород, проанализированы, изучены. Распределение некоторых элементов в них заставило ученых задуматься. Но не успели выкристаллизоваться гипотезы, как лунный вездеход преподнес новые неожиданности. В районе, который он обегал, породы оказались куда разнообразней, чем это можно было предполагать, глядя в телескоп на однотонные пространства лунных морей. Вот выдержка из доклада на госкомиссии: «...Исследования химического состава лунного грунта проводились много раз. Любопытно, что количество титана резко колеблется. Луноход прошел около 200 метров, расстояние не очень большое, и, казалось бы, содержание элементов должно быть одинаковым. Однако нам уже удалось зарегистрировать разницу в содержании титана почти в два раза. Аналогичные данные и по другим элементам...»
Примерно за год до этого был обнаружен и другой феномен: Луна от удара гудит в течение долгих часов! Нет на Земле колокола или пустоты, которые могли бы так долго вибрировать. Теоретически — и то не слишком понятно, как это может быть. Огромные резонирующие полости в теле Луны? Видимо, так, но какие их свойства позволяют им так долго хранить возбужденные колебания? Сюрприз прямо и непосредственно затронул ту область физики, которой вроде бы космические исследования никак не касались.
И это характерно. Водоворот космизации стремительно ширится. Трудно сыскать науку, которая не была бы им затянута. Растениеводство? Но уже ставились опыты по выращиванию огурцов в атмосфере Марса (камера, где велись опыты, находилась, понятно, на Земле). Лингвистика? Идет разработка и совершенствование «космического языка» — линкоса. Геодезия? На нее работает установленный на советском луноходе французский лазерный отражатель. Продолжение этих работ позволит замерить пока неуловимое движение материков, если они действительно удаляются друг от друга, как утверждает одна из гипотез.

Насколько раздвинулись все горизонты! Раздвинулись сразу, едва произошел прорыв в космос. Лет десять назад советский инженер Черенков предложил... изгнать с нашей планеты зиму и ночь (создав вокруг Земли кольцо отражающей солнечный свет пыли). Примерно в то же время советский географ И. Забелин и позднее американский астроном К. Саган предложили проект изменения венерианской атмосферы путем «засева» планеты растениями типа водорослей, которые бы переработали углекислоту венерианского воздуха и напоили бы атмосферу кислородом (в том случае, разумеется, если планета безжизненна). Новые данные о Венере, переданные советскими автоматическими станциями, показали нереальность проекта Забелина — Сагана. Проект Черенкова сейчас осуществить легче, чем десять лет назад, но он, надо полагать, никогда не будет осуществлен, так как «изгнание ночи и зимы» разрушило бы земную биосферу. Дело, однако, не в этом. Дело в том, что мы стали мыслить масштабами космических реконструкций.
Всем известны слова Циолковского, что человечество не может вечно жить в колыбели. А почему, собственно? Нельзя решить проблему долгосрочного и точного прогноза погоды без исследования атмосферного и заатмосферного пространства. Трудно, если вообще мыслимо, решить важные проблемы геологии без изучения других планет. И так далее. Но исследовать — это одно, а рассматривать всю солнечную систему (и только ли солнечную?) как грядущий дом человечества, куда мы закладываем сегодня первые камни, это, знаете ли, нечто совсем другое. Зачем? Затем, что этого требует жизнь.
Нельзя сравнить современный воздушный лайнер с «этажеркой» первых лет авиации. Каким риском были эти полеты, какой угрозой тут был сильный порыв ветра! Сейчас пассажирские самолеты спокойно летают над полюсом, и никто такой полет не считает опасным. Но дело здесь не только в мощи турбин и качестве оборудования. Безопасность обеспечивается еще и многочисленной службой, которая следит за облачными фронтами на всей планете, которая держит в поле своего зрения буквально всю атмосферу. Авиатор начала века очень удивился бы, узнав, что без такой службы нельзя летать...
Одно, как видим, тянет за собой другое. Хочешь летать на самолете — изволь осваивать атмосферу. Хочешь как следует освоить атмосферу — выходи в космос. Вышел в космос... Нет последнего рубежа, возле которого можно остановиться и сказать: «Нет нужды идти дальше».
Тем более что, кроме заказа сегодняшнего дня, есть заказ будущего. Такой, например. Чем мощней энергетика, тем, понятно, сильней промышленность, но тем больше выделяется в атмосферу тепла. Сейчас этим можно пренебречь. И еще долго можно будет пренебрегать. Но уже к концу XXI века деятельность человека может ощутимо повысить температуру Земли, что по многим причинам нежелательно. Очевидно, развитие только земной индустрии имеет предел. Значит, производство должно выйти за пределы земного шара. Не сегодня, даже не завтра. Но плацдарм должен быть готов уже завтра.
Поэтому, когда мы говорим, что полеты в космос, к Луне, к далеким планетам служат делу всего человечества, то в этих словах заключен великий смысл. Это работа на благо своей страны, на благо настоящего и будущего, на благо всей Земли.
В лазерном луче свет обретает яркость тысяч солнц. Таким «лазерным лучом» научно-технического прогресса стала работа лунного вездехода. Как до этого им был полет первого спутника. Полет первого космического корабля. Прилунение первой автоматической станции. Первый зондаж венерианской атмосферы. Лунный день не раз сменялся лунной ночью, температура прыгала от плюс ста с лишним до минус ста с лишним, за кратером следовал кратер, — более чем за три месяца луноход не знал ни одного отказа. Экзамен держал не только он. Отечественная радиоэлектроника, отечественное приборостроение, автоматика, металлургия, прикладная физико-химия — все выкованные нашей наукой, техникой и промышленностью звенья работали столь безупречно, как будто по Луне двигался не опытный образец инопланетного транспорта, а давным-давно опробованная земная машина. Космический уровень техники — это прежде всего высочайший уровень новизны, качества и надежности. Это и новый уровень человеческого дерзания.
Минувшая космическая пятилетка началась с мягкой посадки «Луны-9». А закончилась длительной экспедицией лунохода, буднями разведки далекой Венеры. Таков сегодняшний размах наших свершений.
Д. Биленкин
(обратно)
Путешествие за риском
 «Комсомол всегда делом доказывал способность сосредоточить усилия молодежи на главных направлениях. Мы высоко ценим шефство комсомола над ключевыми объектами нашего промышленного строительства».
Из речи товарища Л. И. Брежнева на XVI съезде ВЛКСМ
«Комсомол всегда делом доказывал способность сосредоточить усилия молодежи на главных направлениях. Мы высоко ценим шефство комсомола над ключевыми объектами нашего промышленного строительства».
Из речи товарища Л. И. Брежнева на XVI съезде ВЛКСМ
Мы остались одни, даже не догадываясь, что стоим не на том шоссе. Конечно, лучше бы выйти завтра утром, но очень уж не хотелось терять вечер: мы рассчитывали, что сегодня же выйдем к лавинной станции. Еще виден был свет неба и дорога до поворота; но небо меркло, а дорога уходила за скалу. Оставалось только идти и ждать, как скоро мы останемся наедине с ночью и даже не будем знать точно, с какой стороны у нас пропасть — везде будет ночь.
Захотелось замереть, не двигаться.
Заглянув в пропасть, я не в силах был отвести взгляд. Но глаза видели только глубину, отказываясь рассматривать дно: там едва заметно сумерки шевелили темные глыбы обломков.
— Только лететь минут пять, — не удержался я.
Но Орлов не захотел смотреть вниз.
— Может, кто подвезет. Всегда так бывает: на середине кто-нибудь, а подвернется.

...Еще утром над Яванской долиной мы видели другую дорогу. Яван гляделся с нее игрушечным городом без людей, и у обочин мы находили перья орлов.
Машина встала на дыбы, опрокинув нас на спину. В ветровом стекле стояло только небо, такое чистое и голубое, что его можно было резать на куски и устилать ими минареты где-нибудь в Самарканде или Бухаре. В стекле не дрожало никакого ориентира, и я действительно не знал, поднимаемся ли мы в небо или нет. Машине с фермой на прицепе надо было подняться на гору, и гора напоминала собой лежащего на земле быка, припавшего к ней не от усталости, а чтобы прыгнуть. Путь лежал по самому его «хребту» среди торчащей шерсти трав. Я уже чувствовал противный холод внутри, а мы только взбирались на «крестец».
Трава вошла в небо снизу, но так и не вытянулась в полный рост, дорога опять запрокинула нас. И тут же справа открылся откос, весь желтый от высохшей травы. Теперь надо было развернуть машину на пятаке над пропастью, иначе передние колеса уйдут вниз. Тогда ферма, накатившись сзади, толкнет нас всем своим страшным весом. Ее масса была теперь угрожающей нам силой, готовой каждое мгновение изменить направление. Захотелось что-то сделать, но то единственное, что можно было предпринять, — это поверить Борису. И я поверил ему, но лишь умом, понимая: не может же он так запросто убить нас всех троих, в том числе и себя. И когда он вывел машину из крена и впереди до самого хребта легла за стеклом пыль избитой дороги, когда колеса разбрызгали ее фонтаном, как воду, и нас опять прижало к сиденью — теперь уже надолго, — захотелось заискивающе заговорить с Борисом. Но о чем?
— Я выскочу!
Орлов прыгнул с подножки и сразу утонул в пыли.
Я видел, как он примерялся фотографировать, но лицо его было растерянным. Он уже знал, что должно быть в кадре, и видел теперь, что ничего этого нет: в объектив не «умещались» рев мотора и мой подавленный страх, дрожь железа у нас за спиной и желваки на щеках Бориса. Мы были только железом, которое лезло и лезло вверх, потому что вниз пути не было. Мы должны были доползти к тому месту, где встанет двадцать восьмая опора.
Их было уже двадцать семь. Они возвышались на скалах и в распадках. В проводах, которые они несли на себе к далекой Нурекской ГЭС, еще не было электричества, но мачты уже готовы нести ток, который только будет. И навстречу этим двадцати семи из Нурека тянулись по скалам другие мачты, чтобы соединиться над Яваном в «электрический мост». Я подавил смешок — на нетронутой пыли меж колеями лежали глубокие следы ослиных ног, ровная цепочка давно продавленных вмятин. «Он-то куда шел?»
— Подождем? — вдруг спросил Борис.
Я высунулся. Орлов бежал так далеко, что лица не разобрать, только фигура, согнутая в беге пополам.
Он ввалился в кабину задыхаясь:
— Надо было там снимать!
— Где?
— В самом низу.
«Когда во мне был холод», — решил я.
— Там машина стояла вот так, — он показал, как она стояла, вскинув ладонь пальцами вверх. Я поймал взгляд Бориса, он тоже глядел на его ладонь.
— Еще будет так, — усмехнулся Борис. — Не бойся.
Мы ехали уже вниз и видели гору, лежавшую к нам самым широким боком. Месяц назад по ней прошел пал, и склон возвышался мрачно и черно. Только на границе огня, где пламя еще рвалось за перевал, но уже не валом, а языками, лежала сухая трава. Кусты огромных, в рост человека, трав, росшие, как на болотах, из одного корня, распадались от пламени огненными цветами. Перегорая у самого корня, они падали веером по кругу.
Огонь, как зарвавшийся в стаде волк, не успевал и не хотел пожирать упавшие травы — подрезав их под корень пламенем, он рвался вперед, к новым. И те тоже лежали теперь желтыми веерами на черной земле.
Орлов опять выскочил, но это был совсем простой участок спуска. «В награду за пережитое»? — подумал я, когда Борис сказал: «Самое страшное — ехать вниз. Прицеп бьет. И эта гармошка».

Движения фермы за спиной, которые только что казались легкими толчками, сразу превратились в удары. Резко и сильно они догоняли нас, толкая вниз коротко и жестко. Что-то огромное подпихивало нас вперед, уже не связываясь в сознании с невидимой нам платформой. И там, куда стремилась столкнуть нас эта отвратительная сила, в самом низу, среди красных камней черными жуками стояли лошади. Даже движения их не были видны. Я отвел взгляд, чтобы ничего не думать дальше. «А он-то глядит на них?» Нет, Борис не смотрел. Может, у него просто не хватало времени?
Он почувствовал мой взгляд, и почти улыбка тронула его губы: «Это ничего. На прошлой трассе я ездил с открытой дверцей».
— Все время?
— Да, — просто ответил он.
Он не хотел пугать или распространяться. Было глупо ловить его на страхе, но, как всякий человек, я жаждал убедиться лишний раз, что страх — не только моя привилегия.
— И так каждый день? — спросил я.
Он кивнул. Мы сползали по выжженной гриве «быка», все больше заваливаясь вправо. Я глянул вниз. То, что ждало нас там, если мы не выдержим крена, было огромным красным камнем. Все пути по откосу вели к нему. Вместе с прицепом мы уместились бы в одной его щели. Туда нельзя было смотреть.
Борис согнулся над баранкой, впившись в нее руками. Казалось, у него не было туловища. Локти почти касались коленей, а ноги в черных ботинках так мгновенно отвечали движениям рук, что движения эти будто так и переходили из рук в ноги, минуя тело, да оно было бы и лишним. Меня ошеломила внезапность мысли: я никогда с такой жестокой отчетливостью странного сна не видел, своих собственных ботинок, как теперь его! «Надо сказать, что у него развязан шнурок... Глупо! Не сейчас же».
Нас валило все сильней, и я поймал себя на том, что клонюсь все больше влево, почти падая на Бориса, как будто этим мог поправить крен. И тут Борис выскочил.
Я только успел отметить: он не выпрыгнул, соскочил.
— Выходи. Я лучше один... Колесо не в колее идет.
Его дверца была открыта. Я повернулся к своей, но взгляду некуда было деться — внизу лежал все тот же красный камень... Я пополз, хватаясь за сиденье, к его дверце. Борис отстранился, давая мне вылезти, но мне показалось, что он сейчас улыбнется, и, отвернувшись, я прыгнул в свою.
Машина уходила, зависнув всеми правыми скатами. Она еле двигалась. «Лучше ехать рывками, — вспомнил я слова Бориса. — Успеваешь осесть». Он так и ехал. Но в одно из мгновений, когда он высунулся, оглядывая ферму, и уже не закрыл дверцу, я чуть не засвистел ему — уже и пальцы были во рту. Крик бы он не услышал, а смотреть, как он уходит к красной скале, было выше моих сил. И тут он сделал рывок.
С глупой улыбкой радости смотрел я вслед ровно идущей машине. Так я и шел за ней следом, не замечая пыли, пока не услышал чье-то дыхание. Орлов догнал меня.
— Железо... — он говорил почти с отчаянием. — Не выйдет. Железо есть железо.
Я молчал.
— Помнишь? Как это... «Плата за страх». Все на лицах, на движении, а останови кадр, и ничего не выйдет. Как здесь.
Он не знал, что было на откосе. Не знал, что у Бориса в Душанбе жена, дети, а он уже семь лет вот так — с открытой дверцей. Да и что толку было знать это? Железо действительно есть железо. И я не хотел говорить. Все слышалось мне: «Неужели тебя не тянет на что-нибудь поспокойней? Или нет такого?» — «Есть. Почему нет? Спокойней много».
Теперь мы все шли и шли в ночь по незнакомой дороге.
— Ты знаешь, что Борис тогда сказал мне? — спросил я Орлова.
— Что?
— Я все думаю: какими бывают такие люди после работы? Ничего он тогда не сказал. Ерунда какая-то... Привык, говорит.
— А ты чего хотел?
...Откуда-то снизу на нас вынырнул старик. Он появился в двух шагах и застыл, словно материализовался из тьмы. Все было так неожиданно, что ему пришлось здороваться первым, да он, наверно, давно слышал наши шаги.
— Это не та дорога, — сказал он.
Старик оперся на посох светлеющими в темноте руками.
— Если торопитесь, идите на новую дорогу. Там много машин. Не поворачивайте в сторону. Старая дорога туда пойдет. Вы не идите.
Он словно появился, чтобы сказать нам это.
— Прямо будет маленькая дорожка... — и старик ушел в темноту. Исчезая, еще раз оглянулся и качнул посохом в нашу сторону: «Туда. Туда идите».
Через минуту мы уже недоумевали: что он называл «маленькой дорожкой»? Перед нами не было никакой. Шоссе уходило вправо и назад, крутясь обычным в горах серпентином, но там, куда старик указывал посохом, был обрыв. Мы лазали в траве почти на четвереньках: «У тебя нет?» — «Нет. А у тебя?» — «Не видно». Кто-то надолго замолкал, но проходили минуты, шуршал в траве ветер... «Видишь, там огни». — «Конечно, она должна идти вниз». — Хорошо, еще трава подсвечивает немного». — «Да. Она сухая, белая». И опять: «У тебя нет?» — «Нет». — «Может, он так называл тропинку?»
— Нашел! — по голосу Орлова я понял, что он стоит выпрямившись, но лицом не ко мне. — Кажется, нашел, — сказал он тише.
Что ж, это можно было считать тропинкой, у нее был только один недостаток: она не шла круто вниз, а огни машин светились глубоко внизу. Нехорошее сомнение пришло мне в голову.
Тропинка то и дело каким-то странным образом пропадала. Только ступнями мы угадывали ее, но, кажется, мы сменили уже не одну, уходя все дальше и дальше.
— Стой! — вдруг выдохнул он. Я замер.
— Там пропасть... Влево.
Меня качнуло в противоположную сторону от звука летящего внизу камня. Но клониться вправо было нельзя: там плечо подпирала стена, и если лечь на нее, то подошвы вставали на ребро, можно было соскользнуть вниз. Инстинктивно я провел рукой по траве — держаться не за что, сухие стебли рвались, даже когда я захватывал целый пучок.
Потные, тяжело дыша, мы стояли на краю пропасти, держа в руках сумки. «Вот оно!» Это и было тем сомнением, которое я хотел проверить. На опаленной палом горе, что мы видели у Явана, весь склон испещряли такие «тропинки». Они не шли сверху вниз, иначе легко бы подумать, что их промыли весенние воды, — они тянулись поперек склона, их было множество. Только потому, что трава выгорела, они и стали видны. Я до сих пор не знаю, как объяснить их происхождение, может, их протоптали овцы, но сейчас мы ходили по таким же. Перед глазами всплыла та опаленная гора: «Мы никогда не спустимся вниз, они просто не идут вниз. Мы будем ходить по ним всю ночь».
А как все хорошо было еще вчера!
На Нурекской ГЭС мы ходили по котловану в поисках скалолазов. Нашли их на скале.
Где-то внизу стояла табличка: «Засыпка в тело плотины». Ее отсюда не было видно.
Тело было огромным, и по нему ползали КРАЗы. Оно лежало меж двух скал, и противоположную скалу мы видели, расположившись на крошечной скальной площадке.
Тело не казалось мертвым, каким кажется всегда свеженасыпанный холм земли. Я никак не мог понять почему, пока не вгляделся до боли в глазах. Оживляли его даже не машины, они были слишком мелки, даже ничтожны по сравнению с ним — сама незавершенность плотины оживляла ее. Камни оживляли — свежие, корявые глыбы, не осевшие, не приткнувшиеся друг к другу. Отсюда, от будущей Нурекской ГЭС, и пойдет «электрический мост» к Явану.
Я смотрел вниз, пока не упал первый камень. Он скользнул, едва касаясь выступов скалы, он прыгнул, нырнул — так падают только крупные обломки — и ударился со взрывом, разбившись в прах. Еще видно было скалолазов, но пыль уже взвилась. Она шла снизу. Я лег на край площадки, еще не зная, что скоро все здесь оденется пылью. Пока она только ползла по расщелинам, повторяя изгибами все повороты трещин. Еще не поднялись клубы, они еще не оттолкнулись от скалы, взлетая вверх и в сторону, еще их не закрутил ветер, мотая из стороны в сторону и унося вверх.
Когда я оглянулся, Орлова не было. Я увидел его скользящим по тросу вниз. Пыль осыпалась, и он спускался, почти закрыв глаза. Четыре метра отделяли его от нижней, такой же, как наша, площадки, но она была под нами, и я не мог ее видеть. Трос перестал раскачиваться. Значит, он стоял внизу.
Через минуту я уже видел его: он карабкался вверх — туда, где раскачивались на веревках скалолазы.
Пыль уже подбиралась к ним, но еще видно было, как в котловане люди стоят и смотрят вверх. Не потому, что не могут работать, когда скалолазы «обирают» скалу — люди стоят далеко от подножия, — но, наверно, нельзя не смотреть на тех, кто на твоих глазах целый день рискует жизнью.
Недавний взрыв отломил часть скалы, но расшатанные взрывом камни на образовавшейся стене могли в любой миг обрушиться лавиной. «Было уже однажды, — вспомнил я слова бригадира. — Обрушился вот такой же склон».
Лом самого близкого ко мне скалолаза вошел в щель под огромным, почти висящим камнем. Теперь скалолаз раскачивался всем телом, вгоняя лом все глубже и глубже. Глыба шатнулась. Скалолаз прыгнул влево, но глыба обманула его — она не упала. Ему снова пришлось орудовать ломом. Подлетая на веревке к ее бокам, так похожий на муравья, который пытается взять непосильную ношу, он не терял надежды. Глыба шатнулась еще раз, уже сильнее. Он уловил ее угрожающее движение, и теперь ему самому надо было уходить из-под нее, готовой рухнуть вниз. Он прыгнул, и, пока он плыл в воздухе, летя в сторону, глыба медленно вышла из гнезда, в котором пробыла тысячи лет. Раз повернувшись, она уже не вращалась.
Странно, но на улетающий большой камень они глядели, как глядят, наверно, все мастера на произведение своих рук, — скалолазы провожали камень, не принимаясь раскачивать другой, пока этот не долетал до земли.
Уже пыль шла клубами, и коричневые клубы распирала изнутри какая-то сила. Порой пыль совсем застилала скалолазов, тогда трудно было понять, видят ли они там друг друга. Шлейф пыльного облака, тянущийся снизу, медленно тащился в мою сторону, когда заревела сирена.
Она ревела в котловане. Ее крик заполнил все пространство меж скалами. Невозможно было представить механизм, который способен залить ревом все огромное ущелье, но этот заполнил. Случилось что-то страшное, а я на своем «пятачке», ослепленный облаком, не мог понять, что же произошло. Рев оборвался, глыбы летели вниз, и все окутала пыль. Уже не видно было ничего: ни скалолазов, ни скалы — все поглотила коричневая мгла. Только где-то в самом ее центре все так же глухо ударяли ломы, и оттуда доносилось быстрое шуршание мелких камней. Они пробивали пыль, разбиваясь без грома огромных глыб — похоже, стучал каменный дождь.
Я подошел к тросу, и вовремя: у моих ног показалась голова Орлова, коричневая от пыли. Он вылезал.
Мы спускались по пологой тропинке. По ней на скалу поднимались скалолазы, опасавшиеся сразу оказаться на высоте. Странно, но были и такие. Остальные поднимались по отвесному тросу.
— Нельзя так, — сказал наконец Орлов. Он спускался быстро, и какая-то непривычная сутулость была в нем. — День можно... два, — говорил он, не оборачиваясь". — Но когда-нибудь это должно случиться.
Что можно было ответить ему? Все там будем?
— Он не упал, — ответил он сам себе. — Самый молодой. Два месяца их учат в специальной школе, потом сразу сюда, на скалу... Камень ушел из-под ног. Это когда сирена завыла; там внизу наблюдатель у них — он и увидел.
(Помню, как я спросил стоящего у обрыва скалолаза: «Что самое страшное?» Он задумался. Видно было, как из многого страшного он пытается выбрать одно и с какой неохотой он вообще размышлял об этом. «Страшно, когда камень уходит из-под ног», — решил он.)
— У него был свободный конец, — продолжал Орлов. — Метра два. Он на них и ушел,— и добавил удивленно: — Знаешь, он тут же опять начал вкалывать. Только суетился больше.
Мы уходили все дальше. Звук лопнувшей под скалой глыбы догнал нас почти внизу: еще на один камень стала меньше угроза тем, кто работал в котловане.
...Я вспоминал все это, а между тем все так же шел за Орловым, не видя его в темноте.
— Стой! Слышишь?
Я давно уже вслушивался в этот звук.
— Водопад...
— Откуда?
Мы снова двинулись, с каждым шагом приближаясь к шуму. Наверно, мы были в ущелье. Слишком низко мы спустились — редкие, несущиеся в темноте огни машин светились теперь наверху.
— Близко-то как! — с завистью сказал Орлов.
— Погоди. Посвечу.
Я зажег сразу три спички и сложил ладони, пытаясь превратить их в отражатель, и так ветер не гасил огонь.
Слева была стена. Огонь спички тускло осветил ее, но чувствовалось, что она уходит высоко вверх. Водопад ревел справа, мы не видели его, но удивлялись: слишком уж сильно он ревел — речка у самых наших ног хоть и бурлила, но была мелкой. Правда, мы не знали ее ширины.
— Посвети еще... Я прыгну. Он прыгнул в темноту. Плеснула вода. Потом еще.
— Нешироко, — услышал я его довольный голос и тоже прыгнул.
Минут через пять мы, уткнулись в новую стену, но она уж была последней — там, наверху, шло шоссе. Обрадованные, мы даже не спешили лезть на нее.
— Представляешь? Вылезаем — одни головы торчат — и тут машина...
— Шофер с ума сойдет.
Но все случилось так, как мы совсем не ждали. Мы влезли почти на десятиметровую стену — и застыли. Рядом на шоссе в голубом свете прожектора ворочался экскаватор. Ковш подбирал обломки скалы и ссыпал их в кузов БелАЗа. Там внизу мы могли слышать только рев водопада.
Через минуту мы сидели в кабине. Шофер с улыбкой слушал, а Орлов в третий раз принимался рассказывать, как мы решили не терять день, как думали, что нас подхватит машина.
— Хорошо, на отару не налетели. Собаки бы загрызли, — добродушно сказал шофер.
Я сидел, тихо улыбаясь. Приятно было вглядываться в прошедшее. Как никогда. Впереди час езды — в тепле, с людьми... «Зачем они рискуют?» Можно ли было задаваться вопросом более глупым? «Какими они бывают после работы?» Да вот такими и бывают. Я чувствовал каждую мышцу. Теперь, в теплой кабине, мне казалось, что я мог бы весь путь пройти лучше. В самом буквальном смысле: даже лучше двигаясь. Красивей, умней и сильней. Тогда, в машине, я точно знал это.
Ю. Лексин, В. Орлов (фото), наши спец. корр.
(обратно)
На пороге Кара-Богаз-Гола

Три недели подводной работы на Каспии пролетели быстро. Ходили мы под воду у Кулли-Маяка, и под Бекдашем, и у залива Кара-Богаз-Гол, и в районе Кызылсу, что значит «красная вода». Но самым интересным было погружение в водопад в проливе, идущем в Кара-Богаз-Гол.
Пролив этот единственная в своем роде морская река, текущая из Каспия в залив, который за свой ненасытный нрав именуют «Черной Пастью». Тысячи тонн морской воды испаряет он под палящими лучами солнца. Голубой речной поток длиною в девять километров несется через пустыню среди барханных песков, поросших верблюжьей колючкой и тамариском. Реку посреди русла преграждает известняковая гряда, создавая почти двухметровый водопад; река срывается здесь вниз и с ревом и гулом несет клубы белой морской пены...

Это было наше особое задание. Ученых интересовало, как много рыбы проходит через порог в проливе Кара-Богаз-Гола. Известно, что рыба, прошедшая через каменную гряду в проливе, погибает в чрезмерно соленых водах залива.
«Особое задание» было непосредственно связано с главной целью экспедиции ВНИРО (1 Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии.), которая обследовала восточное побережье Каспия. Мы, аквалангисты, были одним из ее отрядов. И хотя наша основная задача заключалась в том, чтобы выяснить чисто практический вопрос: сколько и где можно добывать раков (судя по статистике последнего столетия, добыча раков в самом продуктивном месте — Красноводском заливе — значительно сократилась), нам нередко приходилось «переключаться» на другие работы.
Наблюдения, полученные всеми звеньями экспедиции, должны были сложиться в единую картину подводной жизни восточного Каспия.
...Первым погружался в водопад Олег Яременко.
Прыгнув в облако пены, он моментально исчез в водовороте, утащив за собой несколько метров страховочного шнура. Мы вытащили его на поверхность, протерли маску и очистили лицо от пены, и только после этого он бодро сообщил нам, что погружаться можно. Олег вторично ушел в омут и пробыл там минут двадцать. После погружения, когда мы снова очистили его от пены и песка, он сказал, что там, под пеной, очень здорово, но если хотите знать подробности, то полезайте сами.
Надо сказать, что, несмотря на летнее пекло, погружались мы в гидрокостюмах. Если на раскаленном, как сковородка, песке стоять голой ногой было невозможно, то в воде ноги моментально сводило судорогой. Мы этого даже не ожидали, потом поняли: перепад температур воздуха и
воды — почти в тридцать градусов! — создавал обильное испарение и перемешивание потока.
Нащупав ногой под хлопьями пены поток воды, я соскользнул в него, стараясь побыстрее смыть с маски белую пелену и «обрести» зрение. Поток подхватил и начал крутить меня, отрывая от страховочного шнура и колотя о берег. И все же я сразу успел заметить, что под пеной так же светло, как и подо льдом, но это было единственное сходство. Впервые я пожалел, что взял с собой фотобокс. Держа его в одной руке и пытаясь свободной рукой зацепиться за скалу, я крутился на поверхности, выносимый потоком. Наконец, изловчившись, я прижался к крутому склону берега и, как альпинист, извиваясь, пополз вниз по скалам. Все крутилось и ревело вокруг, но, плотно сжав зубы и удерживая во рту загубник от легочного автомата, резиновые трубки которого уносились водой, я пытался продвигаться вниз. Дважды поток срывал меня со склона, выбрасывая на поверхность. Все начиналось сначала. Я освобождал ноги, запутавшиеся в страховочном конце, барахтался в пене, ощупью отыскивал берег и снова начинал погружаться, карабкаясь по склону. Наконец мне удалось уползти на пятнадцатиметровую глубину и там, обхватив ногами камень, торчавший из склона, осмотреться.

Вокруг — в голубой ревущей струе — мелькали тысячи воздушных пузырей. Видимость была около трех метров. Сбоку от меня, как в чертовом колесе, кружилась стая крупной кефали. Рыбины рядами выплывали из глубины и, попадая в верхнюю, идущую от порога струю, уносились прочь. На смену сметенным появлялись новые ряды, гонимые донным противотечением; они также уносились потоком, и все повторялось вновь. Этой картине аккомпанировал грозный рев: казалось, что надо мной несутся сотни локомотивов. Крутой береговой склон, к которому я прилепился, был начисто вылизан и приглажен потоком, а множество зеленых нитей-водорослей, невесть за что цеплявшихся, — словно причесаны.
Побывав в потоке множество раз, мы пришли к единодушному мнению: рыбу «Черная Пасть» пожирает с не меньшим аппетитом, чем каспийскую воду. Это мы и сказали ученым.
Есть много проектов сохранения рыбы в этом районе, и один из них — это плотина поперек пролива. Поставить плотину, видимо, технически возможно — глубина пролива невелика, но вот как повлияет закрытие доступа морской воды в залив на химические процессы, идущие в перенасыщенном соленом растворе? Этого пока никто не знает.
Ясно одно: нужны комплексные исследования для решения этой проблемы, и нам, аквалангистам, наверно, еще не раз придется погружаться в «Черную Пасть».
А. Рогов
(обратно)
Эпилог на Сосновом острове

История ведет отсчет на века и годы. Иногда она ведет счет на дни.
Космическая пыль, сгущаясь, становится звездой. Время, сбиваясь с размеренного бега, тоже уплотняется в звездные свои часы, и свет их тогда не гаснет. Семьдесят два дня в Париже весной 1871-го видны нам четче иных десятилетий.
Мы всматриваемся в столетней давности портреты людей Коммуны:
Луи-Эжен Варлен, рабочий-переплетчик, член Интернационала. Шарль Делеклюз, журналист. Лео Френкель, ювелир-венгр, делегат труда в рабочем правительстве. Рауль Риго, двадцатичетырехлетний прокурор Коммуны. Ярослав Домбровский, польский патриот, русский офицер и главнокомандующий парижских повстанцев. Вайян, делегат просвещения. Гюстав Курбе, председатель Комиссии художников. Луиза Мишель, учительница, «красная дева Монмартра». Эжен Потье, это его слова — «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов...»
Удивительные лица. Одухотворение написано на них.
«Париж рабочих с его Коммуной всегда будут чествовать как славного предвестника нового общества», — написал Маркс в день, когда пала последняя баррикада федератов. Это действительно были новые люди.
Противники революций напирают всегда на то, что они несут с собой разрушение. Неправда. Революция — непременно творчество людей, отрезанных до этого сословными рамками или отвращенных целями прежнего режима. Авантюрист — тоже деятельная личность. Но его установка — «прежде всего для себя». Те, кого мы зовем героями, вершат прежде всего для общего блага.
Коммунары, по ленинским словам, «творили чутьем гениально проснувшихся масс». И в этом творчестве обрели себя люди, глядящие на нас сегодня с выцветших фотографий.
Палач Коммуны генерал Галифе оставил для потомков не только штаны своего имени, но и знаменитую фразу. Остановившись перед строем пленных коммунаров, генерал сказал:
— У него интеллигентное лицо, вот у этого. Расстреляйте его!
Впрочем, убивали не только по этому принципу. Врываясь в дома, требовали показать ладони. Если видели на них мозоли от рукоятки станка или следы ружейного масла, тащили на убойное место. Или вот свидетельство версальца, председателя суда Гарсена: «Всех, кто носил итальянскую или польскую фамилию, предавали смерти без всяких объяснений». Убивали также опознанных как активистов.
В эпоху инфляции слов, в эпоху жонглирования лозунгами коммунары жили жизнью своих взглядов.
30 марта было опубликовано воззвание Парижской коммуны:
«Граждане!
Вы только что создали учреждения, которые оградят вас от всяких посягательств.
Вы хозяева своей судьбы. Сильные вашей поддержкой, избранные вами представители исправят ущерб, нанесенный павшей властью: расстроенная промышленность, прерванный труд, парализованное коммунальное хозяйство получат мощный толчок...»
Одним из первых декретов был отменен ночной труд пекарей, ликвидирована задолженность по квартплате; Эли Реклю, назначенному директором Национальной библиотеки, было предложено выдавать без ограничений любые книги желающим, а Гюставу Курбе, председателю Комиссии художников, открыть все музеи и выставки; «граждане актеры» призывались ставить народные действа (напомним, что все это после шестимесячной осады прусских армий и под орудийным обстрелом версальцев). 6 апреля перед мэрией XI округа была «торжественно и навек» сожжена гильотина. Коммуна определила размер жалованья членам своего правительства в 15 франков в день, заработок фабричного мастера.
18 апреля Делеклюз напишет в своей газете «Пробуждение народа»:
«Каков же будет результат народной победы?
Свобода повсюду — в коммуне и в государстве; неприкосновенность жилищ; расцвет труда, освобожденного от всех пут, и свободное развитие его потенциальных сил; просвещение, излучающее свет знания и устанавливающее интеллектуальное равенство — единственный источник и единственную гарантию подлинного равенства; наконец, единение сердец и воли».
Обстоятельства жизни, как ни тяжелы они оказались, не смогли одолеть идей Коммуны. После разгрома мартовского восстания цвет парижского пролетариата был сослан на Новую Каледонию. С одной из первых партий туда же доставили в цепях участников восстания в Кабилии (это гористая часть Алжира). Темные крестьяне-кабилы мало что смыслили в идеях социализма. Но что такое справедливость, что такое друг, они знали хорошо. Немногие из них вернулись, отбыв каторгу, домой. С собой они привезли рассказы об удивительных французах, так непохожих на колониальных чиновников. Прошло шестьдесят лет. Случилось так, что в Кабилии умер в научной экспедиции француз-ботаник, чей отец в свое время был сослан на Каледонию как участник Коммуны. В Алжире тогда шла война. Арабы пришли на похороны ботаника. Они принесли венок, на ленте которого было написано: «Сыну справедливого человека...» Мы всматриваемся в лица этих людей. Немногим из них судьба позволила пережить свое детище. Погибли в бою генерал Домбровский и Делеклюз. Риго и Варлен были растерзаны версальской солдатней («Характерная деталь, — пишет Жак Дюкло, — версальский офицер, приказавший расстрелять Варлена, украл у него часы»).
В полдень воскресного дня 28 мая прозвучал последний пушечный выстрел Коммуны. Но залпы звучали еще долго — это в страхе и злобе расправлялись с теми, кто провозгласил общество равенства и справедливости. Вечером того же майского дня генерал Мак-Магон, бездарный военачальник, заработавший галуны на расстрелах мексиканских повстанцев, доложил: «Порядок, труд и безопасность восстановлены». Что это был за порядок, можно узнать, раскрыв газеты тех дней — французские и заграничные:
«В Люксембургском саду, в парке Монсо, у башни Сен-Жак были вырыты огромные рвы... Повстанцев — мужчин и женщин приводили прямо туда» («Эндепанданс бельж» от 27 мая).
Эмиль Золя в газете «Семафор» от 31 мая: «Мне удалось совершить прогулку по Парижу. Это ужасно... Скажу вам только о груде трупов, которые сложили штабелями под мостами».
В Люксембургском саду было расстреляно несколько подростков 10—12 лет. Среди арестованных был «инсургент» восьми лет от роду.
«Вряд ли когда-нибудь удастся узнать точное число жертв этой бойни. Даже организаторы казней едва ли могут сказать, сколько трупов они нагромоздили... Такой резни Париж не знал со времен Варфоломеевской ночи» (английская «Ивнинг стандарт»).
В переводе на язык цифр это означало следующее: по официальным данным погибло 20 тысяч федератов. Историк Коммуны
Лиссагарэ, однако, называет цифру почти в три раза большую.
«Республиканец» Тьер, политический жулик, мнивший себя пророком, воскликнул: «Теперь с социализмом покончено надолго!»
Пророчеств оказалось недостаточно. В ход пошла клевета. Версальское правительство, уничтожив почти половину парижского пролетариата, понимало, что противопоставить что-либо идеям Коммуны ему не по плечу. Поэтому оно попыталось серией статей «очевидцев» и обвинениями на процессах представить минувшие семьдесят два дня как цепь беспрерывных преступлений.
Палачи, едва успев отмыться от крови, с пафосом заговорили о «жестокостях». Была пущена легенда о «керосинщицах»: о том, что женщины-коммунарки якобы поджигали дома и общественные здания. К своему позору, приложил здесь руку писатель Дюма-сын, обозвав их «разъяренными самками»... Это девушке-санитарке, которая погибла на баррикаде, перевязывая раненых, посвятил поэт-коммунар Жан-Батист Клеман песню «Придет пора вишен». Слова пронзительной нежности, которые знает каждый француз...
В общей сложности было арестовано около 50 тысяч человек. Осудить всех не хватало военных прокуроров.
16 декабря 1871 года перед трибуналом предстала Луиза Мишель. Сохранилась стенограмма ее выступления в суде:
«Я не хочу защищаться и не хочу, чтобы меня защищали. Я всем своим существом принадлежу социальной революции и принимаю полную ответственность за все свои поступки... Если сердце бьется во имя свободы, его можно остановить лишь порцией свинца... Если вы сохраните мне жизнь, я не перестану взывать к отмщенью, в том числе к отмщенью убийцам из вашей «Комиссии помилования».
Председательствующий: Лишаю вас слова!
Луиза Мишель: Я кончила... Если вы не трусы, убейте меня».
Военный трибунал удалился на совещание. Публика, пришедшая взглянуть, как судят «главную керосинщицу», не могла прийти в себя от волнения. Через восемнадцать минут объявили вердикт: пожизненная ссылка на Новую Каледонию с содержанием под стражей.
Двадцати трем товарищам Луизы вынесли смертный приговор. Семь с половиной тысяч отправили на каледонскую каторгу.
Но ставить точку в истории Коммуны на этом нельзя. Закрылась страница вооруженной борьбы. Открывалась глава истории нравственного противостояния, своего рода послесловие к Коммуне.
Десятилетие каледонской ссылки представляется одним из самых малоизвестных; слишком мало документов сохранилось о нем. Однако для понимания личности коммунаров эти скупые записи дают очень много.
В библиотеке Ленина, в отделе редких книг, мне дали единственный экземпляр мемуаров Луизы Мишель, французское издание конца прошлого века. На форзаце крупным решительным почерком было выведено: «Нашему товарищу Петру Кропоткину — Луиза Мишель».
История ее жизни не могла, конечно, уместиться в одном томике. Иногда о целом периоде упоминается в двух-трех строчках.
Итак, 24 августа 1873 года в шесть утра, после почти двадцати месяцев в Оберивской каторжной тюрьме, Луизу Мишель, заключенную № 2182, повезли в порт Рошфор. «Накануне я видела маму, — запишет она в дневнике. — Она стала из-за меня седой». Репрессии обрушились не только на самих коммунаров, но и на их родных: увольнения с работы, высылки из Парижа.
«Когда проезжали Лангр, из окна мне было видно, как из мастерской вышли рабочие. Их было пять или шесть. Увидев тюремный вагон, они разом сняли картузы и подняли руки в приветствии — «Да здравствует Коммуна!».
В порту Рошфор, на атлантическом побережье, партию коммунаров погрузили на старый парусный фрегат «Виржини». Судно было в таком состоянии, что любая серьезная буря грозила закончиться для него катастрофой. Капитан Лонэ велел поэтому держать шлюпки наготове. Но места в шлюпках хватило бы только для команды...
Ссыльные ехали в клетках, устроенных в межпалубном пространстве. Вот отрывки из дневника одного коммунара, под писавшегося «Л. Р». Он отплыл на другом судне — «Даная» — вместе со 187 ссыльными:
«Наше размещение на борту поистине являет собой шедевр тюремной выдумки. Мне думается, этот опыт достался со времен работорговли. С каждой стороны закрытой палубы расположено по два ряда металлических клеток. Им суждено стать нашим домом на столько месяцев... Кормят нас как в последние дни осады Парижа — по 250 г хлеба, 100 г консервов и 50 г сыра. Между клетками стоят резервуары, окрещенные нами «бурдюками». На каждом — по шесть краников, напоминающих детские рожки, из которых мы сосем воду, к вящему удовольствию команды... Посему мы пьем в основном ночью, тем более что несносная жара тропиков не позволяет уснуть».
«Виржини» шел до Новой Каледонии четыре месяца, день в день. На борту было 85 коммунаров и 60 повстанцев из Алжира. Читаешь дневник Луизы Мишель и удивляешься: для нее как будто нет ни клеток, ни тягот пути. Она пишет: «Я впервые еду по морю. Это дивное зрелище, я люблю эту массу воды... Со стороны «Виржини» выглядит, наверное, белым парусником, скитальцем Эдгара По».
Из клетки в клетку передают, несмотря на запрет, стихи, шутливые эпиграммы. Душой этой партии ссыльных был друг Луизы, блестящий полемист Анри Рошфор.
Наконец «Виржини» прибыл в гавань Нумеа, центр Новой Каледонии. Длинный и узкий вулканический остров Новую Каледонию нелегко отыскать на карте в толчее Океании. Этот кусок суши, расположенный в 600 милях от Австралии, был отдан в 1864 году под каторгу. Условия жизни в райском уголке природы были самые жестокие. Приговоренные к каторжным работам на острове Ну, вблизи Нумеа, работали, волоча прикованное к ноге тяжелое ядро. Центром панорамы была кирпичная тюремная стена.
Но Луиза Мишель записывает: «Нумеа, подобно Риму, расположился на семи холмах. Они видны очень отчетливо, ибо здешний воздух до необыкновения прозрачен и местные жители недаром называют свою землю «Островом света».
Когда приговоренных спустили на землю, начальник каторги решил отделить женщин и передать их в исправительную колонию под наблюдение монахинь. Луиза Мишель решительно заявила офицеру:
— Мы настаиваем на том, чтобы отбывать наказание вместе. Мы прибыли не на дачу, я полагаю!
Заключенных посадили в шлюпки и перевезли на полуостров Дюко. Здесь уже успели обжиться старые товарищи: Малезье, с которым они сражались на баррикаде на площади Отель-де-виль... Лакур, тот самый Лакур, который ворвался под вечер в церковь в Нейи, чтобы арестовать человека, игравшего на органе, — Лакур был уверен, что тот привлекает звуками версальскую артиллерию. С длинным «шаспо» наперевес он ворвался по лесенке наверх и увидел Луизу Мишель; ее ружье было прислонено к инструменту, а руки самозабвенно перебегали по клавишам... Сейчас, на Каледонии, Лакур обнял ее и первым делом сказал, что научился от канаков жарить в земле мясо — деликатес, который редко когда перепадает ссыльным.
На Новой Каледонии, несмотря на пышную растительность, животный мир весьма беден. До того, как белые поселенцы не завезли сюда скот, канаки не знали мяса. Ссыльным выдавался трехдневной давности хлеб и солонина. Мыло и табак исключались. Последний пункт был нововведением начальника тюрьмы Алейрана. По сути, это был подлинный хозяин заморской территории. Да приезда коммунаров. С их появлением Алейран натолкнулся на стойкое сопротивление и стал вынужден выполнять распоряжения, поступавшие из Парижа, касательно содержания заключенных.
В десяти милях от южной оконечности Новой Каледонии лежит остров Сосновый. Туда перевели получивших по приговору пожизненную ссылку. При этом рассчитывалось, что плохое питание, неустроенный быт, тоска по родине и стычки с местными жителями значительно сократят срок жизни коммунаров. Формулы «возвращение нежелательно» тогда еще не существовало, но смысл каторжных мероприятий был именно таков. По первоначальному плану, Сосновый остров должен был принять 250 человек. Однако к 1874 году на нем жило уже около четырех тысяч.
Расчеты колониальных властей блистательным образом провалились. Они недоучли, что, собрав вместе цвет парижского пролетариата, они тем самым возродили ячейку нового общества.
Произошли вещи удивительные. Коммунары энергично и умело стали осваивать доставшийся им мир. Были образованы четыре комиссии, работавшие по следующим программам:
Первая. Геологическое строение Соснового острова. Гипотезы о его образовании. Определение состава почвы. Полезные ископаемые.
Вторая. Происхождение канакских племен, их история. Нравы и обычаи. Семейная организация. Формы общественного правления. Влияние колониальной администрации.
Третья. Общая география. Топография. Сельское хозяйство. Флора и фауна острова.
Четвертая. Устройство вновь прибывших. Распределение труда. Мануфактура и торговля. Культура.
Вот один из отзывов об их труде — «налаженное огородничество представляет собой заметное явление в экспериментальном земледелии». Отзыв датирован 1931 годом! Работы были выполнены настолько квалифицированно и тщательно, что на Новой Каледонии и сейчас, через сто лет, действуют сооружения, построенные коммунарами, в частности водонапорная башня, водопроводы и тридцатиметровый акведук. Изыскания, проведенные ими, могли бы стать основой монографии об острове.
Думаю, это был первый опыт научной организации труда. Причем в предельно неблагоприятных условиях. Парижане, непривычные к тропическому климату, болели. Не хватало витаминов. Двое покончили с собой — не выдержал рассудок. Скончался от тоски по семье коммунар Бердур. Каждый раз, завидев парусник — а они приходили раз в месяц,— он мчался к причалу в надежде получить письмо. Но писем не было. Они прибыли уже после его смерти — целая пачка писем разом; по небрежности их направили в другое место...
Это грустные страницы. Но без них не обойтись при рассказе о каледонской истории коммунаров. Отчаяние они победили трудом, товарищеской взаимопомощью, силой духа.
23 февраля 1875 года над островами пронесся жесточайший циклон, унесший плоды стольких трудов. Коммунары начали все заново, с нуля.
На каторжных островах пульсировала мысль: организовывались научные дискуссии и теоретические конференции. Выходили четыре периодических издания! «Ссыльный альбом» и «Альбом Соснового острова», серьезные еженедельники с подробными обзорами. Публиковались там и стихи («В редакцию поступили отрывки из новой поэмы нашего товарища Виктора Гюго. Предлагаем их вашему вниманию...»). Восьмистраничные «Каледонские вечера» со множеством рисунков, практических советов и объявлений. Подписная цена — полтора франка на Сосновом и 2 франка в Нумеа. Печатался также сатирический журнал «Каледонский острослов».
На Каледонии действовал свой театр во главе с «артистическим комитетом». В театре было две труппы — драматическая и музыкальная. Ставили оперу «Роберт-дьявол». При этом исполнитель главной женской роли пел басом и был одет в платье, сшитое из арестантской одежды.
Интересно сложились взаимоотношения коммунаров с местным населением — канаками. Это были первые белые люди, которые всерьез, а главное, доброжелательно интересовались их жизнью. Более того, канаки увидели, что эти белые перенимают у них многое.
«Кто же выше? — записывает Луиза Мишель. — Белые? Как бы не так. Не будь примера канаков, мы бы не выжили на этом дьявольском острове».
Этнографы поныне пользуются записями, сделанными коммунарами в 70-х годах прошлого века; поляк Воловский даже сделал нотную запись канакской музыки. Кстати, о музыке. Когда Луиза Мишель организовала класс для канаков, она заметила, что канаки легче запоминают слова, если те положены на какую-нибудь мелодию, и стала писать «грамматические песни».
В 1878 году канаки подняли бунт против администрации. Накануне несколько юношей пришли попрощаться с Луизой Мишель. «Я отдала им мой красный шарф, — пишет Луиза. — Он был со мной на баррикадах Коммуны, я сумела провезти его через все обыски. Этот шарф я разорвала пополам, отдав им половину». Бунт был жестоко подавлен, но нескольким канакам удалось добраться до соседних островов.
Многие коммунары тоже не расставались с мыслью о побеге. После того как налетевший циклон опустошил остров, Луиза решила, что при следующей буре, воспользовавшись замешательством, она попытается убежать.
«Барометр упал. Воздух, казалось, остановился. Я поняла, что буря грянет через несколько минут. Беспокойство охватило стоявших в загоне коз». Луиза с большим трудом через густейший лес добралась до хижины, где жил Перюссэ, седой старик, в прошлом капитан дальнего плавания. Заслышав в непогоду стук в дверь, он долго не открывал. Наконец, отворив дверь, он увидел вымокшую Луизу.
— Что с тобой? Куда ты в такую погоду?
— Перюссэ, это единственный шанс! Патрульное судно, стоящее в бухте, ушло. Если мы сможем построить плот, то, как стихнет ветер, сможем добраться до Сиднея. Там есть друзья, ты возьмешь маленький баркас и вернешься за остальными».
Старик, однако, не хотел рисковать. По правде говоря, он был прав. Попытка побега морем уже стоила жизни шести ссыльным, утонувшим у австралийского берега.
Верная традиции профессиональных революционеров, Луиза Мишель не желала ходатайствовать о помиловании. В этой связи интересно ее полное негодования письмо, адресованное губернатору Новой Каледонии 25 июля 1878 года:
«Прошу вашей защиты от оскорбительных выходок людей, которые, несмотря на мое категорическое запрещение, публикуют от моего имени в газетах письма и ходатайства о помиловании. Я еще раз повторяю, что выйду отсюда только вместе со всеми товарищами — ссыльными и коммунарами».
На солдат, которые сторожили коммунаров, их поведение произвело колоссальное впечатление. «Я знал одного старого активиста, ставшего членом Французской компартии: его приобщили к социалистическим идеям коммунары, которых он стерег на каторге в Нумеа», — пишет в своей книге Жак Дюкло.
Лишь 11 июля 1880 года палата депутатов в Париже приняла 312 голосами против 116 закон об амнистии коммунарам.
М. Беленький
(обратно)
В Рунских лесах
 «Ни одна страна не имеет столько природных богатств, как наша прекрасная Родина. Но, используя естественные ресурсы, мы обязаны проявлять хозяйскую расчетливость, чтобы природа не увядала, а продолжала служить нам и радовать нас».
Из отчетного доклада товарища Е. М. Тяжельникова на XVI съезде ВЛКСМ
«Ни одна страна не имеет столько природных богатств, как наша прекрасная Родина. Но, используя естественные ресурсы, мы обязаны проявлять хозяйскую расчетливость, чтобы природа не увядала, а продолжала служить нам и радовать нас».
Из отчетного доклада товарища Е. М. Тяжельникова на XVI съезде ВЛКСМ
Встал Сашка стоять на коленях на голых деревяшках розвальней — соломенную подстилку-то всю гостям сдвинул. Соскочил на дорогу, побежал рядом с конем. Гром покосился диким лиловым глазом, удивился да так и понесся дальше — один глаз на дорогу, другой — на хозяина.
— Садись, Сашка... — Лесничий Шишлянников поворочался, поворочался, сполз к самому задку, потеснил меня тугим круглым плечом.
А Сашка только весело скалится, прыгает на затылке куцая шапка, стучат по заледеневшей дороге каблуки сапог.
Накатана дорога лесовозами до зеркального блеска. Да еще после вчерашней оттепели ударил морозец — каток, а не дорога! Хорошо еще, что воскресенье сегодня, а то непременно сидеть бы тяжелым МАЗам с пачками хлыстов по обочинам, крутить вхолостую колесами по льду. Тогда спасение одно — искать под снегом не закостеневший пока окончательно песочек, таскать ведрами под скаты.
До самого Пено все полсотни километров от Руны до железной дороги отмечены рыжими пятнами.
Глядит Шишлянников на песок в колеях — нет, и лесорубам не выпадает хороших сезонов. Ну, казалось бы, чем плох декабрь? Ни гнуса, ни летней жары. Снежку по щиколотку, не то что в марте: от дерева к дереву пробьешься через сугробы — телогрейку хоть выжимай. Сейчас и стуж настоящих пока нет, и болота льдом затянуты — руби где хочешь! Так нет, дороги замучают. Вон конь на четырех ногах и то бежит кое-как, разъезжается...
— Ну, идол! — страшным нутряным голосом подбадривает коня Сашка и поправляет сползающий с саней мешок.
В мешке мука, крупы, сахар. По случаю праздника и свободного времени решил Сашка все это теще отвезти, на далекую Клинскую плотину — не на лыжах же бабке бежать в магазин за десяток верст. Сашка предчувствует приятное изумление тещи и тихонько радуется собственной доброте и бескорыстию. Хотя, конечно же, неплохо бы теперь над лункой в Любцах посидеть, блесенкой потрясти. Вчера, рассказывали, Чуркин там надергал пуд окуней, еле донес...
Давно уж мы миновали редкие избы деревни Хвошни, кладбище, и теперь дорога спряталась в лесах, выбеленных изморозью. По левую руку стояла стена высоких плотных ельников, и где-то скоро в ней должна была открыться просека, ведущая к плотине. А справа тянулись заросли корявых берез, осинники, ольха. Дорога будто бы делила местность на два разных лесных мира.
— Старые вырубки, — кивнул направо Шишлянников, и нечто вроде горечи промелькнуло на его лице. — Когда-то прошлись пилой, да и бросили, не засадили. Ну, а береза да ольха тут как тут. И болото к самой дороге выползает...

Двенадцать лет он ездил и ходил по этой дороге, и каждый раз болотистые заросли нагоняли на него глухую тоску. Он был далек от мысли обвинять во всем лесорубов. Такие гиблые места напоминали скорее о неудачах и просчетах его предшественников на посту лесничего. А лесорубы... Ну что ж, рубить спелый лес — что урожай собирать: промедлишь — сгниет на корню. Конечно, глаз да глаз за лесорубами нужен. Но тут уж, можно считать, ему, Шишлянникову, повезло. В Рунском лесопункте большинство — местные. Втолковывать о том, что надо молодняк сохранять, или о перерубах, много не приходится: кому же охота на пустыре остаться?
— Ты у нас на делянках бывал? — поворачивается ко мне лесничий. Розвальни уже свернули с главной дороги и теперь пробираются под пологом елей. Шишлянников до бровей присыпан инеем. — Да, быстро у нас рубят... Случается, в день целый гектар, даже больше. Попробуй угонись с посадками...
Лесничий надолго замолкает и теперь лишь вертит головой налево, направо. Что-то примечает нужное для себя в густых зарослях, иногда соскакивает с саней и исчезает в чаще, а то на ходу подберет опавшую шишку, лущит, рассматривает.
— С весны здесь не бывал, — говорит он, когда вдруг сани вылетают из тьмы ельников в светлый березнячок. — Надо поглядеть... Сашка-то с оказией хорошо подвернулся.
Да, рубят здесь действительно быстро. Дорога эта хорошо мне известна по летним путешествиям. Стоял тут нетронутый лес. А сейчас вон справа вырубка, пенечки точно обугленные торчат.
На делянке, когда глядишь на работу вальщиков, вроде бы никакой спешки. Затрещит бензопила, ударит желтая струя опилок. Не торопясь засунет в пропил вальщик гидроклин, свалит лесину — перекур. А там и обед, самое приятное время на повале. У костра сучкорубов собирается вся бригада. Кто бидончик с домашними щами в углях греет, кто просто так на хвоине лежит. Шестьдесят минут свободного времени — можно вволю наговориться. Вспоминают медовую колоду: повалили пустотелую осину, а внутри — туча пчел и пуд меда. Рассказывают о белке-домоседке, которая не хотела расставаться со своим дуплом и тогда, когда спиленное дерево грузили на МАЗ. В двадцатый небось раз хохочут, припоминая, как погнались по вырубке за двумя зверятами, решив, что это еноты. Ошибку поняли позднее, увидав, как из-за бурелома вылезла спасать своих детенышей лохматая медведица.
Кончится перерыв, натянут лесорубы блестящие каски — и не спеша к пилам, к тракторам: валить, чокеровать, грузить. А к концу дня гектар с лишком пуст...
Наши розвальни идут по снежной целине. Сашка ввалился в сани — отдыхает. Чем ближе к плотине, тем значительней и благородней представляется Сашке его миссия. Он любовно поглядывает на тугой мешок, стряхивает с него снежные комья, что набросал копытами Гром. Знай, теща, Сашкину доброту!
— На обратном пути к Чаицам не заскочим? — спрашивает у него Шишлянников. — Давай, давай взглянем на питомник.
...К концу дня гектар пуст, а к концу года таких гектаров набирается около двух сотен. И хотя лесничий строго следит, чтобы вырубки, как полагается, обязательно граничили с массивами лесов, которые по идее должны засыпать оголившиеся пространства новыми семенами, надежда на естественное воспроизводство не всегда оправдывается. Потому что опять раньше всех сюда поспеют березы да осины, а ель да сосну — жди-пожди.

Тогда мобилизует свой корпус лесничий. Десять лесников, четверо рабочих, помощник лесничего да лесотехник, чуть стает снег, отправляются к Чаицкому озеру, где разбит лесопитомник. Стоят здесь елочки-трехлетки густыми ухоженными рядами. И начинается работа...
— Интересная, между прочим, арифметика, — говорит задумчиво Шишлянников, наблюдая за тремя снегирями, примостившимися на ветке у самой просеки. — План этого года у нас по искусственным лесопосадкам — 165 гектаров. Считаем. На гектар при ручной посадке надо 6500 сеянцев высадить. А норма на одного рабочего в день — 600 сеянцев. Итого на гектар надо одиннадцать рабочих, а на 165 гектаров?
Так для меня и остается загадкой, как выходит из положения лесничий. Однако выходит! В его распоряжении бывает весной всего десять-двенадцать дней. Это те оптимальные сроки в которые необходимо высадить на вырубленных площадях все сеянцы. Но сначала их надо выкопать в питомнике. Тщательно упаковать в корзины для перевозки — внизу сырой мох, сверху мох, а посередине тоненькие сеянцы, увязанные по сто штук мягкими мочалами. Подготовить площади под посадки. И, наконец, посадить. Причем не просто посадить, а предугадать, где и как лучше пристроить сеянцы: можно в ложбинке за тракторным плугом, но если лето выдастся влажное, дождливое — сеянцы захлебнутся в низинах. Можно на гребнях, но здесь елочкам будет грозить сушь... Уже начинают синеть ранние декабрьские сумерки, когда мы подъезжаем к питомнику у Чаицкого озера. Елочные детеныши протянули из-под снега мягкие зеленые пальцы. Шишлянников стоит над ними черной угловатой глыбой. И тут я внезапно понимаю, что он никогда не увидит ни эти сеянцы, ни те, что высаживает и холит каждый год, взрослыми, не войдет в шумный свой лес. Для этого слишком коротка одна человеческая жизнь.
Еще крепче морозец к вечеру припустил, еще белее и пушистее стали ели. Гром бежит к дому весело, ноги легко вскидывает, круп слегка теплом дымится. На плотине растроганная бабка притащила коняге плетенку с душистым сеном. Сеном плетенка была полнехонька, сверху даже охапка не удержалась, свалилась под ноги Грому, в желтый снег. Конь ее копытом придавил, чтобы ветром не унесло.
Сашка трясется в розвальнях, гордостью переполнен, как та плетенка, но уж чуть перегорел — дело-то сделано, мешок на плотине... «Что-то надо еще свезть», — вяло решает он про себя и начинает дремать.
Выплывают из-за поворота чахлые березники. Шишлянников поворачивается в соломе на другой бок, так, чтобы видеть высокие седые ели по правой обочине, и замечает, как среди остроконечных вершин начинает скакать зеленая вечная звезда.
В. Арсеньев, наш спец. корр.
Калининская область
(обратно)
История трехтрубного крейсера
 «Молодежь ценит подвиг своих отцов, но и сейчас не меньше, чем прежде, нужны и самоотверженность, и энтузиазм, и преданность идеалам, и готовность к подвигу».
Из речи товарища Л. И. Брежнева на XVI съезде ВЛКСМ
«Молодежь ценит подвиг своих отцов, но и сейчас не меньше, чем прежде, нужны и самоотверженность, и энтузиазм, и преданность идеалам, и готовность к подвигу».
Из речи товарища Л. И. Брежнева на XVI съезде ВЛКСМ
Выходим из порта. Громко стучит мотор, отзываясь эхом от бетона и высоких бортов синеватых военных кораблей. Раздается вширь гавань.
Каменный брекватер-волнолом. На правом молу перевернутая килем вверх деревянная шхуна. Зеленовато-рыжая с засохшими водорослями корма словно бы собралась перелезть через высокий барьер мола и в последний момент раздумала, да так и осталась, зависнув на молу.
Уходит за кормой город. И вот впереди уже простым глазом можно заметить темную точку. Увеличенная в десять раз в кресте сетки морского бинокля, точка превращается в черную зубчатую черточку. Черточка — цель нашего путешествия. Это старый, давно разоруженный военный корабль. Хорошо виден тупой нос с якорной серьгой клюза. Видны ржавые поворотные катки, на которых некогда стояли орудия главного калибра. Торчат остатки надстроек и полукруглые балкончики бортовых пушек.
Голубеет небо, синеет вода, плавится в воде солнце, и на этой яркой синеве длинным рыжим контуром выделяется остов морского великана.
Наш катерок осторожно кружит, выбирая место, где бы пристать. Задача нелегкая, потому что давно уже люди не были на нем. Лишь раз в два-три месяца подходит к кораблю юркий катерок маячного смотрителя. Смотритель меняет газовые баллоны и проверяет систему маячного фонаря-мигалки.
Пристаем с левого борта. Здесь и глубже, и можно пришвартоваться, а главное, вскарабкаться по броне отвалившейся бортовой плиты.
Вылезаем наверх и оказываемся в царстве перержавевшего, слоистого железа и стали. Мощная некогда броня местами легко отламывается руками и рассыпается на мелкие коричневые пластинки. И тогда она неожиданно напоминает сухой кофейный торт.
Со всей предосторожностью двигаемся по кораблю. Кругом перекрученные полосы железа, люки, стояки, балки, стальные корабельные ребра и переборки. Глухо шумит и шлепает вода в полузатопленных трюмах, и, отражаясь, играют на железных рыжих стенах водяные зайчики. Нигде ни кусочка дерева. Только железо и сталь.
Неожиданно попадается прислоненная к переборке лестница-времянка. Значит, идем правильно... Наверное, так же ходит и маячник, меняя баллоны.
Еще одна лестница. По ней вылезаем на ходовое крыло мостика. Погнутые, перекрученные поручни. Узкая длинная щель боевой рубки, тяжелый броневой ржавый стакан. В нем остатки штурвальной колонки и гнезда приборов. И под ногой, в рыжей лужице воды, желтый, как прошлогодний опавший лист, пустой конверт. Слово «Авиа», расплывшийся адрес: далекий город, незнакомая улица. И мы нагибаемся и рассматриваем этот конверт, как, наверное, рассматривали бы его на необитаемом острове... Прямо над головой высокая мачта с маячным фонарем-мигалкой. И на самом ее верху, рядом с фонарем, как на тополе у хаты, одинокое гнездо аиста.
Так же как и великие люди, великие корабли имеют право на точную подробную биографию.
В Севастополе на Матросском бульваре (когда-то он назывался Мичманским) есть старый памятник. Античная трирема на высоком прямоугольном пьедестале. Рядом — бронзовые жезлы бога торговли и путешествий Меркурия. Под ними короткая надпись: «Казарскому. Потомству в пример».
Сто сорок два года назад, в мае 1829 года, бриг «Меркурий», на борту которого было восемнадцать небольших пушек, в течение нескольких часов вел бой с двумя турецкими линейными кораблями, вооруженными 184 орудиями. Зажатый с двух сторон неприятелем, бриг, умело маневрируя, бил по рангоутам и парусам неприятельских кораблей. И заставил их выйти из боя. За этот подвиг корабль был награжден кормовым Георгиевским флагом.
А через пять лет по проекту архитектора А. П. Брюллова был поставлен и первый в городе памятник — памятник командиру «Меркурия» капитан-лейтенанту А. И. Казарскому и его экипажу. Через три четверти века в память знаменитого брига был назван новый, только что спущенный на воду крейсер 1-го ранга. У него была долгая жизнь и два дня рождения. Первое, как и у всякого корабля, — когда его спустили на воду, и второе — когда корабль буквально воскресили.
В ночь с 21 на 22 октября 1916 года крейсер в сопровождении эскадренного миноносца «Пронзительный» совершил свой последний боевой рейс. До этого были бесконечные боевые походы первой империалистической войны, и корабль, страдавший хронической усталостью машин, теперь находился в резерве — во «второй линии» флота. На прикол он встал под крутым берегом в севастопольской Южной бухте и, казалось бы, навсегда.
27 апреля 1919 года в бухте раздались несильные глухие взрывы. Убегающие белогвардейцы и интервенты взрывали в Южной бухте русские корабли. А на рейде за Константиновским фортом и остатками боновых сетей маячили серые контуры английских и французских дредноутов и крейсеров. Их орудия смотрели на город.
В эти дни на севастопольском рынке можно было приобрести самые необычные и разнообразные вещи: глубомер с подводной лодки «Тюлень» и медный кран корабельного отопления с линейного корабля «Синоп», кожаную диванную покрышку адмиральской каюты с «Евстафия» и главный компас с «Борца за свободу». С обреченных кораблей ловкие люди тащили все, что подвертывалось под руку.
«Память Меркурия», ржавый и запущенный, со взорванными цилиндрами, с ободранными и ограбленными каютами, стоял в это время на своем прежнем месте в Южной бухте. В море, за Константиновский форт, уходил в черной туче дыма последний английский крейсер «Калипсо».
«Уходят... И лишь изуродованные трупы русских кораблей, когда-то доблестно сражавшихся с «Гебеном», остаются несмываемым памятником бесславных «подвигов» могучего флота могучей Антанты», — писала 29 апреля 1919 года газета «Известия» Севастопольского революционного комитета.
Но корабли еще могли быть восстановлены.
31 мая 1919 года в Москву из Севастополя был послан «Список учреждений и кораблей Морского ведомства... с указанием числа служащих на них военных моряков». В этом списке вместе с «Борцом за свободу» и другими старыми линейными кораблями и крейсерами упоминается и «Память Меркурия». На нем в это время служило согласно списку всего, десять военморов. Очевидно, это была лишь охрана корабля.
Вскоре Крым заняли деникинцы. И еще четыре долгих года стоял крейсер в Южной бухте. Со взорванными машинами, с рыжей замусоренной палубой, длинный трехтрубный крейсер, казалось, намертво прирос к берегу. Рядом с ним на корабельном кладбище «покоились» «Синоп», «Три святителя», «Иоанн Златоуст», «Евстафий», стоял и «Борец за свободу» (бывший «Потемкин»).
(Имя этого корабля, первым поднявшего в русском флоте флаг восстания, известно всем. Известно, что он был после восстания переименован царем («Потемкин» стал «Св. Пантелеймоном»). Дальнейшая его судьба для многих оставалась загадочной. Куда же исчез броненосец? Большая Советская Энциклопедия считает его потопленным у Новороссийска во время знаменитой гибели эскадры. «Потемкин» вместе с другими кораблями Черноморского флота был по приказу Советского правительства затоплен у Новороссийска. По окончании гражданской войны поднят, но ввиду сильных повреждений машинной части был разобран» (БСЭ, том 34).
Писатель Виктор Шкловский считает корабль уничтоженным вскоре после переименования. «Сам опальный броненосец, — пишет он, — был сперва переименован, потом уничтожен...» (В. Шкловский, Жили-были).
В «Списке кораблей русского парового и броневого флота» С. П. Моисеева, в труде серьезном, скрупулезном, точном, в графе «Примечательные события в истории корабля» ничего не сказано о последнем причале «Потемкина» — таинственный прочерк.
По некоторым другим данным, корабль был уведен якобы в 1920 году бароном Врангелем во французскую Бизерту.
Но он не был затоплен у Новороссийска!
Не был уничтожен царем!
Не был уведен Врангелем!
Он до последнего своего дня оставался в родной бухте. Стоял у родного причала. Всего два года он не дожил до своего знаменитого рождения на экране кино. — Прим. автора.)
Но недолго им оставалось так стоять. Наступил 1923 год. Сначала на одном, потом на другом морском великане зашипела газорезка, плавя тяжелую двенадцатидюймовую сталь.
«Старые броненосцы грузно сидят в воде, как диковинные утюги, — писала 10 октября 1923 года севастопольская городская газета «Маяк Коммуны». — Они отслужили свою службу и давно запросились в лом. Но разруха не пускала... И забытые и страшные в своей заброшенности, год за годом они жутко маячили у пристани...
Пока работы ведутся на одном великане, но на очереди и другие... Здесь сотни и сотни тысяч пудов стали, дорогие механизмы, цветные металлы, цепи толщиной в детское туловище, железо различных форм... Можно из этого наделать сотни паровозов или тракторов. Можно много полезного наделать. Ныне железо в цене. Все на переработку пойдет.
Старые броненосцы, тени мрачного прошлого, гулко повторяют слова замасленных людей...» — с таким несколько мрачноватым пафосом описывал журналист с псевдонимом «М-р» начало разборки кораблей.
Но «Память Меркурия» (теперь крейсер был переименован в «Коминтерн») восстановить оказалось возможным.
Основной трудностью было то, что на крейсере взорваны цилиндры главной машины. Выточить такие цилиндры на заводе не могли. Не было ни станков, ни нужных марок чугуна. И все-таки старики мастера севастопольского морзавода во главе со старшим механиком крейсера Д. П. Вдовиченко нашли выход: старики вспомнили, что на Балтике есть крейсер, у которого безнадежно поврежден корпус, но цела машина. Это был «Богатырь».
(«Богатырь» — родоначальник знаменитой корабельной «династии» крейсеров 1-го ранга. В японскую войну этот крейсер входил в состав владивостокской эскадры. Весной 1904 года потерпелаварию в заливе Посьет. На скорости 10 узлов в тумане сел на мель и свернул таран. Долго ремонтировался. В 1906 году возвратился на Балггику и воевал в первую мировую войну.
По его чертежам строился и не менее известный балтийский крейсер «Олег», который под флагом контр-адмирала Энквиста догнал эскадру Рождественского на пути к Цусиме.Корабельными родственниками «Богатыря» и «Олега» были и построенные в самом начале века пятитрубный «Аскольд» и четырехтрубный знаменитый «Варяг».
Для черноморской эскадры по проекту этого типа позже начали строиться «Очаков» («Кагул») и «Память Меркурия» («Коминтерн»). — Прим. автора.)
«Коминтерн» и «Богатырь» строили разные заводы, но корабли даже внешне были очень похожи. Одинаковыми у них оказались и цилиндры главной машины. На Балтику отправилась специальная экспедиция...
Крейсер впервые отошел от стенки в Южной бухте — второго места своего рождения — в последних числах апреля 1923 года.
Началась погрузка угля, самые тяжелые общекорабельные работы.
«Я подал оркестру знак играть «угольный» марш... Был у нас и такой марш, — вспоминает начальник команды музыкантов крейсера Никита Лаврентьевич Бияковский. — Под марш бригады грузчиков цепочкой заспешили с мешками угля на борт корабля. В мешках был отборный донецкий антрацит, «чернослив», так звали его моряки.
От «чернослива» постепенно чернели лица, руки, волосы. Угольная пыль хрустела на зубах. Музыканты вытряхивали из мундштуков тягучие черные капли...
Оркестр непрерывно играл марш. Потом пошли вальсы, польки-бабочки... У музыкантов беспощадно болели и ныли губы. У грузчиков — руки и спины. При электрическом свете под черную метель угольной пыли грузили до поздней ночи...»
А через несколько дней, 1 мая 1923 года, севастопольцы провожали крейсер на ходовые контрольные испытания.
Поблекшие адмиральши и каперангши, все многочисленные «бывшие» иронически переглядывались меж собой. Перед выходом крейсера по городу, как писала несколько дней спустя севастопольская газета «Маяк Коммуны», «старорежимными обывателями» был пущен фантастический слух: «Коминтерн» сам идти не сможет, и его будет вести на невидимом буксире подводная лодка... Но крейсер шел самостоятельно и вскоре развил такой ход, который бы не смогла держать под водой в то время ни одна подводная лодка в мире.
Через несколько месяцев «Коминтерн» во главе эскадры вышел в свой первый учебный поход.
«Все произошло просто и неожиданно, — рассказывал Андрей Александрович Дивавин. В 1922 году он, ярославский комсомолец, посвятивший впоследствии всю жизнь флоту, был одним из тех двух с половиной тысяч, кто по первому шефскому набору пришел на флот. — Воды шире Волги у Ярославля я не видал. А тут попал на море... На Корабельной стороне нас развели по ротам. Я был зачислен в 5-ю. Одели нас в бушлаты из серого, буквально просвечивающего сукна, выдали тельняшки и ботинки с картонными подметками — и то только тем, у кого уже никуда не годилась обувь. Так началось наше оморячивание.
После окончания школы корабельных электриков я попал на «Коминтерн».
Мало еще тогда было крупных кораблей на Черном море, и во всех приморских городах хорошо знали наш трехтрубный красавец. «Коминтерн» стал частицей и моей судьбы».
А через два года «Коминтерну» пришлось стать на экране кино тем, с кем он долгие годы стоял в Южной бухте.
Осенью 1925 года в Севастополь приехала киносъемочная группа Сергея Эйзенштейна. Режиссер искал «Потемкин». Но броненосца — линейного корабля «Борец за свободу» — уже не было. Он был разобран. Командование флотом показало Эйзенштейну минный блокшив № 8, бывший старый, разоруженный броненосец «Двенадцать апостолов». Внешне плавучий склад морских мин все еще напоминал броненосец и даже несколько походил на «Потемкин». Но на нем уже давно не было ни орудийных башен, ни характерных для броненосца надпалубных надстроек.
Эйзенштейн ухитрялся снимать «Двенадцать апостолов» на фоне воды и неба снизу, с носа. Но режиссеру позарез были нужны сцены и на палубе, у орудийных стволов. Они были сняты на «Коминтерне». Так в знаменитой ленте, которая обошла весь мир, «Коминтерн» стал «Потемкиным».
Шли годы. Новые корабли вступали в состав Черноморского флота, и «Коминтерн» уступил одному из них место во главе эскадры, а сам скромно стал учебно-боевым кораблем Черноморского флота.
Он был им до 41-го года...
Летом и осенью 41-го года в военном эфире над Черным морем можно было услышать: «Внимание, внимание, серый трехтрубный крейсер приближается к Одессе...», «Большой крейсер идет в Одессу...» Немецкие самолеты-разведчики открытым текстом передавали такие донесения на свои аэродромы. Шифра не требовалось. И так все было ясно. И для корабля, и для экипажей вражеских бомбардировщиков. За этим следовали обычно яростные воздушные атаки.
С первых дней войны старый корабль наравне с новейшими стал участвовать в напряженной военной работе. Возил воинские части, продовольствие, снаряжение, боеприпасы. Эвакуировал раненых. Ставил минные поля у Севастополя, прикрывал переход кораблей Дунайской флотилии в Одессу, артиллерийским огнем поддерживал наши сухопутные войска. Крейсер участвовал в крупнейшей Керченско-Феодосийской десантной операции. «Коминтерн» был флагманом отряда кораблей северо-западного района, а командовал отрядом контр-адмирал Д. Д. Вдовиченко, сын старшего механика крейсера.
Севастопольские рейсы заслуженно считались самыми трудными. И часто крейсер шел на прорыв морской блокады вокруг города не совсем обычным курсом. Из Новороссийска, Туапсе или другого кавказского порта «Коминтерн» поворачивал в открытое море, но шел не кратчайшим путем, по диагонали, или, как говорят черноморцы, «через перевал», а параллельно берегам Турции и лишь на меридиане Севастополя брал курс на город. Так было несколько безопаснее.
Но патрульные самолеты-разведчики залетали далеко в море и, постоянно сменяясь, кружили по большой кривой, просматривая на подступах к городу все водное пространство. И каким бы курсом ни шел очередной блокадопрорыватель, в светлое время суток он почти всегда бывал обнаружен.
Ночью были свои трудности. Мины на входных фарватерах, атаки гидросамолетов, которые поджидали наши корабли на воде, атаки немецких и итальянских торпедных катеров...
А днем за десяток-другой минут самолет мог настигнуть крейсер, идущий со скоростью в десять-двенадцать узлов. Тогда начинался бой. В вахтенном журнале появлялись лаконичные записи: «20 февраля. 1942 года. Везли мины. Были атакованы торпедоносцами. Уклонились от четырех торпед...»
«9 марта 1942 года. Выйдя из Новороссийска, весь день подвергались атакам торпедоносцев. Отбили десять атак. 11 марта прибыли в Севастополь».
«11 марта 1942 года. Авиабомбой пробило на юте палубу. При взрыве разрушило часть правого борта, снесло надстройки. Есть убитые и раненые. Сбили два самолета...»
...19 июня 1942 года «Коминтерн» с крупным конвоем и военными транспортами вышел в очередной севастопольский рейс. А еще 7 июня фашисты начали третий штурм города. Теперь героические защитники морской крепости особенно нуждались в поддержке. И с каждым днем все усложнялась доставка людей и грузов с Большой земли. Враг предпринимал все меры, чтобы нарушить морские перевозки. В Крым была направлена особая группа из 150 самолетов, экипажи которых были специально «натасканы» на борьбу с кораблями. Из Германии, Италии, Румынии были переброшены подводные лодки, катера-охотники, торпедные катера, сторожевые корабли.
В начале июня в Крым перелетел и 8-й отдельный авиационный воздушный корпус генерал-полковника Рихтгофена. Тот самый корпус, что бомбил Лондон, Ливерпуль, высаживал десантников на остров Крит. На самом полуострове и ближайших к Крыму аэродромах фашисты теперь имели почти 1100 самолетов против 53, которыми располагали защитники города.
...Сразу после выхода 19 июня начались атаки самолетов. «Хорошо было видно, — рассказывал участник этого перехода старший лейтенант бригады морской пехоты Иван Александрович Сухов, — как очередной торпедоносец или «хейнкель» заходили в атаку... Мы все стреляли. Кроме корабельных 37-мм зенитных автоматов, стреляли из станковых «максимов», которые везли. Даже из винтовок. Напряжение доходило до высшей точки, когда пикировщик, начиная пикировать, ложился на боевой курс и от желтого брюха самолета, из-под блестящего прозрачного плексигласового носа капала черная капля бомбы или торпеды.
Крейсер бросался вперед. Останавливался. С рулем на борту ложился вправо, влево. Давал задний ход. Циркулируя и сотрясаясь всем корпусом, словно танцуя почти на месте, резко менял курс... Белая дорожка торпеды проходила у носа, у борта, перечеркивала широкий кормовой след «Коминтерна». Белые столбы взрывов опадали по бортам. Но сброшенная в воду торпеда по-прежнему была опасна. Металлическая акула, оставляя за собой белый бурунчик пены, продолжала обходить корабль по смертельной, сужающейся спирали. А в атаку заходил новый торпедоносец. С другой стороны. С другого курсового угла. С разной высоты, с разных направлений, знаменитым у фашистских асов «звездным» налетом.
Отчаянно отбиваясь, корабли продолжали продвигаться вперед. Многие суда уже имели прямые попадания. У других от близких разрывов тяжелых бомб и сотрясений корпуса садился в котлах пар.
Из Новороссийска по радио пришел приказ: конвою и транспортам вернуться в порт.
Возвращение кораблей прикрыли на меридиане Керченского пролива несколько наших истребителей, поднявшихся с неблизких кавказских аэродромов. Это был предел их дальности полета». «Коминтерн» вернулся. Но 16 июля 1942 года на стоянке в Поти во время налета бомба угодила в высокую среднюю трубу крейсера, вторая пробила трюм. Капитально ремонтировать старый корабль во время войны не имело смысла. Решено было разоружить «Коминтерн».
С корабля сняли пушки и зенитные автоматы. Их врыли в землю и установили под
Туапсе
, за горой Индюк. За орудия встали артиллеристы «Коминтерна».
Разоруженный «Коминтерн» оставался в гавани. Его хотели разобрать. Но случилось так, что крейсер еще много лет послужил флоту.
В устье одной из рек была во время войны база торпедных катеров и подводных лодок. И вот, чтобы оградить базу от торпедных ударов с моря и изменить режим реки, углубить ее, своеобразным брекватером-волноломом был поставлен старый крейсер. Длинный крепкий корпус его надежно защищал вход к устью реки от тяжелых осенних и зимних штормов. И если бы во время войны пришла с моря вражеская торпеда, она бы ударилась в борт корабля... Старый крейсер-солдат прикрывал своим телом корпуса «малюток» и торпедных катеров.
Так заканчивал свой боевой путь трехтрубный крейсер Черноморского флота, первый его флагман.
...Эскадренный миноносец уходил после ремонта в свою базу. Я напросился на него пассажиром.
Быстро надвигались стремительные южные сумерки. Впереди, с каждой минутой все раздвигаясь вширь, покачивалась бесконечная морская дорога.
Загорался и гас знакомый огонь маяка-мигалки на мачте далекого «Коминтерна». И молоденький штурман эсминца, ловко прицелившись, брал пеленг на этот проблеск. Отходил от пеленгатора, склонялся над картой и шагал по ней циркулем.
Эсминец уходил, но еще несколько минут был виден далекий, мимолетный и радостный, как улыбка близкого человека, огонь.
Арсений Рябикин, наш спец. корр.
(обратно)
Теннесси Уильямс. Проклятие

Теннесси Уильямс известен у нас в стране прежде всего как драматург. Публикуя рассказ «Проклятие» (1945 год), мы знакомим наших читателей с Уильямсом-новеллистом. Лучшие рассказы этого писателя-гуманиста показывают безрадостное существование маленького человека в условиях современной Америки, проникнуты болью за него.
Когда перепуганный маленький человек ищет пристанища в незнакомом городе, знание, обуздавшее сверхъестественные силы, вдруг утрачивает свою власть над ним, оставляя его беззащитным. Злые духи, что преследовали первобытного человека, возвращаются из долгого изгнания. С лукавым торжеством они вновь заползают в невидимые глазу поры камней и сосуды деревьев, откуда были вытеснены просвещением. Томимый одиночеством пришелец, пугаясь собственной тени и трепеща от звука своих шагов, идет сквозь бдительные ряды второразрядных духов, чьи намерения темны и загадочны. Уже не столько он глядит на дома, а сколько дома на него. Улицы затевают что-то недоброе. Указательные столбы, окна, двери — у всех у них появляются глаза и рты, все они подсматривают за ним, обсуждают его втихомолку. Тревога охватывает его все сильней, все туже. Если кто-нибудь из встречных вдруг приветливо улыбнется ему, это простое действие может вызвать в нем форменный взрыв: кожа его, натянутая как новая лайковая перчатка, лопнет по швам, и душа, вырвавшись на свободу, от радости кинется целовать каменные стены, пустится в пляс над коньками дальних крыш; духи снова рассеются, сгинут в пекло, земля вновь присмиреет, станет покорной и, как тупой вол, что бездумно идет по кругу, снова примется вспахивать пласты времени на потребу человеку.

...Такое, в сущности, чувство было у Лючио, когда он впервые встретил будущего своего друга — кошку. В этом чужом северном городе она была первым живым существом, ответившим на его вопрошающий взгляд. Она глядела на него ласково, словно бы узнавая, и ему казалось, она окликает его по имени, говорит: «А, Лючио, вот и ты! Я сижу здесь давным-давно, поджидаю тебя!»
Лючио ответил ей улыбкой и стал подниматься по ступенькам крыльца, на котором она сидела. Кошка не двинулась с места. Напротив, она чуть слышно замурлыкала от радости. Это был даже не звук, а едва ощутимое колебание бледного предвечернего воздуха. Янтарные глаза ее не мигали, только чуть сузились — она явно ждала, что он ее погладит, и не обманулась: его пальцы коснулись мягкого темени и стали спускаться вдоль тощей пушистой спины, слабо-слабо подрагивавшей от мурлыканья. Кошка подняла голову, чтобы взглянуть на него. Движение это было исполнено женственности: казалось, женщина, вскинув голову, устремила взгляд на любимого, который обнял ее, — блаженный, невидящий взгляд, непроизвольный, как дыхание.
— Что, любите кошек?
Голос прозвучал прямо над ним. Принадлежал он крупной светловолосой женщине в полосатом бумажном платье.
Лючио виновато вспыхнул, и женщина рассмеялась.
— Ее кличут Нитчево, — сообщила женщина.
Он, запинаясь, повторил непонятное слово.
— Да, кличка странная, — подтвердила женщина. — Так ее один из моих постояльцев прозвал — Нитчево. Жил тут у нас один, покуда не свалился. Подобрал эту кошку в каком-то закоулке и притащил сюда. Уж и возился он с нею — и кормил, и спать клал к себе на постель. А вот теперь от нее, окаянной, никак не избавишься. Сегодня два раза ее холодной водой окатывала, а она ни с места. Все его ждет, видать. Только зря, не вернется он. Мне на днях ребята с его завода говорили. Дело его дрянь. Вот-вот загнется. Он сейчас где-то на Западе; как стал кровью харкать, уехал туда, думал, там ему полегчает. Да, не везет человеку, что ты скажешь. А парень-то неплохой.
Голос ее постепенно замер, и, бегло ему улыбнувшись, она повернулась, видимо собираясь войти в дом.
— А вы постояльцев пускаете с кормежкой? — спросил он.
— Без, — ответила женщина.— Все тут с кормежкой пускают, а мы — без. Муж-то у меня плох, попал на заводе в аварию — теперь ничего не может, еще за ним ходить надо. Вот мне и приходится работать. — Она вздохнула. — Я нанялась в пекарню на Джеймс-стрит. — Тут она засмеялась и подняла ладони — их складки были забиты белым. — Там-то я и выпачкалась в муке. Соседка моя, миссис Джейкоби, говорит: «Ты пахнешь, как свежая булка». Да, вот так-то. Готовить на постояльцев у меня времени нет, просто комнаты сдаю. У меня и сейчас есть свободные. Могу показать, если интересуетесь.
Она помолчала в добродушном раздумье, погладила себя по бедрам, и взгляд ее скользнул по верхушкам оголенных деревьев.
— А знаете что, покажу-ка я вам комнату, из которой тот парень съехал. Если, конечное дело, вы не боитесь, что она несчастливая. Вот, мол, поселился там человек и тяжело заболел. Говорят, болезнь эта не заразная, но кто ж его знает.
Она повернулась и вошла в дверь. Лючио пошел за нею.
Женщина показала ему комнату. В ней было два окна: одно выходило на кирпичную стену прачечной, и оттуда воняло мазутом, другое — на узкий задний дворик, где капустные кочаны, зеленые с просинью, виднелись среди невыполотой травы, словно застывшие фонтанчики морской воды. Он подошел к заднему окну, а женщина, пахнущая мукой, встала у него за спиною, и ее теплое дыхание защекотало ему шею. И тут он увидел кошку: грациозно ступая, она медленно пробиралась меж огромных кочанов.
— А вот и Нитчево, — сказала женщина.
— Что значит это слово? — спросил Лючио.
— Кто его знает. Наверно, что-нибудь чудное. Он мне говорил, только я позабыла.
— Я возьму комнату, если мне можно будет держать кошку, как тому.
— Ишь ты! — Женщина засмеялась. — Хочешь, значит, чтобы тебе было позволено все, что тому?
— Да, — сказал Лючио.
— Мы с ним были хорошие друзья. Он кое-что делал за мужа, тот у меня после аварии совсем плох стал.
— А... Ну так как же?
— Видишь, какое дело... — она присела на койку. — Прежде чем пустить человека, надо с ним маленько поговорить. Выяснить кой-чего, а уж потом договариваться. Сам понимаешь...
— Это да...
— С виду ты чудной какой-то.
— Я иностранец.
— Иностранец? А из каких мест?
— Мои старики были родом из Сицилии.
— Это еще что?
— Остров такой, возле Италии.
— А... Ну что ж, тогда ладно. Она подмигнула ему и ухмыльнулась.
— Муссо! — сказала она. — Вот как я тебя стану звать. Муссо!
Потом с грубоватым кокетством вскочила, ткнула его большим пальцем в живот.
— Ну так как же? — снова спросил он.
— Да живи себе. А с работой у тебя как?
— Пока никак.
— Тогда ступай на завод, спроси Оливера Вудсона. Скажешь — миссис Хатчесон прислала. По моей рекомендации он тебя в два счета устроит.
— Спасибо! Вот спасибо!
Она хохотнула и, медленно повернув голову, со вздохом проговорила:
— Радио-то у нас весь день орет — муж все военные сводки слушает. Они у меня уже в печенках сидят. Но ничего не поделаешь — больной, надо к нему приноравливаться.
Но Лючио не слушал ее. Он снова выглянул в окно — где там кошка? Она все еще была во дворе — стояла меж крупных кочанов и терпеливо ждала приговора. Сколько тоски и упования было в ее взгляде! Но и достоинства тоже.
Он проскочил мимо женщины и бросился вниз по лестнице.
— Ты куда? — крикнула она ему вслед.
— Кошку возьму! Сейчас приду.
...С помощью человека по фамилии Вудсон Лючио устроился на завод. Работа была такая же самая, какую он делал всегда: руки все время заняты, а думать особенно не приходится. Бежит, лязгая, лента конвейера, ты что-то прикручиваешь, и она бежит дальше. Но, пробегая мимо твоего места, конвейер всякий раз уносит частицу тебя самого. Постепенно из рук твоих уходит сила. Сперва тело как-то пополняет ее, но потом ты слабеешь весь. К концу дня ты уже выжат, как лимон. Что же ушло из тебя? Куда ушло? И зачем?
Ты покупаешь вечерние газеты, которые с громким криком тычут тебе в нос продавцы-мальчишки. Может быть, там ты найдешь ответ на все свои вопросы? Может, вечерний выпуск разъяснит тебе, для чего ты живешь, чего ради так тяжко трудишься? Но где там! Об этом газеты молчат. Они сообщают тоннаж потопленных кораблей. Число самолетов, сбитых в воздушных боях. Названия взятых городов и разбомбленных населенных пунктов. Все эти цифры и факты мешаются в твоем отупевшем мозгу, газета выпадает из рук, голова раскалывается от боли.
А когда поднимаешься утром,— господи боже ты мой: солнце снова там же, где было вчера в этот час, — оно встает из середины кладбища за твоей улицей, и можно подумать, будто всю ночь его сторожили бесплотные мертвецы постоянно затянутое дымами города, оно кажется лепешкой, румяной и круглой, а ведь оно с таким же успехом могло быть квадратным или же вытянутым, как червяк, и вообще все на свете могло бы иметь совсем другой вид и нисколько не измениться от этого...

Похоже, что мастер невзлюбил его, а может быть, в чем-то заподозрил. То и дело останавливался он у Лючио за спиной и смотрел, как тот работает. Стоял подолгу, непонятно зачем, и, прежде чем отойти, что-то сердито бурчал себе под нос, и в бурчанье этом чувствовался намек на возможность любых неприятностей.
Лючио все время думал: «Долго мне на этой работе не удержаться».
Он написал брату. Брат этот (его звали Сильва) отбывал десятилетний срок в одной из техасских тюрем. Они с Лючио были близнецы. Хотя характеры у них были совсем разные, братья были привязаны друг к другу. Сильва был гуляка, любил виски и музыку, жизнь вел ночную, как кошка, ходил эдаким франтом, и вокруг него всегда веяли деликатные женские запахи. Одежда его, валявшаяся по всей комнате, которую они с Лючио тогда, на Юге, снимали вдвоем, вечно была перепачкана пудрой. Из карманов падали всякие побрякушки — свидетельства близости с какой-нибудь Мэйбл, Рут или Глэдис. Едва встав с постели, он тут же заводил патефон, а радио выключал, только когда собирался спать. Впрочем, Лючио видел его не слишком часто — что бодрствующего, что спящего. Свою жизнь они обсуждали друг с другом довольно редко, но однажды Лючио обнаружил в кармане его пальто револьвер. Уходя на работу, он оставил револьвер на кровати, где они спали поочередно, и подложил под него написанную карандашом записку: «Вот твоя погибель». Когда он вернулся, револьвер исчез. Вместо него на кровати лежали брезентовые рукавицы, которые Лючио надевал на работе, в литейном цехе. К одной из них был приколот клочок бумаги, и на нем неровным почерком Сильвы выведено: «А вот — твоя».
Вскоре после этого случая Сильва уехал в Техас, и там его посадили на десять лет по обвинению в грабеже. С тех пор — вот уже восемь лет — Лючио писал ему письма. И в каждом письме сочинял что-нибудь новое о своих успехах. Писал, будто он стал мастером и купил акции предприятия, на котором работает. Что его приняли в члены загородного клуба и он приобрел «кадиллак». Что недавно переехал на Север, где ему предложили место куда лучше прежнего, да и платят в несколько раз больше.
Фантазии эти год от году становились все затейливее, теперь он жил в каком-то вымышленном мире. Всякий раз, как Лючио садился за письмо, щеки его начинали гореть, а руки так дрожали, что почерк под конец становился совсем неразборчивым. Не то чтоб ему хотелось вызвать у невезучего брата зависть, вовсе нет. Дело было в другом: он крепко любил Сильву, а тот всегда относился к нему с ласковым пренебрежением. Сильва как будто бы верил этим письмам. «До чего у тебя все здорово складывается!» — писал он. Сразу видно было, что он поражен успехами брата и гордится им. Вот почему Лючио со страхом думал о дне, когда брат выйдет из тюрьмы и узнает всю правду...
Мысль, что ему не удержаться на этой работе, мучила его неотступно. Он не мог от нее отделаться. Хоть как-то забыться ему удавалось только по вечерам, с кошкой. Одним своим присутствием Нитчево разгоняла целый сонм опасных случайностей, подстерегающих его. Видно было, что кошку случайности не волнуют: все идет естественным, заранее предопределенным порядком, и тревожиться вовсе не о чем, считала она. Движения ее были медлительны, безмятежны, была в них законченная совершенная грация. Ее немигающие янтарные глаза взирали на все с полнейшей невозмутимостью. Даже завидев еду, она не проявляла никакой торопливости. Каждый вечер Лючио приносил ей пинту молока — на ужин и на завтрак, — и Нитчево спокойно ждала, пока он нальет молоко в треснутое блюдечко, позаимствованное у хозяйки, и поставит его на пол у кровати. После этого Лючио ложился и выжидательно глядел на кошку, а она медленно подбиралась к голубому блюдечку. Прежде чем приняться за молоко, она устремляла на Лючио один-единственный долгий взгляд своих немигающих желтых глаз, а затем, грациозно опустив подбородок к краю блюдца, высовывала атласно-розовый язычок, и комнату наполняли нежные музыкальные звуки ее деликатного лаканья. Он все смотрел и смотрел на нее, и ему становилось легче. Тугие узлы беспокойства слабели, распускались. Тревога, сжатым газом распиравшая его изнутри, исчезала. Сердце билось спокойней. Он смотрел на кошку и делался сонный-сонный, впадал в забытье: кошка все росла и росла, а комната уменьшалась, уходила все дальше. И тогда ему начинало казаться, что они с кошкой одинакового размера, что он тоже кошка и лежит рядом с ней на полу, и оба они лакают молоко в безопасном уютном тепле запертой комнаты, и нет на свете ни заводов, ни мастеров, ни квартирных хозяек — крупных, светловолосых, с дразнящей тяжелой грудью. Нитчево лакала долго-долго. Порою он засыпал, не дождавшись, пока она кончит. Но потом просыпался и, ощутив у своей груди теплый комок, сонно протягивал руку, чтобы погладить кошку, и, когда она начинала мурлыкать, чувствовал, как слабо-слабо подрагивает ее спина. Кошка заметно нагуливала жир. Бока ее раздались. Разумеется, они не обменивались признаниями в любви, но оба понимали, что связаны на всю жизнь. Полусонный, он разговаривал с кошкой шепотом — он никогда не сочинял ей, как в письмах к брату, а только старался отогнать самые томительные свои страхи: нет, он не останется без работы, он всегда сможет давать ей блюдечко молока утром и вечером, и всегда она будет спать у него на кровати. Нет, ничего плохого с ними случиться не может, и бояться ей вовсе нечего. И даже солнцу, что ежедневно встает, свеженачищенное, из самой середины кладбища, не нарушить очарования, которое каждый из них вносит в жизнь другого.
Как-то вечером Лючио уснул, не выключив света. Хозяйке в ту ночь не спалось, и, увидев под его дверью светлую полосу, она постучалась; ответа не последовало, и она распахнула дверь. Странный маленький человек спал на кровати, а кошка, свернувшись в клубок, приткнулась к его обнаженной груди. Лицо у него было преждевременно увядшее, заострившееся, и с открытыми глазами он казался еще старше, но сейчас глаза были закрыты. И сам он — тощий, тщедушный, бледнокожий, какой-то недоразвитый, ни дать ни взять внезапно вытянувшийся подросток... Прежний жилец тоже был худ, мощи ходячие, и вечно кашлял, словно грудь его изнутри раздирали орды варваров, а все-таки в нем полыхало пламя, по временам придававшее ему невероятную силу. Вспомнив прежнего жильца, она подошла к Лючио, прогнала кошку и положила руку на плечо спящего человечка...
Жизнь в доме стала для него сладостной и привычной. Зимним вечером, в четверть шестого, входя в прихожую, он громко и бесшабашно выкрикивал:
— Э-эй, всем привет, э-эй!
Из шума радио, как одурманенная, выплывала светловолосая хозяйка, начиненная сладкими, словно мед, модными песенками про луны и розы, синеющие небеса и радуги, уютные коттеджи и закаты, сады и вечную любовь. Переполненная этим, она улыбалась, трогала свой широкий лоб, потом оглаживала себя, радуясь своей нежной плоти, ее обилию... Да, да, розы, луны, влюбленные следовали за ним по лестнице в его комнату и там извергались на него бурным потоком, дикой мешаниной из всех этих «Помни меня!», «Встретимся мы лунной ночью», «Люблю навек»...

Зато дневное его существование становилось все тягостней, все напряженней. Работал Лючио с лихорадочной торопливостью, и, когда мастер, подходя к конвейеру, останавливался у него за спиною, тревога так и скручивала его. Мастер что-то бурчал ему в спину, с каждым разом все громче, и это бурчанье ножом вонзалось Лючио между лопаток, из раны хлестала кровь, и он собирал все силы, чтоб не упасть. Его пальцы двигались все быстрей и быстрей, под конец он сбивался с ритма, детали нагромождались одна на другую, и машина ревела громко, неистово, разом уничтожая иллюзию, будто бы человек повелевает ею.
— Черт побери! — орал мастер. — Ты что, ворон считаешь? Запарываешь тут все, глядеть тошно! Руки вон так и трясутся!
...В тот вечер он написал брату, что опять получил порядочную надбавку, вложил в письмо три доллара на сласти и сигареты и добавил, что думает нанять ему еще одного знаменитого адвоката, чтобы снова поднял дело и, если нужно будет, довел его до верховного суда. «А пока, — приписал он в конце, — сиди и не рыпайся. Тревожиться тебе не о чем, вовсе не о чем».
Примерно то же он из вечера в вечер повторял кошке.
Но через несколько дней пришло письмо от начальника техасской тюрьмы. Начальник этот со странным именем Мортимер Стойлпойл прислал деньги обратно, а также сообщил Лючио кратко и сухо, что его брата Сильву застрелили недавно при попытке к бегству.
Письмо это Лючио показал единственному своему другу — кошке. Та сперва оглядела листок без особого интереса, но потом с любопытством потыкала в него белой лапкой, словно ощупывая, замяукала и вцепилась зубами в уголок шелестящей бумажки. Лючио бросил письмо на пол, и она тихонько стала катать его носом и лапами по старым половикам.
Через некоторое время Лючио поднялся, налил ей молока — оно уже совсем нагрелось, потому что в комнате было жарко от батареи. Тихо шипели радиаторы. Чуть слышно лакал атласный язычок. Розы на обоях расплылись, из глаз потекли слезы, и с ними из тела маленького человека ушли напряжение и тоска.
Той же зимою как-то вечером, когда он возвращался с работы, с ним случилось весьма любопытное происшествие. Недалеко от завода был кабачок под названием «Веселое местечко». В этот вечер из кабачка, спотыкаясь, вышел какой-то человек, с виду обыкновенный нищий. Он схватил Лючио за рукав и, устремив на него долгий взгляд немигающих глаз, воспаленных, как предвестие дня над кладбищем, произнес странную тираду:
— Ты этих проклятых гадов не бойся. Растут как бурьян, их и косит, словно поганый бурьян. Все бегут, торопятся, ни минутки не отдохнут — хотят от своей совести убежать. А ты дождись солнца! Оно каждый день подымается прямо с их кладбища!
Пробормотав еще какие-то пророчества, он выпустил наконец руку Лючио, за которую крепко держался, и побрел обратно к вращающейся двери кабачка, откуда за минуту перед тем вышел. Напоследок он крикнул:
— Да знаешь ли ты, кто я такой? Я бог всемогущий!
— Что? — спросил потрясенный Лючио.
Старик молча кивнул, осклабился и, помахав Лючио рукой, вошел в залитый светом кабачок.
Лючио понимал, что старик, видимо, просто пьянчуга и фантазер, но, как это свойственно многим людям, он иной раз — рассудку вопреки — верил в то, во что ему очень хотелось поверить. И в ту злую зиму на Севере он не раз вечерами утешал и себя и кошку, вспоминая выкрики старика. Может, и вправду бог поселился в этом странно безжизненном городе, где дома своим серо-бурым цветом напоминают высохшую саранчу. Может быть, так же, как и он сам бог всего-навсего одинокий, растерянный человек, который чует неладное, но ничего не может поделать; человек, который слышит спотыкливый сомнамбулический шаг времени, боится враждебной власти случая и жаждет укрыться от него в каком-нибудь теплом, залитом ярким светом месте.
А вот кошке по имени Нитчево незачем было рассказывать, что бог поселился в этом заводском городе, — и она и так обнаружила его дважды: сперва для нее был богом прежний хозяин, теперь — Лючио. Вряд ли она отличала их друг от друга. Оба они были для нее воплощением беспредельной доброты. Они избавили ее от опасностей, сделали ее жизнь приятной. Оба подобрали ее на улице и взяли в дом. В доме было тепло, на половиках и подушках — удобно и мягко. Она жила в полнейшем довольстве и покое, и если Лючио знал покой только ночью, то кошка блаженствовала постоянно, ее покой не нарушался никогда. (Пусть творец и не всем распорядился как надо, зато животным он сделал великое благо, лишив их в отличие от человека мучительной способности тревожиться о своем будущем.) Нитчево была кошкой и потому жила лишь мгновением, а мгновение это было прекрасно. Ей не дано было знать, что арестантов порой убивают при попытке к бегству (и тогда смерть их кладет предел всем попыткам бегства от жизни в мечту); что начальники тюрем уведомляют об их смерти родных в коротких сухих извещениях; что мастера становятся у человека за спиной и презрительно бурчат, и тогда руки у него начинают дрожать от страха, что он что-нибудь напортит; что машина ревет, погоняет его, совсем как надсмотрщик, хлопающий бичом; что люди, которые воображают, будто смотрят на вещи здраво, по сути дела, слепы; что бога довели до крайности и он запил. Кошке не дано было знать, что Земля, это случайное, странное скопление атомов, крутится с угрожающей быстротой, и в один прекрасный день ее движущая сила перейдет известный предел, и тогда она рассыплется а прах.
Наперекор всем бедам, грозившим их совместному существованию, кошка радостно мурлыкала вод рукою Лючио, и, может быть, именно за это он так ее любил.
Был уже январь. Каждое утро ветер с неутомимой яростью подхватывал заводские дымы, гнал их на юго-восток, и они колышущейся грядой повисали над кладбищем. В семь часов поднималось ленивое солнце, красное, как глаза нищего пьяницы, и с укором глядело сквозь дым на город до тех пор, покуда не опускалось за взбухшую реку, а река, загаженная, опозоренная, спасалась бегством, — не глядя но сторонам, она все бежала, бежала прочь из города.
В последние дни января в город на решающее совещание съехались держатели акций. Сверкая черным телом, прижимаясь к земле, словно осатаневшие от гонки жуки, к заводу мчались длинные лимузины; у служебных входов они извергали из своего чрева дородных седоков, потом сползались все вместе на усыпанных шлаком задворках и здесь, похожие на скопление насекомых, тревожно ждали их возвращения. О том, что замышлялось там, в залах заседаний, никто из работавших на заводе не знал. Из яичек еще ничего не вылупилось — для этого требовалось время, а пока что они лежали в тайнике плотными черными гроздьями, и зародыши в них медленно созревали.
Проблема была такова: заводская продукция затоваривалась, и держателям акций предстояло решить: снизить ли цены и тем самым расширить рынок или же сократить производство. Ответ был ясен: надо свернуть производство и, сохранив прежний уровень дивидендов, выжидать, пока не повысится спрос. Сказано — сделано. Распоряжение было отдано, машины замерли, и замерли люди у машин. Треть завода остановилась, и лишние были уволены. Скопление черных жуков исчезло с заводских задворок. Проблема была решена, Лючио — да, именно он — оказался среди уволенных.
Шестьдесят восемь рабочих, получили в то утро уведомление. Не было ни протестов, ни демонстраций, ни гневных возгласов. Все шестьдесят восемь словно заранее знали, что им уготовано. Быть может, еще в утробе матери питавшие их сосуды нашептывали им эту песню: «Лишат тебя работы, прогонят тебя от машины, оставят тебя без хлеба насущного!»
Сверкающей пустыней казался в то утро город. Всю неделю, шел снег — скучный, белесый. Но сейчас он засиял под лучами солнца. Каждая снежинка ожила, засверкала. Узкие крутые улочки безжалостным своим сиянием разили как стрелы.
Холодна, холодна, холодна немилосердная кровь отца твоего!
В Лючио боролись два стремления: одно — поскорее разыскать своего друга — кошку; другое, столь же сильное, — избавиться от невыносимого напряжения, расслабиться, упасть, чтобы его унесло, как уносит воды реки.
Лючио кое-как удалось доплестись до кабачка.
Там ему вновь повстречался тот самый нищий старик, что называл себя богом. Он выскочил из-за вращающейся стеклянной двери, одной рукой прижимая к груди пивные бутылки — в кабачке их не приняли, потому что пиво было куплено в другом месте.
— Бурьян, сорняки, — бормотал он угрюмо. — Ядовитые сорняки!
Он показал свободной рукою на юго-восток.
— Дождись солнца. Оно встает прямо с кладбища.
Плевок его просверкал в зловещем сиянии утра.
— Я сжимаю кулак — это кулак господа бога.
Тут он заметил Лючио и спросил:
— Откуда ты взялся?
— С завода, — еле слышно ответил Лючио.
Налитые кровью глаза вспыхнули еще яростней.
— Завод, завод! — застонал незнакомец.
Он топнул, и из-под его маленького черного башмака, заклеенного пластырем и заткнутого бумагой, брызнул мокрый снег.
Потом он погрозил кулаком дымовым трубам, злобно вонзившимся в небо.
— Алчность и тупость! — выкрикнул он. — Вот две перекладины креста, на котором меня распяли!
Грохоча и разбрызгивая слякоть, пронесся грузовик с железом.
При виде его лицо старика перекосилось от бешенства.
— Всюду ложь, ложь, ложь! — снова закричал он. — Обросли ложью, а очиститься — где им! На что им чистая кожа? Запаршиветь готовы, покрыться коростой жадности. И пускай! Пусть получают что хотят! Пусть получают больше и больше! Сперва вшей, а потом и червей! Да, да, завали их вонючей грязью на их вонючем кладбище, зарывай их поглубже, чтобы мне не было слышно, как они смердят!
Слова проклятия потонули в грохоте другого грузовика, но Лючио их расслышал. Он остановился возле старика. Тот так неистовствовал, что бутылки попадали на тротуар. Оба они нагнулись и стали их подбирать с молчаливой серьезной сосредоточенностью, словно дети, собирающие цветы. Когда они кончили, незнакомец сплюнул душившую его мокроту и схватил Лючио за руку, устремив на него дикий взгляд.
— Ты куда? — спросил он.
— Домой, — ответил маленький человек. — Я возвращаюсь домой.
— Ступай, ступай домой,— подхватил незнакомец. — Назад во чрево земли. Но это не навсегда. Смиренного уничтожить нельзя, он продолжает идти своим путем.
— Идти? Но куда же?
— Куда? — повторил за ним пророк. — Куда? Я и сам не знаю куда.
И он зарыдал. Рыдания сотрясали его с такой силой, что он вновь разронял все бутылки. Лючио нагнулся, чтобы помочь ему подобрать их, но тут силы внезапно покинули его, отхлынули волной, и он остался лежать пластом на быстро темнеющем снегу у самого кабачка — совершению опустошенный, едва живой.
— Упился, — сказал дюжий полисмен.
Человек, называвший себя богом, попытался было вступиться за Лючио, но безуспешно.
Был вызван полицейский фургон, и Лючио впихнули туда.
— Нитчево, Нитчево, — только и смог пробормотать он, когда полисмен спросил его адрес. И его увезли.
...Битый час человек, называвший себя богом, простоял на углу у входа в кабачок. Казалось, он чем-то обескуражен. Наконец он пожал плечами и зашагал к ближайшей пивной.
Как ваша фамилия? Отчего умерла ваша мать? Снятся ли вам сны?
Нет, нет, ничего нет — ни фамилии, ни матери, ни снов. Об одном прошу — оставьте меня в покое.
Очень трудный пациент, решили врачи. Ни в чем не желает идти нам навстречу.
И через неделю его наконец выписали.
Он направился прямо домой. Дверь оказалась незапертой. В холодной прихожей стояла тишина.
Но где же кошка? Здесь ее нет, это он понял сразу. Будь она здесь, до него донеслось бы в этой тиши ее дыхание.
Хозяйка услышала, как он вошел, и появилась из глубины дома, где радио беспрерывным потоком извергало модные песенки, дурманящие и слащавые.
— Говорят, тебя уволили? — только и сказала она.
Нетрудно было заметить, что она позабыла о вечной любви, лунном свете и радугах — переключилась на суровую прозу. Ее большое тело, налитое враждебностью, преграждало ему дорогу.
Он шагнул было к лестнице, но она не дала ему пройти.
— Комната уже занята, — объявила она.
— А-а...
— Не могу ж я позволить себе такую роскошь, чтобы комната пустовала.
— Ну да...
— Должна же я быть практичной, так?
— Так.
— Всем нам приходится быть практичными. Такие дела.
— Понятно. Где кошка?
— Кошка? Да я ее вышвырнула еще в среду.
И тут что-то неистово вспыхнуло в нем в последний раз. Энергия. Гнев. Протест.
— Не может быть! Не может быть! — выкрикнул он.
— Тихо! — бросила женщина. — Да ты как обо мне понимаешь? Стану я валандаться с какой-то больной приблудной кошкой! Вот нахальство!
— Больной? — переспросил Лючио. Он сразу сник.
— Ну да.
— А что с ней такое?
— Да почем я знаю? Орала всю ночь, такой был тарарам. Вот я ее и вышвырнула.
— А куда же она пошла?
Женщина грубо захохотала.
— Куда пошла! Откуда мне знать, куда пошла эта поганая кошка! Да провались она ко всем чертям!
Огромная туша повернулась и стала подниматься по лестнице. Дверь в бывшую комнату Лючио была открыта, и женщина вошла туда. Мужской голос произнес ее имя, и дверь захлопнулась.
Лючио побрел прочь из вражеского стана.
У него возникло смутное безотчетное чувство, что песенка его спета. Да, он понял — все земное его бытие осталось позади... Он видел — линии, казавшиеся ему параллельными, внезапно пересеклись, и дальше дороги нет.
В нем не осталось ни страха, ни жалости к себе, ни сожаления о былом.
Он дошел до угла и, повинуясь инстинкту, повернул в переулок.
И тут снова, последний раз в его жизни, свершился великий акт милосердия божия. Прямо перед собою он вдруг увидел хромавшую, странно обезображенную кошку. Она! Нитчево! Его пропавший друг!
Лючио стоял не шевелясь и ждал, пока кошка приблизится к нему. Она едва брела. Но глаза человека и кошки медленно подтаскивали их друг к другу, словно на аркане, преодолевая сопротивление ее тела. Ибо кошка была совершенно изуродована, она еле передвигалась.
Смерть ее наступала медленно. Но неотвратимо. И кошка, не отрываясь, глядела на Лючио.
В ее янтарных глазах по-прежнему были достоинство и такая безмерная преданность, словно Лючио отсутствовал каких-нибудь несколько минут, а не много-много дней, полных голода, холода, бедствий.

Лючио наклонился, взял кошку на руки. Посмотрел, отчего она захромала. Одна лапа была перебита. С тех пор, должно быть, прошло уже несколько дней: она почернела, нагноилась, и от нее шел скверный запах. Тело кошки стало почти невесомым — мешочек с костями, а мурлыканье, которым она его встретила, — почти беззвучным.
Как же с нею стряслась такая беда? Кошка не могла ему этого объяснить. И он тоже не мог объяснить ей, что стряслось с ним. Не мог рассказать ни про бурчанье мастера, стоявшего у него за спиной, ни про спокойную надменность врачей, ни про хозяйку, светловолосую и грязную, для которой что тот мужчина, что этот —
все едино.
Молчание и ощущение близости заменяли им речь.
Он знал — ей долго не протянуть. И она это тоже знала. Взгляд у нее был усталый, погасший — в нем уже не горел упрямый огонек, говорящий о жажде жизни, тот огонек, в котором таится секрет героической стойкости живого существа. Нет, он больше не горел. Глаза ее потухли. Теперь они были полны всеми тайнами и печалями, какими может ответить мир на бесконечные наши вопросы. Полны одиночества — да, одиночества. Голода. Смятения. Боли. Всем этим глаза ее были полны до янтарных ободков. С них было достаточно. Они уже не хотели ничего. Только закрыться, чтобы не надо было больше терпеть. Он понес ее по мощенной булыжником улице, круто сбегавшей к реке. Идти было легко — к реке спускались все улицы городка.
Воздух потемнел, в нем уже не было злобного сияния солнечных лучей, отражаемых снегом. Ветер подхватывал дым, и он с овечьей покорностью бежал над низкими крышами. Воздух был пронизан холодом, сумрак густел, переходя в черноту. Ветер подвывал, как тонкий туго натянутый провод. Где-то вверху вдоль набережной прогромыхала груженная железом машина — металл с завода, все больше и больше погружавшегося во тьму, по мере того как земля отворачивала одну свою сторону от жгучих затрещин солнца и медленно подставляла ему другую.
Лючио говорил с кошкой, а сам заходил все глубже в воду.
— Скоро, — шептал он ей. — Скоро, скоро, совсем уже скоро.
Лишь на какой-то миг она воспротивилась — в порыве сомнения вцепилась ему в плечо и в руку.
Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?
Но вспышка эта тут же угасла, вера в Лючио снова вернулась к ней, река подхватила их и понесла прочь. Прочь из города, прочь, прочь из города — словно дым заводских труб, уносимый ветром.
Прочь на веки веков.
Перевела с английского С. Митина
(обратно)
Курганы Отрара

Они расположены на северо-востоке Кызылкумов, неподалеку от желтой ленты Сырдарьи. Мощная гряда курганов протянулась на километры, занимая площадь в несколько тысяч гектаров... Курганы скрывают остатки едва ли не крупнейшего из древних городов Средней Азии, уничтоженного полчищами Чингисхана.
Возможно, эти курганы — хранители величайших творений древней культуры. Но для того чтобы прикоснуться к их тайне, потребовались столетия и еще потребовались последние пятьдесят лет, которые позволили казахскому народу, использовав все достижения современной науки и культуры, уверенно и бережно приподнять полог, скрывающий уникальные ценности национальной культуры прошлого.
«Газик» медленно ехал по городу, и под шинами сухо поскрипывал песок. Сквозь заднее стекло было видно, как ветер стремительно заносит песком колею, остающуюся за машиной. Ветер словно берег покой Отрара и потому стремился тотчас стереть всякий след пребывания в нем кого-нибудь из посторонних. Холмы и курганы мертвого города, остающиеся позади, отступая к горизонту, словно врастали в землю, уменьшаясь в размерах.
«Газик» медленно ехал по городу, и под шинами сухо поскрипывал песок. Сквозь заднее стекло было видно, как ветер стремительно заносит песком колею, остающуюся за машиной. Ветер словно берег покой Отрара и потому стремился тотчас стереть всякий след пребывания в нем кого-нибудь из посторонних. Холмы и курганы мертвого города, остающиеся позади, отступая к горизонту, словно врастали в землю, уменьшаясь в размерах.
И в какой-то момент с одного из холмов город открылся нам весь. Отрар лежал внизу, превращенный в курганы, лежал, как немая карта, на которой только контуры и нет названий. Перед нами было тысячекратное увеличение того Отрара, что мы видели на листе ватмана, приколотом кнопками к стене одной из комнат Института истории, археологии и этнографии имени Чокана Валиханова Академии наук Казахстана. Карта была испещрена крестиками, отмечавшими места будущих раскопок невиданного прежде масштаба и размаха, которые начинают сейчас казахские археологи, и нашим собеседником был доктор исторических наук Кемаль Акишев.
— Раскопки последних лет, — говорил ученый, — проведенные казахскими исследователями, выстраиваются в длинный и интересный перечень — самые крупные из них, например, комплексная Семиреченская экспедиция, несколько отрядов которой вели разведку и раскопки памятников разных эпох в долинах рек Кегень, Талес и Арысь; или столь же масштабные исследования, которые были проведены под руководством академика Маргулана в Центральном Казахстане. Земля наших предков щедра историческими памятниками, в разных уголках Казахстана постоянно работают малые и большие археологические отряды, масштаб исследований все время растет. И, пожалуй, закономерно, что именно теперь мы готовы начать работы, по значению и глобальности небывалые в истории нашей археологии...
С VIII века, как гласят древние хроники, на огромных просторах, тянувшихся от серебряной реки Инжу и склонов священной горы Харчук к берегам озера Балхаш и голубой степи Кулунда, на лугах величественных рек Ишим и Иртыш, на впадинах морей Хорезм и Абескун (1 Хорезм и Абескун — древние названия Аральского и Каспийского морей.) жили кочевые и оседлые племена — канлы, уйсуны, огызы, коныраты, найманы, адаевцы, аргины, печенеги. Они объединились в одно сильное государство, Дешт-и-Кипчак. Со временем границы его протянулись до государства булгар на западе, до Сибири — на севере, до Моголистана и Джунгарии — на востоке, до Хорезма — на юге, Караханида — на юго-западе.
В начале IX века южная часть Дешт-и-Кипчака, точнее, могущественный город Отрар и его, как сказали бы сейчас, города-спутники вошли в состав государства Хорезм, обеспечивая себе этим безопасность от врагов. Но кипчакские ханы и тогда не утратили своей самостоятельности и даже спустя несколько веков, еще в начале XIII века, были ближайшими советниками Мухаммеда, стоявшего во главе Хорезма. Они принимали непосредственное участие в решении важнейших государственных дел, состояли членами Дуан-арза — государственного совета. Кипчакские города во многом лишь формально признавали главенство Хорезма. Одним из наиболее известных и богатых кипчакских городов был Отрар. Знаменитые караванные дороги древности — и «Великая Шелковая дорога», начинавшаяся с прибрежья Мраморного моря и тянувшаяся на восток, и «Главная шелковая дорога» из древнего Вавилона через Индию и Хорезм в сторону Китая, и так называемая «вражеская дорога» между государством Сабир и Хорезмом — проходили через Отрар. Торговля в Отраре развивалась стремительно. Земли были плодородными, воды — вдоволь, люди жили оседлой жизнью, занимались земледелием, бахчеводством и садоводством.
В двухсоттысячном Отраре, выросшем на том месте, где река Арысь сливалась с Сырдарьей, обосновались ученые, мудрецы, искусные музыканты, предсказатели, ювелиры. В городе было большое медресе, базар, мастерская-кузница, гурт-хана (место, где распивали вина), баня, мечети, лавки, магазины...
И библиотека.
Библиотека, слава о которой обошла в древности весь Восток и которой, по словам летописцев, не было цены. Ее основал кипчакский философ и поэт, последователь Аристотеля и учитель Авиценны, переведший многие труды эллинских ученых на кипчакский язык, Абу-Наср Мухаммед бен Мухаммед Тархан аль-Фараби. Древние хроники единодушно утверждают, что за столетия в Отрарской библиотеке были собраны тысячи и тысячи книг со всего света — кипчакские летописи, обтянутые бараньими шкурами, арабские дастаны, книги, написанные на белой шагреневой коже, индийские своды, украшенные рыбьей чешуей, инжали мусульман, евангелия христиан... Книги научные и художественные, стихи и рецепты лекарств, книги религиозные и описания путешествий, совершенных в древности...
И эта сокровищница все пополнялась и пополнялась. В конце XII века Отрарская библиотека была крупнейшей в мире после знаменитой библиотеки в Александрии — так единодушно утверждают древние хроники. И они же называют имя человека, который был в ту пору хранителем отрарских книг, — Хисамуддин из рода Сунак...

Имя это окружено множеством легендарных, фантастических домыслов. Одна из дошедших до нашего времени легенд о Хисамуддине, например, называет его ясновидцем, которому было открыто будущее, — он наперед знал, какие события ждут Отрар: когда следует готовиться к вражескому нашествию, а когда к жестокой засухе. Все эти сведения Хисамуддин будто бы черпал в одной из книг Отрарской библиотеки, к которой никому из смертных, кроме него самого, не дозволялось прикасаться. Эта книга состояла всего из нескольких страниц, и на каждой были изложены события целого десятилетия... Отрар жил безбедно до тех пор, пока не кончились страницы волшебной книги, и тогда на цветущий город сразу обрушились бедствия, которых никто не ждал и к которым не успел приготовиться...
Другая легенда повествует о чудесных талантах Хисамуддина: он мог читать одновременно сто книг сразу и мог запомнить содержание любой из них так прочно, что рассказывал его наизусть и год спустя, и десять лет... Третья легенда утверждает, что Хисамуддин из рода Сунак умел писать так, что со страниц, которых касалось его перо, сходили настоящие, живые люди...
В этих легендах, упорно связывающих имя Хисамуддина с книгами, реальное растворилось в самой необузданной фантастике, и сегодня можно считать доподлинным лишь то, что Хисамуддин — реальное лицо, автор поэмы «Хакая», в которой рассказывается о роде правителей Отрара. Неизвестны дата его рождения и дата смерти, подлинные факты его жизни.
И все-таки в числе легенд о Хисамуддине есть одна гораздо менее фантастичная, чем все остальные, несущая в себе сведения, которые могут показаться вполне достоверными.
...Поэт Хисамуддин, рожденный в городе Сыганак, узколицый юноша в пыльном дорожном халате, сидел у края ковра, раскрыв на коленях книгу, оплетенную в тисненый сафьян. Он не поднимал глаз от черных букв и хрипловатым голосом нараспев читал, бережно, за верхние углы перелистывая пергамент. Напротив на троне, похожем на боевое седло, сидел сам повелитель Отрара и всех кипчаков Иланчик Кадырхан... Шел апрель 1218 года по григорианскому календарю, месяц раба-ахир шестьсот пятнадцатого года Хиджры и месяц куши года Барса по летосчислению кипчаков.
Негромко звучал голос поэта:
— «...Поведу восемьдесят тысяч войск в страну моголов (1 Моголами кипчаки называли уйгуров.). Чтобы отличить своих от врагов, пусть каждый наденет на голову черный колпак. Так сказал. Сели на коней. Стремена звенели колокольчиками. Колени касались ушей коней. Кишки в животе сплелись от голода. Карабкались по снежным горам. Ночевали с туманами. Год Собаки провели бездомной собакой.
Протерли шаровары до дыр. Из конских грив плели арканы. Войска поредели.
Но дошли.
Их хан оказался верзила с юрту ростом. Его звали «Туйе Палван», по-нашему — «богатырь верблюд».
Предложил я попить кумыс из одного торсука. «Ба! Лучше кровь из одного торсука!» — сказал он.
Выстроил восемьдесят тысяч войска. Враги напротив. Туйе Палван вызвал меня на единоборство. Кричал я, повторяя клич «поединок!». Такова воля воинов. Сохраним же заветы предков.
Туго обтянул чекмень. На голову надел шлем, на грудь кольчугу. Сел на верного Торттагана. Туйе Палван сел на дикого верблюда. Надел на грудь два щита, на голову чугунный котел. Взял соил со свинцовой головкой.
Завязался бой.
Мы были подобны диким зверям. Кольчуга моя изрешетилась, звенья рассыпались. Туйе Палван с быстротой молнии метнул копье. Припав к гриве коня, я увернулся. Левой рукой нанес я страшный удар. Не выдержав его, верблюд опустился на колени. Щит врага разлетелся на куски, но он успел вонзить лезвие ножа мне под руку. Меч свой я поднял и опустил. Тело Туйе Палвана выгнулось и рухнуло. Победа желанная, кровная за мной!
Воины мои, ждавшие исхода поединка, подобно горной лавине ринулись на врага.
Сам припал к гриве. Единственный мой брат прибежал, успел поддержать. Стащил с коня. Оказалось, что нож до сих пор торчит под мышкой. Веки отяготились сном смерти. На мою долю осталось мало воздуха. Чувствовал, что пришел конец.
Жена останется вдовой, пряча лицо в слезах. Сыновей назовут сиротами.
Успел сказать: «Пусть не бедствует мой серебряный народ!.. Храбрость была моей молитвой... Оставляю брату улус свой... но помните... сабля доведет народ до беды!..»
...Хисамуддин кончил читать и выпрямился, перед Иланчиком Кадырханом. Во дворец доносился шум улиц — голоса разносчиков и разговоры прохожих, смех и веселые крики. Перекликались стражники, охранявшие дворец, нараспев читал мулла с вершины минарета...
Хисамуддин бережно закрыл книгу и положил ее у подножия трона. Раб поднял ее и протянул, сгибаясь до ковра, повелителю. Иланчик все еще молчал, глядя на юношу. Он знал его отца, происходившего из рода Сунак, с которым не раз бок о бок бился с врагами. И теперь сын джигита проклинал саблю, пророчествуя беду... В круглые окошки били пыльные лучи солнца и расплескивались на кирпичиках мозаики пола...
— За прекрасные твои стихи, восславившие доблесть моих предков, — наконец проговорил медленно Иланчик, — дарю тулпара, обгоняющего ветер, охотничьего сокола, видящего волка за три полета стрелы, и пусть еще выше парит твое вдохновение!
Хисамуддин молча соединил ладони и склонился перед владыкой.
— Мирхаба, хан ханов! Мне не нужен белогрудый сокол, чьи когти рассекают рослый тавожник, мне не нужен и стремительный тулпар, чьи копыта дробят камень. Но в вашем городе есть на весь мир прославленная библиотека Абуна-сира аль-Фараби. Позволь мне, слуге твоему, доступ к этому хранилищу книг. Таково мое единственное желание...
— Хисамуддин мой, будет по-твоему! Оставайся в Отраре! Смотри за книгами, к которым мечтал прикоснуться. Закончи свой труд, запишешь повеление мое... Сабля доведет народ до беды... Но что тогда защитит народ от нее?..
Иланчик Кадырхан глубоко вздохнул и встал с трона, накинув на плечи шелковый чапан. Жестом велел Хисамуддину следовать за собой.
Под ногами ватой стлался туркменский ковер. Тянулся впереди длинный зал, вернее, аллея между арками, поднимающимися над ней, не закрывая неба. По обеим сторонам аллеи шевелились низкорослые деревья, пиния, тамариск, вяз, пальма, хурма. Аллея привела на открытую площадь, круглую, маленькую, как внутри юрты. Тут стояли дивные статуи — три бронзовых аиста с клювами, подобными стрелам. Из клювов аистов высоко взмывали струи, над фонтаном стояла кривая сабля радуги.
У главных ворот здания, в котором была расположена библиотека, стоял Анет-баба. Главный летописец ханского двора, стодевятилетний старец, увидев своего повелителя, дрожащими руками едва открыл огромный замок. Зажег светильник, повел Иланчика и Хисамуддина в темноту.
Большие комнаты соединялись между собой арками. На самом верху, под потолком, были маленькие окошки, через которые падали тонкие пучки света. Стены были без украшений, выложены из темно-серого кирпича.
— Сколько всего книг? — спросил Кадырхан.
Анет-баба ответил не сразу. Он поставил светильник в нишу, сунул руку за пазуху и вытащил трубкой свернутую бумагу. Развернул и начал читать тихим, ровным голосом.
— «Кипчакская летопись, обернутая в баранью шкуру, — семьдесят пять мотков, древних книг — десять, духовных книг, написанных на сафьяне козлиной шкуры, — одна тысяча тринадцать, рыбьей чешуей украшенные индийские книги, с рецептами великих лекарей и вобравших мудрость звездочетов — три кипа, арабские книги — тридцать, римская летопись — девять... — старик откашлялся, — ученые трактаты на языках фарси-пехлеви, иудейском, китайском, славянском, кипчакском — двенадцать тысяч семьдесят две, двести тюков папирусных свитков, девяносто вавилонских плит, на которых выбиты священные слова...»
Долго читал Анет-баба список. Хисамуддин уже зажег новый светильник. Кадырхан задумчиво листал какую-то тяжеленную книгу, его поразили ее краски, ее сложные орнаменты, которые ни разу не повторяли друг друга. Видно, немало потрудился писец, украшая каждый орнамент, будто на ковре. Обложка была из золота. Очень тяжелая книга. Хан пробовал почитать, но не разобрал ничего. Книга была написана на неизвестном ему языке.
До слуха все еще доносился надтреснутый голос старика.
— Итого, мой повелитель, в библиотеке хранится около тридцати трех тысяч очень ценных книг и рукописей! — заключил Анет-баба, пряча свиток за пазуху.
Наискось прошли площадь, вышли на боковую улицу.
Цокая копытами, проскакал всадник. Проплыла молодая красотка с кувшином на плече, прошел земледелец с верблюдом в поводу, маляр, густо пахнущий красками, раб с мешком за плечами, юноша, слонявшийся от скуки. Все дальше и дальше уходили Кадырхан и Хисамуддин в путаницу узких улочек. Поэт не спрашивал куда...
Зашло солнце, и с гор Каратау медленно надвинулась ночь. На макушку крепостного вала вскарабкался месяц. Впереди темнела сопка Кокмордан с черной, в каменных обручах, осевшей от времени мечетью.
Вошли в мечеть. Громадный портал центрального помещения подпирали шесть каменных колонн. За ним простирались просторная молельня и помещение для заклинании и духовного песнопения. Кадырхан, едва переступив порог, повернулся налево. Здесь, на повороте, шла к куполу винтообразная лестница. Однако повелитель не ступил на лестницу. Наклонился, обеими руками нажал на третью снизу каменную ступень. Камень поддался, прямо под этим камнем показалось устье пещеры.
В подземелье уходили крутые ступени. У самого входа потолок был очень низок, но дальше, в глубине, он уходил вверх, и, только подняв светильник, можно было разглядеть его каменные своды. Под ногами валялись обломки, осколки плит. Коридор вел их все дальше и дальше. Воздух был тяжелый, сырой, но чувствовалось, что какими-то невидимыми отдушинами туннель выходил на поверхность. Туннель снова превратился в узкую щель. Вскоре ноги опять коснулись ступенек, ведущих вниз. Потом они оказались в новом коридоре, глубже прежнего. Коридор привел их в маленькое проходное помещение.
Отсюда тянулись две дороги. Постояли у развилки, свернули налево, через несколько десятков шагов очутились в просторной комнате. «У хана есть одно тайное подземное помещение под названием гар. Там содержатся прекрасные пленницы отрарского хана, хранятся редчайшие драгоценности», — рассказывали старики.
— Так вот, мой Хисамуддин, все это построено нашими предками во время прежних больших войн. Это их великое творение, наследство потомкам, священная тайна для черного часа всенародных бед и потрясений. Теперь растет опасность... Чингисхан на востоке... Сейчас мы уже за пределами городских стен... Я показал тебе это, чтобы ты знал, что делать с книгами, если придет последний час Отрара...
Когда они вышли через потайной выход из устья какой-то ямины, густо заросшей саксаулом, вокруг была только степь. Величественные очертания стен великого города темнели далеко позади. Была ночь...
Наш «газик» остановился возле сопки Кокмордан, одного из курганов города, и совсем рядом с передними колесами машины мы увидели в земле трещину, почти скрытую глыбой оплывшей почвы. Под землю уходил узкий лаз, терявшийся в темноте... Быть может, именно здесь начиналась подземная дорога, сооруженная предками Иланчика Кадырхана, — одна из тех, о которых оставили полулегендарные сведения историки древности. Случайно ли близ сопки Кокмордан тридцать лет назад собака одного из пастухов, забредшего сюда невзначай с отарой овец, прыгнув в одну из нор за барсуком, принесла в зубах старинную арабскую книгу в порыхлевшем от времени переплете?..
И случайно ли последняя легенда о поэте Хисамуддине утверждает, что в черные дни жизни города он перенес все отрарские книги в тайное и надежное место, в подземелье, куда не узнал хода никто из врагов?..
Подземелье, ход в которое остался неизвестным и тогда, когда в 1903 году А. Черкасов, известный русский археолог, первый из ученых собравший по крупицам достоверные и легендарные сведения о библиотеке, которую могли скрывать курганы Отрара, начал раскопки на месте погибшего города.
Многие тысячи древних книг... Если они действительно уцелели, лежали где-то в земле,— сколько они могли бы рассказать исследователям о прошлом? Ведь среди них должны были оказаться труды древних ученых, чьи имена затерялись в веках. Произведения безвестных писателей и поэтов древности. И не случайно так упорно и настойчиво шел по следам легенды русский археолог. От древности нам досталось ничтожное количество книг. Погибли, сгорели в огне пожаров, были уничтожены религиозными фанатиками книги Александрийской и Карфагенской библиотек. Были уничтожены библиотеки в Хиве, Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Здесь, в Отраре, тысячам книг, возможно, повезло больше, чем книгам всех остальных библиотек древности. Современники писали о разгроме крупнейших книгохранилищ прошлого. О гибели Отрарской библиотеки не дошло до нас ни единой строчки... То, что ее книги до сих пор хранятся где-то под курганами, допускают сейчас многие ученые, и среди них крупнейший исследователь творчества Фараби А. Машанов.
Черкасов провел на холмах Отрара несколько месяцев. Раскопки не дали никаких результатов. Средств, отпущенных Академией наук, оказалось явно недостаточно. Чиновники, ведающие финансами, не верили в то, что в пустыне можно найти тысячи драгоценных для историков древних рукописей, и раскопки пришлось свернуть. Экспедиция покинула холмы мертвого города, археологи вернулись сюда снова лишь совсем недавно.
Несколько разведывательных экспедиций института имени Чокана Валиханова, работавших в Отраре летом прошлого и позапрошлого годов, провели рекогносцировочные работы, наметили районы будущих грандиозных раскопок. Тогда и была, составлена археологическая карта Отрара, висящая теперь в кабинете Камаля Акишева. Карта, на которой причудливо переплелись контуры древности с условными знаками современных построек, что будут возведены в ближайшем будущем рядом с курганами Отрара. Грандиозный план комплексных исследований предусматривает и создание здесь крупного научного центра, постоянно действующей археологической базы.
...Мы медленно шли по мертвому городу. Изредка можно было заметить такие же оплывшие земляными глыбами узкие лазы, уходящие в темноту.
Песок негромко шуршал под ногами. В песке вязли шаги, и ветер все так же стремительно сглаживал Следы. Вскоре под песком уже исчезла а колея, проложенная машиной, и сверху могло показаться, что «газик» перенесен сюда, к подножию кургана, каким-то волшебством...
Над курганами звенела тишина. Сейчас здесь были только мы — два журналиста, археолог из Алма-Аты и шофер. В тишине был слышен лишь шорох наших шагов;
Солнце, медленно начинавшее клониться к закату, теперь светило нам в спины. Мы приближались к восточному краю городища.
...Отрар сопротивлялся шесть месяцев. Сопротивлялся даже тогда, когда пали кипчакские города Баба-ата, Сыганак, когда уже было разгромлено все Хорезмское государство, Бухара, Самарканд, Хива. Еще держалась цитадель Отрара, защищаемая Иланчиком и его дружиной, когда всех уцелевших жителей Отрара выгнали в открытую степь и перебили до единого.
Потом была взята цитадель, и город был разрушен. Спустя века даже Сырдарья, когда-то протекавшая под самыми стенами укреплений, словно поняв, что ее вода не нужна больше людям, отступила в пустыню. Остались только пески, тишина, курганы... Курганы Отрара.
...До нашего времени надежно укрывшие уникальные для историков ценности и среди них, может быть, спрятанный в черный для города день невиданный клад мировой культуры — тысячи отрарских книг.
Д. Досжанов, В. Малов, наши спец. корр.
(обратно)
Твой сын, Ангола!
 «И можно сказать с уверенностью: дело империалистов обречено, дело свободы народов непобедимо!»
Из доклада товарища Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина
«И можно сказать с уверенностью: дело империалистов обречено, дело свободы народов непобедимо!»
Из доклада товарища Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Шла 89-я минута матча. Казалось, нули на башнях луандского стадиона так и не шелохнутся. Футболисты все чаще косили глаз в сторону циферблата, а не мяча.
И тут последовала передача слева. Мона рванулся навстречу бешено мчавшемуся тугому мячу, ударил что есть силы и, потеряв равновесие, покатился по жесткой траве. Только по реву трибун он догадался, что попал в цель.
Он был худощавый, без массы, как говорят спортсмены, и с колкого газона выгоревшего поля его легко подняли чьи-то сильные руки. Дружески похлопали по спине. Лишь тогда он оглянулся: а, это Эйсебио, молодой нападающий их соперников, мозамбикской команды. В то время он еще не успел стать великим футболистом, и Мона с благодарностью пожал ему руку. Позже он бы этого не сделал. Не сделал бы потому, что Эйсебио уехал в Португалию, уехал играть за деньги. Но, главное, все же потому, что в Португалию.
Да, в тот день на стадионе ангольской столицы, когда клуб «Луанда», за который играл Мона, победил мозамбикскую команду, Эйсебио еще не был Эйсебио. Да и он, Мона, носил другое имя, которое благодаря футболу знала вся Ангола. Фотографии Моны печатали газеты и журналы, а его настоящую фамилию набирали самым крупным кеглем в аншлагах первых полос. А как гордился своим младшим из пяти сыновей отец — весьма преуспевающий бизнесмен, владевший кофейными, мандариновыми и манговыми плантациями, имевший шесть собственных домов в Луанде! Большие деньги, громкая футбольная слава сына, служившая отличной рекламой, позволили даже пожилому ангольцу получить у португальских колониальных властей специальную карточку «ассимилядо». Своего рода мандат на право называться, несмотря на черный цвет кожи, почти что португальцем, словом, человеком, а не «собакой», «свиньей», «скотиной»... И все это благодаря достатку, умению делать деньги на труде своих же собственных земляков, которые, увы, не отвечали хотя бы одному из правил «ассимилядо»: говорить и писать по-португальски, исповедовать христианство, исправно платить налоги, не уклоняться от воинской повинности и отличаться, «хорошим поведением».
Отец мечтал, что именно младший напористый сын впоследствии поведет его дело. По настоянию отца Мона параллельно с занятиями в частном лицее окончил курсы машинописи и стенографии, которые пригодились бы в конторском деле. Но сын пошел другим путем и свои знания отдал революции.
В лицее Мона познакомился с подпольщиками из МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы), а через некоторое время уже печатал и распространял их листовки.
Их слово нашло путь к народу. Когда 4 февраля 1961 года патриоты МПЛА, среди которых был и Мона, атаковали тюрьму, радиостанцию и военные казармы в Луанде, тысячи анголезцев поднялись на борьбу. Португальцы ответили тогда репрессиями, массовыми расстрелами, военно-полевыми судами. Только в одной Луанде за три дня салазаровцы убили три тысячи патриотов. Но и реки пролитой крови не могли уже погасить пламени борьбы. Это пламя пылает на земле Анголы десятый год.
Чтобы рассказать об этой борьбе, 12 июля 1970 года в 0 часов 10 минут по ангольскому времени в составе партизанского отряда патриотов границу Анголы нелегально перешли специальные корреспонденты «Правды» и «Известий» Олег Игнатьев и Анатолий Никаноров, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов Юрий Егоров и Владимир Комаров и автор этих строк.
Мы были первыми советскими людьми, кто миновал (естественно, без паспортов и таможенных досмотров) линию ангольской границы — полоску чуть примятой травы. От этой просеки, словно от линии старта, начался длинный, многодневный пеший марафон через леса, болота, реки. Шли днем, когда жара в полдень достигала 40—45 градусов. Шагали ночью, когда воздух остывал до 3—5 градусов тепла (в эту пору в Анголе была зима). Переправлялись через десятки рек. Иногда вброд. Чаще всего на каноэ — или сооруженных из коры гигантского дерева и прошитых лыком на носу и корме, или выдолбленных из цельного ствола. Особенно много сил забирали болота. Они, казалось, были нескончаемы. Топь предшествовала каждой реке и завершала каждую переправу. Если с крокодилами кое-как справлялись — высланный вперед партизанский патруль спугивал их с места предстоящей переправы, — то змеи начиняли болота, как мины «ничейную» землю. Минуешь — твое счастье. Наступишь — будет беда. Именно она подстерегла одного из партизан, молодого 18-летнего парня, босоногого, одетого в разодранное подобие одежды, как и большинство бойцов нашего отряда. Его ужалила в лодыжку африканская кобра, так называемая «змея Клеопатры». К счастью, оказавшаяся у нашего «айболита» — кинооператора Юрия Егорова ампула с противозмеиной сывороткой «Антикобра» спасла партизана. Дня три он прихрамывал, а затем все как рукой сняло.

Мы удивлялись, откуда берутся силы у этих совсем молодых, невысоких, хрупких на вид ребят. У каждого, кроме автомата или винтовки, к поясу с помощью лыка были приторочены лимонки или мины к базуке. За плечами — тяжеленный рюкзак, а на голове — или стальная коробка с кинопленкой, или тренога, или метровый телевик. Хозяйство наших кинооператоров всем своим шестисоткилограммовым грузом в буквальном смысле слова легло на плечи не всегда вдосталь сытых бойцов. Довольно быстро ликвидировав консервный провиант, отряд жил охотой. Порой жареный или вяленый кусок антилопы или дикого козла, мясо которых, похоже, состоит из одних мускулов, выдавался на целый день...
Конечно, для партизана или бойца регулярной армии вооружение и боеприпасы — привычный груз. С ними он не расстанется, как бы ни был этот груз тяжел. Но здесь, в Анголе, в каждом вещмешке есть еще одна такая же привычная для каждого бойца вещь: букварь. Зачитанный до дыр, отпечатанный с помощью ротатора на грубой темной бумаге, он для каждого вчерашнего крестьянина стал символом завтра. О чем букварь? Конечно, о нашей Земле, о временах года на ней, о том, что есть разные страны и разные люди. Правда, есть в этом букваре бойца и свои отличия, но о них — позже. Пока же я хочу сказать, что наиболее способные бойцы, к тому же геройски проявившие себя в боях, как правило, направляются на учебу в так называемые центры революционного обучения, готовящие своего рода партизанских политработников.
К исходу пятых суток мы достигли одного из таких центров, расположенного на территории большой партизанской базы. Когда отгремел барабан охотника Саюки, когда стих многоголосный хор жителей местной деревни, приветствовавших отряд, к нам подошел невысокий, худощавый, с черной бородкой человек, одетый во все зеленое и с автоматом Калашникова через плечо. Под сдвинутым набекрень зеленым беретом улыбались карие глаза. Они улыбались так, словно их владелец знал какую-то тайну, которой ему не терпелось поделиться с нами. Он приветствовал нас по-ротфронтовски поднятой правой рукой. Но вместо традиционного «А витториа э серта!» («Победа неизбежна!») произнес по-русски:
— Добро пожаловать, товарищи! Как самочувствие, устали, наверное, с непривычки? А?
После того как неделю назад командир нашего отряда камарада Дезабу, впервые увидев нас сидящими по горло в реке, сказал нам по-русски: «С легким паром, товарищи!» — мы уже почти ничему не удивлялись. Многие из бойцов, те, что учились у нас военному делу, неплохо говорили по-русски. Но бородач в зеленом, как оказалось, владел им блестяще:
— Камарада Мона, директор центра революционного обучения, — представился он.
И уже вечером того же дня, обходя с Моной все его хлопотливое хозяйство, мы узнали историю его жизни.
— Когда разгромили восстание в Луанде, я бежал на судне в португальский анклав Кабинда, а оттуда верные люди помогли перейти границу Конго (Киншаса), где сразу же я присоединился к патриотам МПЛА. Помню, в те дни, воспользовавшись представившейся оказией, я отправил письмо родителям, в котором в нескольких словах разъяснил им свою будущую жизнь: вернусь в Луанду, только свободную от салазаровцев. В ответ получил от отца лишь одну строчку: «Чего тебе не хватало?» Тогда-то я окончательно понял: разные мы с ним люди. С тех пор вот уже десятый год я ношу другое, партизанское имя — Мона. В переводе оно означает «сын», сын Анголы.
Конечно, больше всего я хотел сражаться с оружием в руках, но руководство МПЛА решило по-иному и направило меня в 1963 году на учебу в Советский Союз, в Новокаховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, что в Херсонской области. Будущей, свободной Анголе, стране аграрной, понадобятся твои знания, сказали мне. Но все же, получив диплом техника, я еще год обучался в вашей стране военному делу. Сегодня у нас пока нужней военные специальности, чем гражданские. Так что диплому придется подождать.
Никогда не забуду годы, что я провел в Советском Союзе. До сих пор отлично помню моих преподавателей, товарищей по группе... да и своих коллег по студенческой футбольной команде тоже, конечно, не забываю... Честно говоря, я и сейчас иной раз не прочь погонять мяч — может, еще вспомнил бы какой-нибудь финт Стрельцова, мне он очень нравился. Да вот беда, португальцы все не дают. Хотя, с другой стороны, — тут наш Мона еще раз улыбнулся и подмигнул, — у нас ведь не только одни бои да дальние переходы. Пойдемте-ка, я вам кое-что покажу.
Это «кое-что» оказалось школой-интернатом для сорока галдящих сорванцов. Мы попали на занятия, которые проходили в классе, где грифельную доску заменяла высушенная шкура коровы, натянутая между деревьев. Одна сторона «доски» вымазана сажей, и на ней партизанский учитель Браганса, который для ребятишек по совместительству является и портным и сапожником, куском известки выводил гордые слова: «А витториа э серта!»
— Ну и как ребята учатся, Мона? — спросили мы.
— Сегодня, кажется, неплохо...
— Что значит «сегодня»? — не поняли мы.
— А вот посмотрите на того паренька, у которого на пилотке октябрятская звездочка. Ему только двенадцать, а он уже шесть раз удирал из школы к партизанам. Но сегодня и он на месте. Так что сегодня учеба идет нормально...
На другой день мы побывали и на уроке самого Моны. Класс — столы и скамейки под навесами, крытыми тростниковыми матами. Рядом с учительским столом стол для разборки оружия. Сам учитель — непривычно для нас серьезный, даже строгий, настоящий коменданте Мона. Над самодельными столами склонились десятки курчавых крестьянских голов, медленно шевелились губы. Листая свои азбуки, бойцы складывали в слова не мирные понятия: «дом», «корова», «трава», а другие, те, что уже сегодня нужны в борьбе:
«Колониализм — враг народа».
«Свобода — это когда народ правит страной».
«Враг силен потому, что ему помогает империализм».
«У нас миллионы друзей».
«Народ победит!»
При нас принимали в партизанский отряд группу молодых бойцов, вчерашних крестьян. И хотя событие это по нынешним временам рядовое, в лагере собралась вся деревня. Несколько десятков мужчин, женщин с грудными ребятишками на руках. В центре круга — вся родня вступающих в отряд. Глава рода — дед Сакуунда — в фетровой с поломанными полями шляпе, в рубашке с галстуком, в пиджаке и в главном предмете зависти всей деревни — резиновых галошах, надетых в честь такого торжественного случая. Все это ему обменяли в народном магазине на убитую на охоте дичь.
Бабушка Насапату помазала каждому из будущих партизан лоб маниоковой мукой. Так она делала десятки лет, провожая воинов племени на охоту на львов. По народному поверью, мужчина после этого становится отважней.
Свое первое боевое крещение новое пополнение партизан получило в бою за форт Каянда. Сначала к нему во главе с Моной пошла разведка — десяток партизан, трое журналистов и кинооператор Юрий Егоров.
Шли целый день, ночь провели в джунглях, а утром двинулись дальше. Шли неходко. Надо было подойти к форту в так называемый «мертвый сезон», часа в три, когда, сморенные дневной жарой, после обеда португальцы обычно спят или отсиживаются в прохладе казарм.
Форт появился как-то неожиданно. Лес вдруг поредел, расступился, и в бинокли мы увидели цинковые крыши построек. Форт стоял на огромном холме, господствовавшем над округой. Кустарник перед ним был вырублен, трава местами выжжена, открыв большое, наверняка простреливаемое из пулемета пространство, за которым начинались ряды проволочных заграждений, а затем уже шла крутая стена, наподобие стен старинного сибирского острога.
Мы решили подойти к форту так, чтобы солнце било в глаза португальцам, и для этого перешли вброд речку и стали продвигаться к гигантскому термитнику, с вершины которого форт должен был быть хорошо виден. Стояла мертвая тишина, такая, какая бывает в предзакатный час. И вдруг мы явственно услышали португальскую речь. Как выяснилось позже, это двое патрульных сторожили стадо коров, пасущихся перед фортом.
Переждав, мы слева и справа от термитника выставили охранение, затем взгромоздили на вершину треногу с огромным, метровым телеобъективом, и Юра Егоров начал съемки. Сначала он снимал обыкновенной камерой с рук, а затем уже телеобъективом со штатива. В настороженной тишине стрекот его камер казался громовым. Но все обошлось. С помощью биноклей и мы рассмотрели амбары, гараж, склад с горючим, радиостанцию, увидели, как из гаража выехал тяжелый военный грузовик с открытой кабиной. В ней сидели двое в шортах и белых рубашках. Вот они вышли и заговорили с только что вошедшими в форт двумя солдатами в маскировочных комбинезонах, видимо теми, чьи голоса мы слышали на подходе к термитнику.
Съемки длились недолго, не больше получаса. Потом с такими же предосторожностями, сложив всю аппаратуру, мы стали отходить назад.
Самым авторитетным экспертом по итогам разведки стал наш Юра Егоров. Конечно же, телеглаз его камеры обшарил с трехсот метров все закоулки форта. Он нарисовал подробную схему. По ней сделали макет, на котором тщательно отрабатывались все детали будущей огневой атаки, назначенной в ночь с 26 на 27 июля, опять-таки с учетом того, что вечером в воскресенье португальский гарнизон, возможно, примет лишку спиртного, ослабит бдительность.
Прошла неделя. В точно назначенный час поздним вечером 26 июля взлетел на воздух мост на дороге, связывающей форт Каянда с фортом Кавунга. Подчиняясь сигналу («Ангимо!» — кричит Мона молодым новобранцам; «Ангимо» — это «Ангола — Гинея (Гвинея) — Мозамбик»), ударили минометы, темноту прорезали трассы автоматных и пулеметных очередей. Первые же мины накрыли радиостанцию, затем запылала офицерская казарма, раздались крики и стоны раненых португальцев. Гарнизон был захвачен явно врасплох и отстреливался вяло и хаотично.
Полдень застал нас на марше, а в безоблачном небе ни точки, ни звука. Хотя обычно с рассветом после таких вот партизанских налетов на очередной форт в небе появлялись португальские самолеты или вертолеты с десантом и начиналась бомбежка, а затем прочесывание местности. Тогда мы решили, что, видимо, попадание в радиостанцию не позволило салазаровскому гарнизону послать сигнал «SOS» на натовский военный аэродром в Луанде. Но, как оказалось, мы не знали главного — по всей португальской армии в эти часы был объявлен траур. И вот почему
При подходе к базе внезапно вышедший перед нами из зарослей часовой вдруг произнес:
— Салазар а морте (Салазар мертв).
Решив, что это партизанский пароль на сегодняшний день, мы проследовали в лагерь. Но то был не пароль. В ночь с 26 на 27 июля, в часы нашего «салюта» у форта Каянда, в Лиссабоне действительно испустил дух палач Салазар.
Я вспоминаю еще одну встречу в Анголе. Как-то вечером мы сидели у костра, разговор давно смолк, и все задумались: мы — вспоминая виденное, а Мона — верно, о своих делах, близких завтрашних или более далеких. Потом тихо, будто для себя, Мона сказал:
— Это время предвидел, нет, не только предвидел, всей своей жизнью приблизил ваш Ленин. — И еще, помолчав, добавил: — И наш тоже.
Мона чуть откинулся, притянул к себе лежавшую в стороне планшетку, оттянул левой рукой тугую резинку, прижимавшую ее плоский кожаный верх, и вынул брошюру, оказавшуюся изданием АПН на португальском языке. На обложке стояло название «Солидарность», а под ним портрет Владимира Ильича.
Встретить Ленина в краях, где мы за полсотни дней не видели ни одного колеса, ни одного гвоздя, где велосипед показался бы луноходом, где повседневными орудиями крестьянского труда являются предметы, чье место на стендах палеонтологических музеев; в краях, где кажется, что все здесь заведено так, как было пять, шесть столетий назад, — встретить здесь Ленина, согласитесь, было удивительно.
Мона полистал книжку, полную помет и подчеркиваний, и, вновь сложив ее, бережно отправил обратно в планшетку. Мне показалось тогда, что есть в этом мире для Моны и его товарищей такие идеи, что помогают им в борьбе не меньше, чем оружие и иная важная помощь, которую наша страна оказывает патриотам МПЛА.
...Когда я вспоминаю Мону, то чаще всего вижу: в самодельной школе с указкой у карты стоит чернобородый человек с красивыми карими глазами. Он говорит молодым партизанам о том, как бороться с врагом, о том, какая у них жизнь будет в будущем. Он говорит о победах и произносит имя «Ленин».
П. Михалев, спец. корр. «Комсомольской правды», ведет репортаж для читателей «Вокруг света» из борющейся Анголы.
(обратно)
Быть пастухом

Автор этого очерка, молодой зоолог, научный сотрудник Института эволюционной морфологии и экологии животных имени А. Н. Северцова АН СССР, одно время жил и работал среди нганасан, кочующих со стадами оленей по Восточному Таймыру. Его работа была связана с изучением проблем оленеводства.
В ночь на 22 июня загудела последняя пурга. Чум дрожал от порывов ветра, а через верхнее отверстие беспрерывно сыпалась снежная пыль, и мы просыпались запорошенные ею. Было мокро и зябко.
Первыми поднялись женщины. Лентоле с помощью небольшого меха раздула костер, повесила над ним чайник. Я почувствовал, как она подоткнула мне под ноги одеяло, чтобы не прогорело. Зашевелился спавший рядом со мной Мереме — наш бригадир и муж Лентоле. Снаружи доносился голос Динтоде, подгонявшего стадо оленей к чумам. Он
дежурил ночью, я должен был сменить его с восьми. Сбросив меховое одеяло, я на ощупь нашел в головах кухлянку, стряхнул с нее снежную пыль и натянул на себя. Поднялся Мереме. Он тоже оделся, взял аркан и вышел к стаду. Обернувшись у порога, бросил мне:
— Ты сиди. Мы сами поймаем ездовых.
Поев, я старательно оделся: в еще одну кухлянку, плащ, резиновые сапоги. Стенка чума мешала выпрямиться, и Лентоле помогла мне оправить одежду. Поскольку я живу у Мереме, его жена ухаживала за мной.
Я выбрался из чума, запряг пойманных Мереме оленей и, ведя их в поводу, начал поднимать стадо. Олени были вялыми и уходили на выпас неохотно. Примерно в километре от нашего стана я остановил их и, повернувшись спиной к ветру, стал ждать, пока олени наедятся. Мой Кула, оленегонная лайка, залез на нарту и спал, свернувшись в клубок: снег, не таял на его черной пушистой шкурке.
Неподалеку протекал ручей. Он широко разлился, вода пропитала снег, превратив его в снежную кашу. Пурга помешала мне вовремя заметить, как голов пятнадцать оленей перебралось через ручей. Вскоре за ними потянулось и остальное стадо. Подняв ездовых и столкнув Кулу, я направился через ручей. Почти на середине нарта увязла в снежной каше. Олени, не в силах стронуть нарту с места, легли. Слезать в воду мне очень не хотелось, но иного выхода не было. Едва я спрыгнул, как вода потекла мне в сапоги. Проклиная все на свете, я понукал ездовых и дергал нарту, кричал на пасшихся на той стороне оленей, из-за которых пришлось полезть в эту кашу. Стоило мне выбраться на твердое место, как они испугались и гуськом потянулись обратно. К обеду пурга начала стихать. Подмораживало. Мне становилось все труднее: вода хлюпала в сапогах, сильно мерзли руки. В нетерпении я посматривал в сторону стана. Пурга стихала, и два черных треугольника чумов становились все виднее. Додежурив, как положено, до восьми, я погнал стадо домой. Возле нашего чума стояла чужая нарта. Подождав, пока стадо легло, я выбил от снега одежду и полез в чум греться.
Кроме Мереме, Динтоде, женщин и детей, на шкурах лежал здоровенный красивый парень, одетый по-русски: меховые летные брюки, унты, клетчатая рубашка. Я узнал Афанасия Рудинского — председателя нашего колхоза. Мы пожали друг другу руки. Я сел на край шкуры поближе к огню. Лентоле быстро положила передо мной кусок мороженой оленины, хлеб, налила чаю. Хлеб, по-видимому, привез гость.
— Ну как? Нравится в бригаде? — спросил Афанасий.
— Нравится, хорошие люди, — ответил я.
— Не трудно?
— Не-ет, — я улыбнулся.
После дежурства, за чаем, жизнь казалась просто прекрасной.
Дождавшись окончания еды, Афанасий попросил у меня документы. Он был в командировке, когда меня зачислили в колхозную бригаду, и теперь внимательно, страницу за страницей читал мои направления и рекомендации.
— Вы закончили университет?
— Да.
— А теперь занимаетесь наукой? На оленях ее делаете?
Я невольно засмеялся. Это было хорошо сказано.
— Да. Хочу проверить, могу ли сам держать оленей. Или силен только в теории?..
— А где работали раньше?
— На Северной Камчатке.
— Долго?
— Три года.
— Он умеет, — сказал Мереме, наш бригадир.
— Значит, выдержал испытательный срок? Оставишь его в бригаде?
Все, кто был в чуме, посмотрели на Мереме. Я волновался, как на экзамене. Мереме несколько минут молчал, потом твердо сказал:
— Пусть работает. Я согласен.
Председатель пробыл у нас часа три, а потом стал собираться в соседнюю бригаду. Он торопился, потому что ездить по тундре становилось с каждым часом труднее. Снег таял, питая водой реки.
Мы вышли проводить Афанасия. Быстро поймали хороших ездовых оленей, помогли запрячь. Уже с хореем в руках Рудинский на минуту задержался, глядя вперед и, наверное, прикидывая в уме, каким путем ехать. Пурга кончилась, хотя ветер еще не стих. Небо быстро расчищалось, и уже там и тут вытаивала голубизна. Пелена пурги уходила к югу, и на десятки километров вокруг открывалась тундра с бесчисленными озерами. Ощущение можно было сравнить только с тем, которое испытываешь, глядя на карту. Глаза невольно прослеживали знакомые извилины рек, переваливали с ручья на ручей, от холма к холму. Солнце стояло довольно высоко над горизонтом. Было ослепительно светло.
— Во-он, видишь гору? — показал мне Афанасий. — Она отсюда километрах в семидесяти. Туда ваша дорога, на север.
— Если пурги больше не будет, быстро пойдем вперед, — добавил Мереме.
С того времени мы начали кочевать — аргишить почти ежедневно. Иногда мы останавливались лишь для того, чтобы поспать. Мереме говорил, что, если бы не дети, не стоило бы и чумы ставить. На стоянках мы развязывали немногие из тридцати грузовых нарт с одеждой и продуктами, которые везли с собой.
Утром к назначенному сроку дежурный подгонял стадо к чумам. Подбодрив себя крепким чаем, мы начинали ловить ездовых оленей. Некоторые из них были ручными и не убегали. Большинство же приходилось ловить арканами. Каждого такого оленя надо было заметить в стаде и окружить со всех сторон. Как только он пытался прорваться мимо людей, над ним зависали петли брошенных арканов. Не всякий раз оленя удавалось поймать сразу, так что на ловлю у нас уходило полтора-два часа. За это время женщины успевали разобрать чумы, сложить шесты и меховые покрышки на нарты. Запрячь ездовых и тронуться в дорогу было уже делом десяти-пятнадцати минут.
Мереме всегда ехал первым, обычно стоя на нарте, чтобы лучше видеть дорогу. За ним длинной лентой тянулся аргиш. От головы в хвост каравана непрестанно доносился протяжный крик Мереме: «Э-хей, э-хей, э-хей!» Чувствовалось, что Мереме нравится вести аргиш, и он был очень красив в этой роли: в светлой замшевой лу (1 Лу — национальная одежда нганасан, вид меховой рубашки.), расшитой красными нитками и кожаной бахромой, с откинутым капюшоном, очень уверенный и неторопливый в своих движениях.
Стадо, направляемое дежурным пастухом, быстро обгоняло караван. На первых километрах олени почти не кормились. Что-то неудержимо тянуло их на север, откуда сутками дул слабый ветер. В бинокль можно было видеть, что тундра впереди ничем не отличалась от пройденной, разве что снега было побольше. И все же север притягивал все живое: и птиц, и оленей, и даже людей. Чувство севера было у оленей так сильно, что я не боялся на дежурстве перепутать дорогу. Приходилось лишь следить, чтобы стадо не слишком растягивалось: то я придерживал передних оленей, то подгонял отставших. Часа через три-четыре после ухода со стана надо было собрать стадо на отдых. В это время обычно мимо проходил аргиш. Еще через два часа впереди возникали темные треугольники чумов. Тогда, распустив стадо на выпас и не давая ему слишком быстро двигаться вперед, я начинал ждать смены.
Чем дальше на север, тем больше встречалось озер. Подтаявший лед на них был ярко-голубым. В полыньях отдыхали пролетные утки, а иногда со звонким кликом с них поднимались лебеди. Как прекрасно было в те дни пасти! Я сбросил московский жирок, чувствовал себя легким и сильным. На льду озер, погнав ездовых быков галопом, я мчался, стоя на нарте и выпрямившись во весь рост. Приятно было смотреть на свою тень, чувствовать себя настоящим пастухом. Олени казались мне приятнейшими животными: быстрыми, пугливыми, красивыми.
Но моя самоуверенность оказалась напрасной. Потребовался всего один жаркий день, чтобы куда-то улетучились и власть над стадом, и мое мастерство.
...Я принял стадо около двенадцати ночи. Солнце светило почти так же ярко, как днем. Было очень тепло. Ночная тундра отличалась от дневной лишь тишиной: не кричали чайки над озерами, не пролетали со свистом утки. Запрягая оленей в нарту, я случайно бросил взгляд на своего Кулу, как обычно привязанного цепочкой к нарте, и подумал, что не стоит таскать его с собой — в тундре сейчас очень много воды. Я привязал собаку к одной из грузовых нарт. Кула привык быть повсюду со мной и жалобно скулил, когда я уезжал.
Разбудив стадо, я дождался, пока все олени тронутся на выпас. Передняя часть стада быстро ушла вперед, в тундру. Одного жаркого дня было достаточно, чтобы вся она зазеленела. Сквозь прошлогоднюю ветошь повсюду пробивались ростки осоки, а на кочках букетиками распустились желтые соцветия пушицы. Олени быстро перебегали от кочки к кочке, жадно сощипывая эти пушистые шарики.
Направляя ездовых оленей вдоль края стада, я постепенно оттеснял его «от ветра». Передние олени уже успели обогнать меня почти на километр. Я начал кричать, стараясь спугнуть их и заставить приостановиться. Одновременно я отступал от стада в сторону, уступая ему дорогу «к ветру». Как и должно было быть, первоначально узкая лента животных начала быстро шириться, и стадо рассыпалось по тундре. Теперь все олени могли спокойно, не мешая друг другу, пастись.
Довольный своей работой, я поднялся на холм, привязал ездовых к нарте, вынул бинокль — хотелось узнать, что делается на свете. На нашем стане было тихо. Скользя взглядом вдоль горизонта, я разыскал стан бригады соседнего колхоза. Потом повернулся в другую сторону. Там паслось стадо еще одной бригады нашего колхоза. Оно двигалось параллельно и было не так уж далеко, особенно если смотреть в бинокль.
Пока я осматривался, мое стадо снова потянулось вперед. Олени двигались наперегонки, стараясь раньше поспеть к лакомому корму. Пришлось ехать в голову стада, чтобы остановить его. Однако стремление оленей вперед было так велико, что через несколько минут стадо начало обтекать меня с двух сторон. Мои крики и жесты действовали мало. Пока я «воевал» на одном краю, другой успевал уйти далеко.
Мне еще не приходилось видеть оленей такими непослушными. Они словно обезумели от голода, потеряли чувство страха перед человеком, которое заставляет их собираться в стадо. Без этого невозможно управлять ими.
Четыре ездовых быка с трудом волокли мою нарту по сухой траве, по голой земле. Несколько раз я сходил с нарты, чтобы дать ездовым немного отдохнуть. В конце концов один из быков упал, не в силах работать дальше. Пока я ловил новых ездовых оленей, стадо расходилось все шире. Поднявшись на один из увалов, я огляделся вокруг и пришел в отчаяние: повсюду были олени. Я посмотрел в бинокль в сторону соседней бригады: ее стадо было совсем близко. Если бы наши стада соединились, это было бы страшным позором
Я ощутил прилив ярости: «Нет, проклятые, я вас все же доконаю». Поймав первых попавшихся ездовых, с удвоенной энергией я принялся собирать стадо. Олени казались мне сейчас какими-то мелкими и ничтожными, овцеподобными тварями. С отвратительной жадностью, кося на меня глазами и все ж не убегая, они хватали, хватали зеленые травинки...
Я перепробовал десятки хитрых способов: надевал на хорей шапку, делая вид, что я очень большой, падал на землю и вдруг бросался на ближайшего оленя. Все было тщетно. За три года работы на Камчатке мне ни разу не приходилось видеть, чтобы страх перед человеком отступал у оленя перед голодом.
По заведенному порядку я должен был утром подогнать стадо к чумам. Но минуло десять, одиннадцать, а сделать это не удавалось. За двенадцать часов ночного дежурства я ни разу не присел и очень устал; уверенности в том, что смена закончится нормально, уже не было. Все чаще и чаще я смотрел в сторону чума, надеясь увидеть товарищей, идущих мне на помощь.
Около часа дня я погнал ездовых к дому. На полпути мне встретился Динтоде. Улыбаясь, он сказал, что давно смотрел в бинокль, как я бегаю за стадом, но не мог понять, почему не гоню оленей домой. В конце концов он решил идти мне помогать, а Мереме и Чегоде пьют чай и скоро придут тоже.
Когда я вошел в наш чум, Мереме уже собирался уходить. Молча я сел на свое место, скинул сапоги, дождался, пока Лентоле поставит передо мной столик, положит мясо, и принялся за еду. Обстановка дома была совсем мирной. Как будто и не было ужасной ночи. Лентоле что-то шила, а Ваня, ее сынишка, стоял рядом и теребил медные бляхи, рядами украшавшие грудь матери. Мереме молча сидел рядом со мной, видимо ожидая рассказа о дежурстве. Но я только с яростью поглядывал по сторонам. Меня душила злость на свою беспомощность, на бессилие имевшихся у меня знаний. «Сражение» с тысячью двумястами тупыми животными я проиграл...
Почти неожиданно для себя я сказал Мереме:
— Не могу держать стадо. Больше не пойду один на дежурство. Буду работать подпаском. Учиться надо.
Мереме ничего не ответил. Тогда я лег спиной к нему и сделал вид, что сплю.
На следующий день я отправился на дежурство вместе с Динтоде. Олени набросились на зеленые ростки осоки и пушицы, как и накануне, мало обращая внимания на мои крики и жесты. Тогда Динтоде спустил с привязи свою беленькую собачку. До этого мне не приходилось видеть, как работают в стаде с собакой (на Камчатке пасут без собак).
Как будто волна прокатилась по стаду: это олени один за другим подняли головы. Через мгновение ближние к собаке бросились бежать, их испуг заметили другие олени, тоже обратились в бегство, и очень быстро все стадо собралось в плотный ком. Мы не собирались прекращать выпас, и Динтоде отозвал собаку.
Через несколько минут и я опробовал своего Кулу. До этого времени, помня наставления товарищей, я не решался спускать собаку. Пастухи говорили, что телята еще малы, плохо бегают и собака порвет их. Было приятно смотреть, с каким азартом Кула помчался к оленям. Куда девались их хитрость и жадность! Передо мной снова были легкие, быстрые звери. Они мчались от собаки, откинув головы, положив рога на спину. Как это было красиво и приятно: они снова были в моей власти.
У меня словно появилась длинная-длинная рука. Я доставал ею до оленей, ушедших на полкилометра и дальше. Можно было позволить себе роскошь не спешить, видя, как уходят в сторону увлекшиеся пастьбой олени. Мой славный Кула, черный и лохматый словно чертик, сидел рядом, поглядывая то на стадо, то на меня. Стоило мне пожелать, как он срывался с места и мчался, чтобы вернуть оленей.
Я принялся внимательно наблюдать, как Динтоде использует свою собаку, и тут же проверял его приемы на деле. Они были очень просты. Самое главное было у собак врожденное: они никогда не пытались отрезать оленя от стада, гоняли только по краю. Впоследствии я наблюдал точно такое же поведение и у щенков, впервые выпущенных в стадо. Оказалось, что так же ведут себя волки. Словом, в тот день для меня открылась целая новая группа явлений, я получил множество интересных сведений. Но самым главным были вновь обретенные власть над стадом и уверенность в себе.
Когда мы подогнали стадо к чуму, уложили его и отправились пить чай, я рассказал Мереме о своем открытии. Довольный удачей, я сначала не заметил, что он слушает очень хмуро. Вдруг Мереме перебил меня:
— Наверное, ты давай кончай работать.
— Почему?
— Ты плохой человек.
— Но почему?
— Зачем так сердился. Я думал — ты драться со мной хочешь.
Привычная для меня озабоченность на лице Мереме сейчас сменилась какой-то ожесточенностью. Он смотрел на меня, словно видя впервые и не зная, чего можно от меня ждать. Я попытался оправдаться:
— Да что ты, Мереме! Я же на себя был зол. Обидно было, что не смог пригнать стадо домой, держать как следует.
— Любой человек может отпустить стадо. Если каждый будет сердиться, как тогда работать?
Обида Мереме была для меня неожиданной. И уходить из стада мне очень не хотелось.
Я сказал:
— Не сердись, Мереме. Каждый может сделать ошибку. На первый раз должен меня простить.
В моем багаже была бутылка. Я попросил у Лентоле несколько кружек, разлил в них содержимое. Позвали всех пастухов и дружно выпили.
Вскоре мои товарищи, разговорившись, перешли на родной нганасанский язык, который я понимал с трудом. Задумавшись о своем, я поймал себя на мысли, что, даже не понимая речи товарищей, я не могу смотреть на них как посторонний. Я слишком свыкся с их лицами, манерой вести себя и разговаривать.
Наше кочевье снова ускорилось. И оленей, и моих товарищей охватила лихорадка движения. Гуси, утки, чайки, соколы, еще недавно обгонявшие нас, теперь загнездились, а мы все шли и шли вперед.
Незамирающий день, теплынь меняли тундру очень быстро. Она отмякала, становилась пружинистой, местами топкой. Все длиннее отрастала трава, и вместе с ней подымался комар. Все реже выдавались часы, когда дул ветерок и можно было откинуть капюшоны. Все более непослушными становились олени.
Возле одного из озер мы задержались на сутки, чтобы порыбачить. Ночью дежурил Мереме. Утром он очень долго не пригонял стадо. Динтоде, старик Чегоде и я сидели возле дымокура, ждали Мереме. то и дело поглядывая в тундру. Все молчали, не хотелось ни о чем говорить. Чегоде временами закрывал глаза: или дремал, или жмурился от дыма. Динтоде же сидел неспокойно. Все время мял левой рукой локоть простреленной правой — наверное, она ныла, — иногда поднимал к глазам бинокль.
Наконец показалось стадо. Мереме подошел к нам, присел отдохнуть. Через несколько минут он сказал:
— Оленей в тундре оставил.
— Много?
— Может быть, сто.
Мереме сказал это очень спокойно, и точно так же мы восприняли его сообщение. Невольно я вспомнил, как вел себя и что переживал в тот день, когда не смог собрать стадо.
Чегоде остался с основным стадом, а мы с Динтоде отправились за ушедшими оленями. Они были уже далеко. Поначалу расстояние между нами почти не уменьшалось. Олени часто пропадали из виду, спускаясь в распадки или скрываясь за холмами. Потом мы начали их догонять. Было очень жарко, но комары не позволяли нам снять капюшоны и рукавицы. Я старался не сердиться, зная, что «на комаре» главное — выдержка.
Часа через полтора мы настигли оленей, но завернуть их не могли. Собаки гоняли с хриплым тявканьем, но табунок каждый раз уходил от них на ветер. Оленей можно было понять. Стоило нам повернуться к ветру спиной, как комары облепляли лицо и их приходилось не сгонять, а стирать. С помощью Динтоде я усвоил хороший прием: чтобы догнать оленей, мы двигались прямо к ветру, заранее зная, что они в конце концов двинутся в этом направлении.
Было уже два часа, хотелось есть, а конца гонке не было видно. Вдруг Динтоде сказал, что надо отдохнуть. Он сидел, нисколько не волнуясь, что олени снова уходят от нас, и только повторял свое любимое:
— Да-да-да-да.
— Ведь опять они уйдут далеко. Напрасно мы бегали, — не выдержал я. Динтоде повторил свое бездумное «да-да-да-да» и вдруг добавил:
— Такая наша работа. Немножко отдыхай, немножко работай.
Динтоде сидел нахохлившись, спрятав руки под своей старенькой лу. Он был старше меня на двадцать лет, простреленная на охоте рука у него плохо сгибалась. И все же мое терпение и выдержка всегда кончались раньше.
Собаки пытались зарыться мордами в мох, терли глаза лапами — их заедал гнус. Мне казалось, что началась сильная пурга, — так бил по лицу рой комаров. Отдельных укусов я уже не чувствовал. Хотелось скорее приняться за работу, это хоть немного отвлекало. Но при первой же попытке послать собак лайка Динтоде отказалась гонять. Тихонько скуля, она следовала за нами метрах в десяти, видимо боясь, что хозяин ее побьет. Вся надежда теперь была на Кулу. Но и он был не в лучшем виде. Дополнительные пальцы на его задних лапах — признак чистокровной оленегонной лайки — были сбиты в кровь, а язык, вывалившийся наружу еще с утра, казался серым.
Еще несколько раз мы отдыхали, потом снова гоняли. Если б не Динтоде, я бы, наверное, заплакал. А он был по-прежнему невозмутим, разве что все чаще повторял: «Да-да-да-да», — и только раз добавил тихо: «Плохо немножко. Всегда так летом».
В эти трудные часы я понял главную истину оленеводства. Дойти до нее было не просто, пожалуй, даже нельзя, если не помучиться несколько лет с оленями. Я понял, что в тундре надо просто работать. Не переживать как тяжелое, но временное приключение, не одерживать ни над кем побед. Просто жить.
И впрямь, куда могли уйти от нас олени? Мы жили в одной тундре, под одним небом. Они как могли боролись с гнусом, ели зеленый корм, набирали жир, чтобы пережить зиму. Мы немножко мешали, немножко помогали им жить, но уйти оленям от нас было некуда. Не в одну, так в две, три смены мы все равно догнали и подчинили бы их себе, потому что это была наша жизнь. Чтобы обрести спокойствие и уверенность Динтоде, я должен был порвать тот календарь, где отмечал дни, прожитые в тундре. Смог бы ли я это сделать?
Нам удалось завернуть оленей лишь к вечеру, когда стало попрохладнее и приутих гнус. Мы подогнали свое маленькое стадо к основному и слили их. Через минуту уже нельзя было отличить, какие олени так долго мучили нас. Пастухи ушли, а я дождался в стаде Мереме. Потом я брел к чуму из последних сил. Все уже спали. Я пробрался на свое место. Лентоле вылезла из-под одеяла, поставила передо мной столик, налила чай, положила мясо. Прожитый день, сделанная работа не вспоминались. Я думал лишь о том, чтобы скорее завалиться спать.
Л. Баскин
(обратно)
Дорогой древних колесниц

Дальше дороги нет, — сказал начальник геологического отряда, Улан-дабан завален снегом...
Геологи не могли пройти через этот перевал и довольно скептически смотрели на наш грузовой ГАЗ-66. Мы расстались с ними и остались одни на дороге, ведущей из монгольского города Кобдо к отрогам Алтая — цели и надежде нашего небольшого отряда советско-монгольской историко-культурной экспедиции.
Эта рассчитанная пока на три года экспедиция — один из примеров давних традиций содружества монгольских и советских ученых в самых различных областях. Главная задача экспедиции — изучение проблемы происхождения монгольского народа в свете последних уникальных открытий советских и монгольских археологов. Эти открытия «прибавили» к истории монгольского народа многие тысячелетия культурно-исторического развития.
За два года полевых исследований экспедицией открыты погребения и стоянки эпохи первобытнообщинного строя, памятники монументального древнего искусства — «оленные стелы» и наскальные рисунки разных эпох. Открыта и прочтена древнейшая в Монголии надпись на согдийском языке, содержащая сведения о наиболее раннем проникновении ламаизма. А летом 1970 года на берегу озера Тэрхин Цаган Нура при раскопках древнего тюркского погребения впервые обнаружены две части большой каменной стелы с руническими письменами, прекрасно сохранившимися под землей.
Уже эти открытия позволяют говорить о том, что культура древней Монголии должна быть включена в число древневосточных цивилизаций, а памятники ее искусства, открытые совсем недавно и еще неведомые миру, бесспорно, войдут в сокровищницу мирового искусства.
...За Улан-дабаном нас ждали еще никем не исследованные, только недавно открытые древние наскальные изображения.
И поэтому мы все же решили пробиваться.
Улан-дабан — Красный перевал — был действительно покрыт метровым слоем снега. Мы прокопали траншею до зеркально отполированного ледяной коркой камня дороги и буквально на руках втащили на перевал машину.
На самой высшей точке перевала мы увидели засыпанную снегом кучу камней — обо, жертвенник духу гор. Когда-то первый путник, одолевший этот перевал, положил у обочины тропы камень. Прошедший за ним — еще один. Так столетиями на вершинах перевалов Монгольского Алтая вырастали жертвенники. Путники оставляли в обо не только камни — кто пригоршню конфет или сахара, кто творожную лепешку. По традиции эти приношения предназначались духу гор в знак благодарности и с просьбой быть великодушным к людям этих мест в будущем. Мы не нарушили древний обычай — добавили к обо Улан-дабана по камешку и оставили коробок спичек: пусть какой-нибудь одинокий путник-арат с благодарностью помянет и нас, закуривая свою длинную серебряную трубку с прозрачным нежно-зеленым нефритовым мундштуком.
От перевала дорога уходила в узкое ущелье Яманы ус.
И здесь, в этом ущелье, мы увидели то, ради чего можно одолеть десятки снежных перевалов: от самого основания до вершины скалы были покрыты древними рисунками. Их было так много, что только для беглого осмотра нам потребовалось несколько дней. Основная масса рисунков была выбита на склонах горы Ханын Хад. Вся эта гора как бы сложена из крупных блоков, идущих широкими кольцами, образуя небольшие уступы над узкими карнизами.
Самые интересные рисунки — на вершине скалы, на высоте десяти метров. Чтобы добраться до них, пришлось соорудить деревянную лестницу, но карниз, на который ее поставили, был столь узок, что лестница поднялась почти вертикально, и попытку взобраться на нее можно было заранее назвать самоубийственной. Тогда сотрудник экспедиции — студент Монгольского государственного университета имени Чойбалсана Циенрегцин, как оказалось неплохой альпинист, вскарабкался на гору по еле заметным уступам. Он закрепил там веревку, привязав к другому ее концу лестницу. Первым по этой «шведской стенке» полез монгольский филолог и журналист Дзориг. Едва он кое-как пристроился и начал снимать копию с первого петроглифа, с вершины сорвался камень и попал художнику в голову. Каким-то чудом Дзориг удержался на лестнице, — когда мы его спустили вниз, он едва стоял на ногах. Его место на лестнице занял начальник отряда В. Волков.
...А ведь по этим-то узким карнизам с риском для жизни карабкались и древние художники. Что толкало их на это? Какими традициями освящено было это ущелье? Проходили века, сменялись поколения, но неизменно появлялись на отвесных склонах все новые и новые рисунки.
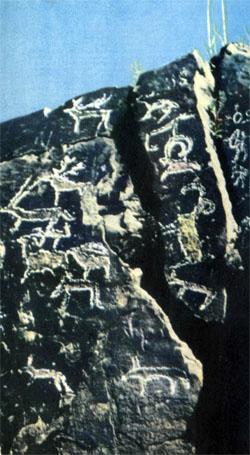
И так было по всей Монголии.
Уже сейчас можно перечислить десятки и сотни местонахождений петроглифов, открытых по всей Монголии только за последнее десятилетие. Благодаря комплексным исследованиям монгольских и советских археологов стали известны палеолитические рисунки, нанесенные красной охрой в нишах пещеры Хой-Ценкер-Агу, а также более поздние гравюры на скалах Гоби, Архангая, Хубсугула и других аймаков.
В ущелье Яманы ус самые древние петроглифы изображают животных: оленей, горных козлов, баранов. Эти гравюры выполнены буквально с академической точностью, и уверенно можно сказать: вот это кулан, это конь, а чуть поодаль от коня замер горный полуосел — киянга. Рыси, барсы, гиены, тигры различаются на рисунках древних художников и по форме лап, морд, когтей, даже по форме пятен на шкурах. (Палеозоологическая дешифровка этих древних гравюр и фресок еще впереди — и она сулит немало неожиданностей, и не столько историкам, сколько биологам, ибо на этих гравюрах, покрытых многовековым черным загаром, изображены десятки пород животных, ныне или частично ушедших из этих мест, или вымерших.) Люди, проходившие этим ущельем, рассказывали в своем древнем святилище и о том, как они охотились, танцевали, сражались, путешествовали в загробное царство.
Большая часть петроглифов была выбита более трех тысяч лет назад, в эпоху бронзы и раннего железного века — эпоху выделения племенных вождей и разложения первобытной общины. И это во многом определило тематику рисунков — война. Война была постоянным промыслом и источником обогащения для племен и их вождей. Вот фигура лучника — напряженная поза, ноги, полусогнуты в коленях, он только что опустил тетиву лука. Но сзади к нему подобрался враг и занес над его головой боевой топор — чекан. (Кстати, этот рисунок — единственное пока изображение этого древнего оружия в действии.)
...Так началась наша работа в Яманы ус. Сколько она продлится — год, два, десять, сейчас сказать нельзя.
И дело здесь не только в обилии рисунков, а еще и в том, что каждый из них надо расшифровать, прочесть и понять: уже в первые же дни работы в ущелье В. Волков и монгольский археолог Н. Наван среди сцен битв и охоты, рисунков зверей и ритуальных танцев обнаружили и изображения боевых колесниц.
...Несколько лет назад в южных отрогах Гоби среди тысяч рисунков на скалах в Ховд Сомоне археологи обнаружили изображение одной четырехколесной повозки. Тогда это открытие показалось весьма неожиданным: каким образом появилось изображение повозки там, где пролегали только вьючные тропы?
И вот теперь в Яманы ус перед нами вереница таких же колесниц. Все на двух колесах, в упряжках — две, три или четыре лошади. Возницы стоят, широко расставив ноги, горделиво уперев руки в бока или держа боевой лук. И снова загадка — откуда появился этот сюжет здесь, снова в недоступном для колесниц горном ущелье?
Пока рано делать какие-либо окончательные выводы. Есть только предположения.
Примерно в XV веке до нашей эры на берегах Енисея появились племена, принесшие культуру, неизвестную там ранее. Эту культуру историки назвали карасукская — по имени небольшой хакасской речушки Карасук, возле которой были сделаны первые находки.
В карасукских погребениях археологи находили бронзовые зеркала и остатки кругло-донных глиняных сосудов, расписанных геометрическими узорами, тончайшего художественного литья боевые ножи и кинжалы, увенчанные скульптурными головами диких животных — лосей, оленей, баранов и козлов. А среди всего этого странные бронзовые. предметы, назначение которых было непонятно. Среди многих мнений о назначении этих массивных предметов была высказана и догадка о том, что это деталь колесницы.
Затем в глубине Алтайских гор, в Пазырыкской долине, лежащей вдалеке от проезжих дорог, экспедицией советского археолога С. Руденко были раскопаны курганы так называемых алтайских скифов. Курганы были расположены в слое вечной мерзлоты, и она сохранила бесценные для науки орудия труда, украшения, оружие, одежду людей, живших в этих местах почти три тысячи лет назад. И деревянную боевую колесницу. И вот теперь на скалах Яманы ус мы увидели на наскальных чертежах древних колесниц (их можно назвать именно чертежами из-за пунктуальной точности их прорисовки в плане) очертания похожих деталей.
На нескольких рисунках Яманы ус перед колесницами изображены табуны коней и всадники. Значит, можно предположить, что художник здесь рассказал о каком-то дальнем переходе большой группы людей — может быть, целого племени, — переходе, для которого были нужны и конница, и лучники, и табуны лошадей.
Так, может быть, это была каменная летопись, повествующая о давних походах предков карасукцев?
И прежде некоторые исследователи предполагали, что истоки во многом еще загадочной карасукской культуры следует искать в Монголии. Некоторые находки, сделанные на территории Монгольской Народной Республики, давали основание для такого предположения — здесь были обнаружены прекрасного литья мечи и кинжалы со скульптурными навершиями, аналогичные «классическим» карасукским образцам. Причем монгольские изделия, как показывает анализ, можно считать более древними.

Изображения подобных колесниц находили в погребениях эпохи бронзы и южнее, но они, как показывают наблюдения, возможно, появились там позднее, чем на монгольском Алтае: об этом свидетельствует и стиль изображений, и сама конструкция повозки и колеса. А самые древние изображения колесниц, похожие по конструкции на те, что найдены в Пазырыкских курганах и высечены на скалах Яманы ус, исследователи обнаружили за тысячи километров от Алтая... в Месопотамии. И можно предположить, что эти ближневосточные колесницы, прошедшие трудными путями через хребты Алтая, распространились по всей Центральной Азии, а затем появились и в более южных землях, и на севере.
Три тысячи лет назад от берегов Тигра и Евфрата отправились в многовековой путь огромные деревянные колесницы. Они преодолели тысячи и тысячи километров пути. Они шли через горные перевалы и реки, выжженные степи и бескрайние долины. Сменяли друг друга поколения, передавая, как эстафету, свои умения, знания, опыт, искусство, а колесницы, повозки, кибитки шли и шли.
И может быть, сами древние колесницы, и их изображения оставлены в самых труднодоступных районах Горного Алтая, и сейчас еще малопроходимых для колесного транспорта, не случайно, но как память об этом великом и медленном переселении, как дар истории на одном из перевалов времени в память следом идущим поколениям...
Исследования петроглифов Яманы ус только начались. И сколько они будут продолжаться — об этом, наверно, нельзя будет сказать и через год, и через два, и через десять лет. Я уверена, да и не только я, но и все мои монгольские и советские коллеги по этой экспедиции, — Яманы ус скоро станет «меккой» археологов и историков-монголоведов.
Э. Новгородова, кандидат исторических наук
(обратно)
Огонь Прометея

…Красные бизоны, чьи очертания сливаются с неровностями каменных сводов, мерно и торжественно идущие в черноту пещеры, — и крылатая женщина, чья мраморная плоть кажется невесомой, словно подхваченная встречным ветром, запутавшимся в складках ее хитона.
...Рваный, все ускоряющийся ритм безудержного охотничьего танца — и безмолвная изысканность и отточенность движений на сцене, залитой светом юпитеров.
...Символ воинской доблести — висящая у входа в хижину вождя маленькая, отполированная временем, раскрашенная деревянная фигурка — и бронзовая мощь венценосного всадника над Невой.
Все это мы называем произведениями искусства. Но соизмеримы ли эти создания человеческого таланта и разума?
Еще каких-либо пятьдесят-семьдесят лет назад большинство европейских искусствоведов ответили бы на этот вопрос категорически отрицательно.
— Если обратиться к быту современных нам диких народов, — провозглашал в начале XX века с кафедры Венского университета один из крупнейших исследователей культуры доисторического прошлого, М. Гернес, — мы найдем у них начальные стадии развития искусства в виде ряда разнородных словесных и изобразительных воспроизведений...
А ведь в Европе в это время уже были достаточно знакомы с тем, что восхищает нас сейчас в музеях мира, — с произведениями искусства первобытных обществ Австралии и Америки, Африки и северных народов: в то время в Европе находилось значительное количество художественных изделий, вывезенных из этих стран. Но все это оставалось вне поля зрения искусствоведов.
И дело не только в том, что понятие «искусство» для большинства европейских исследователей было равнозначно понятию «красота». Главное — то, что эталоном красоты для них было искусство античности — оно одно считалось подлинным. Лессинг, олицетворяющий высшие достижения эстетической мысли своего времени, считал задачей живописи и скульптуры единственно только «изображение прекрасных тел». Гете также считал, что художник «должен держаться в рамках прекрасного».
Но давайте посмотрим, каким же было искусство, когда оно сказало свое первое слово.
...Десятки тысячелетий назад угасли костры, при свете которых первобытные люди рисовали красной земляной охрой мамонтов и бизонов, высекали из кости или мягкого камня статуэтки, наносили резьбу и орнамент на оружие и орудия труда. Десятки тысячелетий погребли под своей тяжестью те виды искусств, которые не оставляют следов на камне, глине или кости, — танцы, песни, сказания. Но по отдельным «уликам» мы можем составить представление о том, что люди каменного века не ограничивались только живописью, резьбой, скульптурой.
То в толще торфяника, похоронившего свайное поселение каменного века, найдут свирель. То отпечатки босых ног на окаменевшей глине вокруг остатков изображения медведя заставляют предположить, что в святилищах древнекаменного века исполнялись ритуальные танцы. Все эти проявления художественного творчества почти неизменно присутствуют и поныне в культурной деятельности современных племен охотников и скотоводов. Исследуя эти племена, можно составить более или менее общее представление о том, что же представляло собой искусство в момент его зарождения, можно, как говорил Л. Н. Толстой, «посмотреть на происхождение искусства, на то, откуда взялась та деятельность, которую мы называем искусством», и тогда уже попытаться ответить на вопрос: достойны ли быть в одном ряду палеолитическая женская статуэтка и античная скульптура, танцы пигмеев и классический балет, изображения мамонтов в Каповой пещере и полотна эпохи Возрождения?
Изучение так называемых традиционных обществ — обществ, не достигших уровня индустриальной цивилизации, — показывает, что различные виды художественной деятельности не только находятся в постоянном и тесном взаимодействии, но, по существу, образуют некое нерасторжимое единство.
Например, у австралийских аборигенов среди культовых предметов имеются так называемые чуринги — небольшие продолговатые плитки из дерева или камня, покрытые геометрическим рисунком. Для первых исследователей такие чуринги были просто ритуальными плитками, покрытыми экзотическими узорами. Для них назначение чуринги как бы «отщеплялось» от узора, нанесенного на нее. Но узоры чуринги — это не просто художественный орнамент.
Перед каким-либо событием, когда на помощь племени должны прийти «души предков», австралийцы собираются в круг, в середине которого лежит чуринга. Старейшина, ведя пальцами по узорам чуринги, начинает повествование о жизни предка, о его подвигах и мудрости, и это повествование подхватывает все племя. Ритмический узор на чуринге служит канвой, по которой старейшина восстанавливает в памяти и сами сюжеты повествования, и их последовательность. Рисунок на чуринге, память о предках, мифотворчество, народный эпос — все здесь нерасчленимо, ни одно из составляющих этого действа не живет само по себе. Можно предположить, что подобное значение имели и другие предметы палеолитического искусства — так называемые жезлы начальников (куски отполированной кости, покрытые геометрическими узорами), каменные и костяные пластины с отверстиями в центре и также покрытые насечками.
То же самое можно сказать и о культовой скульптуре.
Существование культовой скульптуры немыслимо без мифологических представлений, образы которых она воплощает. Подобно тому как эти мифы воспринимаются в традиционном обществе в качестве доподлинной реальности, некогда существовавшей или существующей, точно так же и скульптура воспринимается как одно из проявлений этой реальности. Этнографические исследования показывают, что с точки зрения первобытных народов Африки, Океании, Австралии трудно выделить, что имеет главенствующее значение, что первично — миф, содержащий те или иные образы, или появляющиеся на торжественных церемониях культовые маски, воплощающие те же образы. Здесь ничто не иллюстрирует друг друга» и это не красочная мозаика, составленная из отдельных сверкающих плиток, но некий единый сплав, немыслимый без какого-либо одного компонента. Четкие ритмические формы масок как бы переводят на язык пластики ритм музыки и танца, сопровождающий их появление; притчи и поговорки приобретают зримую форму в скульптуре, рисунках, аппликациях и т. д. Повествования народных сказителей состоят из органического слияния поэтических и прозаических текстов с пением, музыкой, рисунками.
Художественное творчество является естественной потребностью для каждого члена традиционного общества; сам процесс творчества и его результат — это всеобщее достояние, и каждый член общества — это потенциальный производитель и потребитель искусства, художник и зритель, исполнитель и слушатель, слившиеся в одном человеческом «я». И мастер — будь то скульптор или танцор — ничем не отличается для членов своей общины от всех остальных. У многих африканских народностей, австралийских аборигенов, жителей Ново-Гебридских островов все мужчины принимают участие в художественном творчестве. И даже тогда, когда изготовлением художественных предметов занимается постоянно тот или иной член общины, его, строго говоря, нельзя назвать художником-профессионалом в общепринятом смысле этого слова, так как он остается в то же время земледельцем или скотоводом, охотником или рыбаком. Известный этнограф Дуглас Фрезер, специально изучавший этот вопрос, отмечает, что в отдельных случаях (главным образом в Африке) бывает, что «художественное производство» контролирует какой-то род, и дети членов этого рода обязаны продолжать дело родителей. Бывает и так, что художника просто-напросто... выбирает племя. Причем выбирает не потому, что он более искусный живописец или скульптор, нежели остальные. Например, у народности мундугумор в Новой Гвинее выбирают художника из числа тех, кто, по местным представлениям, обладает от рождения особой магической силой. Это не значит, что такой художник — профессионал в нашем понимании. Здесь художник выступает в такой же необходимой для общества функции производителя материальных благ, как наиболее удачливый охотник племени или искуснейший из рыболовов. По-видимому, и в каменном веке путь к занятиям художественным творчеством был таким же, если не еще более произвольным и широким. И таковы же были смысл и значение художественного творчества человека каменного века.
...Если так можно сказать, первый художественный акт человечества был столь же естественным и закономерным, как и первая охота во имя жизни, продолжения рода.
И вот, поэтапно прослеживая историю искусства, можно видеть, как в процессе неизбежного экономического и социального расслоения общества, меняющего характер всех видов деятельности, искусство из универсального нерасчленимого комплекса постепенно превращается в особый, специализированный вид деятельности.
Рано или поздно, минуя или проходя известные переходные формы, художественное творчество исторически закономерно начинает определяться как самостоятельный вид деятельности, более или менее свободно избираемая профессия.
Последние отблески этого нерасчленимого единства мы видим в искусстве античной Греции. Но уже в Римской империи искусство становится по преимуществу предметом роскоши, источником наслаждения и в таком качестве уже не является всеобщим достоянием. В Риме, может быть, впервые в истории искусство утрачивает непосредственную связь с другими видами духовной деятельности.
С изменением социальной структуры общества искусство становится не только классовым. Художественная деятельность превращается в специализированный труд, она как бы отделяется от других видов деятельности, и как следствие
происходит расщепление монолитного первобытного культурного комплекса.
Но так как жизнь обществ, породивших первобытное искусство, резко отличается от современной жизни с ее профессиональным художественным творчеством, то, может быть, и для понимания искусства каменного века и современных так называемых традиционных обществ требуются свои особые мерки?
Да, многое из того, что вкладывал первобытный художник в свои живописные и скульптурные создания, для нашего восприятия пока загадка. Мы не всегда в состоянии правильно воспринять смысл и значение, например, ритуального танца или культовой статуэтки. Но это не значит, что мир этого искусства для нас в принципе непознаваем.
Попробуем проанализировать — естественно, в самых общих чертах — тот нерасчленимый сплав, что называется традиционным искусством. Традиционное творчество, как правило, выражение не частного, но общего коллективного взгляда на мир: образы, воссоздаваемые в мифах и легендах, в живописи и скульптуре, остаются неизменными на протяжении столетий и тысячелетий. С другой стороны, маски, статуэтки, мифы, легенды, сказания — это своеобразное вместилище практических знаний и навыков, накопленных и передаваемых из поколения в поколение. Все виды традиционного народного творчества являются как бы проводниками народной мудрости. Это как бы учебные пособия университета жизни традиционных обществ.
Изображения предков, имеющих определенное культовое значение, являются в то же время родовыми реликвиями, которые так же, как эпические поэмы, являются материальным воплощением памяти ныне живущих о своей истории. Такое же значение имеют и другие культовые изображения — тотемные знаки, эмблемы, знаки собственности, власти, и т. д.
Социально-политический уклад той или иной общины так же четко выражается произведениями искусства его мастеров. Статуи предков, например, африканского племени сенуфа лишены портретных черт, но надетые на них украшения и четко обозначенная татуировка точно указывают на их принадлежность к определенному роду и социальной группе.
И все это объединялось сложнейшими мифологическими концепциями мироздания, которые не только лежали в основе всей жизни того или иного общества, но были неотъемлемы от повседневной практической деятельности.
Даже из такого краткого, схематического анализа функций традиционного искусства можно заключить, что в основе своей оно не содержит принципиально ничего отличного от того, что составляло смысл и назначение искусства во все последующие эпохи, включая и современную.
Действительно, памятник Петру I Фальконе, «Марсельеза» Рюда или берлинский монумент Советскому воину являются в первую очередь выражением определенного мировоззрения, коллективной мысли. В этих произведениях заключена необходимая историческая конкретная информация. В то же время это обращение к будущим поколениям, овеществленное воплощение памяти народов. Каждое из таких произведений, кроме того, объективно является отображением определенной социально-политической структуры.
И в наше время искусство в развитых современных обществах продолжает выполнять в самых общих чертах те же социальные и психологические функции, которые оно выполняло в той или иной мере уже в эпоху палеолита, то есть при своем зарождении.
По древнегреческой легенде, жителей Земли научил искусству титан Прометей, похитивший божественный огонь. Но он обучил не только искусству — он приручил для людей быка, научил людей ремеслам и охоте. В самом этом мифе как бы звучат отголоски тех времен, когда искусство в сознании людей не было отъединено от всей практической деятельности, когда творческий импульс для человека — охотника, землепашца, скотовода — был столь же естествен, как охотничий инстинкт и стремление к продолжению рода. У Ф. Тютчева есть строки:
...Ты — человеческое я!
Не таково ль твое значение,
Не такова ль судьба твоя!
Искусство — это овеществленное человеческое «я». И именно это человеческое «я» с его историей, надеждами, помыслами, свершениями — та единая мера отсчета, что выстраивает в один ряд палеолитическую статуэтку и Венеру Милосскую.
В. Мириманов, кандидат искусствоведения
(обратно)
Вулкан — место рабочее

Над вершиной вулкана взмывали вверх, на высоту до десятка километров, огромные черно-серые клубы вулканического пепла. Ежеминутно раздавался грохот взрывов, выбрасывающих из жерла каменные бомбы. Колыхающуюся тучу прорезали яркие вспышки молний, а грохот вулкана сливался с раскатами грома. Пепловую тучу ветер сносил к северу, и из нее градом сыпались мелкие камни. Со склонов вулкана скатывались огромные раскаленные глыбы. Мы стояли километрах в пяти от самого вулкана, но все вокруг нас очень быстро покрылось толстым слоем серого пепла.
Так произошло наше первое знакомство с африканским вулканом Олдонио Ленгаи.
Этот вулкан занимал особое место в общих планах исследований нашей экспедиции, организованной Академией наук СССР, — Советской комплексной Восточно-Африканской экспедиции. А сама экспедиция была одной из важнейших составляющих международной программы исследования земных недр, получившей название «Верхняя мантия и ее влияние на развитие земной коры», или — коротко — «Проект верхней мантии». Этот проект, поддержанный многими международными научными организациями и союзами, был принят десять лет назад по предложению советского исследователя члена-корреспондента АН СССР В. В. Белоусова. А суть его заключалась в следующем.

Известно, что глобальная система гигантских разломов земной коры проходит не только по дну Мирового океана, но и прослеживается на территории Африки.
Эти разломы, как бы приоткрывающие исследователям дверь к глубинным породам, окружающим ядро нашей планеты, видны на землях Кении, Уганды, Танзании, Эфиопии.
Исследование этих разломов, как писал В. В. Белоусов, «позволит человеку заглянуть с поверхности планеты туда, где начинаются землетрясения и вулканические извержения, где скрыт механизм поднятия и опускания материков, где лежат истоки полезных ископаемых».
Предложения советских ученых были поддержаны мировой геологической наукой. И сейчас участие в «Проекте верхней мантии» принимают ученые 45 стран мира.
Среди геологов, петрографов и вулканологов Олдонио Ленгаи знаменит совершенно необычным составом продуктов своих извержений. Лавы и пеплы этого вулкана состоят не из силикатных пород, как обычно, а из щелочных карбонатитов. Чем это вызвано, пока точно неизвестно. Большинство исследователей считают, что это связано с какими-то, пока еще неясными, но необычными «взаимоотношениями» вулкана с земными недрами.
С карбонатитами связаны многие редкие и ценные полезные ископаемые. Поэтому изучение вулканических карбонатитов, которые известны пока только в Африке, укажет путь к поискам этих пород и на территории нашей страны.
Когда мы впервые увидели Олдонио, наша экспедиция проводила лишь рекогносцировочные работы, и на вулкан мы не поднимались.
И вот спустя год мы, экипированные по последнему слову «вулканной техники», двинулись к его подножию.
Дорога то появлялась, то бесследно исчезала среди зарослей кустарниковой акации и держидерева. И где-то за горизонтом, еще невидимый нам, возвышался вулкан. Неожиданно небо затянулось плотной дымкой, и все вокруг как-то посерело — а часы показывали всего два часа. С каждой минутой тьма сгущалась все больше и больше.
— Бог масаев рассердился, — сказал наш проводник, протянув руку в сторону вулкана. Дело в том, что, по преданиям этого кочевого племени скотоводов-охотников, их бог живет в кратере Олдонио Ленгаи — само название вулкана в переводе с масайского означает «жилище бога». И причина извержения вулканов, по мнению масаев, одна — бог за что-то рассердился на них. Тут мы увидели и самих масаев. В клубах пыли перед нами появились рослые, стройные мужчины. Они гнали стадо коров и осликов, нагруженных домашним скарбом. На осликах сидели женщины и дети. Они все что-то кричали, но слов из-за мычания и рева животных слышно не было. Все это создавало впечатление если не бегства, то, во всяком случае, спешного переселения.

Добрались мы до вулкана только к вечеру. Разбили лагерь в старом сухом русле. Несколько дней тщательно, но спешно готовились к подъему. Наконец все было готово. И ранним августовским утром мы вышли из лагеря. Мы — это советские вулканологи: В. Герасимовский, А. И. Поляков, автор этих строк, танзанийский геолог Макисунгва, его помощник Муши и проводник Айоб, уже неоднократно поднимавшийся на вершину вулкана.
Налетавший порывами ветер обволакивал нас пеплом. Он скрипел на зубах, и в первые же полчаса глаза у всех воспалились. Склон становился все круче и круче, а слой пепла предательски маскировал трещины и ямы. В середине дня наш проводник повредил ногу и вынужден был вернуться в лагерь. Пришлось пробираться дальше, полагаясь лишь на чисто геологическую интуицию и опыт. К пяти часам вышли на открытую ровную площадку почти у самой вершины.
От кратеров нас отделяло всего несколько сот метров. Отдохнув, пошли на последний приступ. (Олдонио Ленгаи имеет два кратера. Сейчас активным был северный.)
Эти несколько сот метров пришлось преодолевать несколько часов, и, когда мы дошли до кромки кратера, наступил вечер. А место для ночлега было только одно — внутри кратера, на узком выступе: спускаться с гребня в поисках более или менее защищенной от ветра площадки было уже поздно. Вверив свои души гостеприимству огненного жилища, мы завернулись в спальные мешки и улеглись на этот выступ. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что мы так и не смогли сомкнуть глаз, — все-таки прямо под нами неумолчно ворчал хозяин горы. Время от времени рядом с нами плюхались камни, постоянно сыпался вулканический песок. Но до утра признаков интенсивного извержения так и не было.
Рабочий день у кратера начался с рассвета. До вечера мы собирали образцы вулканических бомб, пепла и газов.
...За тысячи километров, в тиши лабораторий, дары Олдонио Ленгаи будут исследованы, проанализированы со всей тщательностью. Минеральный состав пеплов и лав этого вулкана, их физико-химические особенности и свойства расскажут нам о тех условиях, в которых происходило их образование. Сопоставление этих данных с полевыми наблюдениями о сейсмичности равнины, на которой возвышается вулкан, поможет еще ближе подойти к решению одной из основных проблем современной геологии: как взаимосвязаны глубинные процессы, протекающие в верхней мантии, с поверхностными. Предстоит длительное исследование составов вулканических извержений Олдонио Ленгаи — от самых древних до тех, что мы наблюдали воочию (а надо сказать, что, по определению советского исследователя М. Аракелянца, возраст Олдонио Ленгаи около двух миллионов лет).
Уже под вечер мы начали обратный спуск. Бесконечные расщелины заставляли нас подчас буквально скатываться вниз, а тяжеленные рюкзаки, набитые образцами, делали это скольжение весьма беспорядочным и быстрым. Иногда же приходилось карабкаться по отвесным стенам. Привалы становились все чаще и чаще. Через каждые два километра мы в изнеможении опускались на землю. До промежуточного лагеря добрались лишь в полночь и растянулись перед палаткой.
...А под утро нас разбудили масаи. Они были радостны и довольны — бог перестал сердиться на них, и скоро пастбища у подножия его жилища станут тучными и обильными. Масаи прекрасно знают, что Олдонио довольно отходчив и после «вспышки гнева», словно раскаявшись, посылает на землю обильный урожай трав. (Кстати, повышение урожайности после извержения Олдонио — факт установленный. Причина, по-видимому, кроется опять же в необычном химическом составе изверженного вулканом пепла.)
Прямо перед нами в отблесках лунного света остроконечным конусом возвышался Олдонио Ленгаи. Облако еще стояло над вершиной, но по всему было видно, что вулкан уже успокоился.
А. Краснов, ученый секретарь Советской секции вулканологии Международного союза геодезии и геофизики
(обратно)
Почему асматы не съели Рокфеллера

В ноябре 1961 года в Асмате, одном из глухих районов Новой Гвинеи, исчез Майкл Кларк Рокфеллер, сын американского миллиардера. Сообщение это вызвало сенсацию именно потому, что исчез один из Рокфеллеров: ведь на Земле, к сожалению, ежегодно, не вызывая особого шума, гибнет и пропадает без вести немалое число исследователей. Особенно в таких местах, как Асмат — гигантское, поросшее джунглями болото.
Асмат славится своими резчиками по дереву, воу-ипиуа, как их там называют, и Майкл собирал коллекцию произведений асматского искусства.
На поиски пропавшего была поднята масса народа. Из Нью-Йорка прилетел отец Майкла — губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер, и с ним тридцать, два американских корреспондента, да еще столько же из других стран. Около двухсот асматов добровольно и по собственной инициативе обшарили побережье.
Через неделю поиски прекратили, не обнаружив следов пропавшего.
Было высказано на основании имевшихся фактов предположение, что Майкл утонул.
Кое-кто, правда, усомнился: а не стал ли он жертвой охотников за головами? Но вожди асматских деревень отвергли эту мысль с негодованием: ведь Майкл был почетным членом племени.
С прошествием времени имя погибшего этнографа исчезло со страниц газет и журналов. Его дневники легли в основу книги, собранные им коллекции украсили нью-йоркский Музей первобытного искусства. Эти вещи имели чисто научный интерес, и широкая публика начала забывать загадочную историю, приключившуюся в болотном краю асматов.
Но в мире, где сенсация, как бы нелепа она ни была, означает верную возможность заработать большие деньги, истории с сыном миллиардера не суждено было на этом завершиться...
В конце 1969 года в австралийской газете «Ревейль» появилась статья некоего Гарта Александера с категорическим и интригующим заголовком: «Я выследил убивших Рокфеллера каннибалов».
«...Распространено мнение, что Майкл Рокфеллер утонул или стал жертвой крокодила у южного побережья Новой Гвинеи, когда пытался доплыть до берега.
Однако в марте этого года один протестантский миссионер сообщил мне, что папуасы, живущие неподалеку от его миссии, убили и съели семь лет назад белого человека. У них до сих пор хранятся его очки и часы. Их деревня называется Осчанеп.
...Без долгих раздумий я отправился в указанное место, чтобы там выяснить обстоятельства. Мне удалось найти проводника — папуаса Габриэля, и вверх по реке, текущей среди болот, мы плыли три дня, прежде чем достигли деревни. Двести раскрашенных воинов встречали нас в Осчанепе. Всю ночь грохотали барабаны. Утром Габриэль сообщил мне, что может привести человека, который за пару пачек табаку готов рассказать мне, как все было.
...История оказалась на редкость примитивной и, я бы даже сказал, обычной.
— Белый человек, голый и одинокий, вылез, шатаясь, из моря. Он был, наверное, болен, потому что лег на берегу и все никак не мог подняться. Люди из Осчанепа увидели его. Их было трое, и они подумали, что это морское чудовище. И они убили его.
Я спросил об именах убийц. Папуас промолчал. Я настаивал. Тогда он нехотя пробормотал:
— Одним из людей был вождь Уве.
— Где он сейчас?
— Умер.
— А другие?
Но папуас упорно молчал.
— Были у убитого кружки на глазах? — Я имел в виду очки.
Папуас кивнул.
— А на руке часы?
— Да. Он был молодой и стройный. У него были огненные волосы.
Итак, восемь лет спустя мне удалось найти человека, который видел (а может быть, и убил) Майкла Рокфеллера. Не давая папуасу опомниться, я быстро спросил:
— Так кто же были те два человека?
Сзади послышался шум. За моей спиной столпились молчаливые раскрашенные люди. Многие сжимали в руках копья. Они внимательно прислушивались к нашему разговору. Может быть, они и не понимали всего, но имя Рокфеллера, несомненно, было им знакомо. Допытываться дальше было бесполезно — мой собеседник выглядел перепуганным.
Я уверен в том, что он говорил правду.
Почему они убили Рокфеллера? Вероятно, приняли его за морского духа. Ведь папуасы уверены, что у злых духов белая кожа. А возможно, что одинокий и слабый человек показался им лакомой добычей.

Во всяком случае, ясно, что двое убийц еще живы; потому и перепугался мой информатор. Он и так сказал мне слишком много и теперь готов был подтвердить лишь то, что я уже знал, — люди из Осчанепа убили Рокфеллера, когда увидели его вылезающим из моря.
Когда в изнеможении он лег на песок, трое во главе с Уве подняли копья, оборвавшие жизнь Майкла Рокфеллера...»
Рассказ Гарта Александера мог бы показаться правдивым, если бы...
...если бы почти одновременно с газетой «Ревейль» подобную историю не опубликовал издаваемый тоже в Австралии журнал «Ошеаниа». Только на этот раз очки Майкла Рокфеллера «обнаружили» в деревне Атч, в двадцати пяти милях от Осчанепа.
Помимо этого, в обоих рассказах содержались живописные подробности, заставившие насторожиться знатоков быта и нравов Новой Гвинеи.
Прежде всего показалось не слишком убедительным объяснение мотивов убийства. Если бы люди из Осчанепа (по другой версии — из Атча) действительно приняли вылезавшего из моря этнографа за злого духа, то у них бы не поднялась на него рука. Скорее всего они бы просто убежали, ибо среди неисчислимых способов борьбы со злыми духами отсутствует сражение с ними лицом к лицу.
Версия «о духе» скорее всего отпадала. Кроме того, люди из асматских деревень достаточно хорошо знали Рокфеллера, чтобы принять его за кого-то другого. А коль скоро они его знали, вряд ли они бы на него напали. Папуасы, по мнению людей, хорошо их знающих, необычайно преданны в дружбе.
Когда через некоторое время чуть ли не во всех прибрежных деревнях стали «находить» следы пропавшего этнографа, стало ясно, что дело идет о чистой выдумке. Действительно, проверка показала, что в двух случаях историю о пропаже Рокфеллера рассказали папуасам миссионеры, а в остальных — асматы, одаренные парой-другой пачек табака, в виде ответной любезности рассказывали корреспондентам то, что тем хотелось услышать.
Реальных следов Рокфеллера не удалось обнаружить и на этот раз, а тайна его исчезновения осталась такой же тайной.
Может быть, и не стоило бы вспоминать больше об этой истории, когда бы не одно обстоятельство — та слава каннибалов, которая с легкой руки легковерных (а иногда и недобросовестных) путешественников прочно закрепилась за папуасами. Именно она в конечном итоге делала правдоподобными любые догадки и предположения.
Среди географических сведений глубокой древности пожиратели людей — антропофаги занимали прочное место рядом с людьми с песьими головами, одноглазыми циклопами и живущими под землей карликами. Следует признать, что в отличие от псоглавцев и циклопов людоеды существовали в действительности. Более того, во времена оны каннибализм встречался всюду на Земле, не исключая Европу. (Кстати, чем иным, как не пережитком глубокой древности, можно объяснить причастие в христианской церкви, когда верующие «вкушают тела Христова»?) Но даже и в те времена он был явлением скорее исключительным, чем повседневным. Человеку свойственно выделять себя и себе подобных из остальной природы.
В Меланезии — а Новая Гвинея ее часть (хотя и весьма отличающаяся от остальной Меланезии) — каннибализм был связан с межплеменной враждой и частыми войнами. Причем надо сказать, что широкие размеры он принял лишь в XIX веке, не без влияния европейцев и ввезенного ими огнестрельного оружия. Звучит это парадоксально. Разве не европейские миссионеры трудились над тем, чтобы отучить «диких» и «невежественных» туземцев от их скверных привычек, не щадя как собственных сил, так и туземцев? Разве не клялась (и не клянется по сей день) каждая колониальная держава, что вся ее деятельность направлена только лишь на то, чтобы принести свет цивилизации в богом забытые места?
Но в действительности как раз европейцы стали снабжать вождей меланезийских племен ружьями и разжигать их междоусобные войны. Но именно Новая Гвинея таких войн не знала, как не знала она и наследственных вождей, выделившихся в особую касту (а на многих островах каннибализм был исключительной привилегией вождей). Конечно, племена папуасов враждовали (и поныне во многих районах острова враждуют) между собой, но война между племенами бывает не чаще чем раз в год и длится до тех пор, пока не будет убит один воин. (Будь папуасы цивилизованными людьми, удовлетворились бы они одним воином? Это ли не убедительное доказательство их дикости?!)
Зато среди отрицательных качеств, которые папуасы приписывают своим врагам, на первом месте всегда стоит людоедство. Выясняется, что они, соседи-враги,— грязные, дикие, невежественные, лживые, коварные и — людоеды. Это самое тяжкое обвинение. Можно не сомневаться, что соседи, в свою очередь, не менее щедры в нелестных эпитетах. И конечно, подтверждают они, наши враги — несомненные людоеды. В общем, у большинства племен каннибализм вызывает не меньшее омерзение, чем у нас с вами. (Правда, этнографии известны некоторые горные племена в глубине острова, которые этого отвращения не разделяют. Но — и в этом сходятся все заслуживающие доверия исследователи — они никогда не устраивают охоты на людей.) Поскольку же многие сведения о неизученных районах получены были именно путем расспросов местного населения, то на картах и появлялись «племена белокожих папуасов», «новогвинейские амазонки» и многочисленные пометки: «район населен каннибалами».
...В 1945 году множество солдат разгромленной японской армии на Новой Гвинее бежало в горы. Долгое время о них никто не вспоминал — не до того было, во иногда экспедиции, попадавшие в глубь острова, натыкались на этих японцев. Если удавалось убедить их, что война кончилась и бояться им нечего, они возвращались домой, где их рассказы попадали в газеты. В 1960 году из Токио отправилась специальная экспедиция на Новую Гвинею. Удалось отыскать около тридцати бывших солдат. Все они жили среди папуасов, многие даже были женаты, а ефрейтор медицинской службы Кэндзо Нобусукэ занимал даже пост шамана племени куку-куку. По единодушному мнению этих людей, прошедших «огонь, воду и медные трубы», путешественнику на Новой Гвинее (при условии, что он не нападает первым) не грозят со стороны папуасов никакие опасности. (Ценность показаний японцев состоит еще и в том, что они побывали в самых разных частях гигантского острова, в том числе и в Асмате.)
...В 1968 году на реке Сепик перевернулась лодка австралийской геологической экспедиции. Спастись удалось только коллектору Килпатрику, молодому парню, впервые попавшему на Новую Гвинею. После двух дней блужданий по джунглям Килпатрик вышел к деревне племени тангавата, записанного никогда не бывавшими в тех местах знатоками в самые отчаянные людоеды. К счастью, коллектор не знал этого, поскольку, по его словам, «знай я это, я бы умер от страха, когда меня положили в сеть, прикрепленную к двум, жердям, и понесли в деревню». Папуасы же решили нести его, потому что увидели, что он еле движется от усталости. Только через три месяца удалось Килпатрику добраться до миссии «адвентистов седьмого дня». И все это время его вели, передавая буквально «из рук в руки», люди разных племен, о которых единственно известно было, что они каннибалы!
«Эти люди ничего не знают об Австралии и ее правительстве, — пишет Килпатрик. — Но разве мы знаем о них больше? Их считают дикарями и людоедами, а между тем я не видел с их стороны ни малейшей подозрительности или враждебности. Я никогда не видел, чтобы они били детей. Они неспособны к краже. Мне иной раз казалось, что эти люди гораздо лучше нас».
Вообще, большинство доброжелательных и честных исследователей и путешественников, пробиравшихся через прибрежные болота и неприступные горы, побывавших в глубоких долинах хребта Рейнджер, видевших самые разные племена, приходят к выводу, что папуасы на редкость доброжелательные и сметливые люди.
«Как-то раз, — пишет английский этнограф Клифтон, — в клубе в Порт-Морсби у нас зашел разговор о судьбе Майкла Рокфеллера. Мой собеседник фыркнул:
— А чего ломать голову? Сожрали, у них это недолго.
Мы долго спорили, я не смог убедить его, а он меня. Да и спорь мы хоть год, я остался бы при своей уверенности, что папуасы — а я узнал их хорошо — неспособны причинить зло человеку, пришедшему к ним с добрым сердцем.
...Все больше и больше меня удивляет то глубокое презрение, которое питают к этим людям чиновники австралийской администрации. Даже для самого образованного офицера патрульной службы местные жители — «скальные обезьяны». Словечко, которым называют здесь папуасов, — «дли». (Слово это непереводимо, но означает крайнюю степень презрения к человеку, им обозначаемому.) Для здешних европейцев, «оли» — это нечто, что, к сожалению, существует. Никто не учит их языков, никто вам толком не расскажет об их обычаях и привычках. Дикари, людоеды, обезьяны — вот и все...»
Любая экспедиция стирает с карты «белое пятно», и зачастую в местах, обозначенных коричневым цветом гор, появляется зелень низменностей, а кровожадные дикари, немедленно пожирающие любого чужеземца, при ближайшем рассмотрении таковыми не оказываются. Назначение любого поиска и состоит в том, чтобы разрушать незнание, в ток числе и то незнание, которое делает людей дикарями.
Но, кроме незнания, существует еще и нежелание знать истину, нежелание увидеть перемены, и это нежелание порождает и пытается сохранить самые дикие, самые каннибальские представления...
Л. Ольгин
(обратно)
Маленькое сердце

Старик волновался. Это было заметно по его чуть дрожащим рукам. Еще бы! Наступил тот решающий момент, с которым он связал столько надежд. Старик вновь обежал глазами ряды зрителей и вздохнул. Такого в деревне, конечно, не увидишь. Публика разодетая, богатая. Много военных. А справа два белых господина, неизвестно как попавших сюда. Видно, тоже решили посмотреть петушиные бои. А может быть, даже и поставить на кого-нибудь. Ведь здесь почти; все испытывают судьбу. Кому везет, кому, нет. Как и в жизни вообще. Жаль, что счастливчиков гораздо меньше. И он, увы, не принадлежит к их числу.
Да, в шестьдесят лет, верно, смешно уже верить в удачу. И все же... Его белый петух мускулист, ловок. Он может выиграть у любого противника. Старик открыл клетку, выпустил петуха. Настал их черед. Шесть раундов, по пять минут. И все станет ясно. Он тихонько погладил петуха, подбадривая и немного жалея. Все-таки драка будет, жестокой.
Белый, наверное, догадался, в чем дело, и весь дрожал от нетерпения. «Давай, папаша, давай!» — услышал старик над самым ухом голос молодого парня. Он качнулся, поднял птицу и побрел в ближний угол ринга — небольшой площадки с деревянными бортами. В дальнем бился в руках хозяина рыжий петух. «Рыжий здоров. Тяжелее моего, пожалуй, фунта на полтора»,— шевельнулась в голове старика тревожная мысль и тут же пропала.
Раздался гонг. Словно нетерпеливые боксеры-новички, петухи бросились друг на друга. Казалось, каждый из них задался целью сразу подавить волю противника. Однако этого сделать не удалось ни тому, ни другому. Тогда они изменили тактику, стали медленно кружиться по квадрату ринга, как заправские бойцы, примериваясь и выжидая удобного момента. Потом рыжий не выдержал и снова рванулся вперед. Белый тотчас же подпрыгнул и нанес мощный удар шпорой по шее. Это был его коронный удар. Рыжий остановился и пропустил еще два. «Будь на лапах петухов ножи, рыжий бился бы уже в агонии,— подумал старик.— Но здесь, в Джакарте, этими специальными ножами для петухов пользоваться почему-то не разрешают». Картина боя изменилась. Теперь нападал белый. Рыжий отчаянно защищался.
Следующие четыре раунда прошли с полным преимуществом белого. Пожалуй, только те, кто сделал ставку на рыжего, верили еще в какое-то чудо. Однако я их становилось все меньше и меньше. Слишком уж хорош был белый. Раз за разом он загонял рыжего в угол и превращал его гребень в кровавое месиво. Ища спасения, рыжий прибегнул к клинчу — старому, испытанному приему. Он как бы прилипал к белому, не давая ему наносить сильные, прицельные удары лапами и клювом. Со стороны казалось, что петухи затеяли забавную, хотя и не очень понятную игру. Они толкались, терлись длинными, напоминающими толстые веревки шеями, словно намереваясь связать ими друг друга. На исходе пятой пятиминутки белый сумел оторваться от врага, подпрыгнул и нанес мощный удар шпорой. Старик привстал. Он решил, что это конец. Но нет, теряющий последние силы, истекающий кровью рыжий все еще не сдавался. Наверное, он был очень самолюбив.
Раздался гонг. Кончился пятый раунд. Старик взял своего петуха и начал медленно массировать мышцы. Делал он это машинально. Мысли были заняты другим. Наконец-то он достиг цели. Его белый наверняка победит. И он получит свои деньги. Ради них он проделал с петухом изнурительное путешествие из маленькой суматранской деревушки в Джакарту. Ехать пришлось в набитом до отказа поезде, в страшной жаре и духоте. Дважды старику становилось плохо, и он начинал раскаиваться, что на старости лет предпринял столь рискованный шаг.

В столице ждало новое разочарование. Петушиные бои только что кончились, и новых надо было ждать почти неделю. Все эти дни он провел в обществе каких-то бродяг и нищих. Они его не обижали, даже давали немного риса, чтобы он не умер с голоду. Свои же спрятанные в поясе рупии старик тратил только на петуха. Белый должен был сохранять свою, лучшую боевую форму.
Старик вздохнул. Теперь, слава аллаху, все позади. Си заработает много рупий и купит на них новые соронги для дочерей и жены. Дочери молоды, нм нельзя ходить в лохмотьях. А петуха лучше будет продать. Правда, это будет небольшим предательством по отношению к белому. Но что делать, если жизнь так дорога? За такого великолепного бойца наверняка дадут немало, а второй раз сюда все равно не попадешь.
До начала последнего раунда оставались считанные секунды. Старик взял белого за голову и влил в клюв немного воды. Зрители недовольно гудели: «Да что там, все ясно... У рыжего нет никаких шансов... Выпускайте следующую пару...» Кое-кто пытался возражать. Тем временем прозвучал сигнал к возобновлению боя. Жестоко побитый рыжий готов был принять новую трепку. Один его глаз вытек, другой продолжал грозно сверкать. Старик выпустил белого на площадку и... обмер. Петух развернулся и побежал назад. Он больше не хотел драться. На передних скамейках засмеялись.
— Э, да у него, отец, хати кечил — «маленькое сердце»,— изумленно протянул рядом молодой парень. Старик не ответил. Он тщетно пытался вытолкнуть петуха на площадку.
Через несколько минут все было кончено. На ринг выпустили других петухов, заключили новые, пари. Старик взял клетку и побрел прочь. Его догнал молодой парень.
— Папаша, белого-то возьми,— выдохнул он.— Зачем оставлять его здесь? Для петушиных боев он больше не годится. Ведь если петух однажды струсил, ему уже никогда не преодолеть страх. Наверное, привык к слишком быстрым и легким победам. Вот и не выдержал...
Парень еще что-то говорил. В такт его словам старик машинально кивал головой. Тупое равнодушие охватило его.
Э. Сорокин
(обратно)
Эрик Кольер. Трое против дебрей
 Отрывки из книги
Отрывки из книги
Здесь мир, казалось, был охвачен пламенем, когда я увидел впервые Мелдрам-Крик. С холма, где я пока находился в безопасности, было слышно, как пожар движется с севера в сторону ручья. Огонь легко перепрыгнул русло ручья и метнулся к соседним зарослям. Через какие-нибудь пять минут поляна превратилась в черное дымящееся пепелище. Невольно мелькнула мысль: «Умирает ручей, умирают деревья, умирает весь этот край».
Однако именно здесь мне пришлось делить свою судьбу с Лилиан. Здесь, в бесплодной, выжженной дикой глуши, которая затем на тридцать лет стала нашим домом, нам предстояло вырастить сына Визи. Здесь мы испытал палящий зной лета и беспощадность пронизывающей холодом зимы. Здесь мы узнали наших единственных соседей: лосей, медведей, волков и других диких обитателей канадских мшаников и лесов.
Здесь мы научились мириться с комарами и слепнями, нередко доводившими почти до бешенства своей ненасытной жаждой крови и нас, и рабочий скот, и верховых—лошадей. Мы приняли все это так же, как и радости жизни среди окружавшей нас дикой природы.
Здесь, в этом краю, который сейчас на моих глазах превращался в обуглившееся, дымящееся пепелище, нам предстояло пережить немало минут мрачного отчаяния, когда, казалось, катастрофически рушились все наши надежды. И здесь же нам предстояло насладиться благодатными мгновениями невыразимого счастья и удовлетворения достигнутым, когда усилия наконец начинали приносить плоды.
Это был Мелдрам-Крик — ручей, куда в те времена, когда бабушка Лилиан — индеанка — была ребенком, приходили утолять жажду стада оленей, где шлепали своими хвостами бобры, а форель выскакивала из воды в погоне за мухами, где тысячи уток и гусей копошились среди прибрежных зарослей. Но теперь вода застоялась, а кое-где и вовсе исчезла. Огонь сметал лес с лица земли, деревья уже были мертвы, и, наблюдая с безопасной точки на холме за агонией всего окружающего, я думал лишь о том, что этот край умирает и что нет никого, кто мог бы его спасти.
Прожив здесь, в Чилкотинском округе, в глубине Британской Колумбии, уже целый год, я немало узнал об этом странном диком крае. И я с тревогой подумал, что причиной лесного пожара, беспрепятственно охватившего такую большую часть этого края, был не промысел божий, а коробка спичек в руках человека. Здесь все привыкли к тому, что если нужно накосить для скота свежего болотного сена, следует прежде всего очистить поляну от прошлогодней травы. Надо выехать на поляну в солнечный день в конце весны и бросить в траву зажженную спичку, для того чтобы позже, летом, когда придет пора косьбы, сухая трава не цеплялась и не застревала в раме косилки. Возможно, сотни акров леса стали жертвой пламени лишь потому, что кому-то понадобилось освободить от старой травы какие-нибудь двадцать акров земли, предназначенной для покоса.

Примерно в миле от брода ручей струился по лугу, где некогда жили бобры. Здесь застоявшаяся, вонючая вода едва покрывала черную грязь на дне русла. Я выехал на луг. Сбившаяся, сухая, как порох, трава шуршала бумагой под копытами моего мерина.
В конце луга маячили остатки плотины, построенной бобрами. И дальше русло ручья терялось в чаще крепких, старых елей. Передо мной был большой гибнущий ручей. И гибель его не вызывала никаких сомнений.
Тогда я не знал, сколько времени нужно природе, чтобы вырастить одну могучую ель в шестьдесят футов высотой и диаметром в двенадцать дюймов; по ту сторону луга было много таких елей, и из каждой, если бы понадобилось, можно было напилить полторы сотни футов хороших досок. Смолистые ветви спускались до самой земли, и деревья росли так густо, что олень или лось, которому захотелось бы укрыться в их прохладной тени, лишь с трудом пробрался бы между стволами.
Когда огонь, дошел до елей, пламя охватило их верхушки. Искры ракетами взлетали вклубящийся вверху дым и, гонимые ветром, падали на землю в сотне с лишним ярдов. И там, где падала искра, вскоре вспыхивало пламя. Я наклонился в седле, схватившись за луку обеими руками и всматриваясь сквозь дым в остатки плотины, построенной бобрами. И дыра в плотину через которую тек ручей, показалась мне проемом в ограде, закрывавшимся когда-то воротами.
Таково было положение дел в Мелдрам-Крике в тот июньский день, когда мы обследовали эту болотистую местность, чтобы узнать, что мы сможем получить от нее; и нам трудно было отделаться от мысли, что вряд ли здесь имелась возможность вернуть природе хоть частицу того, чем она была богата в дни детства индеанки Лалы, бабушки Лилиан.
После того как мы пять дней рыскали верхом на лошадях по лесам и болотам, я обобщил результаты наших наблюдений, заявив: «Это безнадежно».
Лилиан взглянула мне прямо в лицо и спокойно сказала:
— Эрик, я не желаю никогда больше слышать от тебя слово «безнадежно». Мы лишены многого в этой дикой глуши. Но мы не можем позволить себе лишаться надежды.
...В течение целых пяти минут я не отрываясь смотрел на блюдце. Это было блюдце, из которого мы кормили кошку. Оно лежало на земле у хижины, перевернутое вверх дном. Неизвестно было, кто так бесцеремонно с ним обошелся. Может быть, тут были виновны ножки Визи, может быть, кошачья возня. Но дело было не в этом. Представление о перевернутом блюдце вторглось в ход моих мыслей и слилось с ними, как сливаются краски оленя с общим колоритом лесного пейзажа.
У сарая для сена Визи охотился на воображаемого оленя. У него были лук и стрела, которые я сделал ему. Сейчас Визи подкрался к зверю. Он пригнулся, приложил древко стрелы к тетиве и, выпрямившись, пустил стрелу в цель. Затем он испустил охотничий клич. Конечно, он убил самца с четырьмя ответвлениями на рогах. Он не признавал менее крупную добычу вроде молодых оленей с двумя ответвлениями на рогах, или оленят, у которых рога едва намечаются. И конечно, он никогда не охотился на самок или детенышей.
Мы с Лилиан сидели у хижины, бездельничая и радуясь, что прошла зима. И по всему Чилкотину скотоводы и звероловы, лесорубы и охотники за дикими лошадьми, их подруги и их малыши сидели в тот момент на бревнах у своих хижин, бездельничая и радуясь, что прошла зима.
В конце концов, зима обошлась с нами не так уж плохо. За январь и половину февраля я выследил и убил тринадцать койотов. Насколько мне помнилось, лишь пять койотов перехитрили и обошли меня. Это был неплохой счет в мою пользу.
Но в середине февраля круглосуточный ветер чинук и последующие глубокие заморозки образовали на снегу твердую, как железо, корку, и койот мог весело помахать мне хвостом. Только глупец или совсем неопытный охотник стал бы надеяться, что лошадь обгонит койота на затвердевшем снегу.
В течение последующих шести недель нам пришлось потратить почти все свое время на дальнейшее освоение двуручной пилы. Дрова как деньги: их всегда не хватает. Только похоже, что дрова испаряются при температуре — 45°, а деньги при любой температуре.
Итак, прилетели гуси, ручей бурлил водой, лед ломался и таял, а блюдце лежало в грязи, перевернутое вверх дном. И, глядя на воду, струящуюся в ручье, я одновременно думал о блюдце. Вода и блюдце — эти два представления прекрасно сочетались друг с другом.
Я подошел к хижине и поднял блюдце. Затем я снова сел на бревно и стал вертеть блюдце в руках. Визи сделал перерыв в охоте, ибо любой охотник в конце концов устает. Он подошел к хижине и стал наблюдать за блюдцем.
Какие-то соображения зрели у меня в голове, и я внезапно воскликнул:
— Промокашка! Мне нужен кусочек промокашки!
Лилиан подняла брови.
— Ну зачем она тебе?
Я нетерпеливо повторил:
— Принеси мне промокашку, сделай милость! И капельку воды!
— Перо и чернила? — спросила она, уходя в хижину.
— Конечно, нет, — ответил я. — Только промокашку и воды.
Я оторвал кусочек промокашки и положил его на дно блюдца. Затем по капелькам накапал туда немного воды и перевернул блюдце.
— Куда девалась вода? — заинтересовался Визи, увидев, что она не капает с перевернутого блюдца. Визи еще не знал свойств промокательной бумаги.
Я снова стал капать воду на промокашку. Через некоторое время в блюдце показалась вода; я продолжал капать, и вода заполнила половину блюдца. Я все капал и капал, пока вода не побежала через край.
Я посмотрел на Лилиан поверх блюдца, с видом учителя, стоящего перед классом, и начал объяснять:
— Каждое пересохшее болотце у ручья похоже на это блюдце с промокашкой. Болотистая почва, подобно промокашке, впитывает влагу от дождей и тающего снега. Если бы болота пропитались водой, как промокашка в этом блюдце, то дожди и талая вода постепенно заполнили бы их и вода снова потекла бы из них в ручей. Эти ясно, не правда ли?
— Когда слушаешь тебя, это кажется ясным, но... — Лилиан покачала головой, как если бы это совсем не было ей ясно.
— Никаких «но». Давай подумаем, как бы наполнить одно или два таких «блюдца».
Успех нашего плана зависел от того, насколько нам удастся уменьшить утечку воды.
Восстанавливая первую бобровую плотину, мы заимствовали у бобров их метод строительства. Осмотрев остатки плотин, мы увидели, что вместо цемента там были прутики и всякая мелочь. Это нам подходило. Мы нарубили елок и других хвойных деревьев, ветви и сучья свалили у плотины, а затем расположили их на развалинах в виде сетки, причем тонкие концы веток и сучьев были направлены к истокам ручья.
Наложив на остатки плотины слой веток, мы привезли на тачке грязь из ближайшей канавы и распластали ее на ветках. Сначала слой веток, затем слой грязи — ветки и грязь, грязь и ветки, час за часом, день за днем, пока нам не стало казаться, что мы опустошили весь лес и вдобавок своротили верхушку холма. Но наконец работа была окончена, и мы знали, что, когда скопится достаточное количество воды, на месте застойного болота образуется озеро не менее пяти футов глубиной. Ветки, составлявшие, пожалуй, половину массы плотины, сыграли двойную роль. Во-первых, нам пришлось копать и возить меньше грязи и песка. Во-вторых, можно было не опасаться, что вода смоет все это сооружение, когда она будет переливаться через плотину. По такому принципу были построены бобровые плотины, а что было хорошо для бобров, было хорошо и для нас.
Поднять уровень воды до пятифутовой глубины на десяти акрах заболоченного русла, если вода сочится по капелькам, — дело небыстрое и нелегкое. Казалось, что «блюдце» никогда не
наполнится. Но в конце концов его «промокашка» напиталась влагой, и вода дюйм за дюймом стала подниматься у плотины. А через три недели после завершения нашей работы вода достигла верха плотины и стала переливаться через край.
И тут погода пошла нам навстречу. Вскоре после постройки плотины небо покрылось тучами, задул южный ветер, и начался дождь. Он шел не переставая в течение двух суток. Легкий, моросящий дождик перемежался ливнями, заставлявшими нас не выходить из хижины. Но мы ничего не имели против этого. Лилиан занялась шитьем (ему никогда не было и, наверное, никогда не будет конца), у меня были книги Дарвина — «Происхождение видов» и «Происхождение человека» (книги, вполне подходящие для того, чтобы занять ум мыслящего человека в течение многих дождливых дней), а Визи мастерил из тополевой щепки лодочку. Пусть идет, дождь! Чем больше выпадет влаги, тем лучше поплывет лодочка, когда придет время спускать ее через порог.
Затем наступили дни тревог и опасений. Прошло больше двух недель с тех пор, как у источников ручья была перекрыта утечка воды.
Как только на заболоченную почву вновь вернулась вода, там появились водные растения. Их корни с давних пор сохранялись в земле, и не хватало только, воды, чтобы оживить их. К концу июля с полдюжины различных видов растений поднялось над водой, и озеро окрасилось в живописные зеленоватые тона. Внезапно появились три дикие утки. Они осторожно вели сквозь колышущиеся травы свои выводки полуоперившихся птенцов. На мягкой грязи плотины норка оставила следы, похожие на следы кота, а ондатры начали устраивать хатки в затопленном водой ивняке.
Однажды вечером в начале августа низко над хижиной пролетело девять гусей, направлявшихся вверх по ручью. Наблюдая за ними, я увидел, что они спускаются, а через несколько секунд услышал всплеск крыльев на воде.
— Они спустились в наше первое озеро, — решил я. — Пойдем посмотрим, где они.
Мы гуськом продефилировали вверх по ручью. Подойдя к плотине, встали на колени и, опершись на руки, осторожно заглянули через ее край. Гуси находились от нас на расстоянии пятнадцати ярдов. Они плескались в воде, сопровождая каждый всплеск приглушенным гоготаньем. Видеть гусей было для нас не ново. Но новым было то, что они плескались в воде там, где не менее полстолетия было пересохшее болото. Жизнь возвращалась в наш опустошенный край.
Человек, живущий в тайге, лучше чувствует постоянное присутствие опасности, чем люди, живущие среди людей, где они постоянно, ощущают локоть своего соседа. В тайге смерть караулит человека в качающейся верхушке каждого дерева. Кто знает, когда дерево упадет на землю, убивая все, что попадет под него? Смерть караулит человека и на озерах, покрытых снегом, и на замерзших реках и речушках: там могут попасться полыньи, готовые поглотить любого, кто в них провалится. Смерть летит с арктическим ветром, ожидая и выискивая жертву: жестокий ветер притупляет силу воли и энергию человека, вызывая в нем почти непреодолимое желание сесть и на секунду отдохнуть. А если человек поддастся соблазну и присядет? Может случиться, что, заснув на несколько минут, он заснет вечным сном...
Но у опасностей есть особенность появляться внезапно.
Конечно, не следовало отпускать Визи одного на лед осматривать капканы. Это было прошлой зимой, в январе. Тогда мальчику не было семи лет — оставалось шесть месяцев до его дня рождения, — но он уже знал, как ставить капканы. Его рукам не хватало силы, чтобы сжать пружину, но он нашел выход из положения. Он очищал от снега валун или камень, клал на него капкан, прижимал пружину ногой, а рукой ставил защелку на тарелке с приманкой. Теперь ловушка была заряжена и могла прихлопнуть все, что коснется приманки, даже, пальцы Визи. По всей вероятности, такое случалось, и не раз, но он держал это в тайне.
Он все приставал ко мне, чтобы я пустил его ставить капканы. Наконец против своей воли я согласился. Лилиан, однако, сказала:
— Нет; он слишком мал, чтобы ходить на лед в одиночку и возиться с капканами для норок.
«Так ли?» — подумал я, стараясь заглянуть в туманное прошлое своего детства и вспомнить, в каком возрасте я впервые убил дрозда из своего малокалиберного ружья. Вероятно, мне было лет восемь, причем рядом не было никого, кроме, быть может, старшего брата, кто мог бы мне показать, как обращаться с ружьем. А Визи, как только научился передвигаться на лыжах, частенько видел, как мы с Лилиан ставили капканы.
— Не мал ли он? — повторил я. — Ничего страшного, если он поставит несколько капканов вокруг озера, здесь, около дому, это достаточно близко, чтобы мы услышали его крики, если что-нибудь случится.
— Он еще слишком мал, — упрямо твердила Лилиан.
Чувствуя, что я колеблюсь, Визи обратился прямо ко мне, хотя и знал, что мать решительно против:
— Неужели я не смогу поставить два-три капкана на ближнем озере? Я уже здорово могу бегать на лыжах. Быстрее, чем ты ходишь на своих снегоступах.
Это было правдой.
...Я увидел, как Визи шел домой после осмотра капканов. Еще издали я понял, что он поймал норку. Визи шел прямо через озеро, и ему оставалось до меня меньше километра. Он скользил легко и быстро на лыжах, которые я ему смастерил из гибкой еловой древесины! Голову и лицо Визи почти целиком закрывал капюшон, подбитый мягким мехом ондатры, ноги были обуты в длинные, до колен, мокасины из оленьей шкуры, тоже подбитые мехом ондатры. Вот как он был одет. Шкуру для его мокасин я снял с оленя, которого убил на вершине холма, в полутора километрах от дома. Ондатры были пойманы на болотах у бобровых плотин. Нитки были куплены по почте, а остальное Лилиан сделала с помощью иголки.
Визи свернул к западному берегу озера, вышел на берег и вошел в лес, чтобы осмотреть капкан, поставленный в ельнике. Через пару минут он снова появился и пошел через озеро. Но теперь он был не один. Из леса на лед вышли пять волков. Они появились неожиданно и бесшумно. Мгновение назад я не слышал и не видел никаких признаков того, что волки так близко от дома. Но вот они передо мной, всего в километре от того места, где я сидел. Можно было подумать, что они появились из воздуха, как духи.

Они остановились ненадолго на опушке, подняв головы, навострив уши и принюхиваясь. Затем пошли гуськом по следам Визи. Они были примерно в двухстах метрах от него. Два волка были черные, два серые и один белый, как снег, по которому они шли. Любой из них весил не менее сорока килограммов; любой из них мог жестоко потрепать лося весом в семьсот килограммов, если бы тот испугался при встрече с ним.
Я хотел встать, но снова опустился на переплет ступающих лыж. Я инстинктивно схватился за винтовку, но отпустил ее. Визи был в полукилометре от меня, волки чуть дальше, и моя винтовка калибра 22 была не более полезна, чем детская рогатка.
Расстояние между мальчиком и волками сокращалось. Теперь между ними и Визи осталось лишь сто метров. Волки двигались теперь легко, как тени, без шума: их шаги заглушал мягкий снег. Мне хотелось набрать побольше воздуха и крикнуть что было мочи: «Визи, оглянись! Сзади волки!»
Мне очень хотелось крикнуть, но я смолчал. Этого нельзя было делать. Визи мог испугаться и растеряться. Он мог со страху побежать в мою сторону. Тогда волки поймут, что он их боится, и, как все волки, бросятся за ним, как бросились бы за испугавшимся оленем или лосем. Мне оставалось сидеть и наблюдать. Визи остановился и обернулся. Он увидел волков и остановился как вкопанный. Мне казалось, что Время не движется. Я беспомощно смотрел на происходящее, и мои губы беззвучно шептали: «Спокойно! Не беги, иди не торопясь. Помнишь, что я тебе говорил о волках и лосях? Ни один волк, даже стая волков, не набросится на лося, если он стоит к ним лицом. Но если животное испугается и побежит, то километра через два они свалят его.
Спокойно, сынок! Иди так, как будто ты один на всем озере».
Визи снова задвигал толстыми ножками, передвигая лыжи но снегу. Меховые уши парки поднимались и опускались в такт шагам, хлопая его по румяным щекам; он был похож на идущую по следу гончую, у которой так же потешно болтаются уши. Он шел спокойно, ни разу не обернувшись. Позади гуськом, теперь уже в семидесяти метрах, за Визи шла пятерка сильных волков, из которых любой мог перекусить человеку ногу одним движением челюстей.
Я развязал свою парку и отбросил назад уши. По щекам струился пот.
«Иди! Иди, сынок, не торопись. Так, хорошо. Не дай им обмануть тебя, не торопись. Ты ведь не боишься этих паршивых волков, правда? Не спеши... Не спеши».
Наконец Визи подъехал ко мне, немного запыхавшись и моргая. Волки сгрудились и остановились в двухстах метрах от нас. Я поискал глазами винтовку, но не взял ее. Еще слишком далеко, но, если они подойдут поближе...
Один из черных отошел немного в сторону и сел на снег. Упираясь передними лапами, он задрал морду и завыл протяжно, печально и жутко. Затем волки снова построились гуськом, повернули к лесу и бесшумно скрылись в чаще.
— Испугался, сынок? — спросил я, хотя вопрос был глупым.
— Немножко. — Он кивнул головой.
— Ерунда! Волков никогда не надо бояться. Они никогда не нападут на тебя. Они просто очень любопытны.
Как сейчас помню день, когда в Мелдрам-Крик появились бобры. Мы волновались: приживутся ли новоселы! Это был очень тревожный вопрос, так как у нас не было ни заборов, ни барьеров, чтобы помешать бобрам уйти, куда им заблагорассудится.
Рано утром на четвертый день прибытия бобров я вышел за дверь набрать воды в ирригационной канаве.
Я подошел к канаве, остановился в недоумении и от удивления выронил ведра. Еще вчера вечером канава была полна воды, а сейчас на дне не осталось даже лужи! Я долго не мог понять, почему канава высохла, а когда наконец понял, в чем дело, вбежал в дом и возбужденно закричал:
— Они законопатили канаву!
Мы пошли вверх по ручью. Немного выше ручей протекал по небольшой лужайке, окруженной осинами. Как только мы подошли к лужайке, тайна пересохшего ручья стала понятной. Теперь вся лужайка была под водой, и в том месте, где ручей из нее вытекал, поднималась плотина немногим больше метра высотой и около восьми метров длиной.
Казалось, что в осиннике хозяйничал какой-то сумасшедший с топором. Многие деревья наклонились, другие свалились в воду, и все ветки с них были срезаны. Однако много деревьев упало на сушу, и они так и остались лежать, как если бы тот, кто их срубил, больше ими не интересовался.
Установить личность дровосека не представляло труда. Мы узнали о его присутствии по хатке, нам даже не нужно было видеть следы его зубов. Хатка была слишком большой, чтобы за короткий срок ее мог построить бобр в одиночку. Видимо, пара бобров пошла вверх по течению от озера и решила, что эта лужайка как раз то, что ей нужно. Таким образом, бобры не только вернулись на Мелдрам-Крик, но, по всей вероятности, решили остаться здесь навсегда.
Мы довольно долго не могли понять, зачем они так безжалостно уничтожали запасы пищи, сваливая деревья без видимой надобности. Обходя берега запруды, мы видели, что местами были свалены десятки осин и ни одна из них не была тронута.
— Зачем это они делают? — спросил я задумчиво.
— Несомненно, для этого есть причина, — ответила Лилиан.
— Почти все, что происходит в этих лесах, имеет свою причину, — проворчал я. — Но до нее иногда очень трудно докопаться.
— Ты хочешь сказать, что мы слишком глупы, чтобы понять, — возразила она со смехом.
Визи рассматривал кучу щепок, разбросанных вокруг пня. Пнув ногой щепки, он сказал:
— Может быть, им не нравится вкус коры. Может быть, она кислая или еще что-нибудь, — внес он свое замечание
— Зачем же они их валят? — быстро возразил я.
— Когда-нибудь узнаем.
К зиме обе хатки были замазаны слоем глины толщиной около тридцати сантиметров. Под водой у входа в хатки были сложены запасы пищи, которых обитателям хватило бы на всю зиму до того, как весной растает лед. Бобры каким-то образом умудрялись сохранять воду незамерзшей у входа в хатки довольно длительное время, хотя на большинстве прудов уже давно был лед.
Наконец в начале декабря, когда температура упала ниже 20 градусов мороза, полыньи у хаток замерзли. Мы вновь увидели бобров только в апреле следующего года.
А в конце лета случилась катастрофа. Прошел трехчасовой ливень, и на ручье началось наводнение. В ирригационную канаву поступало больше воды, чем могло из нее вытечь. И поэтому вода искала слабое место в дамбе, чтобы прорыть новое русло. Таким местом оказалась земляная засыпка.
За ночь вода у плотины поднялась и стала переливаться через верх, унося с собой частички земли. Через несколько минут она прорыла себе русло, и в него устремились потоки воды, переполнившей ручей. Промоина становилась все шире и глубже, и вода текла через нее с такой силой, что, когда я надел болотные сапоги и вошел в поток, чтобы посмотреть, можно ли сохранить остатки плотины, я едва смог устоять на ногах.
Мы стояли, не зная, что делать, и наблюдали, как плотина разрушается на наших глазах. Мы уже смирились с тем, что вся засыпка смоется водой и пруд высохнет, но мы не учли бобров.
От хатки донесся резкий всплеск. На воде появилась рябь, мы увидели темное пятно, направляющееся прямо к плотине. Бобр подплыл к земляной засыпке на расстояние нескольких метров, развернулся и поплыл параллельно плотине, а затем, снова быстро повернувшись, почти вошел в поток, бегущий через промоину.
Появление бобра натолкнуло меня на блестящую мысль.
— Беги в дом и принеси топор, — сказал я Визи. Когда он вернулся с топором, я пояснил: — Надо срубить несколько елок и обрубить с них сучья, а потом мы сбросим эти сучья в воду неподалеку от промоины и, может быть...
— Ты с ума сошел! — прервала меня Лилиан, прочтя мои мысли. — Ни одна пара бобров не сможет перекрыть такой бешеный поток.
— Но ведь они могут попытаться, не правда ли? — возразил я. — Во всяком случае, совершенно ясно, что нам нечего и пытаться что-либо сделать, пока запруда не пересохнет.
Я настоял на своем, мы уложили охапки сучьев вдоль дамбы и набросали кучу сучьев на расстоянии метров двадцати от промоины. Потом мы вернулись в дом и стали ждать.
Всю ночь вода текла через промоину. Теперь она была больше метра глубиной и метров пять шириной. Только бульдозер с мощным ножом мог прекратить утечку воды — так мы думали.
Рано утром на следующий день я вышел на порог и прислушался. Ночью грохот воды, несущейся через промоину, был настолько громким, что нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга, но теперь все было тихо и спокойно, и даже привычное журчание ручья ниже плотины стало глуше. Я осторожно прошел по канаве до ее начала, вышел на дамбу и посмотрел туда, где мы сбросили еловые ветки. Ни одной не было видно. А там, где вчера была промоина, я увидел темную, утрамбованную поверхность блестящего ила. Под илом лежали ветки, придавленные камнями размером от мелкой гальки до футбольного мяча. Так всего лишь двое бобров за одну ночь перекрыли поток воды, который человек мог бы перекрыть только с помощью тяжелой землеройной машины.
Бобры обнаруживают утечку воды через плотину с помощью чувствительных волосков своей шкурки. Им не нужно полагаться на глаза и уши, чтобы выявить где-нибудь слабое место.
Столовая бобров находилась в ивняке на глубине полуметра и на расстоянии двух метров от края пруда. Если ветер дул от нас, мы в сумерках садились на скамейку и сидели, подавляя желание курить, и терпеливо ждали. Конечно, ни один бобр не подойдет к столовой, если в воздухе висит дым сигареты или если ветер доносит до него запах человека. Иногда они приходили засветло, но, как правило, уже совсем темнело, когда мелкие волны, появлявшиеся на гладкой поверхности воды, предупреждали нас о том, что надо сидеть очень тихо, затаив дыхание.
На берег набегали волны, через некоторое время беззвучно подплывал бобр и, сгорбившись, вылезал на кормушку. В первую очередь он отряхивал шкурку. Затем тщательно расчесывал мех, пользуясь длинными когтями перепончатых задних лап, как гребешком.
Теперь он был готов подкрепиться тем, что было припасено, а еда в столовой была всегда. Остатки осиновых или ивовых прутьев, очищенных от коры, постоянно плавали в воде вокруг кормушки, и среди них всегда находилась какая-нибудь палочка, иногда ивовая, а чаще осиновая, на которой оставалось достаточно коры, чтобы заморить червячка перед плотным обедом. Он крепко хватал передними лапами ветку и очищал ее от коры, как белка сосновую шишку. Иногда он оставлял обглоданную ветку на кормушке, но чаще выбрасывал в воду, чтобы в дальнейшем отбуксировать к плотине и, может быть, использовать ее для постройки.
Управившись с веткой, зверек тихо соскальзывал в воду и скрывался из глаз, но ненадолго. Вскоре он снова, появлялся, держа в зубах осиновый прут около полуметра длиной; мы понятия не имели, откуда он его взял. Не было слышно звука падающих деревьев.
Теперь в кормушке снова была еда, и в течение десяти или пятнадцати минут мы слышали ритмичное постукивание зубов, говорившее нам о том, что бобр голоден. Наконец, наполнив желудок и бросив остатки еды на кормушке, он уплывал.
К этому времени стало настолько темно, что мы увидели волны, только когда второй зверек уже подплывал к кормушке. На этот раз волны были не такими сильными: бобр был поменьше — самка. Она вылезла из воды на кормушку, отряхнула воду со шкурки и принялась расчесывать мех. Она также обгрызла палку, оставленную бобром, очистив последние остатки коры. Затем она также соскользнула с кормушки и через одну-две минуты вернулась со свежей веткой. Уже совсем стемнело, и мы едва различали ее, но слышали, как она обгрызала кору. Затем она ушла, и только время от времени издалека доносились звуки, говорившие о том, что в пруду по-прежнему кипит жизнь.
— Ты заметил, — сказала Лилиан, — они всегда оставляют еду для следующего бобра, правда?
— Всегда, — ответил я.
Мы пошли вместе к дому. Когда мы уже подошли к двери, Лилиан внезапно спросила:
— Почему люди на них непохожи?
Я постоял, нахмурясь и глядя в землю, потом сказал:
— Мне кажется, бобры инстинктивно делают то, чему люди в конечном итоге должны научиться. Кажется неправдоподобным, что бобр, хоти он всего лишь скромное животное, способен следовать золотому правилу, а человек — нет. Просто, Лилиан, люди непохожи на бобров, и это очень жаль.

По всем законам человек не считается виновным до тех пор, как не будет доказано, что он действительно совершил преступление, в котором его обвиняют. Никто не имеет права указывать пальцем на какого-нибудь человека и говорить, что «этот человек — убийца», до того, как все улики будут расследованы и суд вынесет свой приговор.
В тот день, когда я задумчиво ходил вокруг одного из лучших наших поселений бобров, глядя на красноречивые следы погрома, учиненного кровожадным волком, в моем сердце родилась черная ненависть и губы мои прошептали страшные слова клятвы. То тут, то там валялись остатки внутренностей бобров или несколько клочков шерсти, а немного поодаль лежал наполовину съеденный труп крупного старого самца рядом с недавно сваленным тополем. Все это ясно указывало, что волк был почти сыт, когда он вонзил в бобра зубы.
Когда же я увидел, что он убил старую бобриху, моя Ненависть зажглась ярким неистребимым пламенем. Бобриха лежала животом к солнцу в десяти шагах от хатки, раздутая. Она была уже старой, это правда, но ее материнство достигло самого расцвета. На протяжении многих лет она могла бы приносить по четыре-пять крепких детенышей. Теперь она была мертва, ее убили хищные челюсти Волка, и он не съел ни кусочка ее мяса. Тайга предстала предо мной с самой неприглядной стороны; я не видел никаких причин для убийства матери-бобрихи, я даже не мог придумать ни одной причины.
Была середина нюня, осины и ивы уже покрылись листвой. Лилии и другие водяные растения выбросили листья на поверхность, и на крыше бобровой хатки сидел молодой выводок гусей. Была середина июня, и повсюду в тайге была молодая жизнь. Несколько минут я стоял, прислушиваясь. Из глубины хатки донесся слабый плач бобрят, умирающих мучительной и жестокой голодной смертью.
Тогда я поднял лицо к небу и поклялся: «Я доберусь до тебя, даже если мне придется потратить на это вечность!» Произнести эту угрозу было легко, выполнить ее было гораздо труднее.
Несмотря на огромный ущерб, который Волк причинил нам за четыре года войны, я ни разу не мог отнестись к нему, как к заклятому врагу. Нас связывали узы, которые даже все его кровавые преступления не могли полностью порвать: мы оба были частью тайги, нам обоим тайга давала хлеб насущный. Каждый раз, когда я доставал из капкана норку, ондатру или выдру, я тоже был убийцей. Тайга заставляла меня убивать. В противном случае мне нужно было бы собраться, уехать и никогда не возвращаться назад. Ни один человек не сможет долго прожить в тайге, не убивая.
Так же было и с Волком. Он не мог лишить себя удовольствия (или необходимости) убивать, так же как самец лося не может избавиться от лихорадки брачного периода. Его кровавая страсть к уничтожению принадлежала ему по праву наследства, она была рождена в нем и вскормлена молоком облезлой волчицы, давшей ему жизнь.
За те четыре года, что я охотился за ним, я часто видел огромные отпечатки его лап в грязи или в снегу, когда он проходил по нашей территории как привидение, но только один раз я увидел его живьем. Это было в середине декабря, когда я ставил капканы на норку и выдру в незамерзшем ручье, журчавшем среди елей, окружающих ондатровое болото. Такие ручьи довольно часто встречаются на севере, и вода в них не замерзает даже при 40 градусах мороза. Я подъехал к краю болота верхом, но затем привязал лошадь к дереву и пошел по льду пешком. Мое крупнокалиберное ружье было в чехле привязано к седлу, а за плечом у меня было однозарядное ружье калибра 22 на случай, если в калкане будет живая норка или выдра.
Внезапно в камышах показалось какое-то серое тело, такое большое, что я сначала принял его за оленя. Но когда он повернулся и побежал, я понял, что наконец мы с Волком встретились. Нас разделяло всего сто двадцать метров льда. Несколько секунд убийца стоял, повернувшись ко мне боком, — великолепная мишень для любого, достаточно мощного ружья. Но мое легкое ружье было бесполезно. Затем он повернулся и легко побежал прочь, похожий на серую молнию в слепящем солнце, и растаял в неясной тени елей.
Я направился в камыши посмотреть, что он еще натворил, и лед дал мне красноречивый ответ. Крыши четырех хаток ондатр были разбросаны по льду; это означало, что четыре ондатры погибли в челюстях Вояка.
О, у него был очень острый ум, не менее острый, чем самое лучшее лезвие! Если я ставил на него три волчьих капкана и тщательно прятал их под опавшей еловой хвоей, а над ними привязывал голову оленя для приманки, как вы думаете, что он делал? Он обходил опасное место кругом, задирал ногу и оставлял на кусте свою метку, а затем шел добывать оленя сам. Однако, если в капкан попадала рысь или норка, он подходил, презирая запах стали, и упрятывал их в свою ненасытную утробу.
У индейцев существует предание, что все дурные индейцы после смерти возвращаются на землю в образе волков. Если это действительно так, то индеец, принявший образ нашего Волка, был очень умной, но омерзительной личностью.
Куда бы ни отправился призрак-убийца, за ним всегда шло не меньше полдюжины койотов, которые почтительно держались на безопасном расстоянии. Койоты по натуре оппортунисты, и они предпочитают, чтобы убийства совершал волк; сами же держатся в тылу, а когда волк уходит, съедают остатки. Когда Волк охотился на нашей территории, остатков было достаточно.
Я осматривал капканы на берегу озера Мелдрам. Лед на озере был двадцать сантиметров толщиной, прозрачный, как стекло. Я ехал верхом и, глядя вниз, видел под копытами лошади стайки толстых рыб скво так же ясно, как если бы льда не было совсем. Поскольку подковы у моей лошади были новые, я не боялся, что она поскользнется и сбросит меня на лед.
В озеро вдавалась узкая полоска земли, покрытая несколькими сантиметрами снега. Я выехал на полуостров, и, как только моя лошадь ступила на снег, я понял, что где-то поблизости было совершено убийство. Об этом говорили следы койотов на снегу. На противоположном краю полуострова, у самого льда, я увидел след, по сравнению с которым следы волков казались такими же маленькими, как следы домашней кошки рядом со следом пумы. Как только я увидел эти следы, я понял, кто их оставил. «Он опять принялся за свое, — мрачно сказал я лошади. — Но где?»
Со временем я потерял счет койотам, погибшим в капканах, западнях или от страны, предназначенной исключительно для Волка. Но ни на минуту я не отступал от клятвы покарать его во имя справедливости.
Четвертая зима моей охоты за Волком была «чертовой», по местному выражению. Я пережил с полдюжины таких зим, и каждая оставляла на мне свою отметину. Как обычно, Волк промышлял на нашей территории всю осень. В тот день, когда он выгнал двухлетнюю лосиху из бурелома и протащил ее к краю пруда, где жили бобры, я отставал от него всего на сотню метров. Я прибыл на место как раз в тот момент, когда ее внутренности начали вываливаться через рану в брюхе, нанесенную Волком. Но, конечно, он услышал меня, и, когда я приблизился, он уже был, наверное, в километре от этого места.
Между рождеством и Новым годом на нас с севера поползли грязные тучи. Около полуночи я проснулся от дикого завывания ветра. Я встал и сразу понял, что пришла «чертова» зима. Когда я пошел в сарай, северный ветер почти разрубил меня надвое. Ветер нес с собой сплошную пелену колючего снега. Когда снег падает мокрыми пушистыми хлопьями, это означает, что метель скоро кончится, но, когда зловещий арктический ветер хлещет снежной крупой, я всегда озабочен. Никогда не знаешь, скоро ли кончится метель и какой глубины будет снег, когда она кончится.
Какой был мороз, 50 или 55 градусов? (Наш термометр перестает работать при температуре ниже минус 45 градусов.) На этот вопрос я никогда не смогу ответить, но иногда я был готов поклясться, что были все 60 градусов.
Январь почти прошел, когда наконец подул чинук. Этот теплый ветер с Тихого океана прогнал массы полярного воздуха, так долго мучившие тайгу.
В течение тридцати часов дул с океана теплый ветер, и под его дыханием снег становился влажным, но глубина его не уменьшалась. Затем так же внезапно ветер стих, на небе появились звезды, и снег стал замерзать.
— К утру снег выдержит койота весом десять килограммов, — заметил я с беспокойством, — а через день он выдержит взрослого волка.
Я мог бы добавить, что под копытами лося или оленя снег провалится, но это было излишне: Лилиан знала сама.
В тот вечер, выйдя к проруби за водой, я внезапно замер, прислушиваясь. То, что я услышал, слабо доносилось с востока. Это был мрачный и жуткий плач. Он не был похож на заклинания или причитания, это была отчаянная, леденящая душу песнь волка, сидящего на снегу и воющего на луну. Я покачал головой: смерть снова начала гулять по земле.
Не наш ли это Волк? Этого я не знал, но имел твердое намерение выяснить это возможно скорее. Вой раздавался ниже по ручью, вблизи нашей охотничьей избушки. Когда я наполнил ведра водой, я уже знал, что нам надо делать, и, вернувшись в дом, поделился своими планами с Лилиан и Визи.
— Где-то у избушки на ручье бродит Волк, — сказал я, — думаю, мне надо перебраться туда на несколько дней. — Увидев, что Лилиан удивленно подняла брови, я пояснил: — К утру на снегу прольется кровь. Оленя или лося — не знаю, но прольется. Впрочем, — я пожал плечами, — нет большой разницы, где я буду: там или здесь.
Охотничья избушка была всего в шести-семи километрах от дома. Дорога к ней вела вниз по ручью, и, если лед на запрудах был достаточно прочным, мы шли по льду.
Шесть километров! Я мог дойти туда на снегоступах по хорошему снегу за полтора часа, но, чтобы добраться туда с гружеными санями, мне потребовалось целых три дня. Я выехал из дома на рассвете верхом и гнал впереди себя лошадей в упряжи, но не запряженных в сани. Они просто прокладывали путь. Передние ноги лошадей были забинтованы холстом так же основательно, как капканы, которыми мы отлавливали бобров. Без повязок они поранили бы ноги о снежную корку и в километре от дома погибли бы от потери крови.

Еще в конце октября я убил лося невдалеке от избушки. Разделав тушу и погрузив мясо на лошадей, я разбросал отравленные приманки возле внутренностей и прочих остатков туши, предполагая, что волки или койоты придут туда поесть. Вот почему меня теперь так тянуло к избушке: у меня теплилась надежда, что, может быть, острый голод заставил Волка прийти к останкам лося и, когда он рыскал по снегу, он по ошибке проглотил одну из приманок.
В ту ночь погода была на моей стороне. Наст припорошило сверху слоем снега около сантиметра, и все следы были ясно видны. Я знал, что выслеживать добычу на снегоступах будет гораздо легче, чем верхом, и поэтому смазал ремни лыж жиром койота, сунул в карман бутерброды с олениной, приготовленные Лилиан, и пошел в лес с ружьем в руках, подогреваемый надеждой. Наст под лыжами был крепким, как устоявшийся цемент, и я продвигался скоростью не менее пяти километров в час.
Приближаясь к останкам лося, я немного замедлил шаг, так как мне стали попадаться следы койотов. Множество следов. От внутренностей почти ничего не осталось. Койоты выкопали их из снега и съели. Я не стал тратить время, осматривая мертвых койотов. Приблизительно в сотне метров от этого места была голая возвышенность, на вершине которой росла огромная одинокая пихта. Я знал, что волки любят устраиваться на лежку в местах, откуда они могут видеть все, что происходит вокруг. Итак, я пошел туда.
Я был уже почти на вершине, когда вдруг увидел след и остановился. Это не был след койота.
Волк! К этому времени я знал его следы так же хорошо, как следы своей верховой лошади. И вот передо мной был след Волка, который похищал у меня моих бобров. Волка, который убил бесчисленное множество лосей и оленей, Волка, который грабил наши капканы каждый раз, когда натыкался на них. Он лежал у подножия дерева достаточно долго, чтобы тепло его тела могло растопить наст. Он точно знал, где находятся внутренности лося, но он не подошел к ним ближе чем на сто метров. О, он был очень хитер, он никогда не доверял добыче, которую не убил только что сам!
Я обошел холм и увидел его следы, уходящие к северу. Он прошел вдоль Низины, прошел через ельник, такой же густой, как мех рыси, взобрался на мрачную голую гряду, спустился на противоположную сторону и внезапно резко повернул к востоку, в редкий сосняк; здесь он вдруг остановился и присел на снегу.
Метрах в пятидесяти впереди меня по снегу пробирался одинокий олень. По обеим сторонам его следа виднелись тонкие полоски крови. Я остановился и сказал себе: «Это олень поранил ноги о наст».
Волк подошел к следу оленя и понюхал кровь, затем пустился галопом, держась подветренной стороны. Неравная борьба началась. Под большой сосной я четко видел следы оленя — крупного самца или не менее крупной самки. Шаг Волка стал шире, и через километр я подошел к тому месту, где он спугнул оленя. Волк пошел быстрее. Олень продвигался по насту семимильными прыжками. Шаг Волка стал еще Шире. След оленя начал вилять из стороны в сторону, обреченное животное то и дело спотыкалось. Теперь Волк бежал изо всех сил.
Он догнал оленя, когда тот выбежал из леса и пересекал поляну. Там были сугробы высотой около трех метров. Олень лежал в одном из них. Он, вероятно, умер от испуга и усталости еще до того, как Волк прокусил ему печень. Во всяком случае, я надеялся, что это было так.
Волк съел сердце и печень, сгрыз большую часть задней ноги. Больше он ничего не тронул, из чего я заключил, что этот олень не был его единственной добычей с тех пор, как снег покрылся настом. Голодный волк может съесть оленя за один присест.
Судя по всему, олень был убит на рассвете. У Волка было не меньше четырех часов в запасе, и теперь он мог быть далеко, на расстоянии более десяти километров. Но у меня тоже было впереди много времени, поэтому я съел бутерброды, глотнул пригоршню снега и осмотрел ремни снегоступов. Затем двинулся вперед по следам.
Волк около часа лежал под деревом, а затем снова пошел на восток ровной рысью.
— Он выйдет к Большим Озерам, если все время: будет идти в этом направлении, — заметил я вслух. Большие Озера длиной десять километров лежали на восточной границе нашей охотничьей территории.
Шага Волка стали короче, когда он увидел покрытый снегом лед. В одном месте он недолго полежал в снегу, прежде чем встать и тронуться дальше. У самой кромки льда Волк снова остановился. «Что это он задумал?» Затем я посмотрел на лед и взорвался: «Ах ты, проклятый убийца!»
Впереди, на льду, повсюду виднелись клочья темной шерсти и снег был забрызган кровью, как будто бы там одновременно дрались с полдюжины лосей и столько же волков. Но, подойдя ближе, я увидел, что все это были следы одного молодого лося и одного волка.
Волк играл с лосенком и мучил его, как кошка мышку: И это на полный желудок! Я бы простил Волку даже этого лосенка, если бы ой действительно был голоден. Но он уже насытился оленем.
Клочья шерсти и кровь на снегу рассказали мне о том, что случилось дальше. Лосенок почти пересек озеро, когда Волк выскочил между ним и берегом. Убийца гнал лосенка все дальше и дальше на лед, а затем преградил ему путь, как корова преграждает путь неразумному бычку. Время от времени, когда ему приходило в голову, Волк наскакивал на лосенка сбоку и своими острыми клыками наносил ему кровавые раны. Волк мог бы быстро покончить с лосенком на льду, но он предпочел продлить его мучения и свое удовольствие.

Идя по следам на озере, я увидел место, где Волк залег в снегу и дал лосенку возможность скрыться на берегу. Некоторое время я изучал след, оставленный его брюхом. Я ясно представил себе Волка лежащим на снегу с дьявольской ухмылкой на морде и подумал: «Ты знаешь, что лосенок не может уйти далеко. Ты дал ему возможность спрятаться в лесу, чтобы потом снова броситься на него и еще раз получить удовольствие от кровавой игры».
Я прошел по следам лосенка в лес. Там Волк снова догнал его большими прыжками. Следы вели меня через густые ивы и редкие тополя к ельнику. Я уже видел помеченные деревья на просеке, вдоль которой были западни.
Я шел по просеке, глядя вдоль нее. Вдруг я остановился как вкопанный с раскрытыми от изумления глазами. Сердце забилось.
— Западня! — возглас, сорвавшийся с моих губ, был криком удивления и возбуждения. — Господи, неужели он попал в западню!
Тут мне показалось, что огромное серое тело, болтавшееся в петле, движется. «Он еще жив», — проговорил я, быстро загнал в ствол патрон и вскинул ружье. Затем медленно опустил его. «Он мертв, как соленый лосось», — сказал я себе. Дерево, к которому был привязан шест с пружиной, слегка двигалось, и от этого тело Волка покачивалось, как если бы он действительно был жив.
Затем мой взгляд упал на лосенка, лежавшего в снегу под петлей. На минуту я забыл о Волке и прошел мимо его болтающегося тела, чтобы посмотреть на изувеченного лосенка. Он никогда уже не встанет на ноги, хотя в его теле еще теплилась жизнь. Я приложил дуло ружья к его голове и тихо нажал курок. Так было лучше.
Я снова повернулся к Волку. Он весил, вероятно, около пятидесяти килограммов и, несомненно, был самым крупным из всех мертвых волков, каких я когда-либо видел. Я медленно присел на корточки, раздумывая над тем, как и почему он просчитался. Будучи спокойным, Волк никогда бы не сунул голову в западню, как бы хорошо она ни была замаскирована. Волк слишком хорошо знал запах устали. Может быть, действительно повадился кувшин по воду ходить... На мгновение ослепленный желанием догнать теленка, не видя и не чувствуя ничего вокруг, Волк сунул голову в западню, не успев учуять ее запаха. Его первый отчаянный прыжок освободил пружину, которая удерживала верхушку восьмиметрового шеста с прикрепленной к нему петлей. Шест поднялся, и Волк взмыл в воздух, отчаянно стараясь освободиться от предмета, душившего его. Однако петля, как и сам Волк, не знала жалости. Она убивала все, что в нее попадало.
Так погиб Волк. Он был убийцей всю свою жизнь и погиб смертью убийцы. В верхушках деревьев уныло рыдал ветер, и молодой месяц сардонически смотрел вниз и молчал, хотя он многое видел.
Перевел с английского К. Мельников
(обратно)
Оглавление
Вершины, уходящие в космос
Путешествие за риском
На пороге Кара-Богаз-Гола
Эпилог на Сосновом острове
В Рунских лесах
История трехтрубного крейсера
Теннесси Уильямс. Проклятие
Курганы Отрара
Твой сын, Ангола!
Быть пастухом
Дорогой древних колесниц
Огонь Прометея
Вулкан — место рабочее
Почему асматы не съели Рокфеллера
Маленькое сердце
Эрик Кольер. Трое против дебрей
