Д.В. Винникотт
Игра и Реальность
Благодарности
Я хочу поблагодарить миссис Джойс Коулс (Mss. Joyce Coles) за помощь в подготовке рукописи.
Также я очень признателен Масуду Кану (Masyd Khan) за конструктивную критику моих работ и за то, что он всегда (как мне показалось) оказывался рядом, когда мне был нужен практический совет.
Я выразил благодарность своим пациентам в посвящении этой книги.
За разрешение воспроизвести опубликованные ранее материалы я признателен и благодарен: редакторам изданий «Детская психология и психиатрия»
(Child Psychology and Psychiatry), «Форум»
(Forum), «Международный психоаналитический журнал»
(International Journal of Psycho-Analysis), «Педиатрия»
(Pediatrics), «Международная библиотека психоанализа»
(International Library of Psycho-Analysis) а также Петеру Ломасу (Dr. Peter Lomas) и лондонскому издательству «Хогарт Пресс Лтд» (Hogarth Press Ltd, London).
Введение
Эта книга является продолжением моей работы «Феномен перехода и переходные объекты» (1951). Вначале я хочу вновь остановиться на базовых гипотезах, хотя это и приведет к повторам. Затем я представлю более поздние наработки, то, как я размышлял и как подходил к оценке клинических данных. Оглядываясь назад, в прошедшее десятилетие, я все более изумляюсь, насколько данная концептуальная область является «запущенной», игнорируется в психоаналитических обсуждениях и литературе. Эта область индивидуального развития и опыта, кажется, никого не волнует, в то время как в фокусе внимания — психическая реальность, индивидуальная, внутренняя и ее отношение к внешней или разделенной реальности. Культурный опыт также не занял должного места ни в теории, использованной аналитиками в их работе, ни в их мыслях.
Конечно, невозможно не отметить, что явление, описанное нами как промежуточная область, становилось предметом осмысления и работы философов. В теологии это приняло форму вечного спора о транссубстенциальности. В полной мере это проявляется в работах так называемых поэтов-метафизиков (Донн и др.). Мой собственный подход идет от изучения младенцев и детей, а тот, кто рассматривает место этого феномена в жизни ребенка, должен понимать Винни Пуха; с радостью добавлю и ссылку на «Ореховые мультфильмы» Шульца (Schulz, Peanuts cartoones). Универсальный феномен, как тот, что я рассматриваю в этой книге, не может, на самом деле, быть где-то, кроме как в пределах пространства, связанного с магией воображения и творчества.
На мою долю выпало быть психоаналитиком, который, возможно, из-за того что когда-то был педиатром, почувствовал важность этих универсальных вещей для жизни детей и захотел объединить свои наблюдения в теорию о том, что мы все находимся в постоянном процессе развития.
В настоящее время уже, как мне кажется, стало в основном понятно, что в этой части работы я обращаюсь не к одежде или плюшевому мишке, с которым играет младенец, — не к используемому объекту, а к использованию объекта. Я перевожу внимание на
парадокс в использовании ребенком того, что я назвал переходным объектом. Мой вклад состоит в требовании по отношению к этому парадоксу принятия, толерантности, признания, но и принятия его неразрешенности. Его можно решить, переключившись на обособленное интеллектуальное функционирование, но ценой потери ценности парадокса как такового.
Этот парадокс, когда он принят и ему разрешено существовать, ценен для каждого человека, индивидуальности, которая не только родилась и живет в этом мире, но также способна безгранично обогащаться, пользуясь культурной связью прошлого с будущим. В этом заключается углубление основной темы, сделанное мною в этой книге.
Работая над книгой, посвященной предмету переходного феномена, я поймал себя на мысли, что все еще не расположен приводить примеры. Причина — та же, что была в первоначальной работе; примеры могут подтолкнуть к тому, чтобы точно определять образцы и классифицировать их по неестественным, случайным качествам, в то время как рассматриваемые мною явления универсальны и безгранично изменчивы. Это примерно то же самое, как описывать человеческое лицо, рассказывая какой разрез глаз, форма носа, рта, ушей, хотя факты свидетельствуют о том, что не бывает одинаковых лиц и даже похожих друг на друга очень мало. Два неподвижных лица могут быть похожи, но как только появится оживление, они сразу станут разными. Все же, несмотря на собственное нежелание приводить примеры, я не намерен полностью исключить этот материал.
Поскольку рассматриваемые вопросы касаются ранних стадий развития каждого человеческого существа, огромное клиническое поле остается открытым и ждет своих исследователей. Примером может служить исследование Оливии Стивенсон (Olive Stevenson, 1954), проведенное в период обучения мисс Стивенсон социальной работе с детьми в Лондонской школе экономики. А по словам доктора Бастианса (Bastiaans), в Голландии обычной практикой в работе студентов-медиков являются вопросы о переходных объектах и феноменах в опросах родителей при составлении индивидуальной истории ребенка. Факты могут многое показать.
Естественно, выявленные сведения необходимо интерпретировать и для того, чтобы полностью задействовать полученную информацию, а также прямые наблюдения поведения детей, их нужно связать с теорией. Таким образом, одни и те же факты могут по-разному рассматриваться разными наблюдателями и иметь отличные друг от друга точки зрения. Несмотря на это, данное исследовательское поле является многообещающим для прямых наблюдений и косвенного изучения, и в свое время' результаты исследования в этой ограниченной области приведут студента к осознанию сложности и значимости ранних стадий объектных отношений и формирования символов.
Я знаком с одним строгим исследованием данной проблематики и хочу предложить читателю не закрывать глаза на публикации, выходящие по этой теме. Профессор Рената Гаддини (Renata Gaddini) проводит тщательное и скрупулезное исследование феномена перехода в трех различных социальных группах и уже сформулировала ряд идей па базе своих наблюдений. Мне кажется ценным подход проф. Гаддини к идее предшественника, таким образом она смогла включить в рассмотрение самые ранние примеры сосания пальцев, кулачка, движения языка у младенца и все трудности, сопровождающие использование ребенком соски. Также очень интересна ее идея исследования укачивания младенца как им самим с помощью его собственных ритмических движений, так и качая ребенка в люльке или на руках. Желание ребенка тянуть за волосы является феноменально близким к этому.
Другая попытка разработки идеи переходного феномена принадлежит Иосифу К. Соломону (Joseph С. Solomon) из Сан-Франциско. В своей статье «Фиксированная идея как интернализованный переходный объект» (1962) он выдвигает новую концепцию. Не знаю, могу ли я полностью согласиться с идеями доктора Соломона, но важно одно — с опорой на теорию переходного феномена могут быть пересмотрены многие старые проблемы.
Говоря о моем личном вкладе в исследование этой темы, не стоит забывать, что сейчас я уже не занимаюсь непосредственной клинической работой с детьми, которая является основой всех моих теоретических построений. Однако я продолжаю работать с родителями, а они всегда могут рассказать об опытах, связанных с их детьми, особенно если мы знаем, как поспособствовать припомнить это — нужно дать им возможность вспоминать привычным для них способом, в привычном темпе. Также я работаю с отчетами самих детей об их собственных значимых объектах и способах поведения.
1. Феномен перехода и переходные объекты
В этой главе я рассмотрю исходную гипотезу, сформулированную в 1951 году, для обоснования которой приведу два примера из клинической практики.
Исходная гипотеза[1]
Известно, что новорожденные младенцы «тянут руки в рот», то есть стремятся к стимулированию оральной зоны, что гармонично связано с удовлетворением эротического инстинкта этой зоны. Также хорошо известно, что некоторое время спустя дети, как девочки, так и мальчики, начинают играть в куклы, и большинство матерей ожидают, что их дети будут взаимодействовать с теми объектами, которые они им предлагают.
Между этими двумя феноменами, разделенными во времени, существует связь, и изучение процесса развития во времени может быть полезным, оно позволит задействовать важные клинические данные, которые ранее игнорировались.
Первичное обладание
Те, кому понятны интересы и проблемы матерей, знают, что у детей встречаются весьма различные паттерны первичного обладания. Эти паттерны, будучи проявленными, могут стать предметом целенаправленного исследования.
Наблюдается широкий разброс в последовательности событий, которые происходят с ребенком, начиная с того, что ребенок все засовывает в рот, и завершая, в итоге, привязанностью к мягкой или твердой игрушке (мишке или кукле).
Ясно, что здесь имеет значение не только оральное возбуждение и удовлетворение, хотя они могут составлять основу многих других феноменов. В этом аспекте важны также:
1. Природа объекта.
2. Способность ребенка определить объект как «не-Я».
3. Положение объекта — снаружи, внутри, на границе.
4. Способность ребенка создать, выдумать, изобрести, произвести, дать начало новому объекту.
5. Возникновение связи с объектом по принципу взаимоотношений.
Я предлагаю термины «переходные объекты» и «феномен перехода» для обозначения промежуточной зоны опыта, находящейся между сосанием пальцев и плюшевым мишкой, оральным эротизмом и истинными объектными отношениями, между первичной творческой активностью и проекцией того, что уже интроецированно, между исходным непониманием «обязательств» и признанием своей зависимости (скажи «Спасибо»).
В соответствии с этим определением, путь перехода от младенческого гуления к песенкам, которые малыш мурлыкает засыпая, как раз относится к этой промежуточной зоне, к феномену перехода, вместе с использованием объектов, которые не являются частью тела ребенка, но все еще не полностью осознаются им как принадлежащие к внешнему миру.
Неадекватность общепринятого объяснения человеческой природы
Принято считать, что заключения о природе человека в терминах межличностных отношений не достаточно хороши, даже когда принимается детально разработанное изменение функционирования человека, связанное с воображением, сознательной и бессознательной сферой образов, включая вытесненные. Исследования последних 20 лет дали другой подход к описанию человека. Когда индивид достигает состояния некоторого единичного элемента, характеризующегося ограничительной мембраной, отделяющей мир наружный от мира внутреннего, можно говорить о
внутренней реальности индивида, и этот внутренний мир может быть насыщенным или обедненным, спокойным или конфликтным. Это помогает, но является ли достаточным?
Я заявляю, что предложенная двухуровневая схема (внутри-снаружи) прямо ведет к необходимости трехуровневой модели: третья сторона жизни человеческого существа, которую невозможно игнорировать, — это промежуточная зона
непосредственного опыта, и две другие зоны вносят свой вклад в существование третьей. Существование этой зоны не оспаривается, поскольку она не декларирует никаких функций, кроме того что является «зоной отдыха» для индивида, вовлеченного в вечную задачу человека — сепарирование внутренней и внешней реальностей, которые взаимосвязаны.
Для того чтобы четко развести понятия перцепции и апперцепции, обычно привлекают представления о «тестировании реальности». Я настаиваю на положении о промежуточном состоянии между беспомощностью ребенка и ростом его способности понимать и принимать реальность. Поэтому я изучаю
иллюзии, данные ребенку, которые во взрослой жизни являются неотъемлемыми составляющими искусства и религии, а также становятся признаком безумия, когда человек слишком сильно давит, «играет» на доверчивости других, побуждая признавать и разделять иллюзии, которые не являются их собственными. Если мы признаем
иллюзорный опыт, то при желании собравшись вместе, мы сможем разделиться на группы на основании сходства нашего иллюзорного опыта. Это и есть естественная основа возникновения групп среди человеческих существ.
Я надеюсь на понимание того, что здесь не рассматриваются конкретный плюшевый мишка или определенные, самые первые действия ребенка рукой (пальцами рук). Я не изучаю специально первый предмет в объектных отношениях ребенка. Я занимаюсь тем, что рассматриваю первичное обладание и промежуточную зону между субъективным и объективно воспринимаемым.
Развитие личностного паттерна
В психоаналитической литературе очень часто обсуждается прогресс развития ребенка от состояния «рука — в рот» до состояния «рука к гениталиям», но куда меньше достижения в исследовании обращения ребенка с действительным «не-Я» объектом. На определенном этапе в развитии ребенка появляется тенденция «вплетать» в части «Я» объекты, отличные от «Я». Эти объекты в чем-то являются символами материнской груди, но сейчас речь идет не об этом.
Некоторые дети держат большой палец во рту, а в это время остальными гладят лицо, поворачивая предплечье то внутренней, то тыльной стороной. Рот в это время активен только по отношению к большому пальцу, к другим пальцам — нет. Пальцы, ласкающие верхнюю губу или другую часть лица станут, возможно, более важными, чем большой палец, «увлеченный» ртом. Более того, эти ласкающие движения могут появляться отдельно, без непосредственного соединения большого пальца и рта.
Распространены следующие проявления, усложняющие аутоэротический опыт сосания пальца:
1) младенец другой рукой тянет в рот вместе с пальцами внешний объект, например, край простыни или одеяла;
2) так или иначе он удерживает, мусолит, какую-то часть одежды, хотя фактически может и не делать ничего; обычно среди таких объектов славятся салфетки и (позже) носовые платки, в зависимости от того, что есть в распоряжении у ребенка;
3) с первых месяцев младенец начинает выщипывать шерстяные нитки, чтобы затем использовать их в «ласкательной» активности; менее распространено глотание шерсти, порой приводящее к неприятностям;
4) оральные проявления, сопутствуемые звуками «мама-мама», гулением, первыми музыкальными нотками и так далее.
Можно предположить, что мышление, или фантазия, имеют связь с описанным функциональным опытом.
Все перечисленное я называю
феноменом перехода. Также, помимо этого (если изучать любого конкретного ребенка), может появиться какая-нибудь вещь или явление, например части шерстяных нитей или угол одеяла, слово, напев или манерность, что станет жизненно важным для ребенка и будет использоваться во время укладывания спать, служить защитой от тревоги, особенно тревоги депрессивного типа. Ребенок находит какой-нибудь мягкий предмет (или любой другой), начинает его использовать, а затем он становится для него тем объектом, который я называю переходным. Этот объект продолжает оставаться значимым. Родители начинают понимать ценность этого предмета и берут его во все поездки. Он может испачкаться и даже приобрести неприятный запах, но мама оставляет все, как есть, понимая, что стирка внесет разрыв в непрерывный поток опыта ребенка, разрыв, который может разрушить значение и ценность объекта для ребенка.
Я полагаю, что паттерн феномена перехода начинает проявляться в период от 4–6 месяцев, от 6–8 месяцев, 8-12 месяцев. И я намеренно оставил столь широкий временной интервал.
Младенческий набор паттернов может сохраниться и в детском возрасте, — когда первоначальный предмет продолжает оставаться совершенно необходимым в кроватке, когда ребенок в одиночестве или подступает депрессивное настроение. У здоровых детей, однако, происходит постепенное расширение спектра значимых объектов, и даже, когда подступает состояние, близкое к депрессии, эта широта интересов сохраняется. Необходимость специфического предмета и поведенческий паттерн, появившийся в раннем возрасте, при угрозе депривации может возникнуть снова в более позднем возрасте.
Первичное обладание нередко проявляется в сочетании с другими особенными проявлениями, идущими из раннего младенческого возраста, которые могут как включать непосредственную ауто-эротическую активность, так и существовать отдельно. Постепенно в жизни ребенка появляется все больше мишек, кукол и немягких игрушек. Мальчики в некотором роде стремятся перейти к использованию твердых предметов, тогда как девочки продолжают процесс усваивания семейных отношений. Однако, важно отметить, что
нет заметных различий между мальчиками и девочками в использовании объекта первичного обладания «не-Я» , который я называю переходным объектом.
По мере того как младенец начинает использовать оформленные звуки («мама», «па», «ба»), могут возникать «словечки» для переходного объекта. Имя, которое ребенок дает этим самым первым предметам, часто очень важно и обычно частично состоит из слов, которые говорят взрослые. Например, имя может звучать «дааа», а «д» могло возникнуть из слов взрослого «детка», «дорогой». Не могу не упомянуть о том, что иногда этих переходных объектов, кроме самой матери, может не существовать. Это происходит в случае сильного эмоционального нарушения у младенца, когда переходное состояние не приносит удовольствия, или если последовательность используемых объектов нарушена. Эта последовательность, тем не менее, может сохраниться в скрытом виде.
Специальные качества отношений (краткое изложение)
1. Младенец присваивает права на объект, и мы соглашаемся с этим. Тем не менее, некоторое ограничение всемогущества характерно с самого начала.
2. Объект вдохновенно любим или же изуродован до безобразия — ребенок будет одинаково нежно прижимать его к себе.
3. Объект не должен подвергаться никаким изменениям, если это не делает сам ребенок.
4. Он должен сохраниться при проявлении инстинктивной любви, ненависти или, в случае, если это характерно, прямой агрессии.
5. В то же время ребенку должно казаться, что от объекта может исходить тепло или что он может перемещаться, иметь структуру или делать что-то, доказывающее, что он действительно существует.
6. С нашей точки зрения, объект появляется извне, но с точки зрения ребенка это не так. Точно так же он не возникает изнутри, это не галлюцинация.
7. Его предназначение — постепенно становиться все менее ярким, чтобы с течением лет быть не столько забытым, сколько отложенным в архив. Я имею в виду, что у здорового ребенка переходный объект и не «уходит внутрь», и нет ощущения, что он обязательно подвергается вытеснению. С одной стороны, его не забывают, с другой стороны, и не переживают его утрату. Он лишь теряет свое значение, и это происходит потому, что феномен перехода становится все более рассеянным, развертывается на всю промежуточную территорию между «внутренней психической реальностью» и «внешним миром», будто воспринимающийся двумя людьми совместно, то есть на всю культурную область.
С этого момента в фокус нашего исследования включены игра, художественное творчество и понимание искусства, религиозные чувства и мечты, а также фетишизм, ложь и воровство, зарождение и разрушение любовных чувств, пристрастие к наркотикам, талисманы, навязчивые ритуалы и многое другое.
Переходный объект и символизации
Понятно, что часть одеяла (или чего бы то ни было) символизирует какую-нибудь часть тела, например материнскую грудь. Тем не менее, здесь более важны реальные качества объекта, чем его символическое значение. Он не станет настоящей грудью (или самой мамой), хотя вполне реален, важен сам факт, что объект обозначает грудь (или маму). К тому времени как символичность вступает в силу, младенец уже ясно видит различия между фантазией и фактом, внутренним и внешним объектом, творчеством и восприятием. Но, как я полагаю, термин «переходный объект» также охватывает процесс становления принятия различия и сходства. Я думаю, что был бы полезен термин для обозначения начала символизации во времени, термин, описывающий путешествие младенца от чисто субъективного к объективности; по-видимому, переходный объект (край одеяла и т. п.) — это та часть пути ребенка к переживанию опыта, которую мы можем увидеть.
И тогда становится возможным понять переходный объект, не исследуя подробно природу символичности. Я считаю, что изучить суть символичности можно лишь рассматривая весь процесс взросления индивида, и лучше в случае, когда это понятие неоднозначно. Например, просвира в Таинстве Причастия символизирует Тело Христово, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для приверженцев Римской католической церкви это
действительно Тело, а для протестантов это суррогат, напоминание, но в действительности, реально, не само тело. Но в обоих случаях просвира остается символом.
Клиническая характеристика переходного объекта
Иллюстративного клинического материала — несметное множество и бесконечное разнообразие, и это понятно каждому, кто работает с детьми и родителями. Следующие иллюстрации даны только для того, чтобы напомнить читателям похожие случаи из их собственного опыта.
Два брата: контраст в первичном обладании предметами
Искажение в употреблении переходного объекта. X, в настоящее время здоровому мужчине, пришлось силой отвоевывать свой путь к зрелости.
Его мама «училась быть матерью», занимаясь маленьким X, и то, чему она научилась с ним, позволило ей избежать известных ошибок с другими детьми. Была и внешняя причина ее беспокойства. Когда родился X и она воспитывала его, будучи довольно одинокой, она очень серьезно отнеслась к работе «матерью» и кормила X грудью семь месяцев. Она чувствовала, что для этого случая это чересчур долго и его сложно будет отнять от груди. Он никогда не сосал пальцы, а когда она перестала кормить его грудью, «ему некуда было отступать». У него никогда не было ни бутылочки, ни соски, ни какой-то другой формы кормления. Но у него была очень ранняя и сильная
привязанность к самой матери, ему была нужна мать как реально существующий человек.
В 12 месяцев у него появился игрушечный кролик, которого он гладил и прижимал к себе, со временем эта нежная забота была перенесена на настоящих кроликов. Л тот игрушечный кролик оставался с ним до 5–6 лет. Его можно назвать
утешителем, но он никогда не был по-настоящему переходным объектом. Он никогда не становился, как истинный переходный объект, важнее самой мамы, которая почти неотделима от младенца. В случае с этим конкретным мальчиком, некоторая тревожность, обостренная отнятием от груди в 7 месяцев, позднее привели к астме, и только исподволь, мало-помалу, он смог победить ее. Он нашел работу далеко от родного города, и это было важно. Его привязанность к матери все еще очень сильна, но несмотря на это, он подпадает под категорию (очень широкую) «нормальный», или «здоровый». Этот мужчина не женился.
Типичное употребление переходного объекта
Весь путь развития Y, младшего брата X, был довольно прямым и простым. Сейчас у него самого трое детей. Он был на грудном вскармливании 4 месяца, отнятие от груди прошло легко. Y сосал палец в первые недели, и это «сделало отнятие от груди проще, чем у старшего брата». Когда его уже отняли от груди, в 5–6 месяцев, он обнаружил объект — кончик одеяла, на котором оканчивался шов. Ему нравилось, что оттуда высовывался небольшой клочок шерсти, и он мог щекотать им нос. Это очень рано стало его «Баа», он сам начал использовать это имя, как только научился произносить оформленные звуки. Начиная с годовалого возраста, он начал использовать вместо одеяла мягкую- джерси зеленого цвета с красным шнурком. Это был не «утешитель», как в случае с депрессивным старшим братом, а «успокоитель». Это успокоительное работало безотказно. Вот типичный пример того, что я называю
переходным объектом. Маленьким мальчиком, Y, как только получал свой «Баа», сразу же начинал его сосать и успокаивался, а если подходило время ложиться спать — засыпал с ним за несколько минут. В то же время он продолжал сосать палец до трех- четырех лет, помнит как сосал пальцы и райку на одном из них, которая из-за этого возникла. В настоящее время он как отец интересуется сосанием пальцев и «Баа» собственных детей.
История семи обыкновенных детей из этой семьи обнаруживает следующие точки для сравнения (см. таблицу).
|
|
палец |
переходный объект |
тип ребенка |
| X |
мальчик |
0 |
мама; кролик (утешитель) |
фиксированный на матери |
| Y |
мальчик |
+ |
«Баа»; Джерси (успокоитель) |
свободный |
| двойняшки |
девочка |
0 |
соска; ослик (приятель) |
поздняя зрелость |
| мальчик |
0 |
«Ее»; ее (защитник) |
латентная психопатия |
| дети Y |
девочка |
0 |
«Баа»; одеяло (поддержка) |
благоприятное развитие |
| девочка |
+ |
палец; палец (удовлетворение) |
благоприятное развитие |
| мальчик |
+ |
«Мимис»; объекты (порядок)* |
благоприятное развитие |
* Замечание: это было не совсем понятно, но я оставил все как есть. D.W.W., 1971. (Прим. авт.)
Важность сбора личных историй
Консультируя родителей, часто очень полезно выяснить информацию о ранних особенностях поведения и первичного обладания всех детей в семье. Это подталкивает мать к тому, чтобы начать сравнивать детей друг с другом, позволяет вспомнить и сравнить их особенности в раннем возрасте.
Вклад самого ребенка
Информацию относительно переходного объекта часто можно получить и у самого ребенка. Например:
Ангус (одиннадцать лет и девять месяцев) говорил мне, что у его брата «тонны всяких штук и плюшевых медвежат», а «прежде у него были маленькие мишки», и продолжил рассказом о своей собственной жизни. Он сказал, что у него никогда не было мягких игрушек. Был колокольчик с веревочкой которая свисала, а он каждый раз дергал за этот обрывок, после чего отправлялся спать. Наверное, в конце концов, шнур оборвался, и на этом все закончилось. Однако, был и другой предмет. К нему мальчик относился с большим недоверием и опаской. Этим был фиолетовый кролик с красными глазами. «Я не любил его. Я им швырялся. Сейчас он у Джереми, я отдал ему. Я дал его Джереми, потому что он (кролик —
Прим. пер.) плохо себя вел.
Бывало, что он спрыгивал с комода.
Он все еще навещает меня. Мне нравится, когда он ко мне приходит». Мальчик был сам очень удивлен, когда он нарисовал фиолетового кролика.
Обратите внимание на то, что этот одиннадцатилетний мальчик, с развитым по возрасту чувством реальности, так описывает качества и активность переходного объекта, как будто ему самому недостает этого чувства. Когда я позже встречался с мамой, она была удивлена тем, что Ангус помнил фиолетового кролика. Она легко узнала его на цветном рисунке сына.
Примеры — насколько они могут быть полезны?
Я сознательно воздерживаюсь от того, чтобы привести здесь больше отдельных случаев, именно потому, что не хочу, чтобы создалось впечатление, что мои материалы являются редкостью. Практически в каждой индивидуальной истории оказывается что-то интересное, связанное с феноменом перехода или его отсутствием.
Теоретическое исследование
Опираясь на общепринятую психоаналитическую теорию можно сформулировать следующие замечания:
1. Переходный объект символизирует материнскую грудь, самый первый объект взаимоотношений.
2. Переходный объект предшествует упроченному тестированию реальности.
3. Во взаимосвязи с переходным объектом младенец совершает переход от (магического) неограниченного контроля к манипулятивному контролю (включая мускульный эротизм и радость от согласованности).
4. Переходный объект может со временем превратиться в фетиш, а следовательно, сохраниться как характеристика сексуальной жизни взрослого человека (см. разработку темы Вульфом (Wulff, 1946).
5. Переходный объект, вследствие анального эротического типа организации, символизирует фекалии (но не потому, что может оставаться нестиранным и зловонным).
Взаимоотношения с внутренним объектом (Кляйн)
Интересно провести сравнение концепции переходного объекта и теории внутреннего объекта Мелани Кляйн (Melanie Klein, 1934). Переходный объект
не является внутренним объектом (который представляет собой ментальную концепцию) — он является предметом обладания. Также это и не внешний (по отношению к ребенку) объект.
Предлагаю следующее комплексное утверждение. Младенец может обрести переходный объект, когда внутренний объект реален, обладает значимостью и достаточно хорош (не несет в себе чрезмерно качество наказания). Но качества внутреннего объекта зависят от существования, жизнеспособности и поведения внешних объектов. Нарушение какой-то существенной функции последнего косвенно ведет к отмиранию или приобретению внутренним объектом качества преследователя
[2]. При постоянной неадекватности внешнего объекта, внутренний объект теряет значение для ребенка и тогда, и только в этом случае, переходный объект также становится бессмысленным. Правда, переходный объект может все же остаться символом «внешней» материнской груди, но
косвенно, через «внутреннюю» символизацию груди в представлении ребенка.
Переходный объект, в отличие от внутреннего, никогда не подвержен магическому контролю, а также, в отличие от реальной фигуры матери, не может быть проконтролирован извне.
Иллюзии и их разрушение
Для того чтобы подготовить почву собственным выкладкам, я должен сказать несколько слов о вещах, которые, на мой взгляд, во многих психоаналитических работах о начальном эмоциональном развитии чересчур легко принимаются как доказанные, хотя в практике могут быть вполне понятны.
Для младенца абсолютно невозможно продвинуться от принципа удовольствия к принципу реальности или выйти за пределы первичной идентификации (см. у Фрейда (Freud), 1923) без хорошей матери. Хорошая «мать» (не обязательно собственная мать ребенка) — это человек, который активно приспосабливается к потребностям ребенка, и это приспособление постепенно ослабевает в соответствии с растущей способностью ребенка отвечать на недостаток адаптации и его толерантностью к фрустрации. Естественно, собственная мать более вероятно станет хорошей матерью для ребенка, чем какой-то другой человек, так как активное приспособление требует легкого и бесконфликтного предшествующего опыта отношения с ребенком; но, на самом деле, успешность ухода за младенцем зависит от преданности, а не от сноровки или интеллектуальной одаренности.
Хорошая мать, как я уже говорил, начинает с того, что почти полностью адаптируется к потребностям ее младенца, а с течением времени она приспосабливается все меньше и меньше, в соответствии с растущей возможностью ребенка справляться в случае ее ухода.
Справляться с уходом мамы — это дело, связанное для ребенка со следующими процессами:
1. Часто повторяющаяся ситуация в опыте ребенка, когда фрустрация имеет ограниченный срок. Поначалу, конечно, этот срок должен быть коротким.
2. Возрастание процессуальной чувствительности.
3. Зарождение умственной активности.
4. Использование аутоэротического удовлетворения.
5. Припоминание событий и переживание вновь, фантазии и мечты; интеграция прошлого, настоящего и будущего.
Если все идет хорошо, опыт переживания фрустрации действительно позволяет ребенку постичь, что неполная адаптация к потребностям делает объекты реальными, то есть настолько же любимыми, насколько и ненавистными. Следовательно,
если все идет хорошо, ребенку может навредить слишком длительное сильное приспособление к его потребностям, не допускающее естественного ослабления, так как точная адаптация похожа на волшебство, а объект, который ведет себя идеально, становится не более чем галлюцинацией. Тем не менее,
в начале адаптация должна быть почти абсолютной, без нее ребенок не сможет начать развивать способность к переживанию отношений с внешней реальностью и даже строить концепцию этой реальности.
Иллюзия и ее ценность
В самом начале, адаптируясь к ребенку на все 100 %, мама дает ему замечательную возможность
иллюзии, что ее грудь является частью ребенка. Материнская грудь находится как бы под магическим контролем ребенка. На протяжении спокойных промежутков между состояниями, когда ребенок возбужден, можно то же самое сказать относительно всех процессов, связанных с уходом за ребенком. Магический контроль не так далек от факта опыта, как это может показаться. Конечная задача матери — постепенно разрушить иллюзии ребенка, но у нее нет надежды на успех, пока она не может дать ребенку достаточно хорошей возможности для их возникновения.
Другими словами, грудь матери воссоздается ребенком вновь и вновь, за пределами способности ребенка любить или, можно сказать, сверх потребности. У ребенка развивается субъективный феномен, который мы называем «материнской грудью»
[3]. Реальная грудь матери — в нужное время оказывается там, где ребенок готов к творчеству.
Следовательно, с самого рождения человеческое существо сталкивается с проблемой отношения объективно воспринимаемого и представленного субъективно, и для маленького человека, не получившего хорошей поддержки от своей матери на старте, решение этой проблемы не пройдет безболезненно.
Промежуточная область, на которой я заостряю внимание — это предоставленное ребенку поле между первичной креативностью и восприятием объектов, основанным, на тестировании реальности. Феномен перехода представляет ранние стадии функционирования иллюзии, без которых для человеческого существа теряется смысл отношений с объектом, воспринимаемым другими как внешний по отношению к этому существу.
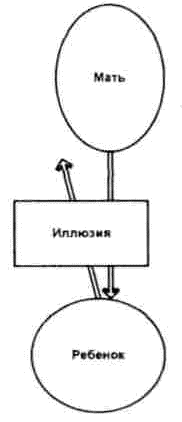
Рис. 1
На рис. 1 иллюстрируется следующая идея: на ранней стадии развития, с теоретической точки зрения, ребенок способен в определенном, заданном матерью направлении, представлять идею некоторого объекта, который соответствует напряженному состоянию его инстинктивных потребностей. Вначале ребенок не знает, что должен создавать. И в этот момент появляется мама. Обычно она дает ребенку грудь и свое потенциальное стремление накормить. Если мать достаточно хорошо адаптирована к нуждам ребенка, у него возникает
иллюзия, что существует внешняя реальность, которая соответствует собственной способности младенца создавать что-то новое. Другими словами, происходит совпадение предоставленного мамой и представленного ребенком. С точки зрения наблюдателя, ребенок воспринимает то, что мать ему действительно предлагает, но есть и другое. Ребенок воспринимает грудь исключительно в той мере, в которой она может быть воссоздана непосредственно в данный момент. Между матерью и ребенком не происходит обмен. Психологически ребенок берет из груди то, что является частью самого ребенка, а мать кормит молоком ребенка, который является частью ее самой. В психологии идея обмена основана на иллюзии самого психолога.

Рис. 2
На рис. 2 область иллюзии очерчена для иллюстрации того, что я считаю главной функцией переходного объекта и феномена перехода. Переходный объект и феномен перехода дают каждому человеческому существу «в дорогу» то, что навсегда останется важным — нейтральную область опыта, которая не будет отнята или оспорена.
Можно сказать, что переходный объект — это суть такого соглашения между нами и ребенком: мы никогда не спросим: «Ты это сам себе представляешь, или тебе это показывают извне?» Важно, что здесь нечего надеяться на решение. И даже задавать вопрос.
Эта несомненно значимая для ребенка проблема вначале проявляется в скрытом виде, но постепенно становится очевидной на основании того факта, что главная задача матери (следующая после предоставления возможности для иллюзии) — разрушение иллюзий. Она предшествует задаче отнятия от груди, а также остается одной из задач родителей и учителей. Другими словами, вот сущность
иллюзии: эта проблема присуща людям в своей основе, но ни один человек никогда окончательно не справляется с ней, хотя
теоретическое постижение иллюзии может привести
к теоретическому решению проблемы. Если все идет хорошо, в постепенном процессе разрушения иллюзий устанавливается стадия, к которой мы относим все фрустрации, связанные с отнятием младенца от груди. Но не забудьте, что когда речь идет о феномене, который Кляйн (1940) особым образом освещает в своей концепции депрессивной позиции) отнятия от груди, мы предполагаем и основополагающий для него процесс, который обеспечивает саму возможность возникновения и разрушения иллюзии. Если возникновение-разрушение иллюзий протекает неправильно, то ребенок и не доберется до такой вполне нормальной вещи, как отнятие от груди, не отреагирует на это, и в этом случае абсурдно даже упоминать отнятие от груди. Просто окончание грудного вскармливания — еще не отнятие от груди.
Для нормального, здорового ребенка отнятие от груди — чрезвычайно значимый процесс. Когда мы видим комплексную реакцию некоторого ребенка на отнятие от груди и знаем, что него процесс возникновения-разрушения иллюзии успешно доведен до конца, мы можем этот процесс проигнорировать и заняться обсуждением непосредственно отнятия от груди.
Разработка теории возникновения-разрушения иллюзии
Здесь мы исходим из того, что задача принятия реальности никогда не разрешается, ни одно человеческое существо не свободно от напряженной взаимосвязи внешней и внутренней реальностей, и ослабить это напряжение можно через промежуточную область опыта (ср.: Ривьер (Riviere), 1936), которая не может быть оспорена (искусство, религия и т. д.). Эта область — непосредственное продолжение игрового поля маленького ребенка, «забывшегося» в игре.
В младенчестве эта промежуточная область необходима для инициации связи между ребенком и окружающим миром, и хороший материнский уход на ранней критической фазе делает это возможным. Для всего этого необходимы непрерывность (во времени) эмоционального внешнего окружения и отдельные элементы физической среды — переходный объект или объекты.
Феномен перехода «разрешается» ребенку, поскольку родители интуитивно чувствуют напряженность, присущую объективному восприятию, и мы не делаем ребенку преград как раз там, где находится переходный объект.
Когда взрослый человек требует принятия объективности своих внутренних явлений, мы отмечаем или диагностируем его безумие. Однако, если суметь избежать претензий и насладиться личным «промежуточным» опытом, мы сможем признать совпадения наших собственных промежуточных областей и с радостью найдем, насколько высока степень их пересечения, что является обычным опытом для участников групп по искусству, религии, философии.
Резюме
Наше внимание сосредоточено на наблюдении богатого поля раннего опыта здорового ребенка, в основном выраженного в форме взаимоотношения с предметом первичного обладания.
Первичное обладание начинается с аутоэротического феномена — сосания кулачка и большого пальца и далее развивается к первой мягкой игрушке, кукле и немягким игрушкам. Оно связано и с внешними (материнская грудь), и с внутренними (магическая вобранная внутрь, интроецированная, грудь) объектами, но отличается от обоих.
Феномен перехода и переходные объекты принадлежат к сфере иллюзий, которые являются основой инициации опыта. Эта ранняя стадия развития становится возможной благодаря особой способности матери адаптироваться к потребностям ее ребенка и таким образом давать младенцу иллюзию того, что созданное им действительно существует.
Эта промежуточная область содержит большую часть опыта младенца, а на протяжении всей жизни человека сохраняется там, где он интенсивно получает новый опыт — в искусстве, религии, жизни воображения и творческой научной работе.
Обычно переходный объект младенца постепенно теряет свою силу, уходит на второй план, особенно с развитием культурных интересов ребенка.
Из проведенного анализа следует, что принятый парадокс может иметь позитивную ценность. А разрешение парадокса ведет к возникновению защитной структуры, которая у взрослых встречается как истинно-ложная организация «Я» (Winnicott, 1960а).
Практические приложения теории
Сам по себе объект, конечно же, не является переходным. Объект репрезентирует переход младенца из состояния слияния с матерью в состояние отношения к матери как к чему-то внешнему и отдельному. Это часто называют моментом выхода ребенка из нарциссического типа объектных отношений, но я удержался бы от употребления такого языка, поскольку не уверен, что он обозначает именно то, что имею в виду я. В этой терминологии также упускается идея зависимости, которая необычайно важна на самых ранних стадиях, пока ребенок еще не уверен в существовании вещей, не являющихся частью его самого.
Выраженная психопатология в области феномена перехода
Я особо подчеркиваю нормальность феномена перехода. Тем не менее, в процессе клинического изучения выявляются случаи психической патологии. В качестве примера того, как ребенок справляется с
сепарацией и потерей, я обращаю внимание на способ влияния сепарации на феномен перехода.
Как известно, когда мать или кто-то другой, от кого зависит ребенок, отсутствуют, немедленных изменений не происходит благодаря тому, что ребенок обладает памятью или мысленным образом мамы, ее так называемой ментальной репрезентацией, которая жизнеспособна в течение определенного временного интервала. Если мамы нет дольше, чем некоторый временной лимит, выраженный в минутах, часах или днях, память или внутренняя репрезентация постепенно исчезает. По мере возникновения этого эффекта, явления перехода постепенно становятся бессмысленными и ребенок теряет способность испытывать их. Мы можем увидеть, как переходный объект тускнеет, теряет свое значение для ребенка. Непосредственно перед потерей, мы можем иногда увидеть гиперболизацию использования переходного объекта как элемента
отрицания угрозы того, что объект потеряет смысл. Для иллюстрации этого аспекта отрицания я приведу короткий пример из практики — про мальчика, у которого был шнурок.
Мальчика семи лет мать и отец привели в Психологическое отделение Зеленой детской больницы в Паддингтоне (Psychology Department of the Paddington Green Children's Hospital) в марте 1955 года. Пришли и остальные два члена семьи: десятилетняя девочка, ученица школы для умственно отсталых, и здоровая девочка четырех лет. Их направил семейный врач по причине серий симптомов, демонстрирующих расстройство характера у мальчика. По тесту интеллекта мальчик набрал 108 баллов IQ. (Все детали, не релеватные непосредственно теме данной главы, в описании опущены.)
Впервые я встретился с родителями на продолжительном интервью, в котором они дали ясную картину развития ребенка и искажений в развитии. Однако они не учли одну важную деталь, которая затем всплыла в разговоре с самим мальчиком.
Было несложно заметить, что мать — депрессивный человек, и она и сама сообщила, что была госпитализирована из-за депрессии. Из сообщений родителей я понял, что мать ухаживала за мальчиком вплоть до рождения сестры, когда ему было три года и три месяца. Это было первое по важности сепарирование, следующее было в три года и одиннадцать месяцев, когда маме была сделана операция. Когда сыну было четыре года и девять месяцев, мама два месяца провела в психиатрической клинике и мальчик все это время был под надежным присмотром тети, маминой сестры. Все, кто был с ребенком в тот период, соглашались, что он сложный, хотя у него очень хороший потенциал. Он мог внезапно измениться до неузнаваемости, мог напугать людей, говоря, например, что порежет свою тетю на мелкие кусочки. Он демонстрировал множество необычных симптомов, таких как навязчивое стремление облизывать вещи и людей, издавать гортанные звуки; часто он отказывался идти в туалет, а потом пачкал штанишки. Несомненно, он тревожился из-за умственной неполноценности старшей сестры, но искажения развития выглядят как начавшиеся еще до того, как этот фактор приобрел значимость.
После того интервью с родителями, у меня была отдельная беседа с самим мальчиком. Присутствовали два социальных психиатра и двое посетителей. Поначалу мальчик не производил впечатления ненормальности — он быстро включился в предложенную мной сквигл-игру. (В этой игре я делаю картинку из нескольких спонтанно начерченных линий и предлагаю ребенку превратить их во что-нибудь, а потом он рисует линии для меня, чтобы я сделал из них что-нибудь в свой ход.)
В данном случае игра привела к необычному результату. Пассивность ребенка сразу же стала очевидной, а почти все, что я рисовал, он объяснял чем-то, ассоциировавшимся со шнурком. Среди его десяти рисунков были следующие:
Лассо,
Кнут,
Прутик,
Нитка от йо-йо,
Шнурок, завязанный в узел,
Другой прутик,
Другой кнут.
После этой беседы с мальчиком, я провел второе интервью с родителями, где спросил их о том, было ли что-то у мальчика связано со шнурком. Они сказали, что рады тому, что я поднял эту тему, но сами не отметили ее, так как не были уверены в ее важности. По их словам, мальчиком буквально овладело стремление постоянно что-нибудь делать со шнурками и веревочками, войдя в комнату вполне можно было обнаружить, что он привязал друг к другу стулья и столы, или, например, найти подушку, привязанную шнурком к плите. Они рассказали, что это пристрастие мальчика к шнуркам постепенно приобрело новую особенность, которая обеспокоила их, в отличие от прочих, обычных случаев. Он начал завязывать шнурок на шее сестренки (рождение которой способствовало первой сепарации мальчика от матери).
Я знал, что в данном случае, работая в этом типе интервью, возможность моей активной деятельности ограничена: встречаться с родителями или мальчиком можно будет не чаще одного раза в шесть месяцев, так как семья живет в деревне. Но все же я сделал следующее. Я объяснил маме, что мальчик, столкнувшись со страхом сепарации, пытается опровергнуть само существование сепарации, используя шнурок, также как можно отрицать разрыв отношений с другом, используя телефон. Она была настроена скептически, но я попросил ее создать в себе особый настрой, в котором, мне бы хотелось, чтобы она, найдя подходящий момент, начала разговор с ребенком, дала ему знать о том, что я сегодня сказал, а затем развивала бы тему в соответствии с реакцией ребенка.
Я ничего не слышал об этой семье, вплоть до того, как они вновь пришли ко мне примерно через шесть месяцев. Мама не стала сообщать мне о том, что она сделала, но смогла рассказать о событиях, которые произошли вскоре после визита ко мне. Мои слова показались ей глупостью, но как-то вечером, заговорив об этом с ребенком, она обнаружила, что он жаждет говорить о своих отношениях с ней и своем страхе потери контакта с ней. Она внимательно исследовала все случаи разрывов между ней и сыном, которые смогла вспомнить, и мальчик помог ей в этом, и вскоре, благодаря ответам сына, она убедилась в правоте моих слов. Более того, после этого разговора игры со шнурком прекратились. Он перестал связывать предметы, как это было раньше. Она еще много раз разговаривала с сыном о его чувстве отделенности от нее и заметила очень важную вещь — она почувствовала, что видимо самой главной сепарацией стала для сына потеря матери, когда она находилась в тяжелой депрессии; это было не просто ее отдаление, уход, а, как она сказала, потеря контакта с сыном из-за ее направленности к совершенно другим вещам.
В одной из следующих бесед мать рассказала, что спустя год после того первого разговора к сыну вновь вернулись игры со шнурком и связывание между собой разных предметов в доме. В то время она должна была отправляться в больницу на операцию и сказала ему следующее: «По тому, как ты играешь со шнурком, я вижу, что ты беспокоишься из-за моего ухода, но в этот раз меня не будет лишь несколько дней, а операция не особенно серьезная». После этого разговора начавшаяся вновь фаза игры со шнурком прекратилась.
Я поддерживал контакт с этой семьей, помогал с решением разных школьных проблем мальчика и по другим вопросам. Через четыре года после первичного интервью, отец вновь сообщил о пристрастии к шнуркам, связанном с новой депрессией матери. Эта фаза продлилась два месяца; она окончилась, когда вся семья отправилась на каникулы и одновременно улучшилась ситуация в семье (после периода безработицы отцу удалось найти работу). С этим было связано и улучшение состояния матери. Интересную дополнительную деталь по обсуждаемому предмету рассказал отец. На протяжении данной фазы отцу показалось очень значимым то, что мальчик делал с веревкой, поскольку было видно, как близко все эти вещи связаны с патологической тревожностью матери. Однажды, придя домой, он обнаружил сына висящем на веревке вверх ногами. Он выглядел обмякшим, играл мертвого очень правдоподобно. Отец понял, что не должен ничего замечать, и около получаса был в саду, делал какую-то работу, пока мальчику не надоело и он не прекратил свою игру. Это была серьезная проверка спокойствия отца, тест на отсутствие тревоги. На следующий день мальчик проделал то же самое на дереве, которое стояло прямо напротив кухонного окна. Мама в шоке выбежала, уверенная, что ребенок повесился.
Следующая дополнительная деталь может быть очень ценной для понимания этого случая. Хотя этот мальчик, которому сейчас одиннадцать лет, развивается по пути «настоящего мужчины», он очень застенчив и легко краснеет. У него есть несколько мягких зверей — его детей. Никто не смеет говорить, что это игрушки. Он очень предан им, отдает им много заботы и любви, очень аккуратно шьет им штанишки. Отец считает, что мальчик чувствует себя в безопасности в этой семье, о которой так по-матерински заботится. Если появляются гости, он быстро убирает всех «детей» в кроватку сестры, поскольку никто чужой не должен знать, что у него есть эта семья. Также возникают проблемы с опорожнением кишечника, как стремление сохранить, спасти свои фекалии. Несложно поэтому предположить, что возникшая идентификация с матерью, основанная на чувстве небезопасности в их отношениях, может привести к гомосексуальности. Аналогично приверженность к играм со шнурком может привести к извращению.
Комментарии
Мне кажется уместным отметить следующее.
1. Рассмотрим шнурок как расширение всех способов коммуникации. Шнурок связывает, подобно тому как он помогает завернуть какую-нибудь вещь или удержать рассыпающиеся предметы. В этом отношении шнурок для любого приобретает символическое значение, чрезмерное увлечение манипуляциями со шнурком может, без сомнения, относиться к возникновению чувства опасности или ощущения потери общения. В данном конкретном случае можно заметить вкрадывающуюся аномальность в обращении мальчика со шнурком, и здесь важно не пропустить и понять, в чем выражаются изменения, которые могут привести к извращенному обращению с ним. Это положение кажется вполне допустимым, если принять во внимание тот факт, что функция шнурка перестает быть коммуникативной и скорее приобретает значение
опровержения сепарации с матерью. В этом случае шнурок становится вещью в себе, чем-то опасным и несомненно возникает необходимость в полном овладении объектом. Мать должна что-то предпринять, пока еще не поздно и в обращении ребенка со шнурком все еще остается надежда на контакт. Когда надежды нет и шнурок представляет собой опровержение сепарации, состояние дел значительно усложняется — появляются вторичные проблемы, с которыми справиться гораздо сложнее и которые связаны с тем, что объекты, которыми необходимо овладеть, вместо этого становятся предметами ухода и заботы. Поэтому этот случай представляет особый интерес, если становится возможным наблюдать развитие перверсии.
2. Из приведенного материала также хорошо видно, как можно подключить к работе родителей. Когда родители задействованы, они могут работать очень расчетливо и бережливо, особенно если помнить, что никогда не будет достаточно психотерапевтов, чтобы помочь всем, кто нуждается в лечении. А здесь была хорошая семья, которая переживала трудные времена из-за безработного отца, которая взяла на себя все заботы об умственно отсталой дочери, несмотря на то, что это повлекло за собой огромные отрицательные последствия, как социальные, так и внутрисемейные. Эта семья пережила самые тяжелые стадии депрессии матери, включая период госпитализации. У такой семьи должен быть большой запас силы и стойкости, и это стало основой для решения пригласить этих родителей к проведению терапии их собственного ребенка. Делая это, они сами научились очень многому, но им была необходима информация о том, что они делают. Также им было необходимо получить достойную оценку их успехов и обсудить, вербализовать весь процесс работы. Тот факт, что они помогли своему ребенку в его болезни, убедил родителей в том, что они смогут справиться и с другими возникшими трудностями.
Дополнительное замечание (1969)
С тех пор как был написан этот текст, прошло десять лет, и сейчас я вижу, что этого мальчика было невозможно вылечить. Связка с материнской депрессией осталась, и он не мог находится вне собственного дома. Он мог бы пройти индивидуальное лечение, но дома оно было неосуществимо. Дома он сохранял паттерн поведения, оформившийся еще во время первых интервью.
В подростковом возрасте у мальчика развились новые типы зависимости, в том числе наркотическая, и он не мог покинуть свой дом для обучения. Все попытки поместить его где-то отдельно от матери были безуспешны — он постоянно убегал и возвращался домой.
Он стал трудным подростком, который бездельничал и тратил впустую свое время и интеллектуальные возможности (как было сказано выше, его IQ был 108 баллов).
Вопрос: обратит ли исследование наркотической зависимости в данном случае должное внимание на психопатологию в области переходного феномена?
Клинический материал: аспекты фантазии
В последующей части этой книги я рассмотрю ряд идей, пришедших мне в голову, пока я был вовлечен в клиническую работу и чувствовал, что теория переходного феномена, которую я сформулировал для личного пользования, влияет на то, что я вижу, слышу и делаю.
Сейчас я детально разберу случай взрослого пациента, чтобы показать, как само 'по себе чувство утраты может стать способом интегрировать внутренний опыт человека.
Я предлагаю материал одной из аналитических сессий пациента-женщины, потому что там проявились различные примеры из огромного множества характеристик безбрежного пространства между субъективным и объективным.
Эта пациентка, мать нескольких детей, которая обладала высоким интеллектом, находящим реализацию в работе, Обратилась за профессиональной помощью по поводу широкого спектра симптомов, которые вместе обычно обозначают термином «шизоид». Возможно, те кто имели с ней дело раньше, просто не понимали, насколько плохо она себя чувствует, наоборот, она им очень нравилась и ее ценили.
Данная сессия началась с описания сна, который можно назвать депрессивным. Он содержал прямой и обличающий перенос — ее аналитик как алчная, доминирующая женщина. Это проливает свет на ее желание по отношению к предыдущему аналитику, который для нее является очень яркой мужской фигурой. Это сон, и он может быть использован как материал для интерпретаций. Пациентка была довольна, что часто видит сны. Вместе с тем она была способна описать некоторые улучшения ее жизни в реальном мире.
Время от времени ее одолевает то, что можно назвать
фантазированием. Она собирается в путешествие но железной дороге, случилась авария. Как дети узнают, что с ней случилось? Действительно, а как узнает ее аналитик? Она может пронзительно кричать, но ее мать все равно не услышит. От этого она перешла к рассказу о своем самом ужасном опыте в своей жизни, когда она ненадолго оставила кошку, а позже узнала,
что эта кошка орала не переставая семь часов. Это «все вместе такое ужасное» идет вместе с большим количеством сепарации, пережитых в детстве, которые были сильнее, чем ее способность учесть и приспособиться к ним, и следовательно, травматичными, требующими организации новых защитных структур.
Большая часть материала этого анализа связана с негативными сторонами отношений, то есть с переживаниями потери, которые обязательно испытывает ребенок, когда родители недоступны. Пациентка особенно чувствительна ко всему этому в обращении с собственными детьми. Она приписывает большинство сложностей со своим первым ребенком тому факту, что как-то, когда она вновь забеременела, то есть когда ребенку было около двух лет, она оставила его на три дня и отправилась с мужем отдыхать. Она рассказала, что ребенок кричал непрерывно четыре часа, а когда она вернулась, ей довольно долго не удавалось восстановить контакт с ребенком.
Мы обсудили тот факт, что невозможно объяснить происходящую ситуацию животному или маленькому ребенку. Кошка не поймет. Точно так же ребенку младше двух лет не доступна суть того, что мама ждет нового ребеночка, хотя «в двадцать месяцев или около того» постепенно становится возможным объяснить это понятными ребенку словами. Когда невозможно ничего объяснить и мама уходит, чтобы родить нового младенца, с точки зрения ребенка она умирает. Это означает смерть.
Это дело дней, часов или минут. До того, как этот лимит исчерпан, мама еще живет, но после — она мертва. В промежутке — чрезвычайно значимый момент злости, но он быстро проходит, а возможно, вообще не переживается, оставаясь всегда потенциально возможным, несущим страх насилия.
Здесь мы подходим к двум крайностям, столь сильно отличающимся друг от друга: смерть матери, когда она присутствует, и ее смерть, когда она не может вернуться и, следовательно, ожить вновь. Это относится к периоду, когда ребенок еще не научился оживлять людей во внутренней реальности, отдельно от внешних подтверждений (зрение, ощущение, обоняние).
Можно сказать, что детство пациентки было одной большой задачей как раз по этой теме. Во время войны она была в эвакуации, ей было тогда около одиннадцати лет. Пациентка полностью забыла свое детство, родителей, но все время неуклонно отстаивала право не называть «дядей» и «тетей» тех людей, которые о ней заботились, что тогда было обычным способом обращения. Она сумела все те годы
никогда никак их не называть, и это было запретом на память об отце и матери. Становится понятным, что этот паттерн сформировался еще в раннем детстве пациентки.
На этом этапе моя пациентка вновь встала на позицию, ведущую к проекции, что потерять можно только реальную вещь, то есть потеря — это только смерть, отсутствие или амнезия. В течение сессии у нее случилась специфическая амнезия, обеспокоившая ее, и это вывело наружу факт, важный для меня — может случиться некое вычеркивание из памяти и именно это незначительное событие может быть единственным реальным фактом или вещью. Амнезия — реальна, в то время как забытое теряет характеристики реальности.
В связи с этим пациентка вспомнила про плед в консультативной комнате, которым она как-то укрывалась во время эпизода регрессии в процессе аналитической сессии. Сейчас она не собирается идти за этим пледом или им пользоваться. Причина в том, что плед, который не здесь (потому что она за ним не пошла) более реален, чем плед, который может принести аналитик, а он как раз собирался сделать это. Поэтому ей было неприятно отсутствие пледа, или, лучше сказать, символическая ирреальность пледа.
С этого момента пошло развитие идеи символов. Потеря ее предыдущего психоаналитика «навсегда останется важнее, чем тот аналитик, который со мной сейчас». Она добавила: «Может быть, вы сделаете для меня больше, но он мне больше нравится. Хорошо, что я совсем забыла его. Его недостатки более реальны, чем ваши достоинства». Это, может быть, не точные ее слова, но это то, что она преподнесла мне понятным языком, то, что она считала необходимым, чтобы я понимал.
Картина дополняется темой ностальгии — ненадежная зацепка, чтобы сохранить внутреннюю репрезентацию потерянного объекта. Позднее мы еще раз столкнемся с ней (смотри главу 2).
Затем пациентка говорила о своем воображении и о границах реального. Она начала со слов: «Я действительно не верила, что ангел стоит у моего изголовья; с другой стороны, я когда-то носила орла, прикованного к запястью». Это было несомненно реальным для нее, и акцент был сделан на словах «прикованный к запястью». Также у нее была белая лошадь, реальная настолько, насколько это вообще возможно, и она «каталась на ней повсюду, привязывала ее к дереву и все такое прочее». Ей бы хотелось сейчас действительно иметь свою собственную белую лошадь, с тем чтобы суметь войти в реальность данного переживания и прийти к этому переживанию неким иным путем. Я почувствовал, пока она говорила, как просто было бы назвать эти идеи галлюцинаторными, учитывая возраст пациентки и ее исключительный опыт переживания повторяющихся потерь во всем остальном очень хороших родственников. Она воскликнула: «Я поняла, что я хочу — то, что никогда меня не покинет». Мы это сформулировали так — реальна та вещь, которая сейчас не здесь. Цепь — это опровержение отсутствия орла, который является позитивным элементом для пациентки.
Далее мы перешли к символам, которые были не так ярки. Она утверждала, что у нее довольно долго получалось делать символы реальными, несмотря на случаи сепарации. Мы оба одновременно пришли к тому, что ее прекрасный интеллект тут был использован по полной программе. Она рано начала читать, и читала очень много; она много думала, рассуждала с самого раннего возраста и всегда использовала свой интеллект для дела, пользовалась этим. Но она (мне кажется) почувствовала облегчение, когда я сказал, что когда используешь свой разум таким образом, всегда есть боязнь умственного нарушения. Тогда она быстро переключила свои интересы на аутичных детей и на близкую привязку к шизофрении ее друга, на состояние, которое как раз иллюстрирует идею умственного дефекта, несмотря на хороший интеллект. Она почувствовала огромную вину за то, что гордилась своими отличными умственными способностями, которые всегда были достаточно очевидны. Ей было тяжело думать о том, что ее друг, возможно, имел неплохой интеллектуальный потенциал. Хотя необходимо сказать, что его случай ввел ее в заблуждение; на самом деле там мы имеем пример нарушения умственного развития как разновидность психического заболевания.
Она описала множество способов справиться с сепарацией. Например: взять бумажного паучка и отрывать ножку каждый день отсутствия мамы. Еще у нее были вспышки, как она их называла, когда внезапно перед глазами возникал ее пес Тоби, игрушка: «О, это Тоби». В семейном альбоме на одном из отпечатков она изображена вместе с игрушечным Тоби, которого она помнит только по этим вспышкам. Это выводит разговор на тему ужасного инцидента, когда мама сказала девочке (пациентке —
Прим. пер.): «Все время, пока нас не было дома, мы „слышали“, как ты орешь». Они были на расстоянии четырех миль от дома. Тогда девочке было два года и она рассуждала так: «Могло ли так случиться, что моя мама сказала мне неправду?» Тогда она просто была неспособна справиться с этим и пыталась отвергать то, что действительно считала истиной, а именно тот факт, что мать лгала ей. Маме, скрытой под этой маской, было очень сложно доверять, а ведь все ей говорили: «У тебя такая чудесная мать».
Теперь стало просто сделать переход к идее, которая вначале показалась мне новой. Мы видели следующую картину: ребенок, у ребенка есть переходный объект, явно проявляется переходная феноменология; все это имело некоторое символическое значение, а для ребенка было абсолютно реальным. Постепенно или, возможно, в результате нескольких последовательных скачкообразных изменений, ею овладело
сомнение в реальности той вещи, которую все это символизирует. То есть, вещь, символизирующая преданность и надежность матери, оставалась реальной сама по себе, но то, что она обозначала, не было таковым. Материнская преданность и надежность были ирреальными.
Кажется, мы подбираемся ближе к тому, что преследовало ее всю жизнь, отнимая ее детей, отнимая любимый животных, что привело ее к заключению: «Все, что у меня есть — это то, чего у меня нет». Попытка переключиться с негатива на защиту (до последней капли крови) от разрушения всего мира, была бы здесь безнадежной. Только негатив здесь поможет. Когда она поняла это, то сказала аналитику: «И что вы будете с этим делать?» Я промолчал и она продолжила: «О, я понимаю». Я подумал, что, возможно, ей не понравилась моя совершенно пассивная реакция. Я сказал: «Я молчу, потому что не знаю, что сказать». Она быстро возразила, что все идет правильно. На самом деле она была счастлива молчанию, она бы предпочла, чтобы я вообще ничего не говорил. Может быть как бессловесный аналитик я буду ближе к ее предыдущему психоаналитику, которого, и пациентка понимала это, она никогда не устанет ждать и разыскивать. Она всегда будет ждать, что он вернется и скажет: «Молодец!» или что-то подобное. Это будет длится и после того, как она забудет, как он выглядел. Я думаю, для нее это значило вот что: он погрузился ниже субъективного уровня и слился с тем, что она обрела, пока у нее была мама, до того как она стала замечать ее недостатки как матери, — то есть ее отсутствие.
Выводы
В этой сессии мы охватили все пространство между субъективным и объективным, а завершили ее небольшой игрой. Пациентка собиралась отправиться по железной дороге в свой загородный дом и сказала: «Что ж, я думаю было бы лучше, если вы присоединились ко мне, хотя бы на половину дороги». Она говорила о том, что покидает меня и как много, на самом деле, это для нее значит. Сейчас мы расстанемся всего на неделю, это репетиция расставания на летние каникулы. Также было сказано, что после того, как она уедет, все это очень скоро станет уже не так серьезно. Так что, сойдя с поезда на полпути, я «поспешно вернулся назад», а она посмеялась над моей идентификацией в области материнства, добавив: «Это было бы очень утомительно — куча детей, и все виснут на вас, повсюду вас подкарауливают, злятся на вас, но так вам и надо».
(Хочу быть правильно понятым, здесь не было идеи, чтобы я ее
реально сопровождал).
Прежде чем уйти, она сказала: «Знаете, когда я отправилась в эвакуацию [во время войны], мне кажется
я ехала посмотреть, может, мои родители там. Кажется, я верила, что найду их там». (Это значит, что родителей точно не нашли у себя в доме.) В результате ей понадобился год или два, чтобы найти ответ. Ответ был — их не было там, и
это было реальностью. Она еще сказала про плед, которым так и не воспользовалась: «Вы в курсе, не правда ли, что плед очень удобная вещь, но реальность важнее комфорта, значит, когда
пледа нет может быть куда более важно, чем когда
плед есть».
Этот фрагмент иллюстрирует, как важно помнить о различиях явлений в терминах их положения в поле между внешней (разделенной между людьми) реальностью и истинной фантазией.
2. Сны, фантазии и жизнь: история случая первичной диссоциации
В этой главе я вновь попытаюсь показать, какие тонкие качественные различия существуют между различными видами фантазирования. Я рассматриваю именно фантазирование и вновь привлекаю материал терапевтической сессии, в которой контраст между сном и фантазией был не только существенным, но, я бы даже сказал, центральным
[5]. Рассматриваемый случай — история женщины средних лет, у которой в процессе анализа постепенно раскрывалась вся степень разрушительного влияния фантазий, чего-то, что мешало ей жить. Сейчас уже стало совершенно ясным, что для нее существенно различались фантазирование и различного рода мечты, с одной стороны, и реальная жизнь и отношения с реальными вещами — с другой. С неожиданной ясностью оказалось, что сновидение и жизнь — явления одного порядка, в отличие от мечты. Сны соотносятся с объектными отношениями в реальном мире, а как соотносится реальная жизнь — с миром сновидений, то объяснения различных способов этого взаимодействия изучены и известны, особенно психоаналитику. Фантазирование, напротив, остается изолированным феноменом, отнимающим энергию, но ничего не вкладывающим ни в сновидения, ни в реальную жизнь. Фантазирование оставалось в некотором роде статичным на протяжении всей жизни пациентки, с самого раннего возраста; паттерн закрепился уже, когда ей было два-три года. Это стало заметным даже раньше, а началось, вероятно, с «лечебного сосания пальца».
Другое качество, по которому различаются эти два ряда феноменов, состоит в том, что тогда как большая часть сновидений и реальных чувств подвержены вытеснению, недоступность фантазии — совершенно другой тип явлений. Недоступность фантазирования связана с диссоциацией, а не с вытеснением. Постепенно, по мере того как пациентка становится целостной личностью и теряет ригидные диссоциации, она начинает отдавать себе отчет
[6] в том, насколько всегда были жизненно важны для нее фантазии. Одновременно с этим фантазирование превращается в воображение, связанное и со сновидениями, и с реальностью.
Качественные различия могут быть необычайно тонкими и сложными для описания, тем не менее, большое различие вносит наличие или отсутствие диссоциированного статуса. Например, во время сеанса терапии моя пациентка сказала, увидев в окно кусочек неба: «Я взобралась на эти розовые облака и гуляю». Это, конечно же, может быть воображаемым полетом. Возможно, это проявление того, как воображение, подобно предмету сновидения, обогащает жизнь. В то же время, для моей пациентки это может являться частью диссоциированного статуса и не станет осознанным в том смысле, что невозможно остаться целостным человеком, осознавая более двух диссоциированных статуса одновременно. Сидя в своей комнате и не делая абсолютно ничего, кроме естественного процесса дыхания, пациентка (в своем воображении) нарисовала картину, сделала что-то интересное на работе или совершила прогулку на природе, но с точки зрения стороннего наблюдателя не произошло ничего. На самом деле, ничего и не могло произойти, поскольку в состоянии диссоциации одновременно и непрерывно происходят множество различных событий. С другой стороны, она могла сидя у себя в комнате думать о завтрашней работе, строить планы, обдумывать каникулы, и это могло быть воображаемым исследованием мира и той области, где сон и жизнь — одно и то же. Так она балансирует на грани между болезнью и здоровьем.
Заметим, что фактор времени действует по-разному, в зависимости от того, работает ли фантазия или воображение пациентки. В фантазии все происходит молниеносно или не происходит вообще. В психоанализе между этими похожими состояниями проводят различие, так как аналитик, который работает с этим, всегда знает признаки определенной степени диссоциации, когда эти состояния переходят одно в другое. Часто различие между ними невозможно выяснить лишь на основании вербализации того, что происходит в голове пациента, и оно теряется при аудиозаписи сессии.
В данном случае имел место выдающийся талант артистического самовыражения, пациентка достаточно знала жизнь, знала, что поезд ушел, знала что с самого начала у нее не было шансов. Она, это неизбежно, всегда будет разочарованием для самой себя и для всех родственников и друзей, которые надеются на нее. Она чувствует, что когда люди надеются на нее, они всегда чего-то ждут от нее, а это затрагивает ее внутреннюю неадекватность. Для пациентки все это было причиной глубокой обиды и печали. И есть множество оснований для предположения о том, что если бы она не обратилась за помощью, то появилась бы реальная опасность самоубийства, просто потому, что она сама оказалась бы просто ближайшей жертвой. Когда она попадает в некоторою близость к преступлению, пациентка начинает защищать свой объект таким образом, что на этом этапе у нее появляется импульс убить саму себя и таким способом покончить со своими проблемами посредством реализации своей собственной смерти и завершения проблем. Суицид не решение, а только прекращение борьбы.
У подобных случаев всегда чрезвычайно сложная этиология, но попробуем коротко сказать что-нибудь о раннем детстве пациентки, сказать что-то действительно достоверное. Ясно, что паттерн взаимоотношений с матерью сформировался в ее первые годы жизни, в тот самый период, когда отношения слишком рано и неожиданно изменились от удовлетворяющих ребенка к разрушению иллюзий, отчаянию, потере надежды в объектных отношениях. Этот же паттерн можно описать относительно взаимоотношений девочки с отцом. Когда мать потерпела неудачу, отец пытался как-то исправить ситуацию, но в конце концов тоже оказался заключенным в этом паттерне, который уже сформировался у ребенка. Существенной ошибкой отца оказалось то, что он думал о ней как о потенциальной женщине и игнорировал ее потенциальную маскулинность
[7].
Самой простой способ описать источники этого паттерна у пациентки, это взглянуть на нее как на маленькую девочку, младшую среди остальных детей в семье. Эти дети в основном были предоставлены сами себе, частично потому, что казалось, будто они вполне способны сами себя развлекать, придумывать игры и управляться все лучше и лучше. Эта младшая девочка, когда она пришла в детский сад, обнаружила, что находится в мире, который уже был организован и упорядочен. Она была очень интеллектуально одаренной и так или иначе смогла приспособиться. Но она никогда не стала по-настоящему членом группы как со своей точки зрения, так и на взгляд других детей, так как ее адаптация основывалась только на соответствии, но не на участии. Она не получала удовольствия от игр просто потому, что девочка просто старалась сыграть любую отведенную ей роль, и другие чувствовали нехватку вклада с ее стороны. Скорее всего, однако, старшие дети не понимали, что на самом деле их сестра отсутствует. С точки зрения моей пациентки, как мы обнаружили, играя в игры других людей, она
все время была вовлечена в фантазирование. Она действительно жила в этих фантазиях, возникших на основе диссоциации умственной активности. Эта ее диссоциированная часть никогда не охватывала ее всю целиком, и довольно долго ее защита состояла в том, чтобы жить в этой фантазийной деятельности, а на себя, играющую в игры других детей, смотреть как на какого-то другого ребенка в группе детского сада.
Посредством диссоциации, усиленной серией значимых фрустраций, когда ее попытки быть таковой, какая она есть, целостной личностью, оказались безуспешными, в ней появилась одна особенность: ее жизнь фактически стала диссоциированной, в то время как всем остальным казалось, что она играет с детьми в детском саду. Диссоциация никогда не была полной, и сказанное мной о взаимоотношениях этого ребенка с сиблингами, наверное, нельзя применить полностью, хотя какая формулировка содержит достаточно правды, чтобы признать ее полезной для описания подобных явлений.
По мере того как моя пациентка взрослела, она научилась создавать такое жизненное пространство, в котором никакие реальные события не были особо значимыми для нее. Постепенно она стала одной из тех людей, которые не чувствуют, как существуют целостные человеческие существа. Она училась в школе, затем работала, но параллельно в это же время шла другая жизнь, о которой она и не догадывалась, воспринимая жизнь, исходящую из ее диссоциированной части. Другими словами, это значит, что ее жизнь была отделена от ядра, главной части ее личности, которая жила тем, что стало определенным последствием фантазирования.
Исследуя жизненный путь этой пациентки, можно выявить множество способов, посредством которых она пыталась собрать вместе разрозненные части своей личности, но эти попытки всегда содержали в себе некоторый протест, что приводило к дисгармонии с социумом. Все это время у нее было достаточно сил и здоровья, чтобы раздавать обещания, заставлять своих родных и друзей верить, что она сможет сделать карьеру или, по меньшей мере, наступит день, когда она будет довольна своей жизнью. Однако выполнить это обещание было невозможно, поскольку (как мы с ней вместе мало-помалу мучительно обнаружили) она по-на-стоящему существовала лишь тогда, когда вообще ничего не делала. Мы отнесли это «ничего-не-делание» к деятельности, подобной сосанию пальца. Позже это приняло форму непреодолимо частого курения и различных надоедающих и навязчивых игр. Ни эти, ни какие-либо другие пустые занятия не радовали ее. Они лишь заполняли пустоту, которая и была этим существенным состоянием ничего-не-делания, в то время как пациентка занималась любым делом. Она очень боялась этого в течение анализа, так как ей казалось, что эти факты приведут ее прямиком в психиатрическую клинику, где она проведет всю оставшуюся жизнь лежа на койке, в бездействии, неподвижно, не владея собой, но все же в непрестанном фантазировании, в котором ее всемогущество никуда не делось и она может достичь потрясающих вершин, оставаясь личностью в диссоциированном состоянии
[8].
Как только пациентка начала делать что-то практическое, например, рисовать или читать, она столкнулась с барьерами, не позволившими ей чувствовать удовлетворение, ведь она простилась со всемогуществом, которое удерживала в своих фантазиях. По смыслу это можно отнести к принципу реальности, но в случае с этой пациенткой правильнее будет сказать, что в структуре ее личности действительно имела место диссоциация. Поскольку она была здорова и в определенные моменты вела себя как целостная личность, постольку она была вполне способна справляться с фрустрациями, относящимися к принципу реальности. А в состоянии болезни этих способностей и не требовалось, поскольку она не встречалась с реальностью.
Попробую проиллюстрировать состояние пациентки с помощью двух из ее сновидений.
Два сновидения
1. Она находилась в комнате, заполненной людьми. Она знала, что выходит замуж; за какого-то мерзавца. Он был одним из тех мужчин, которые никогда ей не нравились. Она повернулась к своему соседу и сказала: «Этот мужчина — отец моего ребенка». Таким образом она, с моей помощью, на этой поздней стадии психоаналитической терапии открыла самой себе, что у нее есть ребенок, она смогла сказать, что этому ребенку около десяти лет. На самом деле у нее не было детей, а в этом сне она увидела, что у нее уже много лет есть дитя, которое благополучно подрастает. Кстати, это объясняет одно из ее замечаний на более ранней сессии, когда она спросила: «Скажите, я действительно одеваюсь слишком по-детски, учитывая мой неюный возраст?» Другими словами, она была очень близка к пониманию того, что должна одевать и этого ребенка и саму себя, свою «самость» среднего возраста. Она сказала мне, что ребенок — девочка.
2. Во время сессии, прошедшей на неделю раньше, мы обсуждали другой сон, в котором она почувствовала сильнейшую обиду на свою мать (к которой она (потенциально) преданно и нежно относится) из-за того, что, как это представилось во сне, ее мама лишила свою дочь, то есть пациентку, ее собственных детей. То, что она увидела такой сон, показалось пациентке очень странным. Она сказала: «Забавно, что здесь я выгляжу так, как будто хочу ребенка, тогда как в своем сознании я убеждена в том, что лучшая защита для ребенка — вообще не быть рожденным на свет». Она добавила: «Похоже, у меня появилось неосознанное ощущение, что некоторые люди находят жизнь не такой уж и плохой».
Конечно, как в истории любого случая, из этих снов можно вычленить еще много полезной информации, но я опускаю то, что не проливает непосредственно свет на исследуемую проблематику.
Сон пациентки о мужчине, отце ее ребенка, был дан без тени осуждения и без связей с чувствами. Пациентка начала приближаться к своим чувствам лишь через полтора часа после начала сессии. За оставшиеся до окончания сеанса полчаса она испытала волну ненависти к своей матери, которая предстала перед ней в новом качестве. Это было ближе к убийству, чем к ненависти, и она почувствовала, что ненависть подступила гораздо ближе, чем это бывало прежде, и стала чем-то другим. Теперь пациентка понимала, что тот мерзавец, отец ее ребенка, возник затем, чтобы скрыть от ее матери, что он был отцом пациентки, мужем ее матери, и одновременно отцом ребенка пациентки. Это означает, что пациентка была очень близка к ощущению, что собственная мать убила ее.
Здесь мы действительно имели дело со сновидением и жизнью, а не затерялись в фантазиях.
Эти два сновидения приведены для того, чтобы показать, как то, что прежде было заключено в стабильности фантазии, сейчас осуществляется в сновидении и в жизни — двух феноменах, во многом совпадающих. Таким образом, для пациентки постепенно становилась все яснее разница между грезами и сном (который действителен), и она смогла ясно показать это различие аналитику. Заметим, что творчество в игре близко к сновидению и к жизни, а не к фантазированию. Таким образом, значимое различие начинает появляется в концепции двух типов феноменов, хотя остается трудным что-либо утверждать или ставить диагноз в каждом конкретном случае.
Пациентка сформулировала вопрос так: «Когда я прогуливаюсь по розовому облаку, это мое воображение украшает мою жизнь или это то, что вы называете фантазированием, которое случается, когда я не делаю ничего, и которое заставляет меня почувствовать, что меня не существует?»
С моей точки зрения, работа на этой сессии дала важный результат. Мне стало ясно, что фантазии мешают активной деятельности и жизни в реальном, внешнем мире, но гораздо сильнее они нарушают сны и персональную, внутреннюю реальность, ядро жизненной силы личности.
Будет полезно ознакомиться с двумя следующими сессиями анализа этой пациентки.
Все началось со слов пациентки: «Вы говорили о пути, в котором фантазирование препятствует сновидению. Этой ночью я проснулась около полуночи — и вот я лихорадочно черчу, выкраиваю, прикидываю, работая над моделью платья. Я почти закончила работу и была возбуждена. Это было сном или фантазией? Я понимала все, что происходило, но я не спала».
Мне этот вопрос показался трудным, ведь он как раз находится на границе в любой попытке человека разделить фантазию и сон. Здесь уже включается психосоматика. Я сказал пациентке: «Мы действительно не знаем этого!» Я сказал это просто потому, что это — правда.
Мы поговорили о том, насколько фантазирование неконструктивно и пагубно для пациентки, как оно мешает ей чувствовать себя хорошо и заставляет болеть. Конечно, самостоятельное продвижение по этому пути ограничило активность пациентки. Она рассказала, что часто слушает по радио не музыку, а разговоры, пока раскладывает пасьянс. Это переживание и работает на диссоциацию, и пользуется ею, что дает пациентке почувствовать возможность интеграции, краха диссоциации. Я указал на это пациентке, и она сразу же нашла пример. Она сказала, что пока я говорил, она перебирала руками молнию на сумке: почему именно с этой стороны? как она не удобно застегивается! Она почувствовала, что это занятие (диссоциированная активность) сейчас куда более важно для нее, чем сидеть и слушать, что я скажу. Мы вместе переключилась на эту тему, пытаясь связать фантазирование и сновидение. Внезапно ее озарила
догадка. Она сказала, что та фантазия значила следующее: «Так это то, о чем
вы думаете». Она пыталась представить мою интерпретацию сна как глупость. Несомненно, это был сон, а когда она проснулась, он превратился в эту фантазию, и она пыталась донести до меня, что не спала во время этого фантазирования. Она сказала: «Нам нужно другое слово, не сон и не фантазия». Тут же она сообщила, что уже «отлучилась на работу, к тем делам, которые там происходят», а теперь снова здесь, пока говорит мне об этом, и она чувствует диссоциацию, как будто бы она не в своем теле. Она вспомнила, как читала стихи, но ничего не понимала. Она заметила, что когда тело так вовлечено в фантазирование, это приводит к сильнейшему напряжению, которое никак не выходит. Это заставляет беспокоиться о своем здоровье — предчувствовать закупорку коронарных сосудов, высокое артериальное давление или язву желудка (которая у нее уже есть). Она так стремится найти то, что заставит ее заниматься делом, использовать каждую минуту, уметь сказать: «Сейчас, а не завтра». Можно сказать, что она заметила отсутствие психосоматического оргазма
[9]. Пациентка продолжала рассказывать о том, что попыталась как можно лучше заранее спланировать свои выходные, но все равно часто не могла отличить фантазирование, которое парализует деятельность, от реального планирования, которое должно предшествовать любому делу. Это было для нее запредельным дистрессом, потому что пренебрежение со стороны ее ближайшего окружения парализовывало ее активность, от чего она страдала.
На концерте в школе дети пели песенку «Солнечный круг, небо вокруг» («The skies will shine in splendour») точно так же, как пела она сорок пять лет назад, и ей было интересно, будет ли кто-нибудь из этих детей гак же, как она, ничего не знать о небе и ярком солнечном свете из-за того, что навсегда погрузился в какую-нибудь форму фантазирования.
В конце мы вновь вернулись к обсуждению сна, о котором она рассказала в начале сессии (кройка платья), увиденном, когда она бодрствовала, и который стал защитой от сновидения («Как об этом она узнала?»). Фантазирование овладело ею как злой дух. Она пошла дальше — ей было необходимо самой владеть собственной персоной, контролировать себя. Внезапно она с ужасом осознала, что эта фантазия была не сном, и я увидел, что она не понимала этого раньше. Это было так: она проснулась, и вот она как сумасшедшая шьёт платье. Как будто она сказала мне: «Вы думаете, я могу видеть сны. Нет, вы ошиблись!» С этого момента я мог обратиться к эквиваленту сна, к сновидению о пошиве платья. Первое время мне даже казалось, что я могу сформулировать различия между сном и фантазией в контексте психотерапии этой пациентке.
Эта фантазия просто о том, как она шила платье. Платье не несет никакого символического значения, это просто платье, и не более чем платье. В сновидении, напротив, и она помогла мне это увидеть, та же самая вещь действительно приобретает символическое значение. Мы это проверили.
Область бесформенного
Ключевое слово, которое нам напомнило сновидение, — это
бесформенность, то есть состояние материи до того, как она разложена на части, порезана, облечена в форму и вновь собрана. Другими словами, в сновидении это комментирует ее собственную личность, ее самоорганизацию. Сон будет лишь в некоторой степени о платье. Более того; она обретет надежду на то, что можно как-то обойти эту бесформенность. Эта надежда возникнет из ее доверия к аналитику, который должен был противостоять и справляться со всем тем, что она вынесла из собственного детства. В детстве окружающие не могли позволить ей оставаться бесформенной, а могли и, как она ощущала, считали должным придавать ей форму, кроить из нее куски, задуманные другими людьми
[10].
Перед самым окончанием сеанса был момент, когда она испытала сильнейшее чувство, связанное с представлением, что, когда она была ребенком, рядом не было никого (с ее точки зрения), кто бы понял, что она оказалась в области бесформенного. Как только она это осознала, пациентка страшно разозлилась. Если у этой сессии и был терапевтический результат, он главным образом происходил из этого прилива сильного гнева, гнева, относящегося к конкретной вещи, не к безумному, а логически мотивированному.
Во время ее следующего визита, следующей двухчасовой сессии, пациентка сообщила, что очень многое сделала за время, прошедшее с предыдущей сессии. Конечно, она волновалась, когда говорила о том, что я мог принять за прогресс. Она нашла главное слово — идентичность. Большую часть этой длинной сессии заняло описание ее занятий, среди которых были уборка, которая откладывалась месяцами и даже годами, а также творческая работа. Несомненно, много из того, что делала, она сделала в свое удовольствие. Однако все это время она демонстрировала сильный страх потери идентичности, как будто это может вывернуть наружу все ее паттерны, показать, что вся ее взрослость наиграна, что ее прогресс ради аналитика и по пути, заданному аналитиком, — тоже игра.
День был жарким, пациентка устала: она откинулась на кресло и уснула. Сегодня она подобрала себе одежду, пригодную и для работы, и для визита ко мне. Она проспала около десяти минут. Проснувшись, она продолжала говорить о своих сомнениях в достоверности того, что она в действительности делала дома и даже в свое удовольствие. Важным результатом ее сна было то, что она почувствовала, что что-то не так — она не запомнила сновидений. Это было, как если бы она просто спала, отдыхала, вместо того чтобы видеть сны для анализа. Мое замечание о том, что она заснула просто потому, что хотела спать, было облегчением для пациентки. Я сказал, что сновидения — это просто то, что происходит, когда вы спите. Теперь она почувствовала, что сон был очень ей полезен. Она захотела поспать еще, а когда проснулась, она чувствовала себя более реальной и почему-то не помнящей никаких сновидений, которые уже не имели никакого значения. Если не фокусировать взгляд, то ты будешь знать, где находятся предметы, но не будешь их видеть, и пациентка говорила о том, что ее разум сейчас именно в таком состоянии. Он расфокусирован. Я сказал: «Но во сне разум не сфокусирован ни на чем, кроме тех сновидений, которые можно перенести в реальность после пробуждения и рассказать о них». Я вспомнил слово бесформенность из предыдущей сессии и применил его для обозначения грез вообще, по контрасту со сновидениями.
Оставшаяся часть сессии прошла очень продуктивно — пациентка ощущала реальность и сама работала над проблемой, вместе со мной — ее аналитиком. Она продемонстрировала очень хороший пример того, насколько велико число непредвиденных случайностей в тех фантазиях, которые парализуют деятельность. Это стало путеводной нитью, которую она дала мне для понимания сновидения.
Фантазия имеет отношение, допустим, к каким-то людям, которые пришли и вселились в ее (пациентки. —
Прим. пер.) квартиру. Вот и все.
Сон о том, что пришли люди и вселились в ее квартиру будет связан с тем, что она находит в самой себе новые способности и возможности, а также с тем, что она получает удовольствие, идентифицируясь с другими людьми, включая своих родителей. Это противоположно чувству оформленности по образцу и позволяет идентифицироваться с другими, не теряя при этом собственной идентичности. Зная большой интерес моей пациентки к поэзии, я нашел вполне подходящий язык для поддержки своей интерпретации. Я сказал, что фантазия — всегда об определенной вещи и это тупиковая ситуация,
в ней нет поэтической ценности. Соответствующее сновидение, однако,
содержит в себе поэзию, значения слой за слоем связаны с прошлым, настоящим и будущим, внутренним и внешним и всегда характеризуют суть ее личности. Это поэзия сновидения, которая отсутствует в ее фантазиях, поэтому я не могу дать осмысленную интерпретацию ее фантазиям. Я даже никогда не пытался использовать материал фантазий, которых дети в латентном периоде могут производить в любом количестве.
После сделанной нами работы пациентка стала глубже осознавать и понимать, а главное, чувствовать символизм сновидения, отсутствующий в ограниченной области фантазирования.
После этого она совершила несколько экскурсов в воображаемые планы на будущее, которые, кажется, сулили грядущее счастье, отличное от сосредоточенного здесь-и-теперь удовлетворения в фантазировании. Все это время мне необходимо было быть особенно осторожным в словах, и я указал ей на это, чтобы не выглядеть радостным за нее, за то, как она изменилась, за все, что она сделала; она бы тогда быстро почувствовала, что я вогнал ее в свои рамки, а за этим последует максимальный протест и возвращение к стабильности фантазий, пасьянсам и другим соответствующим рутинным занятиям.
Она, задумавшись, спросила: «А что было в прошлый раз?» (Эта пациентка никогда не запоминает предыдущую сессию, даже если, как в данном случае, была очень эмоционально задета.) У меня наготове было слово бесформенность, которое полностью вернуло ее в прошлый сеанс, к мыслям о материале для платья, которые были еще до того, как она его скроила, к ее идее о том, что никто и никогда не понимал ее потребности исходить из бесформенного. Она повторила, что сегодня уставшая, и я указал ей, что и усталость — уже что-то, это не ничего. В некотором роде это было контролем над ситуацией: «Я устала, я посплю». То же самое она чувствовала в своей машине. Она устала, но не легла спать, потому что вела автомобиль. А здесь она могла поспать. Внезапно ей открылась захватывающая возможность быть здоровой. Она сказала так: «Я могу отвечать сама за себя. Контролировать то, что происходит, использовать воображение свободно, но благоразумно».
Надо было сделать за эту сессию еще одну вещь. Она подняла вопрос игры в пасьянс, который называла трясиной, и просила помочь ей понять, что это значит. Используя то, что мы сделали вместе, я мог сказать, что пасьянс — форма фантазирования, тупик, и я здесь ничего не могу сделать. Если бы она рассказала мне о сновидении «Мне приснилось, как я раскладываю пасьянс», я могу этим воспользоваться и даже дать интерпретацию этого сна. Я сказал бы: «Ты борешься с Богом или с судьбою, иногда выигрывая, а иногда оставаясь в проигрыше, с целью владеть судьбами четырех королевских семей». Ей не потребовалась помощь, чтобы продолжать самой, и чуть позже она сказала: «Я четыре часа раскладывала пасьянс в своей пустой комнате, комната действительно пуста, поскольку пока я раскладываю пасьянс, меня не существует». И тут же добавила: «Так что стоит быть заинтересованной в самой себе».
В конце ей не хотелось уходить, не из-за того, что ей было грустно оставлять единственного человека, с которым можно поговорить, как это было в прошлый раз, а потому, что возвращаясь домой она могла бы почувствовать себя более здоровой и менее больной, то есть менее ригидно фиксированной на защитах. Сейчас, вместо умения предсказать все, что произойдет, она уже не смогла сказать, пойдет ли она домой делать то, что собиралась, или ею опять завладеет пасьянс. Ясно было, что она испытывает ностальгию по четкости и определенности паттерна болезни и ее очень тревожит неопределенность, которая сопутствует свободе выбора.
В конце этой сессии мне стало ясно, что предыдущая сессия имела глубокий и сильный эффект.
С другой стороны, я слишком хорошо понимал, как опасно было бы продемонстрировать тогда уверенность и даже радость. Нейтральная позиция аналитика была необходима здесь, да и во всем процессе лечения. В работе такого рода мы знаем, что всегда готовы начать заново, и чем меньше мы ждем, тем лучше.
3. Игра[11]: теоретические положения
В этой главе я разрабатываю идею, которая воздействовала и воздействует на меня самого, — через мою работу, через мое собственное развитие в настоящее время, — что, несомненно, придает моей работе специфическую окраску. Моя работа, преимущественно психоанализ, разумеется, включает и психотерапию, но для целей этой главы я не считаю нужным явно разделять эти термины.
Подойдя вплотную к формулированию тезиса, я понял, что, как это часто бывает, все очень просто и для освещения этого предмета не нужно много слов.
Психотерапия — там, где перекрываются пространство игры пациента и пространство игры терапевта. Психотерапия — это когда два человека играют вместе. Следовательно, там, где игра невозможна, работа терапевта направлена на то, чтобы перевести пациента из состояния, когда он не может играть, в состояние когда он может это делать.
Хотя я не собирался давать обзор литературы, я все же хочу отдать должное работе Милнер (Milner, 1952, 1957, 1969), которая блестяще писала о проблеме формирования символов. Однако я не хочу, чтобы ее глубокое и всестороннее исследование отвлекало от моего собственного понимания проблем игры. Милнер (1952) связывает детскую игру с концентрацией у взрослых:
«Когда мне стало ясно… что эта необходимость моего присутствия может являться не защитной регрессией, но выступать как очередная существенная фаза построения творческих отношений с миром…»
Милнер обращается к
«дологическому слиянию субъекта и объекта». А я пытаюсь найти различия между этим слиянием и слиянием диффузным, между субъективным объектом и объектом, воспринятым объективно
[12]. Я уверен, что в моей работе будет очень много общего с тем, что сделала Милнер. Приведу еще одно ее положение:
Мы изучим изначального творца, который находится внутри каждого из нас и создавшего для нас окружающий мир.
«Моменты, когда творец, изначально присутствующий внутри каждого из нас, создает для нас окружающий мир, находя в незнакомом близкое нам, впоследствии забываются; а может быть, останутся в потайных уголках нашей памяти, потому что это так похоже на пришествие богов в обыденное мышление» (Милнер, 1957).
Игра и мастурбация
Есть одна вещь, от которой я сразу хотел бы избавиться. В психоаналитических дискуссиях и литературе тема игры слишком вплотную привязана к мастурбации и различным вариантам чувственного опыта. Действительно, когда мы сталкиваемся с мастурбацией, мы всегда задумываемся: что такое фантазия? Также верно и то, что когда мы становимся свидетелями игры, мы начинаем интересоваться, какое физическое возбуждение связано с наблюдаемым типом игры. Но игра может стать предметом исследования сама по себе, в дополнение к теории сублимации инстинктивных влечений.
Вполне возможно, мы упускаем что-то, связывая так близко эти два феномена (игру и мастурбацию). Я постарался показать, что когда ребенок играет, элемент мастурбации существенно нивелируется; или, другими словами, если во время игры ребенка физическое возбуждение инстинктивной природы становится явным, игра останавливается или, во всяком случае, нарушается (Winnicott, 1968а). Для того чтобы охватить данные подобного рода, Крис (Kris, 1951) и Шпиц (Spitz, 1962) оба предприняли расширение концепции аутоэротизма (ср.: Кан (Khan), 1964).
Я стремлюсь к новому определению игры, и меня это интересует, так как в психоаналитической литературе я не нахожу приемлемых и пригодных формулировок относительно игры. Детский психоанализ любой школы или направления базируется на детской игре, и было бы странно обнаружить, что в поисках хорошего определения игры мы обращаемся к авторам, не являющимся психоаналитиками (например, Ловенфельд (Lowenfeld), 1935).
Конечно же нельзя не обратиться к работам Мелани Кляйн (1932), но я полагаю, что в своих работах Кляйн, если и писала про игру, то почти все о пользе игры. Терапевт включается в коммуникации ребенка и знает, что обычно ребенок не владеет командами языка, с помощью которых можно передать те тонкости, которые обязательно обнаруживаются в игре при внимательном наблюдении. Это ни в коем случае не критика в адрес Мелани Кляйн и других авторов, которые занимались функциями детской игры. Это просто комментарий по поводу того, что в общей теории личности психоаналитики слишком упирают на содержание игры ребенка и не занимаются игрой как таковой. Я делаю значительное различие между значением существительного слова «игра» и существительного, произошедшего от слова «играние» (с начала третьей главы переводится как «игра». —
Прим. пер.).
Все, что я говорю об игре детей, на самом деле относится и ко взрослым, только там все сложнее, ведь основной материал, поступающий от пациента — это речевые сообщения. Я полагаю, работая со взрослыми пациентами, мы должны быть готовыми увидеть игру также явно, как это происходит в работе с детьми. Она сама дает 6 себе знать, например, в подборе слов, интонации голоса и конечно же в чувстве юмора.
Феномен перехода
Значение игры приобрело для меня новые оттенки с тех пор, как я начал заниматься феноменом перехода, отслеживая все мельчайшие изменения, начиная с раннего употребления переходного объекта и заканчивая наивысшими стадиями, когда человек приобретает способность к переживанию культурного опыта.
Я думаю, что вполне уместно сейчас обратить внимание на великодушие, проявленное в психоаналитических кругах и во всем психиатрическом мире по поводу моего описания переходного феномена. Меня заинтересовало то, что мои идеи были подхвачены именно в области ухода за детьми, и иногда я чувствую, что получил большую награду за эти идеи, чем заслуживал. То, что я назвал феноменом перехода, — универсальное явление, и я обратил внимание на его потенциал в плане построения теории. Вульф (Wulff, 1946), как мне удалось обнаружить, уже писал об объектах-фетишах у младенцев и детей. Я знаю, что в психотерапевтической клинике Анны Фрейд (Anna Freud) тоже изучали эти объекты. Анна Фрейд говорила и о талисмане, феномене тесно связанном с переходным (ср.: А. Фрейд, 1965). А.А. Милн (A.A. Milne), конечно же, увековечил Винни-Пуха. Среди других авторов — Шульц (Schulz) и Артур Миллер (Arthur Miller), и я специально ссылаюсь и называю те объекты, которые использовали они.
Счастливая судьба концепции переходного феномена подтолкнула меня к мысли о том, что мои идеи по поводу игры тоже могут оказаться вполне приемлемыми. Я собираюсь сказать про игру что-нибудь такое, чего еще не было в психоаналитической литературе.
В главе о культурном опыте и его локализации (глава 7) я конкретизировал свои идеи по поводу игры, заявив, что
у игры есть место и время. Она не
внутри в самом широком смысле этого слова (в психоаналитических дискуссиях слово «внутри», и это действительно так, имеет очень много очень разных значений). Она и не
извне, то есть это не часть отвергаемого мира «не-Я», который индивид пытается осознать (со всеми трудностями и даже страданиями) как действительно внешний мир, который не подчиняется магическому контролю. Для того чтобы контролировать то, что извне, нужно что-то
делать, а не просто думать или хотеть,
а действия требуют времени. Игра — это действие.
Время и пространство игры
Для того чтобы дать игре место, я постулировал наличие
потенциального пространства между младенцем и матерью. Это потенциальное пространство сильно — варьируется в зависимости от жизненного опыта ребенка в его отношениях к матери или к материнской фигуре, и я противопоставляю это потенциальное пространство а) внутреннему миру (который связан с психосоматическим взаимодействием); и б) фактической, или внешней, реальности (которая имеет собственные измеряемые характеристики, может быть изучена объективно, и, хотя может показаться, что в зависимости от состояния наблюдателя она серьезно изменятся, на самом деле остающаяся константной).
Сейчас я могу переформулировать то, что пытался объяснить выше. Я отказываюсь от последовательности психоанализ — психотерапия — игровой материал — игра и предлагаю построить ее вновь, но по-другому. Другими словами,
игра — универсальна, и это признак здоровья; игра облегчает взросление, а следовательно, и здоровье; игра вовлекает в групповые взаимоотношения; игра может стать формой коммуникации в психотерапии; и последнее, психоанализ развивался как высоко специализированная форма игры, используемая для коммуникации с самим собой и другими.
Игра — самая естественная вещь, в то время как психоанализ — самый изощренный феномен двадцатого столетия. Психоаналитик должен ценить не только постоянные напоминания о наследии Фрейда, но и то, чем мы обязаны такой естественной и универсальной вещи, как игра.
Едва ли есть необходимость иллюстрации для такой очевидной вещи, как игра; тем не менее я собираюсь привести два примера.
Эдмунд, два с половиной года
Мама пришла ко мне поговорить о своих проблемах, а Эдмунда привела с собой. Пока я разговаривал с его мамой, Эдмунд находился в моей комнате, и я поставил между нами стол и маленький стульчик для Эдмунда, которые он мог использовать по своему усмотрению. Он выглядел серьезным, а не испуганным или подавленным. Он спросил: «А где игрушки?» Больше, за этот час, Эдмунд не произнес ни слова. Несомненно, ему сказали, что будут игрушки; я велел ему поискать в другом конце комнаты на полу у книжного шкафа.
Заполучив полное ведерко игрушек, он играл очень сосредоточено и неторопливо, пока я консультировал его маму. Мама смогла точно выделить значимый момент в жизни Эдмунда, когда ему было два года и пять месяцев. В этот период Эдмунд начал заикаться, после чего он перестал говорить, «потому что заикание его пугало». Мы с мамой Эдмунда находились в консультативной ситуации по поводу сына и ее собственных проблем, а Эдмунд в это время выставил на стол несколько вагончиков игрушечного поезда, расставлял их, прицеплял друг к другу и возил друг за другом. Он был всего в двух футах от своей матери. Через некоторое время он забрался к матери на колени и некоторое время вел себя как младенец. Мама отреагировала и естественно и адекватно. Потом он сам слез и вновь принялся играть за столом. Все это происходило, пока мы с его мамой были глубоко погружены в серьезный разговор.
Спустя примерно двадцать минут мальчик начал оживляться и пошел в другой конец комнаты за новой порцией игрушек. Несмотря на тамошний беспорядок, он отыскал и принес клубок веревки. Мама (несомненно задетая его выбором, но не осознающая символики) заметила: «Большая часть невербальной активности Эдмунда — в том, что он постоянно цепляется за меня, ему нужно постоянно быть в контакте с моей
настоящей грудью и
настоящими коленями». В тот период, когда у него началось заикание, Эдмунд уже начал уступать, но вместе с заиканием к нему вернулось и недержание мочи, а затем последовала и потеря речи. В то время когда происходила консультация, он только-только начинал вновь взаимодействовать с окружающими. Мать рассматривала это как часть процесса выхода из регрессивного этапа в развитии сына.
Отмечая особенности игры Эдмунда, я поддерживал общение с его мамой.
Эдмунд так увлекся игрушками, что начал пускать пузыри изо рта. Веревочки просто заворожили ею. Его мама заметила, что, будучи младенцем, он отвергал все, кроме груди, пока не вырос настолько, чтобы пользоваться чашкой. «Он не выносит суррогатов», — сказала она, имея в виду, что он никогда не стал бы пить из бутылочки; и неприятие никаких заместителей стало устойчивой чертой характера мальчика. Даже бабушку, мать его мамы, от которой он без ума, Эдмунд полностью не принимает из-за того, что она не настоящая мама. Всегда только мама укладывает его спать. Когда он родился, у мамы были проблемы с грудью и первые недели ему приходилось изо всех сил деснами цепляться за грудь, не отпуская. Его поведение вызывало у матери прилив нежности, н возможно, именно это защитило ее от болезненного негативного ощущения себя. В десять месяцев у него уже появились зубы и он пробовал кусать грудь, но не до крови.
«С ним было не так легко, как с первым моим ребенком».
Все это требовало времени, и постоянно всплывали другие вопросы, которые мать мальчика хотела обсудить со мной. Эдмунд в это время что-то делал с кончиком веревки, который высовывался из клубка. Иногда он делал движения, как будто бы он «подключает» кончик веревки, как электрический шнур, к маминой ноге. Было заметно, что хотя он «не выносит суррогатов», мальчик использовал веревку как символ своего единства с матерью. Ясно, что веревка выступает одновременно как символ сепарации и единения с матерью через коммуникацию.
Мама рассказала, что у мальчика был переходный объект по имени «мое одеяльце» — ему годилось любое одеяло с атласной обивкой, похожей на обивку оригинала, который был в самом раннем младенчестве.
В этот момент Эдмунд довольно легко и естественно оставил игрушки, забрался на кушетку и как маленькая зверушка пополз к матери и свернулся у нее на коленях. Он оставался в таком положении около трех минут. Ее ответная реакция была очень естественной, не преувеличенной. Потом он вышел из этой свернувшейся позы и вернулся к игрушкам. Теперь он складывал веревку (которая ему безумно нравилась) на дно ведерка наподобие подстилки и начал укладывать туда игрушки, так что они лежали в чудесном мягком гнездышке, похожем на детскую люльку. Он еще раз вскарабкался на маму, опять вернулся к игрушкам и уже был готов идти домой, и мы с его мамой тоже закончили беседу.
В этой игре мальчик продемонстрировал многое, о чем говорила его мама (хотя она говорила и о себе тоже). Он сообщал нам о приливах и отливах внутри него, которые швыряют его прочь от зависимости и обратно. Так как я работал с его матерью, это не было психотерапией. Эдмунд просто показывал, что происходило в его жизни, пока мы с его мамой разговаривали между собой. Я ничего не интерпретирую и должен заключить, что этот ребенок играл бы точно так же, если бы никого не было и никто бы не смог получить его сообщение, а в данном случае это могло быть сообщением, содержащим «Я» ребенка, «Я»-наблюдающее. Когда это происходило, я был лишь зеркалом, и в соответствии с наблюдением квалифицировал это как сообщение (ср.: Winnicott, 1967b).
Диана, пять лет
Во втором случае, как и в примере с Эдмундом, мне пришлось вести две консультации одновременно — говорить с матерью, находившейся в состоянии тяжелейшего стресса, и играть с ее дочерью Дианой. Ее младший брат (он остался дома) страдал умственными нарушениями и врожденной сердечной недостаточностью. Мама пришла поговорить о влиянии этого брата на нее саму и на дочь Диану.
Мое общение с мамой длилось час, и девочка все время была с нами. Поэтому моя задача была утроенной: уделять все свое внимание матери из-за ее собственных проблем, играть с ребенком и (в целях написания данной книги) фиксировать природу игры Дианы.
Собственно говоря, именно Диана взяла на себя инициативу с самого начала: только я открыл входную дверь, чтобы впустить ее маму, вперед вырвалась маленькая девочка, которая держала перед собой маленького мишку. Не взглянув ни на маму, ни на девочку, я устремился прямо к игрушке и спросил: «Как его зовут?» Она ответила: «Просто Мишка». Между Дианой и мной очень быстро возникла сильная взаимосвязь, и мне нужно было поддерживать ее, для того чтобы делать свою основную работу — удовлетворять потребностям мамы. Диане все время консультации, конечно же, требовалось чувствовать, что мое внимание направлено на нее, но мне удалось и уделить маме необходимое ей внимание, и поиграть с Дианой тоже.
В описании этого случая, как и в примере с Эдмундом, я остановлюсь на том, что произошло между Дианой и мной, и опущу подробности консультации матери девочки.
Мы все втроем вошли в консультативную комнату и начали устраиваться: мама села на кушетку, Диана — на маленький стульчик у детского столика. Диана взяла своего маленького мишку и запихнула мне в нагрудный карман. Она пыталась понять, насколько глубоко он провалился, и стала изучать подкладку моего пиджака. Тут она ужасно заинтересовалась разными карманами и тем, что они никак не связаны друг с другом. Все это происходило, пока мы с мамой вели серьезный разговор про больного и отсталого ребенка двух с половиной лет, и Диана сказала:' «У него в сердце дырка». Можно сказать, что, пока Диана играла, она слушала лишь вполуха. Мне показалось, что она способна принять физическую (вследствие дыры в сердце) неполноценность брата, в то время как обнаружить его умственную отсталость для нее не доступно.
В игре, которую мы вели вместе с Дианой, игре без всякой терапии, мне легко было быть шаловливым и веселым. Детям легче играть, когда другой человек умеет играть и делает это свободно и радостно. Неожиданно я приложил ухо к мишке в моем кармане и произнес: «Он что-то сказал!» Ей стало все это очень интересно. Я сказал: «Я думаю, он; хочет с кем-нибудь поиграть» и рассказал ей, что у меня есть пушистая овечка, которую она сможет найти, если посмотрит в другом конце комнаты в куче игрушек под книжными полками. Может быть, мой скрытый мотив состоял в том, чтобы избавиться от мишки в моем кармане. Диана принесла овечку, которая оказалась откровенно крупнее, чем медвежонок, ей явно приглянулась моя идея дружбы между ними. На некоторое время она поместила мишку и овечку вместе на кушетке, рядом с ее мамой. Конечно же я продолжал беседу с ее мамой и заметил, что Диана сохраняла заинтересованность в том, о чем мы говорили, но только какой-то своей частью, той, что идентифицируется со взрослыми людьми и их установками.
Диана играла, как будто бы эти два существа были ее детьми. Она положила их под одежду и таким образом стала беременна ими. После некоторого периода беременности она сообщила, что они уже собираются рождаться, но это «будут не двойняшки». Она ясно показала, что овечка должна родиться раньше, чем мишка. После завершения родов она уложила двух своих новорожденных детей на кроватку, которую устроила на полу, и укрыла их. Поначалу она уложила их на разные концы кровати, говоря, что лежа вместе рядом они могут подраться. Они могут «столкнуться на середине кровати под покрывалом и подраться». Затем она мирно уложила их спать вместе на импровизированной кровати. И тут же отправилась и принесла кучу игрушек в корзине и в нескольких коробках. Она разложила игрушки на полу вокруг изголовья игрушечной кровати и играла. Игра была достаточно упорядоченной и включала несколько разных тем, каждая из-которых разыгрывалась отдельно. Тут подключился я со своей новой идеей. Я сказал: «Ой, смотри! Пока твои дети спят, ты кладешь вокруг их голов сны, которые они видят». Эта идея заинтриговала девочку, и, подхватив ее, она продолжала развивать эти различные темы, как будто бы видела сны для своих детей — их сны. Все это дало мне и ее маме время, так необходимое нам для работы. Примерно тогда ее мама плакала и была очень взволнована, и Диана уже была готова забеспокоиться и испугаться, только ждала момента. Я сказал ей: «Мама плачет, потому, что думает о твоем больном брате». Это убедило Диану, поскольку было высказано прямо и в соответствии с реальными фактами; она произнесла «дырка в сердце», а затем вернулась к своему занятию — видеть сны для своих спящих детей.
Итак, здесь была Диана, которая не приходила на консультацию со своими проблемами, не нуждается в специальной помощи, а просто играла со мной и сама по себе и одновременно была полностью привязана к состоянию матери. Мне показалось, что ее мама испытывала нужду в том, чтобы привести с собой Диану. Из-за того, что у нее больной сын, она чувствовала сильнейшее беспокойство и поэтому слишком боялась остаться со мной один на один. Позже мама пришла ко мне сама, ей уже не было нужно отвлекать внимание на ребенка.
Когда я позже встретился с одной мамой, без ребенка, мы смогли вспомнить и проанализировать то, что происходило, когда она пришла с Дианой. Мама смогла сообщить важную деталь: отец девочки пользуется ранним взрослением Дианы и ему больше нравится, когда она похожа на маленького взрослого. В нашем материале налицо тенденция в сторону опережения норм развития личности, идентификация с матерью и участие в ее проблемах, что является следствием актуальности болезни и умственной неполноценности младшего брата.
Окидывая взглядом произошедшее, я прихожу к выводу о том, что Диана специально готовилась до того, как решила прийти, хотя беседа была организована не для нее самой. Из того, что мне рассказала ее мама, я заключил, что Диана готовилась к встрече со мной так, как будто бы знала, что идет к психотерапевту. Прежде чем отправиться ко мне, она взяла своего первого игрушечного медвежонка, а также готова была принести свой, уже брошенный, переходный объект. Последний она не принесла, но была готова организовать что-то типа регрессивного опыта в ее игровой деятельности. В то же время, мы с ее мамой стали свидетелями способности Дианы идентифицироваться с матерью не только в связи с беременностью, но также и в том, чтобы брать ответственность и преодолевать проблемы, связанные с братом.
Здесь, как и у Эдмунда, игра обладала качеством самоисцеления. В обоих примерах результат был сравним с психотерапевтической сессией, когда сюжет игры периодически прерывается интерпретацией терапевта. Психотерапевт мог бы и воздержаться от активного участия в
игре с Дианой, как я это сделал, когда сказал, что мишка что-то говорит, и когда говорил про сны Дианиных детишек, разыгранные на полу. Но такая самодисциплина могла исключить некоторые творческие аспекты игрового опыта Дианы.
Я выбрал эти два примера просто потому, что вспомнил именно эти два следовавших друг за другом случая из моей практики однажды утром, когда я занимался написанием работы, на которой базируется данная глава.
Теория игры
Рассмотрим последовательность взаимоотношений, возникающих в процессе развития ребенка, и увидим, куда относится игра.
А. Младенец и объект сливаются друг с другом. Ребенок видит объект субъективно, и мама ориентирована на то, чтобы знакомить ребенка с теми элементами окружающего мира, которые он готов обнаружить.
Б. Объект отвергнут, вновь принят и воспринят объективно. Этот комплексный процесс сильно зависит от готовности мамы или материнской фигуры (лицо, обладающее качествами матери) участвовать в процессе и возвращать ребенку то, что он отбрасывает.
Это означает, что мама (или ее часть) находится в промежуточной позиции, будучи тем объектом, который ребенок способен воспринять, или (напротив) ожидающим, когда же он ее обнаружит.
Если мама справляется с этой ролью и какое-то время не допускает, скажем, никаких помех и препятствий для ребенка, то младенец получает некий
опыт магического контроля, переживания, которое в описании интрапсихических процессов называют «всемогуществом» (ср.: Winnicott, 1962).
Когда мама хорошо справляется (когда она способна делать это) с этим трудным делом, доверие ребенка растет. В этом состоянии младенец начинает радоваться тому, что он испытывает, сочетая внутреннее всемогущество и реальный контроль над объектами. Доверие к матери создает здесь промежуточную игровую площадку, где зарождается идея магии, с того момента как ребенок начинает в некотором роде
переживать всемогущество. Все это непосредственно касается работы Эриксона (Erikson) по формированию идентичности (Erikson, 1956). Здесь зарождается игра, и поэтому я называю это пространство игровой площадкой. Игровая площадка является потенциальным пространством между матерью и ребенком, или, другими словами, скрепляет их.
Игра — безмерно захватывающее дело. И не только
потому, что подключаются врожденные инстинкты, давайте поймем это раз и навсегда! Что всегда можно сказать об игре — там не обеспечивается взаимодействие между индивидуальной психической реальностью и опытом контроля над реальными объектами. В этом и ненадежность магии как таковой, магии самых близких отношений, то есть тех взаимоотношений, которые должны быть надежными. Для того чтобы быть надежными, взаимоотношения обязательно должны быть мотивированы любовью матери, или ее любовью-ненавистью, или ее объектными отношениями, а не ее сформированными реакциями. Когда пациент не может играть, терапевт, прежде чем интерпретировать фрагменты поведения, должен заняться этим основным симптомом.
В. Следующая стадия — одиночество в присутствии другого человека. Теперь ребенок строит игру на том основании, что любящий и, следовательно, надежный человек доступен и остается в досягаемости, если его вспомнить, после того как забыл про него. Ребенок чувствует, что этот человек дает отражение тому, что происходит в игре
[13].
Г. Сейчас ребенок уже готовится к переходу на новую стадию, когда он позволяет двум областям игры перекрывать друг друга и получает от этого удовольствие. Во-первых, конечно же, это мама, играющая со своим малышом, но она довольно осторожна в том, чтобы приспосабливаться к игровой активности самого ребенка. Однако рано или поздно она предложит свою собственную игру и обнаружит, что ребенок по-разному реагирует на идеи, которые не являются его собственными, в соответствии со своей способностью отнестись к ним положительно либо отрицательно.
Таким образом, прокладывается путь к совместной игре во взаимоотношениях ребенка.
Оглядываясь на свои работы, я вижу, что в них отмечено и развитие моих собственных мыслей и понимания. Я вижу, что мой теперешний интерес к игре в доверительных взаимоотношениях, которые могут развиваться между матерью и ребенком, всегда был характеристикой моих консультативных техник, как и в следующем примере из моей первой книги (Winnicott, 1931). И позже, десять лет спустя, я детально исследовал эту проблему в работе «Наблюдение за детьми в рамках консультативной ситуации» («The Observation of Infants in a Set Situation», 1941).
Показательный случай
Девочка впервые попала в больницу, когда ей было шесть месяцев, с инфекционным гастроэнтеритом средней тяжести. Она была первым ребенком в семье, вскармливание — грудное. Вплоть до шести месяцев у нее были запоры, которые затем прекратились.
В семь месяцев она вновь оказалась в больнице, так как стала подолгу лежать без сна и плакать.
После кормления ее тошнило, ей не нравилось сосать грудь. Из-за этого ей было прописано добавочное вскармливание, и отнятие от груди было завершено в течение нескольких недель.
В девять месяцев у нее впервые был припадок, и дальше они случались время от времени, обычно в 5 утра, где-то через четверть часа после пробуждения. Припадки были двусторонние и длились пять минут.
В одиннадцать месяцев припадки участились. Мама обнаружила, что может предупредить возникновение припадка, отвлекая внимание ребенка. Однажды ей пришлось делать это четыре раза за одни день. Ребенок стал нервным, вздрагивал при малейшем звуке. Один припадок случился во сне. Во время одних припадков она прикусывала язык, а в других случаях — мочилась.
В годовалом возрасте у нее было по четыре-пять припадков в день. Было замечено, что после кормления она могла сесть, а потом согнуться пополам и забиться в припадке. Ей давали апельсиновый сок, и она отключалась. Или ее сажали на пол, и начинался припадок. Однажды утром она проснулась, и сразу же случился припадок, после чего она сразу же уснула обратно; вскоре она снова проснулась и снова испытала припадок. С этого момента за припадками стала следовать сонливость, стремление лечь спать, но даже на этой тяжелой стадии матери часто удавалось остановить припадок в самом начале, отвлекая внимание ребенка. Тогда же я сделал следующую запись:
«Когда девочка сидит у меня на коленях, она непрерывно плачет, но без враждебности. Она плакала и одновременно небрежно дергала из стороны в сторону мой галстук. Отданная обратно маме, она не обращает на это внимание и продолжает плакать, плакать все сильнее и жалостливее, все время пока ее одевали и вплоть до того момента, как ее забрали из здания».
Тогда же я был свидетелем припадка, отмеченного тонической и клонической фазами, за которым последовал сон. У ребенка было четыре-пять припадков в этот день, она плакала весь день, несмотря на то, что спала ночью.
Внимательное изучение не обнаружило никаких признаков физических заболеваний. Бромид давали вовремя, в соответствии с потребностью.
На одной из консультаций я осматривал девочку, она была у меня на коленях. Она попыталась незаметно укусить меня за костяшки пальцев. Через три дня девочка вновь оказалась у меня на коленях, и я ждал, что же она сделает на этот раз. Она куснула косточку на моем пальце три раза, да так болезненно, что даже содрала кожу. После этого она играла, бросая на пол лопаточку, не отрываясь от этого занятия примерно пятнадцать минут. Все это время она плакала, как будто бы она на самом деле очень несчастна. Через два дня она провела у меня на коленях полчаса. За прошедшие два дня у нее было четыре припадка. Поначалу она, как обычно, заплакала. Она снова очень больно укусила меня за палец, но в этот раз продемонстрировала чувства вины, а потом стала играть в кусание и швыряние лопатки;
сидя у меня на коленях она стала способной получать удовольствие от игры. Через некоторое время она начала трогать свои ступни, так что я разул ее и снял с нее носки. В результате какое-то время она была полностью захвачена экспериментированием с собственными пальцами ног. Это выглядело так, как будто бы она впервые открывает, а потом вновь и вновь доказывает, к ее величайшему удовлетворению, тогда как лопатку можно взять в рот, выкинуть прочь и потерять, собственные пальцы на ногах снять нельзя.
Через четыре дня пришла мама и рассказала, что после прошедшей консультации ее дочь — «другой ребенок». У нее не только не было припадков, она еще и хорошо спит ночью, а днем все благополучно и она не принимала бромид. Через одиннадцать дней улучшение сохранялось без лекарств; в течение четырнадцати дней не было ни одного приступа, и мама попросила выписать ее дочь.
Я еще раз смотрел этого ребенка через год и узнал, что с той последней консультации ее симптомы прекратились насовсем. Я обнаружил вполне здорового, веселого, умного и дружелюбного ребенка, который очень любит играть и свободен от так распространенных сейчас тревог и страхов.
Психотерапия
Перед нами та область, где перекрываются игра самого ребенка и игра другого человека, которую есть возможность обогатить. Улучшить стремится учитель. Терапевт, напротив, занимается процессами роста самого ребенка и устранением преград на пути развития, которые могут проясниться. Для того чтобы понимать, что это за преграды, и придумана
психоаналитическая теория. В то же время полагать, что психоанализ — единственный способ использовать игру ребенка в терапевтических целях, — значит очень узко смотреть на вещи. Никогда не забывайте, что игра сама по себе является терапией. Позаботиться о том, чтобы дети сами могли играть — уже психотерапия, которая имеет прямое и универсальное применение, включая формирование позитивной социальной установки по отношению к игре. Эта установка должна включать осознание того, что игра всегда может стать пугающей, страшной. Нужно смотреть на организацию игры и на сами игры хотя бы частично как на попытку предотвратить пугающие проявления игры. Когда ребенок играет, ответственный за него взрослый всегда должен быть рядом, но это не значит, что он должен включаться в игру. Когда организатор занимает в игре позицию руководителя, последствия ясны: ребенок или дети не будут способны играть творчески, в моем понимании этого термина.
Главное из того, что я хочу донести: игра это переживание, всегда творческое переживание, и это переживание, находящееся в пространственно-временном континууме, это базовая форма жизни.
Ненадежность, непостоянство игры связано с тем, что она всегда находится на теоретической линии между субъективным и объективно воспринимаемым.
Моя цель сейчас — просто напомнить, что игра сама по себе уже содержит все, что происходит с ребенком, несмотря на то, что психотерапевт может влиять на сам материал, содержание игры. Конечно, в заданной, условной терапевтической ситуации в поведении ребенка проявляются более предсказуемые сочетания, чем если бы он играл дома в детской и ничем не был ограничен (ср.: Winnicott, 1941). Но мы начинаем лучше понимать нашу работу, когда знаем, что ее основа — это игра пациента, творческое переживание во времени и пространстве и чрезвычайно реальное для самого пациента.
Также наблюдения помогают понять, как можно проводить глубинную психотерапию, не занимаясь интерпретацией. Хороший пример — работа Экслайн (Axline, 1947) из Нью-Йорка. Ее психотерапевтическая работа обладает необычайной важностью для нас всех. Особенно я ценю работу Экслайн потому, что она непосредственно связана с тем, что я отмечал в протоколе «терапевтической консультации». А именно, мы совпали в том, что на самом деле значимый момент наступает тогда, когда;
ребенок удивляет сам себя (саму себя). А не тогда, когда я даю свою умную интерпретацию (Winnicott, 1971).
Интерпретация неполного материала — это внушение, с которым пациент вынужден соглашаться, которому вынужден соответствовать (Winnicott, 1960a). А вывод один: интерпретация вне пространства совместной игры пациента и терапевта вызывает сопротивление. Когда пациент не способен играть, интерпретация просто бесполезна, а может и нарушить психотерапевтический процесс. Если же игра объединяет терапевта и пациента, то и интерпретация в соответствии с принятыми психоаналитическими принципами может продвинуть работу. Чтобы психотерапия работала,
эта игра должна быть свободной, спонтанной, без уступок и подчинения.
Резюме
1. Чтобы понять идею игры, полезно задуматься об
увлеченности, которая свойственна игре маленьких детей. Содержание не имеет значения. Важно состояние, близкое к уходу в себя, похожее па сосредоточение у старших детей или взрослых. Играющий ребенок осваивает и обживает пространство, которое ему нелегко будет оставить и так же сложно будет впустить туда кого-то другого.
2. Это игровое пространство не относится к внутренней, психической реальности. Оно вне индивида, но также и не является внешним миром.
3. В этом игровом пространстве ребенок собирает объекты или явления из внешнего мира, чтобы применить их в обращении с элементами, извлеченными из своего внутреннего мира. Ребенок извлекает некий набор воображаемых возможностей, и это не галлюцинация; он живет с этими мечтами, окружая их некоторыми элементами внешнего мира.
4. В игре ребенок манипулирует внешними явлениями для обслуживания своей мечты и вносит в выбранные внешние явления чувства и смыслы из своего воображаемого мира.
5. Развитие идет непосредственно от феномена перехода к игре, затем к совместной (разделенной между индивидами) игре и далее к переживаниям, связанным с культурой.
6. Игра предполагает доверие и лежит в потенциальном промежутке между младенцем и материнской фигурой (как это бывает с самого начала), от которой ребенок зависит практически абсолютно, материнской фигурой, доказавшей ребенку свое адаптивное функционирование.
7. Игра вовлекает тело:
1) поскольку происходит манипулирование объектами,
2) из-за того что определенные типы усиленного внимания и заинтересованности связаны с определенным телесным возбуждением.
8. Телесное возбуждение в эротогенных областях всегда угрожает игре, а следовательно, является угрозой чувству ребенка, что он существует как личность. Инстинктивные влечения — главная угроза для игры, как и для «Я» ребенка (ср.: Кан' (Khan), 1964).
9.
Игра, по сути дела, приносит удовлетворение. Даже когда приводит к повышению уровня тревожности. Но если тревожность достигает нестерпимо высокого уровня, происходит разрушение игры.
10. Элементы игры, доставляющие удовольствие, одновременно характеризуются тем, что инстинктуальное возбуждение не достигает своего пика; возбуждение, поднявшееся выше определенного уровня, должно вести к:
1) оргазму;
2) несостоявшемуся оргазму, замешательству и физическому дискомфорту, от которого можно избавиться лишь по истечении определенного времени;
3) альтернативный оргазм (провоцирование реакций окружающих — гнева родителей и т. п.).
Можно сказать, что у игры есть собственный уровень насыщения, зависящий от способности удерживать и овладевать опытом.
11. Игра по своему существу — волнующее и рискованное дело. Эта характеристика вытекает
не из инстинктуальиого возбуждения, а из шаткости и непостоянства во взаимодействии субъективного (близкого к галлюцинации) и объективно воспринимаемого (актуального, разделенного между людьми) в голове ребенка.
4. Игра: творческая активность и поиск самого себя
Сейчас я хочу обсудить очень важную характеристику игры — в игре, а возможно, только лишь в игре, ребенок или взрослый обладает свободой творчества. Это утверждение представляется мне как развитие концепции феномена перехода. Здесь принимается в расчет самая сложная часть теории переходного объекта: возникновение парадокса, который необходимо принять, позволить ему быть, но оставить неразрешенным.
Далее здесь важно отметить следующую деталь теории: нужно разобраться, где же собственно локализована игра; я развиваю эту тему в главах 3, 7 и 8. В этой концепции важно следующее: поскольку внутренняя психическая реальность обладает качеством локализации — в уме, других внутренностях, голове или где бы то ни было внутри персональных границ индивида, а то, что называют внешней реальностью, находится за этими границами, следовательно, игра и культурный опыт также могут быть локализованы, если использовать концепцию потенциального пространства, разделяющего мать и ребенка. В соответствии с опытом и историей развития разных людей, детей и взрослых, мы должны признать чрезвычайную ценность этого потенциального пространства для личности и ее развития. Я вновь буду обращаться к этим идеям в главе 5, и там я уделю внимание тому факту, что невозможно описать эмоциональное развитие индивида только в терминах индивидуальных процессов. Эта область развития, пожалуй, основная среди тех, где поведение социального окружения является частью индивидуального процесса развития личности и, следовательно, тоже должно быть включено в описание. Будучи психоаналитиком, я обнаружил, что эти идеи влияют на мою работу без угрозы: я уверен в моей верности главным идеям психоанализа, которым мы учим своих студентов и на которых стоит преподавание психоанализа, мы верим тому, что пришло к нам от Фрейда (Freud).
Я совершенно сознательно не берусь сравнивать психотерапию и психоанализ, и тем более не пытаюсь искать те определения этих процессов, которые бы демонстрировали разницу между ними. Я вижу достоверным следующий общий принцип:
психотерапия работает на стыке двух областей игры — пациента и психотерапевта. Терапевт, не способный играть, не годен для этой работы. Если пациент не может играть, необходимо предпринять что-то, что даст ему возможность начать делать это (играть), после чего можно начинать психотерапию. Причина такой существенной значимости игры состоит в том, что в игре пациент креативен.
Поиск самого себя
В этой главе речь пойдет о поиске самого себя (самости), и я хочу снова повторить, что для успеха этого поиска необходимы некоторые условия. Эти условия связаны с тем явлением, которое обычно называют креативностью. Будь то взрослый или ребенок, в игре и только лишь в игре они способны к творчеству, способны задействовать всю личность в целом; а только будучи способен творить, индивид может раскрыть свою самость.
(С этим связан и тот факт, что только в игре возможно общение, за исключением непосредственной связи, которая относится к психопатологии, либо к крайней степени незрелости.)
В клинической практике очень частый случай — человек очень хочет получить помощь, он пытается найти себя в продуктах собственного творчества. Но чтобы помочь таким пациентам, мы должны понимать, что такое креативность сама по себе. Мы могли бы, посмотрев на младенца, сразу же представить ребенка, который пытается что-то сделать из своих фекалий или похожей субстанции. Этот тип креативности вполне понятен и достоверен, но необходимо отдельно исследовать креативность как качество жизни, всего жизненного процесса в целом. Я полагаю, что поиск самости, который ведется исходя из того, что можно делать с отходами, неудачами поиска, обречен на то, чтобы никогда не кончиться и не иметь успеха.
Личность, которая ищет саму себя, может сделать что-то очень ценное для искусства, но успешный художник (в широком смысле этого слова, любой представитель искусства. —
Прим. пер.) может получить всеобщее признание, при всем этом не обретя все еще самости, которую он или она ищет. На самом деле, невозможно обнаружить самость в том, что произвели твое тело или твой ум, хотя эти произведения могут оказаться ценными с точки зрения красоты, мастерства или влияния. Если художник (любым из способов) ищет самого себя, тогда можно утверждать, что по всей вероятности, он уже пережил некоторый неудачный опыт, связанный с творчеством в широком смысле. Сделанная творческая работа никогда не исцелит лежащий в ее основе недостаток ощущения самости.
Прежде чем развивать эту идею дальше, я хочу остановиться еще на одной теме, связанной с первой, но требующей отдельной работы, отдельного лечения. Она состоит в том, что человек, которому мы пытаемся помочь, ждет, что почувствует излечение, когда получит от нас объяснение ситуации. Этот человек может сказать: «Я понимаю, что вы имеете в виду; я являюсь самим собой когда чувствую, что способен творить и когда я совершаю творческий поступок, и теперь поиск закончен». Практически это ни о чем не говорит. В такой работе мы знаем, что даже правильное объяснение будет неэффективно. Этому человеку нужен новый опыт в специально заданных условиях. Опыт — это немотивированное состояние, можно сказать «топтание на месте» не интегрированной личности. В описании случая в главе 2 я ссылался на это как на бесформенность.
Необходимо принимать во внимание надежность или ненадежность тех условий, в которых действует индивид. Необходимо дифференцировать целенаправленную активность и, напротив, немотивированное существование, и это затрудняет дело. Похожую формулировку дал Бэлинт (Balint, 1968) относительно благоприятной и неблагоприятной регрессии (также см.: Кан (Khan), 1969).
Я стараюсь опираться на те основополагающие вещи, которые позволяют снять напряжение и чувствовать себя легко. В терминах свободного ассоциирования это означает, что надо позволить взрослому пациенту, лежащему на кушетке, или ребенку, сидящему на полу среди игрушек, проговаривать непрерывную последовательность идей, мыслей, стремлений, ощущений, связанных между собой, может быть, лишь на нейро- или физиологическом уровне, а может быть, эти связи находятся вообще вне пределов обнаружения. Скажем так: там, где есть целенаправленность или тревога, или там, где есть нехватка доверия, основанная на потребности в защите, аналитик сможет выявить и указать связь (или связи) между различными компонентами материала свободных ассоциаций.
Отсутствие напряжения, релаксация пациента, основанная на доверии и принятии терапевтической ситуации (будь это анализ, психотерапия, социальная работа, арт-методы и т. д.) как профессионально надежной, допускает возможность бессвязной последовательности мыслей пациента, и хорошо, если аналитик будет принимать это как есть, не строя предположения о связующих нитях между этими идеями (ср.: Милнер, 1957, особенно приложения, с. 148–163).
Контраст между этими двумя взаимосвязанными подходами можно продемонстрировать следующим образом. Представим себе пациента, который может дать себе отдых после работы, но
не способен достичь такого состояния покоя, в котором возможно какое-либо творческое достижение. Соответственно, свободное ассоциирование, в котором раскрывается явная, связная тема, уже находится под влиянием тревоги, и в ней сцепление идей между собой является защитной организацией. Возможно, мы должны принять, что некоторым пациентам необходимо, чтобы терапевт время от времени отмечал, что у человека в состоянии покоя в голове — абсурд, при этом пациенту не нужно специально сообщать об этом абсурде, то есть ему не нужно самому организовывать его. Организованный абсурд — это уже защита, так же как организованный хаос — это опровержение хаоса. Терапевт, не способный принимать и сообщать эту информацию, оказывается вовлеченным в напрасную попытку обнаружить в абсурде организацию, в результате чего пациент выпадает из области абсурда, чувствуя, что нет надежды донести, сообщить об этом абсурде. Таким образом, из-за потребности терапевта найти здравый смысл в абсурде, теряется благоприятная возможность для достижения спокойствия и расслабления. Пациент не может расслабиться из-за того, что разрушено его доверие к поддержке со стороны окружения. Терапевт, сам не догадываясь, предал свою профессиональную позицию тем, что лез вон из кожи, чтобы быть умным аналитиком и обнаружить в хаосе порядок.
Вполне возможно, что эти вещи находят свое отражение в двух типах сна, которые иногда обозначают как обычный сон и парадоксальный сон (быстрые движения глаз).
Чтобы дальше развивать предмет нашего обсуждения, мне понадобится сослаться на следующую последовательность событий:
а) релаксация (снятие напряжения) при условии, что есть доверие, основанное на опыте;
б) творческая, физическая и умственная активность, выраженная в игре;
в) суммирование этих переживаний — основа чувства самости.
Это суммирование или отражение зависит от того, приходит ли индивиду обратно сообщение со стороны терапевта (или друга), которому он доверяет, и который принял его (косвенное) сообщение. В этих высокоспециализированных условиях индивид может вступать в партнерские отношения и существовать как отдельная единица, не как нагромождение защит, а как переживание «Я ЕСТЬ, я живу, я — это я» (Winnicott, 1962). Это позиция, которая наделяет креативностью все и вся.
Пояснение к описанию случая
Сейчас я хочу подключить записи работы с женщиной, которая проходит у меня терапию и которая, как это обычно происходит, приходит один раз в неделю. До обращения ко мне она проходила длительное лечение — на протяжении шести лег пять раз в неделю. Эта женщина решила, что ей нужны занятия неограниченные по времени, но на это я мог пойти лишь раз в неделю. Довольно скоро мы сошлись на трехчасовой сессии, которая позже сократилась до двух часов.
Когда я представлю описание сессии надлежащим образом, читатель заметит, что я могу довольно долго воздерживаться от интерпретаций, а часто вообще не произношу ни звука. Это жесткое ограничение дало свои результаты. Я делал заметки, это помогает, когда встречи происходят раз в неделю, и обнаружил, что в данном случае это не разрушает работу. Также я часто записывал интерпретации, не произнося их, разгружая таким образом свой ум. Награда за сокрытие интерпретации — в том, что пациент сам приходит к этой интерпретации, но, может быть, на час-два позже.
Мое описание равносильно призыву к каждому терапевту — будьте внимательны к способности пациента играть, то есть проявлять творчество в аналитической работе. Терапевт, который слишком много знает, может с легкостью украсть креативность пациента. На самом деле, конечно, если терапевт знает многое, он может скрыть это или, во всяком случае, воздержаться от рекламирования собственных познаний.
Давайте я попытаюсь передать это чувство: работа с этим пациентом — на что это похоже, что это такое вообще. Но я прошу читателя проявить терпение, большее, чем понадобилось тогда мне самому.
Пример сессии
Сначала некоторые детали из жизни и мероприятия чисто утилитарные, бытовые: сон, который нарушается, когда она нервничает; книжки, чтобы уснуть, одна добрая и одна страшная; она устала, но очень возбуждена, нервничает, и не может успокоиться; частое сердцебиение, прямо как сейчас. Далее некоторые трудности с пищей: «Я хочу, чтобы я могла поесть
как только почувствую голод». (Кажется, что пища и книги приравнены друг другу в этом бессвязном речевом потоке).
«Когда вы звонили, я надеюсь, вы знали, что я слишком высокого роста» (с ликованием).
Я сказал: «Да, полагаю, я знал».
Описание фазы в некоторой степени ложного улучшения.
«Но я знала, что не права».
«Все выглядит так оптимистично, до тех пор пока я не начинаю осознавать ситуацию…»
«Депрессия и чувство разрушения и смерти — это мое, это не уходит, даже когда мне очень весело».
(Прошло полчаса. Пациентка то садилась в кресло, то устраивалась на полу или расхаживала по комнате.)
Длинное и неторопливое описание положительного и отрицательного в ее прогулке.
«Я не выгляжу способной БЫТЬ — не я смотрю на самом деле — есть экран — это как смотреть через очки — нет воображения в том, как ты смотришь. То, что младенец сам выдумывает материнскую грудь, — это только теория? Когда я прежде проходила терапию, однажды, когда я возвращалась домой после сессии, прямо надо мной летел в небе самолет. На следующий день я рассказала своему аналитику, что внезапно вообразила
себя самолетом, летящим высоко в небе. Потом он разбился о землю. Терапевт сказал мне: „Вот что происходит с вами, когда вы проецируете себя на вещи, и это создает катастрофу внутри вас“»
[14].
«Сложно вспомнить — не знаю, точно ли это. Я действительно не знаю, что я хочу сказать. Как будто внутри полная неразбериха, именно катастрофа».
(Уже истекли три четверти часа.) Теперь она смотрела в окно, около которого стояла все это время, и наблюдала за воробьем, который клевал хлебную корку и вдруг «схватил и понес крошку в гнездо или еще куда-то». Затем: «Ой, я сон вспомнила!»
Сновидение
«Какая-то студентка постоянно приносила мне свои рисунки. Как я могла сказать ей, что в работах нет никакого прогресса. Я подумала, что только оставаясь одной и встречая свою депрессию в одиночестве… Лучше мне не смотреть больше на этих воробьев — я не соображаю ничего».
(Сейчас она сидит на полу, положив голову на подлокотник кресла.)
«Я не знаю… но вы же видите, что здесь должно быть какое-то улучшение». (Подробности из жизни пациентки даны в пояснении.) «Это как будто не существует реальной меня. У подростков есть ужасная книга, называется
Возвращенная пустота. Именно так я себя чувствую».
(К этому моменту истек час.)
Она продолжила, заговорив о пользе поэзии — и процитировала стихотворение Кристины Розетта (Christina Rosetti) «Исчезновение» («Passing Away»).
«Моя жизнь закончилась циррозом». Затем мне: «Вы отобрали у меня Бога!»
(Длинная пауза.)
«Я просто выбрасываю на вас все, что приходит. Я не знаю, о чем я тут говорила. Я не знаю… Я не… Не знаю».
(Длинная пауза.)
(Вновь смотрит в окно. Пять минут — абсолютная тишина.)
«Несусь просто как облако по небу».
(Прошло уже примерно полтора часа.)
«Вы знаете, я рассказывала вам, что я на полу нарисовала пальцами картину, и как я сильно испугалась. Я не могу этим заниматься — рисованием пальцами. Я живу в грязи. Что мне делать? Хорошо ли
заставлять себя рисовать или читать? [Вздох.] Я не знаю… понимаете, мне не нравится пачкать руки при рисовании пальцами».
(Вновь положила голову на подлокотник.)
«Я не хочу приходить в эту комнату».
(Молчание.)
«Не знаю. Я чувствую себя пустым местом, как будто я ничего не значу».
Дополнительная деталь моей манеры обращения с нею, подразумевающая, что она сама не представляет никакого интереса.
«Я продолжаю думать, что какие-нибудь десять минут могут стоить всей моей жизни». (Связь с первоначальной травмой, еще не определена в точности, но постоянно прорабатывается.)
«Полагаю, что травмирующее воздействие должно было повторяться довольно часто, раз эффект такой глубокий».
Описание ее видения собственного детства в разном возрасте — как она старалась соответствовать всему, чего, она думала, от нее ждали, чтобы чувствовать, что она хоть что-то значит. Удачная цитата поэта Джерарда Манли Хопкинса (Gerard Manley Hopkins).
(Длинная пауза.)
«Это ужасно — чувствовать, что ты ничего ни для кого не значишь. Я никто… Нет Бога, и я — никто. Представьте, какая-то девушка прислала мне поздравительную открытку».
Тут я сказал: «Как если бы вы что-то значили для нее».
Она: «Возможно».
Я сказал: «Но вы ведь ничего не значите ни для нее, ни для кого-то другого».
Она: «Я думаю, понимаете, я принялась за поиски такого человека [для которого я что-то значу], который будет значим для меня и сможет видеть то, что вижу я, слышать то, что я слышу.
Может лучше сразу сдаться, я не понимаю… Я не…» (Рыдает на полу, уткнувшись в подлокотник кресла.)
Потом к ней вернулось свойственное ей самообладание, и пациентка поднялась с пола.
«Видите, на самом деле я до сих пор вообще не вошла в контакт с вами».
Я проворчал что-то утвердительное.
Замечу, что до сих пор мы имели дело с материалом моторной и сенсорной игры, по природе своей неорганизованной или лишенной формы (ср.: глава 2, с. 7), а чувство безнадежности и рыдания возникли за пределами этой области.
Она продолжала: «Это выглядит так, как будто какие-то другие два человека находятся совсем в другом месте и встретились впервые. Сидят на высоких стульях и ведут вежливый разговор».
(Во время сессии с этой пациенткой я как раз сидел на высоком стуле.)
«Ненавижу. Я плохо себя чувствую. Но это не важно, потому что это только про меня».
Мое дальнейшее поведение показывало: это только про нее, поэтому это совершенно не важно и т. д. и т. п.
(Пауза, вздохи, демонстрирующие чувство безнадежности и собственной никчемности.)
Момент осознания и включения (то есть примерно через два часа работы).
На данный момент уже начали происходить изменения. В первый раз на протяжении всей работы появилось полное впечатление, что
пациентка находится вместе со мной в комнате. Это была дополнительная сессия, которую я предложил в качестве компенсации за вынужденно пропущенную встречу.
Она сказала так, как будто обращалась ко мне в первый раз: «Мне приятно, что вы знали о том, что мне необходима эта встреча».
В этот раз речь пошла о специфических объектах ненависти. Она взялась за поиски цветных фломастеров, которые, как она знала, у меня имелись. Затем она взяла лист бумаги и
черный фломастер и сделала памятную открытку к своему дню рождения. Она назвала этот день своим «Днем Смерти».
Сейчас она присутствовала в комнате вместе со мной, была очень-очень настоящей здесь. Я опускаю детали текущих наблюдений, которые все были пронизаны ненавистью.
(Пауза.)
Теперь она начала вспоминать, оглядываясь на прошедшую сессию.
«Проблема в том, что я не могу вспомнить, что я говорила вам — или я разговаривала сама с собой?»
Интерпретационное вмешательство
Я тогда предложил интерпретацию: «Все, что когда-либо происходит, постепенно блекнет и исчезает. Ты умираешь миллионами смертей. Но если есть кто-то, кто сможет вернуть тебе то, что уже прошло, оно станет частью тебя и не погибнет»
[15]. Тут она достала молоко и спросила, можно ли ей попить.
Я сказал: «Пейте».
Она сказала: «Рассказывала ли я вам?..» (Тут она сообщила о своих положительных переживаниях и своих делах, которые сами по себе являются подтверждением ее реальности и существования в настоящем.) «Я чувствую, что установила с теми людьми какой-то контакт… хотя что-то здесь…» (вновь рыдания, уткнувшись в спинку кресла). «Где же вы? Почему я так одинока?.. Почему я ничего не стою?»
На этом этапе всплыли значимые детские воспоминания, посвященные подаркам на день рождения и их значению, важности, а также положительному и отрицательному опыту, связанному с днями рождения.
Здесь я опускаю очень много, поскольку чтобы представить это четко и вразумительно, нужно было бы давать новую фактическую информацию, в которой пет необходимости для данного изложения. Скажу, что все это послужило введением в нейтральное состояние — она присутствовала здесь, но последствия ее деятельности все еще оставались неопределенными и неясными.
«Я не чувствую, что я сделала… Я чувствую, что я впустую потратила время и ничего не сделала в эту сессию».
(Пауза.)
«Я себя чувствую так, как если бы я пришла, чтобы с кем-то встретиться, а никто не явился».
Здесь я поймал себя на том, что пытаюсь установить связи, принимая во внимание то, что некоторые моменты она просто забывает, ее потребность в том, чтобы детали были отраженны, и действие временного фактора. Я возвращал ей то, что она произносила, но решил сначала говорить исходя из того, что она рождена (из-за ее Дня Рождения-Смерти), а затем в соответствии с собственным поведением, как я многими путями показываю ей, что она ничего не значит.
Она продолжала: «Знаете, иногда ко мне приходит чувство, что я родилась… [отчаяние] Лучше бы этого вообще не произошло! Это просто мной овладевает — это совсем не похоже на депрессию».
Я сказал: «Если вы никогда и не существовали, то в этом нет ничего плохого».
Она: «Но ведь самое ужасное — это существование, которое отрицается, отвергается. Не было такого времени, чтобы я считала: как хорошо, что я родилась на свет! Всегда казалось, что было бы лучше, если бы я не родилась вовсе — но кто знает? Может, — я не знаю — дело вот в чем: когда кто-то не родился, там ничего не происходит, или там маленькая душа ждет чтобы запрыгнуть в тело?»
Здесь произошло изменение установки, что является признаком начавшего процесса принятия моего существования.
«Я не даю вам слово вставить, и продолжаю это делать».
Я сказал: «Сейчас вы хотите, чтобы я говорил, но боитесь, как бы я не сказал что-то доброе и хорошее».
Она сказала: «А у меня на уме было: „Не заставляйте меня хотеть Быть!“
[16] Это строчка из стихотворения Джерарда Манли Хопкипса».
«Я могу многое: надеяться, хотеть прихода нового дня и не выбирать смерть».
Мы поговорили о поэзии, о том, что для нее значат стихотворения, которые она знает наизусть, и как она жила от одного стихотворения до другого (как живут от сигареты до сигареты заядлые курильщики), не понимая смысла, не чувствуя, что постигла и почувствовала стихотворение. (Ее цитаты всегда были к месту, но обычно она не имела понятия об их значении.) Я предложил ей такую формулировку: «Бог — сам человек» или «Бог как я сам», полезную концепцию для человека, который не может стерпеть того, что он существует.
Она сказала: «Люди используют Бога в качестве аналитика — кто-то должен присматривать за тобой, пока ты играешь».
Я сказал: «Кто-то, для кого ты что-то значишь». И она возразила: «Я не могу сказать, кто именно, поскольку я не могу быть уверенной».
Я сказал: «Сказав это, я все испортил?» (Я боялся, что провалил очень хорошую сессию.)
Но она сказала так: «Нет! Это совсем другое дело, раз уж вы сказали это, потому что если я имею для вас значение…. я хочу делать то, что вам понравится… видите, иметь религиозное воспитание — это просто ад. Проклятие для хорошей девочки!»
В качестве самонаблюдения она заметила: «Этим подразумевается, что я
не хочу поправляться».
Вот пример интерпретации, сделанной самой пациенткой, которая была бы украдена у нее, если бы я провел интерпретацию раньше.
Я обратил внимание пациентки на то, что теперь для нее слово
хорошо будет означать быть
здоровой — то есть завершить анализ и все с этим связанное.
Теперь я мог, наконец-то, подключить сон — рисунки девушки не становились лучше —
негативное на них сейчас стало позитивным. То, что пациентка нездорова — это правда; нездоровье — это плохо; кажущееся улучшение было ложным, точно так же как вся ее жизнь была ложной попыткой быть хорошей, в известной степени втискивая себя в моральный кодекс семьи.
Она сказала: «Да, у меня есть инструменты — глаза, уши, руки, я никогда не я сама на все 100 %. Если я позволю моим рукам поискать, я могу найти меня — дотронуться до меня… но я не. могу. Мне пришлось бы блуждать часами. Я не смогу позволить себе продолжать».
Мы обсудили, как в разговоре с
самим собой не происходит отражения, если это отражение не переносится из разговора с
кем-то другим..
Она сказала: «Я пыталась показать вам
одинокую себя [первые два часа сессии], именно так я веду себя в одиночестве, но совсем без слов, как будто я не позволяю себе разговаривать с самой собой» (а это уже было бы сумасшествием).
Она продолжала говорить о том, как применяет зеркала, которых в ее комнате очень много, пытаясь найти в зеркалах кого-нибудь, кто смог бы стать зеркалом для нее, то есть отразить ее самость. (Она показала мне, что, хотя я присутствовал там, такого человека нет.) Так что я произнес:
«То, что вы ищете — это и есть вы сами»[17].
Сам я сомневаюсь в этой интерпретации, поскольку она несет некоторое незапланированное утешение. Я имел в виду то, что она существует в самом поиске, а не в его результатах.
Она сказала: «Мне бы не хотелось больше искать, а хотелось бы просто быть. Да, искание есть признак самости».
Вот теперь я мог напомнить ей инцидент, когда она была самолетом, и он разбился. В качестве самолета она могла Быть, а затем совершить суицид. Она приняла это с легкостью и затем добавила: «Но лучше бы я была и погибла, чем вовсе не Быть».
Вскоре после этого она смогла уйти. Дело было сделано. И замечу, что за пятьдесят минут здесь вряд ли можно было бы сделать эффективную работу. У нас было три часа — напрасных и полезных одновременно.
Если бы я мог привести и следующую сессию, было бы видно, что теперь нам уже понадобилось два часа, чтобы вновь достичь того уровня, до которого мы дошли в тот день (о котором она забыла). К тому же в экспрессии пациентки суммируется все то, что я пытался донести до нее. Она задала мне вопрос, и я сказал, что ответ на этот вопрос может вовлечь нас в длительный и интересный разговор, но это тот
вопрос, который интересует меня самого. Я сказал: «У вас было намерение задать вопрос».
После этого она произнесла именно те слова, которые были нужны мне, чтобы выразить то, что я имел в виду. Она говорила медленно, с глубоким чувством: «Да, я понимаю, что вопрос может убедить в существовании МЕНЯ точно так же, как поиск».
Сейчас она сделала главную интерпретацию: вопрос — это результат только креативности, творчества, которое заключалось в том, чтобы собраться после того, как напряжение снято, после релаксации, которая по своей сути противостоит интеграции.
Комментарий
Поиск можно начинать только от бессвязности и бесформенности или, возможно, с элементарной, зачаточной игры, как бы в нейтральной зоне. Только тогда, когда личность дезинтегрирована, может возникнуть то, что мы называем творчеством. Будучи отраженным, только будучи отраженным, творчество становится частью организованной личности, и в конечном счете именно это заставляет индивида быть, быть найденным; и в итоге он сам или она сама приобретает способность утвердить свое существование.
Отсюда главный отличительный признак психотерапевтической процедуры — создание благоприятных условий для переживания бесформенного и творческих импульсов, моторных и сенсорных, которые и составляют суть игры. А на базе игры полностью строится экспериментальное (основанное на опыте. —
Прим. пер.) существование человека. Весь опыт нашей жизни находится в поле переходного феномена, в этом захватывающем переплетении субъективности и объективности, и в промежуточной области между индивидуальным миром и разделенной между всеми людьми внешней реальностью.
5. Творчество и его истоки
Идея творчества
Надеюсь, что читатель примет мой общий подход к творчеству и это слово не потеряется за представлениями об успешной или популярной творческой деятельности, а сохранится его значение некоторого феномена, который окрашивает целостную позицию человека по отношению к внешней реальности.
Творческое постижение реальности лучше, чем что бы то ни было еще, заставляет человека чувствовать, что жизнь достойна того, чтобы жить. Обратными качествами обладает такое отношение к внешней реальности, как соответствие. В этом случае мир и его детали осознаются, но только лишь как рамки, в которые необходимо вписаться, или условия, к которым необходимо адаптироваться. Соответствие приносит индивиду ощущение пустоты и связано с идеями абсолютной бессмысленности и тщетности жизни. Многие люди обладают достаточным опытом жизни, наполненной творчеством, давшейся им с большими страданиями, чтобы осознать, что большую часть времени они далеки от реального творческого взгляда на мир, как будто они зависят от креативности другого человека или машины.
Этот второй путь проживания жизни в психиатрии называют болезнью. Так или иначе, наша теория включает убеждение в том, что творческая жизнь — это здоровое состояние, а соответствие — это ущербная основа для жизнедеятельности. Остается некоторое сомнение относительно того, насколько сильно влияние общей установки социума и философских взглядов нашего времени на формирование данного подхода, взгляда, которого мы придерживаемся в настоящее время и здесь в этой работе. В другом месте и в другое время этого подхода могло и не возникнуть.
Две альтернативы жизни — в творчестве и вне его — категорически противостоят друг другу. Моя теория была бы гораздо проще, если бы в каждом конкретном клиническом случае или ситуации можно было ожидать экстремального появления одной или другой альтернативы. Дело усложняется тем, что очень разнится степень объективности, на которую мы можем рассчитывать, рассматривая внешнюю реальность с позиции индивида. Объективность — понятие в некотором роде относительное, так как воспринятое объективно, по определению, в какой-то мере является и субъективным представлением
[18].
В то время как в данной работе объективная реальность является областью исследования, для многих людей она остается лишь субъективным (до некоторой степени) феноменом. Крайний случай — это галлюцинации, как эпизодические, так и генерализованные. Для этого состояния существует множество обозначений («помешанный», «нереальный», «нет земли под ногами», «на грани»), и в психиатрии таких людей относят к категории шизоидов. Известно, что такие люди могут быть ценными для сообщества, что они могут быть счастливы, но заметим, что всегда есть определенные затруднения и у них самих, и, особенно, у тех, кто живет с ними. Может быть, они видят мир субъективно и их легко обмануть, или, говоря иначе, твердо обосновавшись в большинстве аспектов жизни, они полностью дезориентированы в других, или же они могут вообще не быть структурированными относительно психосоматического взаимодействия, в связи с чем им приписывают слабую координированность. Иногда физическая немощь, например нарушение зрения или слуха, усугубляет ситуацию, создавая запутанную картину, когда невозможно ясно развести галлюцинаторное состояние и нарушения, проистекающие из физических дефектов. Крайняя ситуация в этом ряду явлений — когда человек становится пациентом психиатрической больницы, в стационаре или амбулаторно, с диагнозом шизофрения. В клинике нами не обнаружено
четкой границы между здоровьем и шизоидным состоянием, и даже между здоровьем и зрелой шизофренией. И для нас это очень важно. Пока мы осознаем наследственный фактор шизофрении и готовы рассматривать вклад физических болезней в каждом индивидуальном случае, мы будем относиться с подозрением к любой теоретической концепции шизофрении, в которой субъект оторван от проблем повседневной жизни и универсальных составляющих индивидуального развития в данном социальном окружении. Мы считаем поддержку социального окружения жизненно важной, особенно в самом начале, в детстве, поэтому нами было предпринято специальное исследование фасилитирующего социального окружения как с индивидуальной перспективы, так и с точки зрения его влияния на развитие человека, в случае, если подобная взаимосвязь присутствует (Winnicot, 1963b, 1965).
Человек может быть вполне удовлетворен жизнью, выполнять исключительно ценную работу, но при этом быть шизоидом или шизофреником* Такие люди больны с психиатрической точки зрения, так как у них нарушено чувство реальности. Чтобы уравновесить эту точку зрения, стоит напомнить, что есть и совсем другие люди — те, которые настолько прочно закрепились в объективно воспринимаемой ими реальности, что их болезнь, наоборот, в том, что они потеряли контакт с собственным внутренним миром и отдалились от творческого взгляда на вещи.
В этом сложном деле нам в некотором роде помогает знание о том, что галлюцинации — это явления сродни сновидениям, которые врываются в жизнь бодрствующего человека, которые сами по себе более не считаются болезнью, но соответствуют тому факту, что дневные происшествия и воспоминания о реальных событиях переносятся в сон и включаются в процесс формирования сновидений
[19]. Действительно, ведь в нашем описании шизоидной личности использованы те же слова, которыми мы описываем младенцев и маленьких детей. Теперь понятно, где мы можем обнаружить явления, характеризующие наших пациентов — шизоидов и шизофреников.
Намеченные в этой главе проблемы в настоящей работе рассматриваются с точки зрения их источника, который относится к ранним стадиям роста и развития индивида. На самом деле я имею дело с исследованием лишь определенной точки, момента, когда ребенок является «шизоидом», правда я не использую этот термин, поскольку ребенок не является зрелым индивидом и находится в специфическом состоянии относительно развития личности и роли
социального окружения.
Шизоидная личность удовлетворена самой собой не больше, чем экстраверт, который не может найти контакт с мечтой. Люди из этих двух групп обращаются к психотерапии, поскольку одни не хотят потратить жизнь, так и не познав ее реальной сути, а другие чувствуют себя чуждыми собственным сновидениям. У них возникает ощущение, что что-то не так, что в их личности происходит расслоение, диссоциации. Они нуждаются в помощи, чтобы достичь состояния единства (Wirmieott, 1960b) или пространственно-временной интеграции, когда «Я» целостно, а не состоит из разрозненных, диссоциированных элементов, изолированных друг от друга
[20], или разбросанных кругом, да так и оставленных лежать где придется.
Для того чтобы приоткрыть занавес над теорией, которой пользуются аналитики для того, чтобы видеть креативность, необходимо, как я уже говорил, провести различие между идеей творчества и работой в искусстве. Несомненно, что продуктом творчества могут стать картина, дом, сад, костюм, прическа, симфония или скульптура, а также любая приготовленная дома пища. Наверное, лучше будет сказать, что эти вещи могут являться продуктами творчества. Дело в том, что я понимаю креативность как универсальный феномен. Он характеризует живое. Возможно, он, помимо человека, также может иметь место в жизни некоторых животных. Но в случае животных и человека с низкими интеллектуальными способностями
[21] это явление не так сильно значимо, как для людей с близким к среднему, средним и высоким интеллектом. Творчество, которое мы изучаем, характеризует общий подход, обращение индивида с внешним миром. При условии удовлетворительного развития мозговых структур и интеллекта, достаточного для того, чтобы позволить человеку стать личностью, живущей и принимающей участие в жизни сообщества, все, что происходит, — является творчеством, за исключением тех случаев, когда человек болен или подвергается воздействию социальных факторов, подавляющих его творческий процесс.
Что касается второй из этих двух альтернатив, наверное, было бы неправильным думать, что творчество так уж легко разрушить. Но когда читаешь о людях, которые подвергаются давлению со стороны собственных домочадцев; о людях, которые провели жизнь в концентрационном лагере или были пожизненно заключены в тюрьму, преследуемые бесчеловечным политическим режимом, в первую очередь приходит чувство, что лишь немногие жертвы остаются способными к творчеству. Эти люди, несомненно, страдают (см.: Winnicott, 1968b). Впервые все происходит так, как будто бы все остальные, кто существует (не живет) в таком патологическом сообществе, теряют надежду на прекращение страданий, что заставляет их отказаться быть людьми, и они уже не могут воспринимать мир творчески. Эти обстоятельства относятся к негативным проявлениям цивилизации. Таково представление о разрушении креативности на поздних стадиях развития личности под действием факторов социального окружения (ср.: Беттлхейм (Bettelheim), I960).
Я попытаюсь найти адекватный
подход к исследованию потери индивидом творческой жизненной позиции или первичного творческого отношения к внешним явлениям. Особенно мне интересна этиология. А крайний случай представляет собой относительную неудачу ab initio
[22] в формировании способности личности жить творчески.
Как я уже отмечал, нельзя не учитывать тот факт, что невозможно полностью разрушить способность человека к творчеству, даже в самых крайних случаях соответствия и формирования ложной личности; все равно, в скрытом состоянии где-то сохраняется секретный мир, который приносит удовлетворение, поскольку является творческой основой существования для этого человека. Оценивать качество удовлетворительности или неудовлетворительности этого мира нужно с точки зрения степени его сокрытости, отсутствия обогащения новым опытом на протяжении жизни (Winnicott, 1968b).
Можно сказать, что в тяжелых случаях все, что реально, все что имеет какое-то значение и все, что относится к личности, ее основам и творчеству, является скрытым и никак не сообщает о своем существовании. Индивид в таких случаях вообще не понимает, живет он или умер. Если это состояние крепко зафиксировалось, то проблема суицида становится уже неважной, ведь даже сам человек не осознает, что он теряет, может потерять или чего уже лишился (Winnicott, 1960a).
Следовательно, творческий импульс можно рассматривать как вещь в себе, что-то несомненно необходимое художнику для создания произведения искусства, но также присутствующее, когда
любой — младенец, ребенок, подросток, взрослый, пожилой мужчина или женщина — демонстрирует здоровый взгляд на вещи или делает что-то тщательно, например опорожняет свой кишечник или продолжает плакать, наслаждаясь музыкальным звучанием. Творчество присутствует в каждом моменте жизни умственно-отсталого ребенка, который переживает удовольствие от процесса дыхания, в той же степени, что и во вдохновении архитектора, который внезапно понимает: «Вот это я и хотел сконструировать!» — и размышляет о том, какой материал можно использовать для воплощения этого творческого порыва в образ и форму, которые увидит весь мир.
Там, где психоанализ пытался браться за проблемы творчества, оно во многом перестало быть главной темой. Автор-аналитик выбирал какую-нибудь выдающуюся личность, представителя искусства, и пытался провести вторичные, даже третичные наблюдения, исследования, игнорируя все, что можно назвать первичным, исходным. Можно взять Леонардо да Винчи и составить очень важные и интересные комментарии по поводу связей его работы и определенных событий, имевших место в его детстве. Очень многое можно вывести, если связать его работы и его гомосексуальные склонности. Но эти или другие обстоятельства в изучении великих мужчин и женщин не затрагивают самого главного в идее творчества. Подобные исследования великих личностей неизбежно являются оскорбительными для художников, творческих людей в целом. Может быть, эти, такие привлекательные для исследователя работы так раздражают потому, что выглядят так, как будто что-то достигают, как будто они вот-вот смогут объяснить, почему этот мужчина стал великим или почему эта женщина так многого достигла. Но само направление поиска неверное. Здесь обойдена вниманием главная тема, касающаяся творческого импульса как такового. Продукт творчества находится между наблюдателем и креативностью автора.
Было бы совершенно неверным утверждать, что любой человек когда-нибудь сможет объяснить свой творческий порыв; также маловероятно, что кто-нибудь захочет сделать это. Но возможно и полезно установить связь между жизнью как таковой и жизнью в творчестве, при этом можно исследовать причины, почему теряется творческая жизнь и почему исчезают чувства реальности и осмысленности жизни.
Можно предположить, что до нашей эры, то есть тысячу лет назад, лишь очень немногие люди жили творчески (ср.: Фуко (Foucault), 1966). Чтобы объяснить это, начнем с того, что до определенного времени достижение мужчиной или женщиной целостности в развитии личности было случаем необычайной исключительности. До определенного времени миллионы человеческих существ, населяющих мир, вполне возможно, либо никогда не обретали, либо быстро, по выходу из детского возраста, теряли ощущение себя как отдельного человека, индивида. Фрейд затрагивал эту проблему в работе «Моисей и Монотеизм» («Moses and Monotheism», 1939), и к ней он обращается, когда делает сноски (которые я считаю очень важной деталью в работах Фрейда): «Брестед (Breasted) называет его (Моисея. —
Прим. пер.) „первым индивидом в человеческой истории“». Нам нелегко идентифицироваться с мужчинами и женщинами из ранних эпох, которые сами идентифировали себя с сообществом и с природой, с необъяснимыми явлениями типа восходов и закатов солнца, ударов молнии и землетрясений. Наука стала необходима еще до того, как мужчины и женщины смогли стать целостными единицами, интегрированными во времени и пространстве, которые могли жить творчески и существовать в качестве индивидов. Тема монотеизма относится как раз к возникновению этой стадии в функционировании психики человека.
Тема креативности получила дальнейшие развитие в работах Мелани Кляйн (1957). Ее вклад заключается в осмыслении значения агрессивных импульсов и разрушительных фантазий как возникающих в самом раннем возрасте. Кляйн рассматривает идею деструктивного состояния младенца, которой придает особое значение, и в то же время делает новый и существенный вывод о том, что соединение эротических и деструктивных импульсов является признаком здоровья. Формулировка Кляйн включает концепцию компенсации и восстановления. Однако, по моему мнению, работа Кляйн, сама по себе очень важная, не затрагивает самого предмета — креативности — и, следовательно, легко может создать эффект еще большей неясности относительно главной проблемы. Но все же нам необходимо учесть ее работы по поводу центральной роли чувства вины. Далее идет базовая концепция Фрейда об амбивалентности как характеристике зрелости.
Можно рассматривать здоровье в терминах слияния (эротической и деструктивной активности), и тогда становится более необходимым, чем когда-либо до этого, исследовать источники агрессии и деструктивных фантазий. Многие годы в психоаналитической метапсихологии агрессия объяснялась на основе гнева.
Мне кажется, что и Фрейд, и Кляйн перешагнули это препятствие, найдя спасение в идее наследственности. На концепцию инстинкта смерти можно посмотреть и как на новое подтверждение принципа первородного греха. Я попытался развить следующую идею: тема, которой Фрейд и Кляйн таким образом избежали, заключалась в необходимости учесть зависимость ребенка от матери, а следовательно, и фактор социального окружения (Winnicott, 1960b). Зависимость есть зависимость, а значит, история конкретного ребенка не может быть написана об этом ребенке в одиночестве. Также необходимо рассмотреть ее с точки зрения внешней опеки, которая удовлетворяет потребность ребенка в зависимости, но может и не справиться с этой задачей (Winnicott, 1945, 1948, 1952).
Есть надежда, что психоанализ сможет применить теорию переходного феномена, чтобы описать, как хорошая опека со стороны социального окружения на самых ранних этапах жизни позволяет индивиду справиться с огромным шоком, связанным с потерей всемогущества
[23]. То, что я назвал «субъективным объектом» (Winnicott, 1962), постепенно обретает связь с. объективно воспринимаемыми предметами, но это происходит только тогда, когда хорошая опека со стороны «ожидаемого нормального окружения» (Гартман (Hartmann), 1939) оставляет ребенку возможность быть в чем-то ненормальным, в чем-то одном, определенном, допустимом для младенца. Это безумие станет настоящим, только если проявится потом, в более позднем возрасте. В детстве это явление того же порядка, что и проблема, к которой обращался я, обсуждая принятие парадокса, когда ребенок порождает, создает объект, но этот объект не был бы создан, если бы уже не был в наличии.
Мы обнаружили, что индивиды либо живут творчески и чувствуют, что жизнь достойна того, чтобы жить, либо не могут творчески подойти к жизни и сомневаются в ее ценности. Такие различия между человеческими существами напрямую связаны с количеством и качеством опеки и заботы со стороны социального окружения с самых ранних этапов жизни каждого ребенка.
Несмотря на все усилия, предпринимаемые аналитиками, чтобы описать психологию индивида и динамику процессов развития и формирования защитных структур и включить сюда импульс и инициативу с позиции индивида, в данном случае никакая формулировка относительно изолированного индивида не поможет приблизиться к главной проблеме — проблеме источников творчества. В данном случае, когда креативность может либо возникнуть, либо не появиться (или же быть утерянной), теоретик должен принимать во внимание социальное окружение индивида.
Теперь важно обратить внимание на следующую трудность, которая следует из факта, что в то время как между мужчиной и женщиной так много общего, они, тем не менее, неодинаковы. Очевидно, что креативность — один из общих знаменателей, одна из тех вещей, которые разделяют мужчин и женщин, точно так же, как они разделяют между собой стресс от потери или отсутствия творческой жизни. Теперь я предлагаю исследовать этот предмет с другой стороны.
Характеристики мужчин и женщин, отражающие расщепление между мужским и женским началом
[24].
Ни для психоанализа, ни за его пределами не является новой идея о «предрасположенности к бисексуальности» у мужчин и женщин.
Я постарался применить здесь то, что узнал про бисексуальность из тех случаев анализа, которые шаг за шагом шли до некоторой точки и были сфокусированы на единственной детали. Здесь не делается попыток проследить эти шаги, по которым анализ приходит к такому материалу. Скажем так, обычно необходимо сделать очень многое, прежде чем материал такого типа станет значимым и потребует приоритетного внимания. Трудно сказать, как можно избежать этой подготовительной работы. Медленный темп аналитического процесса отражает защиту, которую аналитик должен уважать, как мы уважаем все защиты. Если пациент все время учит аналитика, то последнему все же стоит помнить, теоретически, о проблемах, связанных с самым глубоким, центральным в личности человека. Иначе он просто не сможет осознать и подстроиться к новым требованиям относительно его понимания ситуации и техники работы, когда пациент уже сможет внести глубокие внутренние проблемы в контекст переноса, таким образом предоставляя возможность провести действенную интерпретацию. Делая интерпретацию, аналитик показывает, как много и одновременно как мало он способен услышать и вычленить из сообщения пациента.
Идея, которую я предлагаю рассмотреть в этой главе, основывается, по моему мнению, на положении о том, что творчество является одним из общих знаменателей для мужчин и женщин. Надо сказать, что иногда творчество называют прерогативой женщин, а в других случаях — исключительно мужским качеством. С этими тремя формулировками я и буду иметь дело ниже.
Клинические данные
Показательный случай
Начнем с такого примера из клинической практики. Это была работа с мужчиной средних лет, женатым, который имел семью и достиг успеха в своей профессии. Анализ проходил в обычном, классическом русле. Этот мужчина имел за плечами длительный анализ, и я ни в коем случае не был его первым психотерапевтом. Большую работу сделал он сам, а также все его терапевты и аналитики по очереди; в его личности осуществились серьезные, большие изменения. Но есть что-то еще, о чем он заявляет, что не может его остановить. Он понимает, что не достиг того, за чем пришел. Игнорирование своих потерь — слишком большая жертва.
На данном этапе анализа мы приблизились к чему-то новому
для меня. С этим следует обращаться так же, как я работаю с не-маскулинным в его личности.
В пятницу пациент пришел и говорил много, как это обычно бывает. В тот день меня поразило то, что пациент говорил о
зависти к пенису. Я намеренно использовал этот термин и призываю к пониманию того, что он соответствует моему видению ситуации и подходит для его представления. Несомненно, термин «зависть к пенису» обычно не употребляют по отношению к мужчине.
Изменения, произошедшие на данном этапе, видны из того, как я обошелся с этой ситуацией. Я сказал ему, именно тогда, в тот момент: «Сейчас я слушаю девушку. Я знаю совершенно точно, что вы мужчина, но я слушаю девушку, и я разговариваю с девушкой. Я говорю этой девушке: „Ты сейчас говоришь о зависти к пенису“».
Хочу подчеркнуть, что гомосексуальность здесь совершенно ни при чем.
(Мне было важно, чтобы обе части моей интерпретации могли быть рассмотрены как связанные с игрой и по возможности оторваны от авторитарной интерпретации, которая соседствует с внушением.)
Сильное воздействие этой интерпретации убедило меня в том, что то мое замечание было удачным. И конечно, я не стал бы сообщать этот случай, произошедший именно в этом контексте, если бы работа, начавшаяся в ту пятницу, действительно не разорвала бы порочный круг. Я привык к рутине хорошей работы, хороших интерпретаций, незамедлительно хороших результатов, а затем деструктивности и разрушению иллюзий, что происходит каждый раз, когда пациент постепенно начинает осознавать, что нечто фундаментальное как прежде осталось неизменным. Этот неизвестный фактор заставлял мужчину заниматься собственным анализом на протяжении четверти века. Работа со мной — постигнет ли ее та же участь, что и его работу с другими терапевтами?
В данном случае последовал незамедлительный эффект в форме интеллектуального принятия, облегчения, а затем были и отсроченные эффекты. После паузы пациент произнес: «Меня бы назвали сумасшедшим, расскажи я кому-нибудь об этой девушке».
На этом можно было бы и остановиться, но я рад, в свете последовавших событий, что продолжил работу над этой проблемой дальше. Мое следующее замечание оказалось удивительным для меня самого, и оно уладило проблему. Я сказал:
«Вы ничего никому не рассказывали; это
я увидел Девушку и услышал, что она говорит, хотя на самом деле на моей кушетке мужчина.
Я сам безумен».
Мне не пришлось развивать эту идею, поскольку она и так попала точно в цель. Пациент сказал, что чувствует себя как нормальный человек, окруженный сумасшедшими. Другими словами, он только что освободился от дилеммы. Как он сказал позднее, «Я сам никогда не мог (зная, что я мужчина) сказать: „Я девушка“. В этом я не сумасшедший. Но вы сказали мне об этом, и вы говорили, обращаясь к обеим частям меня».
Мое безумие позволило ему взглянуть на себя как на девушку, встав
на мою позицию. Он знает, что является мужчиной и никогда не сомневается в том, что он мужчина.
Есть ли ясность в том, что произошло здесь? Для меня это было глубоким личным переживанием, которое оказалось необходимым для того, чтобы прийти к пониманию, чего я, собственно, достиг.
Для этого мужчины данная сложная ситуация имела специфическую сущность. Мы с ним пришли к заключению (хотя и недоказуемому), что его мать (которой уже нет в живых), когда он был младенцем, не сразу согласилась с тем, что он мальчик, и видела в нем девочку. Другими словами, этот мужчина должен был соответствовать идеям о том, что ее ребенок должен быть и являться девочкой. (Он был вторым ребенком, первый тоже мальчик.) Из анализа нам стало совершенно ясно, что на самых первых этапах его воспитания мама физически обращалась с ним так, как если бы она не могла воспринимать его как представителя мужского пола. Позже его защиты строились на базе этого паттерна. Но дело было в «безумии» матери, которая видела девочку там, где был мальчик, и мои слова «Безумный человек — это я» впустили это в настоящее, в «сейчас». В эту пятницу продвижение в работе было глубочайшим, и он ушел с чувством, что это был первый значимый сдвиг в анализе на протяжении долгого времени (хотя, как я уже говорил, было сделано много хорошего и наблюдался длительный, постоянный прогресс)
[25].
Я хочу дать более поздние детали, связанные с тем случаем в пятницу. Придя в следующий понедельник, он сказал мне, что болен. Я был уверен, что он просто подхватил инфекцию, и напомнил ему, что его жена должна бы тоже заболеть на следующий день; так и случилось. Тем не менее, он призывал меня
проинтерпретировать эту болезнь, начавшуюся в субботу, как будто это была психосоматика. Он пытался объяснить мне, что ночью в пятницу у него был секс с женой, который принес удовлетворение, а значит, в субботу он
должен был чувствовать себя лучше, но вместо этого он заболел и ему было плохо. Я смог все же отойти от физического недомогания и поговорить о несоответствии между болезнью и сексом, который, как он чувствовал, должен был иметь целительный эффект. (Действительно, он мог сказать так: «У меня грипп, но несмотря на это я сам чувствую себя лучше».)
Моя интерпретация продолжила линию, начатую в пятницу. Я сказал: «Вы чувствуете, как будто бы должны быть рады моей интерпретации, в которой реализовано маскулинное поведение.
Однако, девушка, с которой я разговаривал, не хочет, чтобы этот мужчина освободился, проявил себя, в сущности, он ее совсем не интересует. Ей нужно признание в полной мере, как ее самой, так и ее прав на ваше тело. Ее зависть к пенису главным образом заключается в зависти к вам самому как к мужчине». Я продолжал: «Болезнь, плохое самочувствие — это протест вашей женской сущности, этой девушки, потому что она никогда не оставляла надежду на то, что в процессе анализа обнаружится, что на самом деле этот мужчина всегда был и сейчас является девушкой (и „болезнь“ есть прегенитальная беременность). Единственный вариант завершения анализа, который может быть приемлемым для этой девушки — открытие, что вы действительно девушка». Теперь понятно, откуда его уверенность в том, что анализ никогда не может быть закончен
[26].
На следующей неделе было много материала, подтверждающего достоверность моих интерпретаций и позиции, и пациент чувствовал, что теперь его анализ уже не будет бесконечным.
Позже я понял, что теперь сопротивление пациента переключилось на опровержение важности моего высказывания «Безумный человек — это я». Он старался представить это просто как мой стиль, подход к делу — это просто риторическая фигура, о которой не обязательно помнить. Однако мне стало ясно, что в данном случае мы имеем дело с примером бредового переноса, который ставит в тупик равно аналитиков и пациентов. В этой моей интерпретации проблема детского воспитания осталась загадкой. Сознаюсь, что просто не позволил сам себе интерпретировать это.
Когда я дал себе время обдумать случившееся, то оказался поставленным в тупик. Здесь не было никакой новой теории, никаких новых технических принципов. На самом деле ранее мы с пациентом уже потратили много времени на эту проблему. А здесь появилось что-то новое, новое в моей позиции и новое в его готовности и способности извлекать пользу из моей интерпретации. Что бы это ни означало для меня самого, я решил полностью погрузиться в это состояние, а результаты можно найти в работе, которую я здесь и представляю.
Диссоциация
Первым, что я заметил, было то, что я раньше никогда в полной мере не осознавал наличие разрыва между мужчиной (или женщиной) и той частью его (ее) личности, которая обладает противоположным полом. У этого пациента диссоциация была почти полной.
Затем я обнаружил, что иду на нового противника со старым оружием, и мне стало интересно, как это влияет или может повлиять на мою работу с другими пациентами, мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками. Поэтому я решил специально изучить именно этот тип диссоциации; я не забыл о других вариантах расщепления, но в данный момент не занимаюсь ими.
Мужское и женское начало у мужчин и у женщин[27]
В данном случае мы столкнулись с диссоциацией на этапе ее крушения. Защитная реакция на диссоциацию дала возможность принять бисексуальность как качество личности в целом. Я обнаружил, что имею дело с характеристикой, которую можно назвать
чисто женской. Меня вначале очень удивило то, что я смог это обнаружить только в материале пациента-мужчины
[28].
Перейдем к дальнейшему клиническому описанию этого случая. Некоторое облегчение, последовавшее после того как мы открыли новое основание для нашей совместной работы, возникло потому, что теперь мы могли ответить на важный вопрос. Мы смогли объяснить, почему мои интерпретации, вполне основательные, относительно использования объектов, удовлетворения орального эротизма в переносе, оральные садистские фантазии в отношениях пациента к терапевту как к частям тела или как к обладателю груди или пениса — почему эти интерпретации до сих пор никогда не приводили ни к каким изменениям. Они принимались пациентом, но что из этого? Теперь, когда мы перешли на новый уровень, пациент почувствовал некую взаимосвязь со мной, ниточку между нами, и это было очень ярким ощущением. Все это имеет отношение к идентичности. Отщепленное женское начало пациента нашло единение со мной как аналитиком, а это дало мужчине чувство, как будто он родился заново. Эта деталь очень меня заинтересовала, так что она будет фигурировать в моей теории относительно того, что я обнаружил в этом случае из своей практики.
Дополнения к клиническим данным
Предлагаю заняться пересмотром данного клинического материала с точки зрения этого примера диссоциации, наличия отщепленного женского начала — девушки — внутри пациента-мужчины. Таким образом, предмет моментально расширяется и значительно усложняется, поэтому стоит выбрать лишь несколько наблюдений, чтобы обратить на них особое внимание.
1. Можно в какой-то момент обнаружить, к своему удивлению, что работаешь и пытаешься анализировать отщепленную часть, в то время как основное функционирование личности осуществляется лишь в форме проекций. Это напоминает работу с ребенком, когда ты понимаешь, что лечишь кого-то из родителей через ребенка как поверенного. Не будем говорить о других возможных вариациях на эту тему.
2. Элемент другого пола может быть полностью отщеплен, так что человек вообще не может вступить с ним в контакт. Особенно это относится к случаям, когда во всем остальном личность совершенно здоровая, цельная. Ведь когда личность уже представляет собой множество кусочков, там нет особого акцентирования на «Я нормален», и, следовательно, меньше сопротивления идеям «Я девушка» (если это мужчина) или «Я парень» (у девушки).
3. Также в клинике встречается неполная диссоциация с другим полом, развивающаяся под воздействием внешних факторов на самом раннем этапе жизни, которая перемешивается с более поздними диссоциациями, возникающими как защитные реакции на основе, в большей или меньшей степени, перекрестных идентификаций. Существование этих более поздних защитных структур может препятствовать анализу более раннего реактивного расщепления, а значит, и выздоровлению пациента.
(В данном случае в качестве аксиомы принимается тот факт, что пациент всегда старается полностью задействовать личностные и
внутренние факторы, которые дают ему или ей некоторое количество всемогущества, неограниченного контроля, вместо того, чтобы позволить реагировать необдуманно на воздействия социального окружения, даже если эти влияния негативны (искажения или крах). Влияние окружения, даже если оно хорошее, в нашей работе выступает как идея травмы, которая находится вне области контроля пациента, и поэтому с ней невозможно справиться. (Сравните со стремлением меланхолика взять на себя ответственность за
все зло.)
4. Отщепленная часть личности другого пола имеет тенденцию оставаться одного и того же возраста, а если и растет, то очень медленно. По сравнению с этим, истинные воображаемые фигуры из внутреннего мира пациента приобретают зрелость, взаимодействуют, взрослеют и умирают. Например, мужчина, который зависит от юных девушек, которые оживляют его собственную сущность как девушки, может постепенно приспособиться использовать для этих целей девушек, достигших брачного возраста. Но такой девушке не будет еще и тридцати, когда мужчине исполнится девяносто. Все же в пациенте-мужчине девушка (скрытый женский элемент, сформированный в раннем детстве) может иметь женские характеристики, испытывать гордость за свою грудь и зависть к пенису, забеременеть, не иметь внешних мужских гениталий и даже обладать женскими половыми органами и получать сексуальное удовольствие как женщина.
5. Здесь очень важно провести оценку всего этого в терминах психиатрии. Мужчина, который вовлекает девушек в секс, является инициатором в сексуальных отношениях, вполне возможно окажется гораздо сильнее идентифицированным с женщиной, чем с самим собой. Это придает ему способность в полной мере проявить себя, чтобы пробудить в девушке сексуальность и удовлетворить ее. Его плата — как мужчина он получает удовлетворение, но в малой степени. Также он платит исходя из потребности постоянно находить новых женщин, в противоположность постоянству объекта.
Другая крайность — импотенция. Между ними — весь спектр состояний относительной потенции, который подвержен влияниям различных типов и самой разной степени. Норма зависит от ожиданий любой конкретной социальной группы в определенный момент времени. Почему бы не сказать, что в патриархальном обществе секс считается насилием, а при матриархате мужчина с отщепленным женским началом, который должен удовлетворять многих женщин, пусть в ущерб самому себе, считается выдающимся?
Между этими крайностями — бисексуальность и заниженные ожидания, связанные с сексуальными переживаниями. Это сопровождает взгляд на социальное здоровье как легкую депрессию — всегда, кроме праздников и выходных.
Интересно, что наличие отщепленного женского элемента, по сути дела, предотвращает гомосексуальную практику. Мой пациент в данном случае старательно избегал гомосексуальной близости в каких-то критических моментах жизни, поскольку (как он сам понял и рассказал мне) применение гомосексуальности на практике только утвердило бы его маскулинность, которую (с точки зрения своей отщепленной женской сущности) он не хотел даже знать.
(В норме, когда факт бисексуальности налицо, не возникает подобного конфликта, в основном по той причине, что анальный фактор (который имеет второстепенное значение) не достигает превосходства над оральным, а в фантазиях, связанных с оральным сексом, биологический пол не имеет значения.)
6. Создается впечатление, что в мифологии Древней Греции первыми гомосексуалистами были мужчины, которые имитировали женщин для того, чтобы установить как можно более близкие отношения с верховной богиней. Это было в эпоху матриархата, после нее пришла патриархальная система божеств во главе с Зевсом. От Зевса (символа патриархальности) идет идея сексуально окрашенной любви между мальчиком и мужчиной, которая сопровождалась снижением статуса женщины. Если это верное представление о том, как развивались идеи в историческом процессе, то у меня появляется необходимая связка, чтобы я мог соотнести клинические наблюдения относительно отщепления женского элемента у пациента-мужчины и теорию объектных отношений. (Отщепленный мужской элемент в пациенте-женщине равно важен в нашей работе, но для моих дальнейших рассуждений вполне достаточного этого одного примера.)
Резюме предварительного наблюдения
В нашей теории необходимо учитывать и женское, и мужское начало в мальчиках, мужчинах, девочках и женщинах. Эти элементы могут быть очень сильно разобщенными. Такая идея требует от нас двойной работы — изучить клинические эффекты такого рода диссоциации и исследовать их как таковые.
В связи с первой из этих двух задач я провел некоторые клинические наблюдения; теперь я хочу заняться исследованием того, что я называю чистым, беспримесным мужским началом (сущностью) и чистым, беспримесным женским началом, но не мужчинами и женщинами. (Далее в тексте — просто мужское и женское начало. —
Прим. пер.)
Мужское и женское начало
Размышления о контрасте в типах объектных отношений
Давайте сравним и противопоставим чисто женский и чисто мужской элементы в контексте объектных отношений.
Хочу отметить, что элемент, который я называю «мужским», движется в русле активных либо пассивных отношений, и те и другие подкрепляются на уровне инстинктов. Итак, мы говорим об инстинктивной активности в отношении кормления младенца грудью, а следовательно, и об отношении ко всем переживаниям, связанным с основными эротическими зонами, к второстепенным и их удовлетворению. Я полагаю, что, наоборот, с грудью (или матерью) связан чисто женский элемент, в том
смысле, что младенец становится грудью (или матерью), объект в некотором смысле становится субъектом. В этом я не вижу никакой инстинктивной активности.
(Также не будем забывать, что используемое нами слово «инстинкт» пришло из этологии; однако я сильно сомневаюсь, что запечатление вообще может серьезно повлиять на новорожденного ребенка. Говорю это прямо сейчас, я уверен, вся проблематика импринтинга вообще не имеет отношения к исследованию ранних объектных отношений у детей. Она не имеет никакого отношения к травме сепарации в возрасте двух лет, хотя и претендует здесь на первостепенное значение.)
Я применил термин «субъективный объект» для описания первого объекта, который
еще не выделяется как «не-Я». Женское начало связывают со словом «грудь», и в этом заключается практическое воплощение идеи субъективного объекта, и это переживание прокладывает путь для объективного субъекта — это идея самости, включающая чувство реальности, которому дает начало чувство идентичности.
Как бы ни усложнялась психология самости и построения идентичности по мере роста ребенка, необходимой основой для чувства самости являются как раз эти отношения в смысле Бытия вообще. Это чувство существования предшествует возникновению бытия-вместе-с-другим, так как до сих пор не возникает ничего, кроме идентичности. Два отдельных человека могут
чувствовать, что они как одно целое, но в случае, которым я занимаюсь, ребенок и объект являются чем-то одним. Возможно, термин «первичная идентификация» был применен как раз для того случая, который я описал. И теперь я пытаюсь показать, как жизненно важен этот первый опыт, для инициации всех последующих переживаний, связанных с идентичностью.
Проективные и интроективные идентификации — результат именно этого этапа развития, когда каждое явление повторяет другое.
По мере того как в процессе роста ребенка начинается структурирование его «Я», процессы, которые я назвал объектными отношениями женского начала в личности, формируют самый, наверное, простой опыт из всех переживаний человека — переживание того, что
я существую. Именно в этом заключается существование, которое передается женским началом в мужчинах, женщинах и детях из поколения в поколение. Да, это говорили и раньше, но только лишь о женщинах и девочках, что далеко от правды. Речь идет о сути женского начала как в мужчинах, так и в женщинах.
Объектные отношения мужского начала, напротив, предполагают сепарированность. Как только начинает позволять структура «Я», ребенок может позволить объекту стать отдельным, стать «не-Я» и пережить удовлетворение бессознательных влечений, включая гнев относительно фрустрации. Удовлетворение активности усиливает сепарацию объекта от ребенка и ведет к объективификации объекта. Со стороны мужского начала идентификация строится на основе сложных психических механизмов, которым нужно время, чтобы возникнуть, развиться и занять свое место в арсенале ребенка. Однако со стороны женского начала идентификация требует самого малого в структуре психики, так что эта первичная идентичность может вступить в силу уже на самых ранних этапах. Фундамент для существования ребенка может быть заложен (скажем так) уже с момента рождения, чуть раньше или чуть позже, в общем, если только не будет препятствий для функционирования психики по причинам недоразвития или мозгового поражения при родах.
Психоаналитики обращали особое внимание как раз на это мужское начало — аспект активности в объектных отношениях — и игнорировали субъект-объектную идентичность, которой я здесь занимаюсь и которая является необходимой основой для способности Существовать. Мужское начало
делает, в то время как женское начало (в мужчинах и женщинах)
живет, существует. Сюда подходят те мужчины из греческих мифов, которые пытались быть единым целым с верховной богиней. Также это позволяет дать объяснение очень глубоко запрятанной в мужчине зависти к женщине, феминный элемент в которой он принимает без доказательств, хотя это может быть ошибочным.
Мне кажется, что фрустрацию можно отнести к процессу поиска удовлетворения. А переживание своего существования связано с чем-то другим, не с фрустрацией, а с разрушением, направленным на другого. Сейчас я хочу заняться этой специфической особенностью.
Идентичность: ребенок и материнская грудь
Обозначенное мною выше отношение женское начало — грудь здесь
невозможно обсуждать вне концепции хорошей и недостаточно-хорошей матери.
(Подобное исследование в этой области даже ближе подбирается к истине, чем изучение явлений, описываемых в терминах феномена перехода и переходных объектов. Переходный объект демонстрирует способность матери так представить ребенку мир, чтобы он с самого начала не догадался о том, что объект не является его собственным творением, порождением. В данном контексте для нас в полной мере значима адаптация, когда мать либо дает ребенку возможность почувствовать, что ее грудь — это сам ребенок, либо не делает этого. Здесь материнская грудь символизирует не действие, а существование.)
Суть хорошего «поставщика» женского начала состоит в очень тонких деталях заботы о ребенке, и, исследуя эти проблемы, можно воспользоваться достижениями Маргарет Мид и Эрика Эриксона (Margaret Mead, Eric Erikson). Они описали пути, по которым в различных типах культур материнская опека в самом раннем возрасте обуславливает защитные паттерны индивида, а также намечает более поздние процессы сублимации. Эти необычайно тонкие вопросы мы исследуем применительно
именно к этой матери и
именно к этому ребенку.
Природа влияния социального окружения
Сейчас в своих размышлениях я возвращаюсь к самым ранним этапам жизни ребенка, когда определенный паттерн закладывается самой манерой матери, едва различимыми особенностями ее обращения с ребенком. Я должен сделать подробную ссылку на этот особый способ влияния среды. Либо мать, у которой
есть грудь, использует ее для того, чтобы ребенок тоже
был (существовал), пока для ребенка, с его зачаточной психикой, еще не произошло сепарации между ним и мамой. Или же мать не способна дать это ребенку, и в этом случае ему необходимо развиваться дальше без умения существовать или с частичной потерей этой способности.
(В клинической практике приходится иметь дело со случаями, в которых младенцу необходимо справиться с ситуацией, когда материнская грудь является активным мужским элементом и не удовлетворительна с точки Зрения первичной идентичности, для которой необходимо наличие
существующей груди, а не активной,
действующей груди. Вместо того чтобы «быть таким же» ребенок должен «делать так же», что с нашей точки зрения в данном случае одно и то же, быть стимулированным к таким же действиям.)
Если мать смогла сделать эти очень тонкие вещи, у ее ребенка, в его «чисто женской» сущности, не будет зависти к груди, ведь для него грудь это он сам, а он сам — это грудь его матери. Термин «зависть» применим как раз в случае невосполнимой утраты материнской груди как некоторой вещи, которая есть, существует.
Противопоставление мужского и женского начал
Вышеизложенные размышления привели меня к любопытным заключениям по поводу этих аспектов чисто женского и чисто мужского применительно к маленьким детям — мальчикам и девочкам. Моя позиция: объектные отношения в терминах
женского — начала не имеют ничего общего с активностью (или инстинктом). Объектные отношения, подкрепленные инициативой, относятся к мужской сущности в личности, лишенной женского начала. Такая аргументация влечет за собой ряд серьезных трудностей, но тем не менее мне кажется необходимым в формулировках по поводу первичных стадий эмоционального развития человека разделять не мальчиков и девочек, а стерильную, беспримесную мужскую (мальчишескую) сущность и стерильную, беспримесную женскую (девчоночью) сущность. Классическая формулировка по поводу обнаружения и использования эротических зон области рта, орального садизма, анальных стадий и так далее вытекает из анализа жизни мужского начала в личности. Исследования идентификации на основе интроекции или инкорпорации (вбирания внутрь) — это исследования опыта, связанного с уже перемешанными элементами женского и мужского. Изучение чистого женского начала приведет к совсем другим результатам.
Изучение женского начала
в чистом виде ведет нас к проблеме Существования, Бытия, именно это формирует единственную основу для открытия самого себя и чувства существования (и далее к способности развивать свой внутренний мир, иметь некоторое собственное внутреннее содержание, уметь применять механизмы проекции и интроекции и таким способом взаимодействовать с миром).
Рискуя показаться многословным, я все же хочу еще раз напомнить формулировку: когда женская (девчоночья) сущность в пациенте или в младенце (мальчике или девочке) обнаруживает грудь матери, это и есть найденная самость, «Я» этого человека. На вопрос о том, что маленькая девочка делает с материнской грудью, мы должны ответить так: женское начало в этой девочке и
есть грудь, и поэтому наделяется качествами груди, матери и является желанным. Желанный в определенный период времени означает съедобный, и быть желанным, или возбуждающим, означает некоторую опасность для ребенка. Быть возбуждающим подразумевает возможность заставить мужское начало в другом человеке
сделать что-либо. Так пенис мужчины может выступать в качестве возбуждающего женского начала, порождающего активность мужского начала в женщине. Но, это должно быть совершенно ясно, нет именно таких девочек и женщин; в норме у мальчиков и девочек женский элемент выражен в разной степени. Также подключаются наследственные факторы, так что довольно легко встретить мальчика, у которого женское начало сильнее, чем у девочки, которая рядом с ним может Иметь потенциально более слабое женское начало. Добавьте к этому различную способность матерей передать ребенку желание по отношению к хорошей груди или к той материнской функции, которую эта грудь символизирует. И станет ясно, что некоторые мальчики и девочки обречены на то, чтобы расти при условии, что их бисексуальность развивается неравномерно, когда нагружается не та сторона их сексуальности, которая имеет биологическую базу.
Мне вспоминается вопрос: о чем нам говорит Шекспир в его описании личности и характера Гамлета?
Трагедия «Гамлет» главным образом посвящена его ужасной дилемме, и для него это было неразрешимо по причине наличия диссоциации как защитного механизма в личности самого Гамлета. Стоило бы послушать актера, играющего Гамлета, который держит в голове этот факт (факт диссоциации. —
Прим. пер.). Такой актер, произнося первую строчку знаменитого монолога: «Быть или не быть…», сделал бы это особым образом. Он бы говорил так, как будто пытается добраться до сути непознаваемого: «Быть… или…», а затем он бы замолчал, потому что на самом деле, по своему характеру, Гамлет не знает альтернативы. Наконец, он заговорил бы, но с довольно банальным вариантом: «… или не быть», после чего он бы с радостью отправился в путешествие, которое не приведет никуда.
«Что благородней духом — покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством?»
Здесь Гамлет перешел к альтернативе садо-мазохисткой, оставив ту тему, с которой все начиналось. Все остальное, что нужно в этой роли — это длительная разработка формулировки проблемы. Я имею в виду то, что в этой сцене Гамлет изображен ищущим альтернативу идее «Быть». Он ищет способ заявить о диссоциации между мужским и женским началом в его личности, которые, вплоть до смерти отца Гамлета, находились в гармоничных отношениях, будучи, правда, лишь его качествами как человека, личность которого была очень насыщенной, богатой. Да, неизбежно я пишу о нем как о личности, а не как о персонаже спектакля.
На мой взгляд, сложность этого монолога заключается в том, что сам Гамлет не имеет ключа к этой загадке — хотя он находится в его собственном измененном состоянии. У Шекспира был ключ, но Гамлет не мог посмотреть спектакль Шекспира.
Если смотреть на игру таким вот образом, то вполне возможно рассмотреть измененное отношение Гамлета к Офелии, его безжалостность по отношению к ней как картину жестокого непринятия, отторжения Гамлетом женского начала в самом себе, элемента, который отщеплен и контроль над которым передан Офелии. Одновременно собственное мужское начало Гамлета стремится захватить всю его личность. Безжалостность к Офелии здесь может рассматриваться как показатель нежелания Гамлета оставить, отказаться от отщепленного женского начала в самом себе.
Таким образом, само произведение (если бы Гамлет мог прочесть или увидеть его на сцене) показало бы ему природу его дилеммы. Спектакль внутри спектакля не смог выполнить эту функцию, и я бы сказал, что он инсценировал его, чтобы оживить мужскую сущность в самом себе, которая была полностью разгромлена трагедией.
Можно заметить, что аналогичная дилемма, которую переживал сам Шекспир, как раз подкрепляет проблематику его сонетов, которая стоит как бы за их содержанием. Но это означает игнорирование и даже оскорбление по отношению к
основному качеству сонетов, а именно к поэзии. Действительно, и профессор Найтс (L. С. Knights) настаивает на этом особо, так просто забыть про саму поэзию произведения, когда пишешь о
действующем лице, как если бы это была историческая личность.
Резюме
1. Я рассмотрел, что дал мне в моей работе новый уровень осознания важности диссоциации у некоторых мужчин и женщин, касающейся их мужского и женского начала и частей их личности, базирующихся на этих элементах.
2. Я взглянул на искусственно препарированные мужские и женские сущности и обнаружил, что на данном этапе можно связать импульс, направленный на объекты (и то же самое в пассивном залоге), с мужским началом, тогда как характеристикой женского начала в контексте объектных отношений является идентичность, то есть предоставление ребенку основ для существования, бытия, а затем, позже, для чувства самости. Но также я понял, что все это находится в абсолютной зависимости от особого рода материнского ухода, когда мать либо справляется, либо терпит неудачу в том, чтобы обеспечить ранее функционирование женского начала в ребенке, таким образом, что человек может найти основания переживать по поводу собственного существования. Я писал когда-то: «Таким образом, нет смысла использовать слово „Оно“ для обозначения явлений, которые пережиты, спрятаны, занесены в каталог и в итоге проинтерпретированы силами „Я“» (Winnicott, 1962).
Теперь я хочу сказать другое: «После существования — действие или стимулирование к действию. Но сначала существование».
Добавленная заметка по поводу воровства
Воровство относится к мужскому началу в мальчиках и девочках. Возникает вопрос: а что соответствует этому с точки зрения их женского начала? Ответ может быть таким: относительно этого элемента индивид узурпирует позицию матери, ее место или одежду, таким образом приобретая желанность и соблазнительность, украденную у матери.
6. Использование объекта и построение отношений через идентификацию[30]
В данной главе я предлагаю обсудить идею использования объекта. Смежная тема объектных отношений, мне кажется, уже рассмотрена нами во всех подробностях. В то же время, тема применения объекта рассматривалась не так подробно, и даже возможно, никогда не становилась предметом специального исследования.
Источники данной работы по проблеме применения объектов — в моем клиническом опыте и непосредственно в моем собственном процессе развития. Я, конечно же, не могу претендовать на то, чтобы другие тоже следовали по тому самому пути, по которому развивались мои идеи. Но я бы хотел обратить внимание на имеющуюся последовательность идей, тем более что порядок в этой последовательности определяется как раз эволюцией моей работы.
То, что я хочу сказать в этой главе, — необычайно просто. Хотя это и вытекает из моего психоаналитического опыта, я бы не сказал, что это могло бы проявиться в моей работе как психоаналитика два десятилетия назад, поскольку тогда я еще не владел техникой, позволяющей осуществиться тем процессам, происходящим с переносом, которые я хочу сейчас описать. Например, я лишь совсем недавно научился ждать — дожидаться естественного развития переноса, возникающего из растущего доверия пациента к психоаналитическому методу и ситуации, и избегать разрушения этого естественного процесса проведением интерпретации. Заметьте, я говорю именно об интерпретировании, а не о самой интерпретации. Я со страхом думаю, какие значительные изменения я задержал или не допустил, по причине своей потребности интерпретировать, у пациентов, которых я
классифицировал и относил к определенной категории. Только лишь если мы умеем ждать, пациент и психоаналитик приходят к творческому взаимопониманию, всегда безумно радостному, и сейчас эта радость приносит мне большее удовольствие, чем когда-то мне приносило ощущение себя умным человеком. Я думаю, что интерпретирую главным образом для того, чтобы показать пациенту границы моего понимания. Принцип в том, что пациент, и только лишь пациент знает ответы. Мы лишь способны, или же не способны, дать ему или ей возможность реализовать то, что он или она знает или начинает осознавать через принятие.
Другое дело — работа по интерпретации, которая, собственно, отличает анализ от самоанализа и которую аналитик просто обязан проводить. Чтобы такая интерпретация была эффективной, она обязательно должна соотноситься со способностью пациента вывести аналитика за пределы собственного внутреннего мира. После этого пациент уже сможет как-то воспользоваться самим аналитиком, что и является предметом данной статьи. В обучении, так же как и в кормлении ребенка, никогда не требуют доказательств способности ребенка применять внешние объекты, но в нашей работе необходимо специально работать с формированием и развитием этой способности, а также осознавать, признавать невозможность для пациента применять объекты, когда это является фактом.
В анализе пограничных случаев иногда можно наблюдать очень тонкие явления, которые выступают как подсказки для понимания реальных шизофренических состояний. Термином «пограничный случай» я называю ситуации, когда в центре — психотическое расстройство, но пациенту в достаточной степени свойственна психоневротическая
[31] организация личности, чтобы демонстрировать психоневроз или же психосоматическое расстройство, в случае если центральная психотическая тревожность угрожает прорваться в грубой форме. Психоаналитик в подобных случаях может годами поддерживать пациента в его потребности быть психоневротиком (что противоположно сумасшествию) и лечиться как психоневротик. Анализ проходит очень хорошо и все довольны. Единственный минус — в том, что анализ никогда не заканчивается. Он может быть остановлен, и пациент даже может задействовать психоневротическую ложную личность, для того чтобы все с благодарностью завершить. Но на самом деле пациент понимает, что никаких изменений в том, что является основой (психотического состояния), не произошло и что аналитик и пациент преуспели в своем неявном сговоре, направленном на провал анализа. Но даже этот провал может быть ценным, при условии, что оба — и аналитик и пациент — признают его. Пациент стал старите, увеличилась вероятность смерти
от несчастного случая или болезни, так что настоящего суицида
можно избежать. Более того, пока работа шла, она приносила радость. Если бы психоанализ мог быть образом жизни, то такое лечение, можно сказать, дало бы то, что оно должно было дать человеку. Но психоанализ — это не образ жизни. Все мы надеемся, что пациенты будут заканчивать работу и забывать нас, что они обнаружат, что сама жизнь — это вполне осмысленная терапия. И хотя мы пишем об этих пограничных случаях, в глубине души всегда остается беспокойство о том, что это глубинное расстройство останется не узнанным, нераскрытым. В более явном виде я старался сформулировать это в своей работе по классификации (Winnicott, 1959–1964).
Может быть, стоит еще ненадолго отвлечься, чтобы обсудить мою собственную точку зрения по поводу различия между объектными отношениями и применением объектов. В объектных отношениях допускаются определенные изменения в личности, из тех, которые стали причиной возникновения термина «катексис». Объект стал значимым. Механизмы проекции и идентификация уже работают, и субъект опустошен до такой степени, что части субъекта обнаруживаются в объекте. Хотя при этом субъект обогащается в эмоциональном плане. Эти изменения сопровождаются некоторым (незначительным) физическим возбуждением по направлению к усиленному функционированию (состоянию, подобному оргазму). (В данном контексте я сознательно обхожу те аспекты объектных отношений, которые относятся к перекрестным идентификациям (см. ниже, глава 10, с. 210). Это останется за границами нашего исследования, поскольку данные проблемы относятся к предшествующему этапу развития по отношению к обсуждаемому в этой работе процессу перехода от самосозерцания и построения отношений к субъективным объектам к применению объектов.)
Объектные отношения — это опыт, который можно описать исходя из представления о личности как об изолированном субъекте (Winnicott, 1958b, 1963a). Однако, когда я говорю о применении объекта, я принимаю объектные отношения как данность, но добавляю новые качества, которые затрагивают природу поведения самого объекта. Например, объект, чтобы его можно было использовать, должен быть реальным, являться частью внешней, разделенной между людьми реальности, а не нагромождением проекций. Именно отсюда, я думаю, и возникает огромное различие между отношением к объекту и применением объектов.
Если я в этом не ошибся, то следует признать, что обсуждение проблемы отношений — гораздо более легкая задача для аналитика, чем обсуждение применения объектов. Отношение можно рассмотреть как феномен чисто субъективный, и психоанализ всегда гордится, если может элиминировать все факторы окружения, за исключением рассмотрения окружения с точки зрения механизмов проекции. А если заняться применением объекта, то выхода уже нет: аналитик должен учесть природу объекта не как проекции, а как такового.
Пока я остановлюсь на такой формулировке: отношение можно описать с точки зрения субъекта, который отделен от окружающего мира, а применение — лишь исходя из того факта, что объект существовал всегда и независимо от субъекта. Видите, это как раз те проблемы и та область, с которой я работаю, именно это я называю феноменом перехода.
Но переход от отношения к применению происходит не автоматически и зависит не только от процесса созревания. Этой деталью я и занимаюсь.
В клинической терминологии: два младенца на грудном вскармливании. Для одного из них — питание — в нем самом, поскольку для него грудь еще не является отдельным феноменом. Второй младенец питается от источника «не-Я», от объекта, с которым он может бесцеремонно обращаться, если только объект не отвечает тем же самым. Мамы, как и аналитики, могут быть либо хорошими, либо недостаточно хорошими: кто-то может, а кто-то не может продвинуть своего ребенка от отношений к применению объекта.
Я бы хотел напомнить, что важнейшей характеристикой концепции переходных объектов и феномена (в соответствии с тем, как я эту проблему представил) является
парадокс и принятие парадокса: ребенок создает объект, но этот объект уже дожидался того, чтобы быть созданным и стать ярким, важным для ребенка. Я пытался заострить на этом внимание, заявляя, что по правилам этой игры мы все знаем о том, что никогда не станем требовать у ребенка ответ на вопрос: ты сам создал это или просто нашел?
Я не готов прямо сейчас сформулировать мой тезис. Кажется, я боюсь подойти к этому, все так просто, и мне кажется, что, как только будет озвучена основная идея, цель моего сообщения сразу же будет достигнута.
Чтобы применять объект, у субъекта должна быть развита
способность к этому. Это — часть процесса перехода к принципу реальности.
Нельзя сказать, что это способность врожденная, так же как и о том, что она развивается внутри индивида. Развитие способности к применению объекта — пример процесса взросления, который зависит от хорошего социального окружения
[32].
Можно сказать, что последовательность такова: сначала объектные- отношения, а в конце появляется применение объекта; а между тем в промежутке происходит, может быть, самое сложное в развитии человека; и может быть, приходится исправлять самые неприятные ранние неудачи, которые постоянно напоминают о себе. В промежутке между отношением к объекту и применением объекта происходит следующее: субъект перемещает объект за пределы зоны своего всемогущества. Это есть восприятие объекта как внешнего феномена, а не как проецированной целостности, то есть признание этой целостности как существующей автономно
[33].
Это изменение (от отношения к применению) означает, что субъект разрушает объект. Здесь любой кабинетный философ мог бы утверждать, что на практике не существует такого явления как применение объекта: если объект является внешним, то он разрушается субъектом. Но если бы этот философ спустился со своего кресла и сел на пол рядом с пациентом, он обнаружил бы, что ситуация является промежуточной. Другими словами, он увидит, что после того, как «субъект выстраивает свое отношение к объекту», следует стадия «субъект разрушает объект» (поскольку он становится внешним); а затем может появиться
«объект выдерживает разрушение со стороны субъекта». Но выживание может произойти, а может и не случиться, таким образом, возникает новый аспект в теории объектных отношений. Субъект говорит объекту: «Я разрушил тебя», и объект должен принять это сообщение. И впредь субъект будет говорить: «Привет! Я разрушил тебя. Я люблю тебя. Ты для меня что-то значишь, ведь ты выжил, после того, как я разрушил тебя. Пока я люблю тебя, я постоянно крушу тебя в своей (бессознательной) фантазии». Здесь для индивида начинается фантазия. Теперь субъект может
использовать объект, который выжил. Важно отметить, что субъект разрушает объект не только по той причине того, что объект расположен за пределами его неограниченного контроля. Здесь важно переформулировать это с точностью до наоборот: само разрушение объекта выносит его за пределы всемогущества ребенка. Это и есть те пути, по которым развивается жизнь и автономия объекта, а объект (если он выжил) со своей стороны, в соответствии с собственными качествами, вносит вклад в субъекта.
Другим словами, объекты выживают и тем самым дают субъекту возможность жить в мире объектов, так что ему не стоит отказываться от такой бесценной выгоды. Но цена всего этого — принятие разрушений, происходящих в бессознательных фантазиях, относительно объектных отношений.
Разрешите мне повторить это еще раз. Состояния, о котором идет речь, на ранних стадиях эмоционального развития индивид может достичь лишь благодаря выживанию ярких, значимых объектов, когда они разрушаются, поскольку реальны, и становятся реальными, поскольку разрушены (будучи уязвимыми для разрушения и пригодными для использования).
Далее, когда эта стадия уже пройдена, механизмы проекции задействованы в том, чтобы
замечать окружающие предметы, но сами эти механизмы не являются
причиной, по которой объект там находится. Я считаю, что это выходит за рамки теории, которая рассматривает внешнюю реальность только с точки зрения механизмов проекции индивида.
Итак, я уже почти полностью сформулировал свое заключение. Однако это еще не все, поскольку я не могу согласиться с тем, что первый импульс субъекта по отношению к объекту (воспринятому объективно, не субъективному) является [ч] деструктивным. (Чуть раньше я использовал слово «бесцеремонный», надеясь, что читатель сам достроит то, что я не договаривал.)
Центральный постулат моего тезиса таков: несмотря на то что субъект не разрушает субъективный объект (материал проекции), деструктивность остается и становится центральной, по мере того как объект начинает восприниматься объективно, приобретает автономию, становится частью «разделенной» реальности. Эта часть моего тезиса сложна, по крайней мере, для меня самого.
В общем и целом понятно, что принцип реальности вовлекает индивида в переживания гнева и реактивную деструктивность, а я утверждаю, что роль деструктивности — в самом создании этой реальности, помещении объекта вне границ «Я». Чтобы это произошло, необходимы благоприятные условия.
Это и есть суть исследования принципа реальности в действии. Мне представляется, что теперь мы знаем, каким образом механизмы проекции нарушают способность субъекта к познанию объекта. Это совсем не то же самое, что утверждать, что объект существует по причине функционирования проективных механизмов субъекта. Поначалу наблюдатель использует термины, которые кажутся применимыми одновременно в обеих из этих двух концепций, но если присмотреться внимательнее,
то вы не увидите никаких различий между этими идеями. Именно на эту проблему и направленно сейчас наше исследование.
На этапе развития, который мы сейчас изучаем, субъект находится в процессе создания объектов, в смысле ознакомления с внешним миром как таковым. Необходимо добавить, что этот опыт зависит от способности самого объекта к выживанию. (Важно, что в данном контексте «выжить» означает «не атаковать в ответ».) Когда подобное происходит в аналитическом процессе, то получается, что аналитик, психоаналитическая техника и ситуация выступают как выжившие или же павшие под разрушающими атаками пациента. Такая деструктивная активность является попыткой пациента поместить аналитика за пределы зоны собственного неограниченного контроля, то есть во внешний мир. Если у субъекта нет опыта, связанного с максимумом своей разрушительной силы (объект никак не защищен), то он никогда не переносит аналитика наружу, а следовательно, никогда не сможет пойти дальше, чем самоанализ с использованием аналитика как проекции части собственной личности. С точки зрения кормления, пациент сможет получать питание только от себя самого и не сможет использовать материнскую грудь, чтобы прибавлять в весе. Пациент может даже получать удовольствие вследствие проведения анализа, но серьезных изменений в нём не произойдет.
А если сам аналитик выступает как субъективный феномен, то что можно сказать про удаление отходов? В дальнейшем необходима формулировка с точки зрения того, что мы выводим наружу
[34].
В практике психоанализа позитивные изменения в этой области могут быть очень глубокими и значимыми. И они не зависят от интерпретирования. Они зависят от выживания аналитика, которое подразумевает идею неизменности самого качества реакции — отсутствия ответной атаки. Эти атаки очень сложно выстоять
[35], особенно если они принимают маниакальную, бредовую форму, что заставляет аналитика совершать технически неадекватные действия. (Я говорю о случаях, например, когда ты ненадежен в ситуации, в которой только надежность имеет значение, а также о выживании как о сохранении жизни и отсутствии ответного нападения.)
Аналитик склонен интерпретировать, но это может нарушить процесс, а для пациента выглядеть как самозащита аналитика, как парирование атаки пациента. Лучше дождаться завершения этой фазы, а затем обсудить с пациентом, что же собственно произошло. Совершенно законно аналитику как человеку обладать своими собственными человеческими потребностями, но на этом этапе интерпретация не является необходимым элементом и сама по себе несет определенную опасность. Таким необходимым элементом здесь будет выживание аналитика и работоспособность психоаналитической техники. Представьте себе, насколько травматичной может оказаться гибель аналитика, произошедшая в процессе такого рода работы, хотя даже фактическая смерть аналитика не так плоха, как изменение позиции аналитика в сторону ответных атак. Это тот риск, который пациент просто должен взять на себя. Обычно аналитику удается пережить эти фазы движения переноса. Вознаграждение, которое следует после завершения каждого из этих этапов, — это любовь, усиленная на фоне бессознательного разрушения.
Мне показалось, что идея этапа развития, включающего выживание объекта как существенный признак, затрагивает теорию корней агрессии. Сказать, что младенец, который прожил всего несколько дней, испытывает зависть к груди своей матери, было бы неправильным. Однако вполне допустимо говорить о том, что в каком бы возрасте ребенок не начал ставить грудь матери на позицию внешнего объекта (за пределами области проекций), разрушение груди будет иметь место. Я имею в виду актуальный импульс, направленный на разрушение. Важная часть, среди всего что делает мать, — стать первым человеком, который заставит ребенка впервые пройти через ситуацию (подобных которой в дальнейшем встретится очень много) выживания после нападения. В развитии ребенка это как раз подходящее время, поскольку у него еще относительно мало сил, и выдержать его деструктивность довольно легко. Но все равно это дело хитрое и коварное; матери легко реагировать по-доброму, но только пока ее ребенок лишь кусается или щиплет ее
[36]. «Грудь» здесь — жаргонное слово. Подразумевается вся область развития и формирования личности человека, в которой адаптация и зависимость связаны между собой.
Заметьте, что используя слово «разрушение» я подразумеваю то разрушение, когда объект не справляется с задачей выживания. Если он справляется, то разрушение остается, но лишь как возможность. Слово «разрушение» необходимо, и не потому, что у младенца есть деструктивный импульс, а по той причине, что объект склонен ломаться, не выживать, а это означает также и «подвергаться качественным изменениям».
В данной главе я представляю точку зрения, которая открывает новые подходы к проблеме агрессии и ее корней. Например, не стоит приписывать врожденной агрессии большее, чем любым другим врожденным характеристикам. Нет сомнений в том, что врожденная агрессивность различна в количественном плане, точно так же как другие наследственные особенности различаются у разных индивидов. Различия, проистекающие из опыта новорожденного, связанного с прохождением данного очень тяжелого этапа, напротив, огромны. Различия в самом этом опыте тем более значительны. Более того, дети, которые успешно преодолели этот этап, будут, скорее всего, более
клинически агрессивны, чем другие, которые не прошли эту фазу и для которых агрессия осталась запретной, недоступной для воплощения, чем-то, что можно сохранить, лишь становясь объектом нападения.
Из этого вытекает необходимость пересмотра теории агрессивности, поскольку ранее аналитики в своих работах касались тех вещей, которые мы обсуждаем в данной главе. В ортодоксальном психоанализе доминирует идея о том, что агрессия является реакцией на столкновение с принципом реальности, а здесь это представляется как деструктивная активность, которая порождает внешний мир как качественно новую реальность. Эти утверждения занимают центральное место в построении моей аргументации.
Давайте на минутку обратимся к месту обсуждаемых нападений и выживания в иерархии человеческих отношений. Уничтожение — более примитивное явление, которое сильно отличается от разрушения. Уничтожение означает «безнадежность», катексис идет на убыль, поскольку рефлекс, необходимый для формирования условной реакции ничем не завершается. С другой стороны, концепция нападения под действием гнева, связанного со столкновением с принципом реальности, более сложна и задним числом учитывает ту идею разрушения, которую я здесь предложил. В разрушении объекта
нет гнева, можно даже сказать, что выживание объекта приносит радость. Начиная с этого мгновения, или с наступлением данного этапа,
в фантазии объект всегда подвергается разрушению. Качество объекта, который «всегда подвергается разрушению» делает реальность выжившего объекта более насыщенной, усиливает эмоциональный тонус, таким образом внося вклад в утверждение постоянства объекта. Теперь этот объект может быть использован, применен.
В заключение я бы хотел сделать замечание по поводу самого понятия «применение» или «использование». Говоря «применение» я не имею в виду «эксплуатацию». Будучи аналитиками, мы понимаем, на что это похоже — быть использованным. Это значит, что мы видим завершение терапии, даже если это случится через несколько лет. Многие наши пациенты приходят к нам, уже решив эту проблему, — они умеют использовать объекты, и они могут использовать нас, могут использовать анализ точно так же, как использовали своих родителей, братьев и сестер и свои дома. Но все же многие пациенты нуждаются в том, чтобы мы помогли им научиться использовать нас самих. Они воспринимают это как задачу анализа. Отвечая на потребности таких пациентов, не стоит забывать то, что говорилось здесь о выживании аналитика и деструктивности подобных пациентов. Бессознательное разрушение аналитика устанавливается в качестве фона, и мы либо справляемся и остаемся в живых, либо получаем еще один случай бесконечного анализа.
Резюме
Объектные отношения можно описать исходя из опыта субъекта. Описание применения объекта подразумевает рассмотрение природы самого объекта. Я предлагаю обсудить причины, по которым, как мне кажется, способность применять объект является более сложной и запутанной, чем способность строить отношение с объектом. Отношение может быть установлено и с субъективным объектом, а применение объекта подразумевает, что он является частью внешней реальности.
Наблюдается следующая последовательность:
1) субъект устанавливает отношение к объекту;
2) объект обнаруживается субъектом в окружающем мире, вместо того чтобы быть помещенным туда сами субъектом;
3) субъект
разрушает объект;
4) объект выживает после этого разрушения;
5) субъект может
использовать объект. Объект всегда подвергается разрушению. Это разрушение становится бессознательным фоном для любви к реальному объекту, таким образом объект выходит за пределы неограниченного контроля субъекта.
Исследование данной проблемы включает признание позитивной ценности деструктивности субъекта. Деструктивность и выживание объекта вопреки разрушению выносят объект за пределы того круга предметов, которые связаны с функционированием проективных механизмов субъекта. Таким образом происходит создание разделенной между людьми реальности, которую субъект может использовать и которая может в ответ воздействовать на него при помощи «не-Я»-феноменов.
7. Локализация культурного ОПЫТА[37]
On the seashore of endless worlds, children play.
Tagore
Среди бескрайних миров, на морском берегу играют дети.
Тагор
В этой главе мне захотелось заняться разработкой проблемы, которую я впервые очень кратко упоминал на банкете, организованном Британским психоаналитическим обществом в честь завершения
публикации Стандартной серии (Standard Edition) работ Фрейда (Лондон, 8 октября 1966 г.). Отдавая дань уважения Джеймсу Странчи (James Stranchey), я произнес тогда следующие слова:
«В своей топографической картине психики Фрейд не оставил места для культурного опыта. Он наделил новым значением внутреннюю психическую реальность, а это придало новую ценность тем предметам, которые реальны и принадлежат к миру внешнему. Понятием „сублимация“ Фрейд наметил путь в ту область, где культурный опыт становится значимым, но он, видимо, продвинулся по этой дороге недостаточно далеко для того, чтобы показать нам, где именно в психике человека находятся переживания, связанные с культурой».
Теперь я хочу расширить эту мысль и попытаться дать позитивную формулировку, которую затем можно будет рассмотреть критически. Я буду использовать мой собственный язык.
Цитата из Тагора всегда интриговала — меня. Будучи подростком, я вообще не представлял, что же она может означать, но она нашла свое место в моей душе и закрепилась там надолго.
Только когда стал фрейдистом, я
понял, что она означает. Море и берег обозначают бесконечный половой акт между мужчиной и женщиной, и из этого союза появляется ребенок, у которого есть лишь короткий миг, прежде чем он, в свою очередь, повзрослеет и сам станет родителем. Затем, будучи студентом и изучая символизм в бессознательном, я
знал (человек всегда уверен в том, что
знает), что море — это мать, а на берегу рожденный ею ребенок. Дети поднимаются из морской воды, их выбрасывает на сушу подобно тому, как Иона был извергнут из чрева кита. Теперь морской берег стал телом матери, и, после того как ребенок родился, его мама и теперь уже жизнеспособный младенец начинают знакомиться друг с другом.
Затем я начал понимать, что здесь работает некоторый усложненный подход к детско-родительским отношениям, но возможен и другой, наивный и инфантильный взгляд на эту ситуацию. Это взгляд со стороны ребенка, и его полезно было бы изучить. Долгое время я ничего не мог понять здесь, и это состояние непонимания кристаллизовалось в мою формулировку феномена перехода. Тем временем я поиграл с формулировками и попробовал описать «ментальные репрезентации» в терминологии объектов и феноменов, локализованных во внутренней психической реальности, как бы внутри. Также я проследил влияния действия таких психических механизмов, как проекция и интроекция. И я осознал, что, как бы то ни было,
игра по существу не принадлежит ни к внутренней психической реальности, ни к внешнему миру.
Теперь я вплотную подошел к теме данной главы и к вопросу:
если игра и не внутри, и не снаружи, то где же она! Я был близок к идее, которую я представляю в данной главе, еще в моей работе «Способность к Одиночеству» (Capacity to be Alone, 1958b), где я сказал, что, главное, ребенок одинок только в присутствии кого-то другого. В той работе я не развивал идеи о возможных точках соприкосновения в этих взаимоотношениях ребенка и другого человека.
Мои пациенты (особенно в случаях регрессии или зависимости в переносе или сновидениях переноса) научили меня тому, как находить ответ на этот вопрос: где же игра? Я хочу в теоретической формулировке в конденсированной, сжатой форме представить то, чему я научился в моей психоаналитической работе.
Я утверждал, что когда мы наблюдаем, как ребенок управляется с переходным объектом, первым объектом «не-Я», которым он обладает, мы одновременно становимся свидетелями первого использования ребенком символа и первого опыта игры. Существенный аспект моей формулировки по поводу феномена перехода заключается в соглашении о том, чтобы не оспаривать действия ребенка вопросами типа: ты сам сотворил этот объект, или он просто лежал тут рядом, и ты его нашел? То есть главной характеристикой переходных феномена и объектов являются особенности установки наблюдателя.
Объект является символом единства младенца и матери (или какой-то ее части). Этот символ можно локализовать. Он находится в том времени и пространстве, где и когда мать переходит (как это представляется ребенку) из состояния слияния с младенцем к тому, что ребенок переживает ее как объект, который должен быть воспринят, а не представлен себе внутри. Применение объекта символизирует единство двух сущностей, которые теперь стали разделенными, а именно матери и ребенка,
в той пространственно-временной точке, где впервые возникло состояние их разделенности (сепарированности[38]).
Сложности появляются сразу же, как только мы начинаем заниматься этой проблемой. Здесь необходимо постулировать следующее. Если применение ребенком объекта становится чем-то большим, чем просто действия, которые доступны даже умственно отсталому ребенку, то у него, в его внутреннем психическом плане, должен начать формироваться образ объекта. И благодаря доступности матери (отделенной от ребенка и при этом вполне реальной) вместе с ее умением заботиться о ребенке, у ребенка появляются силы для поддержания значимости внутренней ментальной репрезентации объекта, поддержания жизни образа.
Видимо, стоит попытаться сформулировать эту идею с учетом фактора времени. Ощущение присутствия матери длится
х минут. Если мама отсутствует дольше, чем
х минут, то ее образ тускнеет и вместе с тем прерывается способность ребенка использовать символ единства с матерью. Ребенок подвергается тяжелому стрессу, но вскоре его состояние восстанавливается, ведь через
х + у минут возвращается мама. В течении
х + у минут ребенок не особенно изменился. Но за
х +
у +-
z минут ребенок становится
травмированным. Возвращение матери через
х + у + z минут не вылечит нарушенное состояние ребенка. Травма — это значит, что ребенок пережил разрыв, разлом в непрерывной протяженности жизни, так что теперь его примитивные защитные механизмы направлены на то, чтобы защититься от повторения «непостижимой тревоги» или возвращения того состояния сильнейшего замешательства, которое относится к дезинтеграции образующейся структуры «Я».
Согласитесь, что подавляющее большинство детей никогда не испытывают депривацию в количестве
х +
у + z. Это означает, что у большинства детей нет некоторого опыта сумасшествия, они не знают, что это такое. Сумасшествие здесь означает
разрыв чего бы то ни было
во временной непрерывности существования человека. После «выхода» из
х +
у + z депривации, ребенку приходится все начинать сначала, при этом он лишен той опоры, тех корней, которые могли бы помочь ему сделать вновь единым и непрерывным то, что лежит в основе его личности. Ведь это подразумевает существование системы памяти и организации воспоминаний.
При этом если мать в определенные моменты балует ребенка, потакает ему, то этим может
исцелить последствия влияния
х + у + z депривации, так как это восстанавливает структуру «Я». Восстановление структуры «Я» заново формирует у ребенка способность использовать символы единства с матерью. И затем ребенок снова приходит к тому, чтобы допустить отделение от матери и даже извлечь из этого пользу. Вот та область, которую я намерен изучать, — сепарация, которая является вовсе не разъединением, а формой единства
[39].
В начале сороковых годов у меня был разговор с Марион Милнер, который стал этапным для развития моих идей. В ходе этого разговора она объяснила мне, насколько важную смысловую нагрузку может нести взаимодействие между двумя одинаковыми объектами: между краями двух занавесок или между поверхностями стоящих друг напротив друга кувшинов.
Замечу, что описанные мною явления не могут быть усилены. Этим они отличаются от феноменов, подкрепляемых на уровне инстинктов, где существенную роль играет момент оргазма и само удовлетворение тесно связано с оргазмом.
Но явления, происходящие в том феноменальном поле, существование которого я постулировал в данной работе, относятся к
опыту объектных отношений. Вспомните про «электричество», которое как будто генерируется в очень значимых или в очень близких контактах, например когда два человека любят друг друга. Этот феномен находится в пространстве игры и очень широко варьирует, в отличие от относительной стереотипности явлений, связанных с функционированием только на уровне тела либо только с внешней действительностью.
Психоанализ, который совершенно правильно подчеркивает значимость опыта, связанного с инстинктивными влечениями и реакцией на фрустрации, не смог дать таких же четких и убедительных формулировок по поводу той огромной энергии, которая заключена в этих не-оргаистических переживаниях, которые называются игрой. Мы начинали анализ с психоневроза и защитных структур «Я», которые возникают в связи с инстинктивными влечениями, а теперь пришли к тому, что рассматриваем здоровье исходя из состояния эго-защитных структур. Мы говорим, что здоровье — это когда защиты гибки, не ригидны и т. п. Но мы редко доходим до того этапа, когда уже можем описывать жизнь, как она есть, безотносительно к болезни или отсутствию болезни.
В общем, мы все еще бьемся над ответом на вопрос:
а что же собственно такое жизнь? Наши пациенты, страдающие психозами, вынуждают нас обратить внимание именно на базовые проблемы именно этого типа. Мы уже видим, что вовсе не удовлетворение инстинктивного влечения заставляет ребенка быть, чувствовать реальность своей жизни и осознавать, что жизнь достойна того, чтобы жить. Действительно, удовольствие и другие положительные эмоции, связанные с инстинктами, вначале выступают как второстепенные функции, и они становятся
искушением, если не могут опираться на сформированную способность личности к восприятию опыта вообще, включая опыт в области феномена перехода. Вначале должна быть личность, а потом уже использование этой личностью собственного инстинкта: наездник должен управлять конем, а не нестись сломя голову. Я бы здесь привел слова Буффона (Buffon): «Стиль — это и есть сам человек». Когда говорят о человеке, то
вместе с ним имеют в виду всю сумму его культурного опыта. Все это в целом и составляет человека как отдельную единицу.
Расширяя концепцию феномена перехода и игры, я использовал термин «культурный опыт». Но я не уверен в том, что смогу дать определение понятия «культура». Акцент здесь, несомненно, на слове «опыт». Произнося слово «культура», я подразумеваю традицию, передаваемую из поколения в поколение. Я думаю о том источнике, откуда возникло человечество, и куда отдельный человек или группа людей может внести что-то свое, и откуда каждый из нас может почерпнуть что-либо,
если у нас есть место, куда положить то, что мы там обнаружили.
Здесь все зависит от методов фиксации, записи того, что происходит. Нет сомнений в том, как много утрачено информации о ранних цивилизациях, но мифы, которые являются продуктом устной традиции, можно сказать, стали культурными «котлами», резервами, вместившими шесть тысяч лет человеческой культуры. История, идущая сквозь миф, продолжается и в наши дни, несмотря на все старания историков быть объективными (каковыми они никогда не станут, хотя должны пытаться).
Похоже, я достаточно сказал о том, что я знаю и чего не знаю относительно значения слова «культура». Меня интересует, в качестве второстепенной проблемы, тот факт, что в любом культурном пространстве
невозможно быть оригинальным, творческим человеком вне опоры на традицию. И наоборот, никого из тех, кто внес свой вклад в культуру, никогда не цитируют без кавычек, а плагиат считается непростительным. Взаимосвязанность оригинальности и традиционности как основа искусности, мастерства, мне кажется, еще один, и очень сильный, пример взаимосвязи между сепарацией и единением.
Я вынужден уделить еще некоторое время рассмотрению данного вопроса с точки зрения раннего опыта ребенка, когда только-только возникают его способности и который онтогенетически возможен благодаря исключительной чувствительности матери к потребностям ребенка, основанной на ее идентификации с ребенком. (Я имею в виду стадии развития, предшествующие овладению ребенком психическими механизмами, которые затем он сможет применить для организации комплексных защитных реакций. Повторяю: ребенок должен преодолеть некоторое расстояние, отойти от самых ранних переживаний, для того чтобы его взросление не было поверхностным.)
Эта теория не влияет на наши убеждения по поводу этиологии психоневроза и лечения таких пациентов, также она не противоречит структурной теории Фрейда (Эго, Ид, Супер-Эго). На что она действительно влияет — так это на наш подход к вопросу: что же такое жизнь? Вы можете вылечить пациента, не понимания при этом, что именно заставляет его или ее жить дальше. Нам сейчас в первую очередь важно открыто признать, что отсутствие психоневроза — возможно, здоровье, но это не есть жизнь. Пациенты-психотики, которые все время балансируют между жизнью и не-жизнью заставляют нас увидеть эту проблему, которая на самом деле относится не к психоневротикам, а ко всем человеческим существам. Я считаю, что эти, в общем-то сходные явления, жизнь и смерть, являются нашим шизоидным пациентам и пациентам с пограничными расстройствами через культурный опыт. Это те переживания, связанные с культурой, которые обеспечивают продолжение и непрерывность рода человеческого, что выходит за пределы существования отдельной личности. Я заявляю, что культурные переживания являются непосредственным продолжением игры, игрой для тех, кто до сих пор не умеет это делать.
Основные положения
Итак, я заявляю следующее:
1. Культурный опыт локализуется в
потенциальном пространстве между индивидом и социальным окружением (исходно это объект). То же самое можно сказать и об игре. Культурный опыт возникает там, где в жизни есть творчество, которое впервые проявляется в игре.
2. Применение этого пространства каждым человеком определяется теми его
переживаниями, опытом жизни, которые имеют место на ранних этапах существования индивида.
3. С самого начала максимальная интенсивность переживаний младенца сосредоточена в
потенциальном пространстве между субъективным объектом и объектом, воспринимаемым объективно, между продолжением «Я» и «не-Я». В этом потенциальном пространстве взаимодействуют два типа состояний: «нет ничего, кроме меня» и «есть объекты и явления за пределами моего всемогущества и неограниченного контроля».
4. У каждого ребенка здесь есть любимые и ненавистные переживания. Зависимость при этом максимальна. И это потенциальное пространство открывается только чувством доверия со стороны ребенка, доверия, связанного с надежностью материнской фигуры или элементов окружения, доверия, которое служит доказательством интроецированной надежности.
5. Чтобы исследовать игру, а затем жизнь индивида, связанную с культурой, необходимо рассмотреть судьбу этого промежуточного пространства, которое разделяет ребенка и материнскую фигуру (а она, как любой человек, может ошибаться), которая любит, а значит, в высшей степени адаптивна.
Это будет вполне ясно, что если считать данную зону частью структуры «Я», то эта часть не относится к «физическому Я», и то, на чем она зиждется, — не паттерны телесного
функционирования, а
переживания, связанные с телом. Эти переживания относятся к объектным отношениям не-оргаистического типа, или к так называемой связанности Эго, когда
непрерывность уступает место
близости.
Дальнейшие доводы
В свете заявленных положений ясна необходимость изучения судьбы этого потенциального пространства, которое должно (но может и не) занять свое место как жизненно важная область в психической жизни развивающейся личности.
Что происходит, когда мать, находясь в позиции абсолютной адаптированности, начнет постепенно уменьшать это подстраивание к потребностям ребенка? Вот здесь-то и проявляется проблема. И проблему эту нужно изучать, потому что она затрагивает технику нашей работы с пациентами, которые
регрессивны в плане зависимости. Среднестатистический хороший вариант развития на этом этапе (который начинается очень рано и повторяется вновь и вновь) — когда ребенок переживает интенсивное, порой даже мучительное удовольствие, связанное с игрой, которая разворачивается в его воображении. Там нет установленных правил игры, творчество — во всем, и хотя игра является одной из сторон объектных отношений, все, что происходит, случается именно с самим ребенком. Все физические явления в воображении преобразуются и наделяются качеством уникальности. Не правда ли, это можно обозначить словами «яркий», «интенсивный», «значимый», которые ранее мы применяли при описании переходного объекта?
Похоже, я вступил в ту область, где действует концепция Файрбайрна (Fairbairn, 1941) «поиска объекта» (в противовес «поиску удовлетворения»).
Наблюдая, мы заметим, что все, что есть в игре ребенка, — он уже ощутил, прочувствовал, проделал прежде, когда у него появились особые символы единства с матерью (переходные объекты), которые были им присвоены, а не созданы. Однако,
для ребенка (если мать может обеспечить соответствующие условия существования) каждая деталь его жизни насыщена творчеством. Ребенок по отношению к каждому объекту является первооткрывателем. Дайте ребенку такую возможность, и он начнет творить, используя для этого все окружающие его объекты. Если же не дать ребенку этого шанса, то он лишится того пространства, где могли бы быть игра или переживания, связанные с культурой; соответственно, будет потеряна связь с культурным наследием, и творчество этого ребенка не станет достоянием культуры в целом.
Известно, что «депривированные дети» беспокойны и не могут играть, а также обладают ослабленной способностью к восприятию культурного опыта. Это наблюдение приводит нас к изучению влияния депривации на потерю тех объектов, которые ранее принимались и ребенок считал их надежными. Подобное исследование раннего периода в развитии ребенка включает рассмотрение промежуточной области, потенциального пространства между субъектом и объектом. Для ребенка разрушение надежности или потеря объекта означают потерю пространства игры и потерю значимого символа. При благоприятном стечении обстоятельств, это потенциальное пространство заполняется продуктами творческого воображения самого ребенка. При неблагоприятном — ребенок перестает творчески использовать объекты. В другом месте (Winnicott, 1960) я описывал, как возникает защита в виде податливой и уступчивой ложной личности, при этом истинная личность оказывается спрятанной и у нее сохраняется потенциальная возможность творческого применения объектов.
В ситуациях, когда преждевременно разрушена надежность окружения, содержится и другая опасность. Она состоит в том, что данное потенциальное пространство может заполниться, но вкладывать туда будет кто-то другой, а не сам ребенок. Создается впечатление, что все, что оказывается в этом пространстве чужого, от другого человека, приобретает характер угрозы и наказания, и у ребенка нет способов избавиться от этого. Психоаналитикам стоит быть осторожными здесь — они создают доверительные отношения и открывают эту промежуточную зону, где может иметь место игра. А затем заполняют это пространство своими интерпретациями, которые на самом деле являются продуктами их собственного воображения.
Здесь я хочу привести цитату из работы Фреда Пло (Fred Plant, 1966), психоаналитика-юнгианца:
«Способность формировать образы и творчески перекомбинировать их в новые паттерны, в отличие от снов и фантазий, зависит от способности индивида доверять».
Слово
доверять в этом контексте содержит тот смысл, который я имею в виду, когда говорю о доверии, основанном на переживаниях в период максимальной зависимости, предшествующий сепарации и независимости и связанным с ними эмоциям.
Я полагаю, что уже пришло время признать эту
третью область на уровне психоаналитической теории, область, содержащую культурный опыт, который является прямым продолжением опыта игры. Мы знаем об этом благодаря пациентам-психотикам, но это гораздо важнее для понимания жизни в целом, чем для оценки здоровья людей. (Остальные две области — это, с одной стороны, внутренняя, или индивидуальная, психическая реальность, а с другой — реальный мир и люди, живущие в нем.)
Резюме
Я предпринял попытку обратить внимание читателя на исключительную, как теоретическую, так и практическую, значимость третьей области — пространства игры, которое развивается и становится той областью, где сосредоточена вся жизнь человека, связанная с творчеством и культурой. Эта третья зона противопоставляется внутренней, психической реальности индивида и внешнему реальному объективному миру, в котором он живет. Я поместил эту важнейшую область
опыта в потенциальном пространстве между индивидом и его окружением. Это пространство одновременно разделяет и соединяет мать и ребенка в том случае, когда любовь матери проявляется или выражается как надежность другого человека, и это действительно дает ребенку ощущение доверия к окружению.
Обратите внимание, что это потенциальное пространство — фактор, который очень сильно варьирует от индивида к индивиду, в то время как два других параметра — индивидуальная, или психическая, реальность и объективно существующий мир — относительно постоянны (в первом случае имеет место биологическая детерминированность, а во втором всеобщность этого феномена).
Потенциальное пространство между младенцем и матерью, между ребенком и его семьей, между индивидом и обществом или миром в целом зависит от переживаний, которые ведут человека к доверию. В этом пространстве есть что-то священное для человека, здесь его жизнь наполнена творчеством.
Наоборот, чрезмерная эксплуатация этого пространства ведет к патологическому состоянию, когда человек переполнен ощущениями, связанными с преследованием и наказанием, и не может сам от них избавиться.
Возможно, уже из этого понятно, насколько важно для аналитика осознавать сам факт существования этого пространства, единственного, где может возникнуть игра, откуда, в момент перехода от непрерывности к близости, берет начало феномен перехода в целом.
Надеюсь, мне удалось начать ответ на свой же собственный вопрос: где локализован культурный опыт?
8. Наше жизненное пространство[40]
Я хочу изучить то место (в самом отвлеченном смысле этого слова), в котором мы находимся большую часть времени, проживая свою жизнь.
Уже сам язык, который мы используем, естественным образом подталкивает нас к тому, чтобы заинтересоваться этой проблемой. Я могу
быть в замешательстве, затем выбираться из этого состояния или пытаться как-то упорядочить ситуацию, так что, в конце концов, пойму,
где я на самом деле. Или я почувствую, как будто бы я в
море, ориентируюсь, чтобы попасть в порт (во время шторма — не важно, в какой именно), а потом, уже на суше, я смотрю на здание, которое построено
на скале, а не на песке; а
в своем доме, который (поскольку я англичанин) является моей крепостью, я чувствую себя
на седьмом небе.
Я могу без особых натяжек использовать свой повседневный язык, когда говорю о своих действиях во внешней, разделенной между людьми реальности или же о внутренних мистических переживаниях, которые испытал, сидя на земле и размышляя о бренности всего сущего.
Применение слова «внутренний» для обозначения психической реальности, наверное, довольно непривычно для читателя. Изнутри, по мере эмоционального развития и становления личности, складывается по кирпичику богатство личности (или же мы видим ее обедненность).
Итак, места два — внутри и снаружи по отношению к индивиду. Но только ли они?
Подход к жизни человека исключительно с точки зрения поведения, условных рефлексов и тренировки связан с так называемой поведенческой терапией. Но большинство из нас больше не желают ограничивать самих себя рамками поведения или демонстративной экстравертированностью, подобно людям, которые, хотят они этого или нет, живут в соответствии с бессознательной мотивацией. Другие, наоборот, упирают на «внутреннюю» жизнь и считают, что экономические проблемы, даже нищета, ничего не значат по сравнению с мистическими переживаниями. Для них человеческое «Я» — безграничная вселенная, тогда как с точки зрения бихейвиористов, которые рассуждают в терминах внешней реальности, вселенная тянется от луны до звезд, от начала и до конца во времени, которое не имеет ни начала, ни конца.
Я попытаюсь найти подход, который был бы между этими крайностями. Внимательно посмотрев на свою жизнь, каждый из нас заметит, что большую часть времени мы тратим не на действия и не на размышления, а как-то иначе. Я задаю вопрос: как? И попробую ответить на него.
Промежуточная область
В работах по психоанализу, а также в обширной литературе, написанной под влиянием работ Фрейда, заметна тенденция подробно останавливаться
либо на жизни человека как его взаимоотношениях с объектами,
или же на его внутренней жизни. Предполагается такой постулат: жизнь человека, который строит объектные отношения, направлена на удовлетворение инстинктивных влечений, на простое получение удовольствия. Для завершенности этой формулировки можно еще подключить теорию замещения и все механизмы сублимации. Там, где возбуждение не удовлетворяется, фрустрации порождают дискомфорт, и человек оказывается пойманным. Эти переживания дискомфорта включают физические дисфункции, чувство вины или облегчения, когда находишь козла отпущения или источник угрозы.
Относительно мистических переживаний, в психоаналитической литературе мы видим человека, который, когда спит, видит сны, а когда не спит, то все равно находится в процессе, похожем на сновидение. Сюда относятся все настроения и бессознательные фантазии, от идеализации, с одной стороны, до ужаса разрушения всего и вся, что есть доброго и хорошего, с другой, — вот крайности восторга и отчаяния, ощущения телесного благополучия и чувства, что болеешь, суицидальных побуждений.
Это сильно упрощенный, несомненно в чем-то исковерканный, но краткий обзор многочисленной литературы, но я и нацелен не столько на исчерпывающую формулировку, сколько на прояснение того факта, что в литературе не написано то, что нам нужно узнать. Вот, например, что происходит, когда мы слушаем симфонию Бетховена, пришли в картинную галерею, читаем на ночь «Троилус и Крессида»
(Troilus and Cressida) или играем в теннис? Что делает ребенок, который сидит на полу и играет в свои игрушки под присмотром мамы? Что делают подростки, когда тусуются в компании?
Вопрос не только в том, что мы делаем. Нужно поставить его так: где мы находимся (если мы вообще можем где-то находиться)? Мы применили теории внутреннего и внешнего, а хотим обнаружить третий вариант. Где мы находимся, когда делаем то, что на самом деле занимает большую часть нашего времени, а именно радуемся самим себе? Объясняет ли теория сублимации это явление полностью? Будет ли польза от рассмотрения данного вопроса исходя из возможности существования жизненного пространства, которое нельзя описать ни термином «внутреннее», ни термином «внешнее»?
Лайонел Триллинг (Lionel Trilling, 1955) в своем выступлении на Ежегодных Фрейдовских чтениях (Freud Anniversary Lecture) сказал следующее:
«[Фрейд] с особым трепетом относился к применению слова [культура], но в то же время, и это невозможно не заметить, в том, что он говорит о культуре, неизменно есть какое-то сопротивление и раздражение. Отношение Фрейда к культуре можно назвать амбивалентным».
Мне кажется, что в этой лекции Триллинг имел в виду ту же самую неадекватность, на которую я ссылаюсь здесь, хотя говорил об этом совсем другим языком.
Я сейчас рассматриваю то изощренное, далекое от естественности удовольствие взрослого человека, которое он получает от жизни, от красоты или абстрактных построений человеческого ума; в то же время я рассматриваю и насыщенные творчеством движения младенца, который тянется к маминому рту, ощупывает зубы, одновременно смотрит в ее глаза, видит ее творчески. Я считаю, что игра вовлекает в культурные переживания и формирует основу культурного опыта.
Теперь, если мои доводы вас убедили, у нас есть три (вместо двух) состояния человека, которые можно сравнить между собой. Взглянув на эти три состояния, мы сможем увидеть одну особую характеристику, которая разводит то, что я называю культурным опытом (или игрой), и остальные два состояния.
Посмотрим сначала на внешнюю реальность и контакт индивида с внешним миром с точки зрения объектных отношений и применения объектов. И мы увидим, что сама по себе внешняя реальность неизменна, более того, вклад на уровне инстинктов, который обеспечивает функционирование объектных отношений и применение объекта, для индивида тоже фиксирован, хотя и варьируется в соответствии с этапом развития, возрастом и тем, насколько свободно индивид может пользоваться собственными инстинктами. Здесь мы можем быть свободны, в большей или меньшей степени, в соответствии с законами, которые досконально разобраны в психоаналитической литературе.
Далее перейдем к внутренней психической реальности, которая становится достоянием каждого человека в соответствии с достигнутым уровнем зрелости. Сюда включается формирование целостного «Я», которое существует одновременно и внутри и снаружи и имеет определенную границу. Здесь вновь мы видим фиксированность — в наследственных факторах, в организации структуры личности, в интроекции факторов окружения и проецированных личностных особенностях.
Я полагаю, что область, доступная для «жизни третьего типа» (где есть культурный опыт и творческая игра), напротив, очень сильно различается у разных людей. Это происходит потому, что сама эта третья зона является продуктом
опыта отдельной личности (младенца, ребенка, подростка, взрослого) в заданном социальном окружении. Этот тип изменчивости качественно отличается от вариативности, присущей феноменам внутренней психической реальности индивида и внешней, разделенной реальности. Протяженность этой третьей области может быть больше или меньше, в соответствии с суммарным опытом индивида.
Сейчас я занимаюсь этим особым типом вариативности и хочу исследовать его суть. Я исследую индивида в мире с точки зрения позиции, занимаемой здесь культурным опытом (игрой).
Потенциальное пространство
Мой тезис состоит в том, что творческая игра и культурный опыт, во всех своих сложнейших проявлениях, располагаются в
потенциальном пространстве между матерью и ребенком. Давайте обсудим, насколько эта идея ценна сама по себе. Я имею в виду гипотетическую область, которая существует (хотя это невозможно) между младенцем и объектом (матерью или какой-то ее частью) на протяжении той фазы, когда вместо слияния с объектом возникает существование отдельно от объекта, который начинает восприниматься как «не-Я».
Раньше ребенок был с матерью одним целым, а теперь он отделяет ее от собственной личности, а мама, в свою очередь, все меньше и меньше подстраивается к потребностям ребенка (как по причине того, что она сама выходит из состояния сильнейшей идентификации со своим ребенком, так и потому, что она видит новую потребность ребенка, потребность ребенка в матери как отдельном от него существе)
[41].
Это то же самое, что область опасности, которая проявляется рано или поздно во всех случаях работы с психиатрическими пациентами. Пациент чувствует себя в безопасности и вполне жизнерадостно, поскольку аналитик надежен, подстраивается под него, с готовностью включается в работу. И пациент начинает ощущать потребность вырваться на свободу, обрести независимость. Точно так же, как это происходит у младенца с матерью, пациент не может отделиться, если терапевт одновременно не готов отпустить его, кроме того, со стороны терапевта любое движение в сторону отделения от пациента страшно подозрительно, и может привести к неприятным последствиям.
Вспомним пример про мальчика и шнурок (глава 1). Я говорил о двух объектах, которые посредством шнурка одновременно
соединяются и сепарируются друг от друга. Это парадокс, который я принимаю как есть, не пытаясь его разрешить. Отделение ребенком мира объектов от своего «Я» достигается только через отсутствие пустого пространства между ними, через потенциальное пространство, которое заполняется так, как я это описываю.
Можно сказать, что у человека не происходит полного разделения, есть лишь угроза сепарации, и эта угроза может быть минимально или максимально травматична в зависимости от опыта самых первых сепарации.
Вы спросите, а как же разделение субъекта и объекта, младенца и матери, которое должно произойти на самом деле, должно произойти с пользой для всех участников и в подавляющем большинстве случаев? И это несмотря на принципиальную невозможность сепарации? (С парадоксом необходимо смириться.)
Ответим так. В жизненном
опыте ребенка, а именно в отношениях с матерью или материнской фигурой, обычно развивается доверие (на некотором уровне), уверенность в ее надежности; или, говоря о психотерапии, к пациенту приходит ощущение, что забота психотерапевта идет не от потребности управлять зависимым человеком, а от его способности идентифицироваться с пациентом, но не так: «На вашем месте я бы…». Другими словами, любовь матери или терапевта состоит не только в удовлетворении потребности в зависимости, но и в том, чтобы создать для ребенка или пациента благоприятные условия для перехода от зависимости к самостоятельности.
Без любви ребенка можно
вскормить, но
воспитание, лишенное любви и человеческого тепла, никогда не преуспеет в том, чтобы сделать из него самостоятельного человека. Там, где находятся доверие и надежность, и есть наше потенциальное пространство. Область, которая может стать бескрайней зоной сепарации, зоной, которую младенец, ребенок, подросток, взрослый могут наполнить игрой, которая со временем станет сопричастна культуре.
Особое качество этого места, где расположены игра и культурный опыт, состоит в том, что его существование зависит от жизненного опыта, а не от наследственных факторов. Здесь, где происходит отделение матери от ребенка, с одним младенцем обходятся очень чутко и нежно, поэтому у него есть обширное пространство для игры. А у другого ребенка опыт настолько беден, что возможностей для развития почти не остается, за исключением интроверсии и экстраверсии. В последнем случае потенциальное пространство незначимо, поскольку никогда не было доверия, которое неотделимо от надежности, и, следовательно, не было и легкости в самореализации.
В опыте более счастливого младенца (ребенка, подростка, взрослого) не встает вопрос о сепарации, потому что в потенциальном пространстве между ребенком и матерью появляется творческая игра, возникающая в ненапряженном состоянии естественным образом. Именно здесь развивается использование символов, которые обозначают одновременно внешний феномен и явления, происходящие внутри индивида, когда он смотрит на окружающий его мир.
Остальные две области не теряют своей значимости благодаря третьей зоне, которую я здесь предлагаю рассмотреть. Если мы по-настоящему занялись изучением человека, то мы должны быть готовы к тому, что наши наблюдения будут накладываться друг на друга. Индивиды строят отношения с внешним миром таким образом, чтобы получать удовольствие, связанное с инстинктивными влечениями, как напрямую, так и через сублимацию. Нам также известна первостепенная важность сна и сновидений, которые находятся в ядре личности, а также созерцания и ненаправленной, непоследовательной умственной релаксации. Тем не менее, мы считаем игру и культурный опыт ценными, но в особом смысле: они связывают между собой прошлое, настоящее и будущее,
они заполняют пространство и время. Они требуют к себе особого, осмысленного внимания и получают его, но, конечно, не настолько сильно осмысленное, как то, к которому они стремятся.
Мать адаптируется к потребностям ее младенца или ее ребенка, характер и личность которого постепенно развиваются, и эта адаптация придает ей некоторую надежность в глазах ребенка. Переживание этой надежности взращивает в младенце или подрастающем ребенке чувство доверия. Уверенность ребенка в материнской надежности, а значит, и в надежности других людей и вещей, делает возможным отделить «Я» от «не-Я». В то же время можно говорить о том, что сепарация аннулируется наполнением потенциального промежуточного пространства творческой игрой, использованием символов и всем тем, что в конечном счете представляет собой культурную жизнь.
Нарушение доверия во многих случаях служит помехой для способности ребенка играть, поскольку потенциальное пространство имеет границы. Также это скажется негативно на самой игре и культурном опыте, поскольку, хотя у ребенка есть пространство для освоения знаний, нарушение произошло и со стороны тех людей, которые составляют окружение ребенка и знакомят его с культурой, исходя из уровня его развития. Естественно, ограничения возникают из относительной недостаточности познаний в сфере культуры или даже из-за нехватки культурной осведомленности людей, ответственных за ребенка.
Итак, исходя из описанного выше в данной главе, в первую очередь необходима защищенность в отношениях мать-дитя и ребенок-родитель на ранних стадиях развития каждого мальчика или девочки, чтобы могло появиться потенциальное пространство, в котором, если есть доверие, ребенок может творчески играть.
Во-вторых, необходимо, чтобы люди, которые заботятся о ребенке, какого бы возраста он ни был, были готовы знакомить детей с культурным наследием общества, конечно, исходя из индивидуальных способностей, психологического возраста, этапа развития ребенка.
Затем полезно будет подумать о жизни человека в этой третьей области, которая и не внутри и не снаружи, в реальности, разделенной между людьми. Эта промежуточная жизнь протекает в потенциальном пространстве, отрицая саму идею пространства и сепарацию ребенка от матери и все последствия этого процесса. Это потенциальное пространство сильно варьирует от одного человека к другому, и его основа — это доверие младенца по отношению к матери, которое он
переживает в течение достаточно длительного периода, во время критической стадии разделения «Я» и «не-Я», когда только-только начинается формирование автономной самостоятельной личности.
9. Роль матери и семьи как зеркала в развитии ребенка[42]
В индивидуальном эмоциональном развитии
предшественником зеркала является лицо матери. Я хочу обратиться к нормальному протеканию этого процесса, а также к психопатологии в данной области.
Здесь, несомненно, я нахожусь под влиянием работы Жака Лакана «Исследование Зеркала» (Jacques Lacan. Le Stade du Miroir. 1949). Он обращается к исследованию роли зеркала в развитии «Я» каждого человека. Однако Лакан не рассматривает зеркало как лицо матери, и именно это я собираюсь теперь сделать.
Я говорю сейчас лишь о зрячих детях. До тех пор пока не будут сформулированы основные положения, я должен отложить попытки найти более широкое применение моих идей и распространение их на слабовидящих или слепых детей. В «сыром» виде моя формулировка звучит так: на ранних стадиях эмоционального развития человека для ребенка жизненно важную роль играет окружающая среда, которая по-настоящему еще не отделена от ребенка, не отделена самим ребенком. Постепенно появляется сепарация между «не-Я» и «Я», темп этого процесса разный, в зависимости от самого ребенка и от его социального окружения. Основное, главное изменение происходит в отделении от матери, когда ребенок начинает воспринимать ее как часть внешнего мира. Если на месте матери пусто, никого нет, то задачи ребенка, связанные с развитием, безгранично усложняются.
Для упрощения понимания функции окружения, давайте кратко перечислим, что туда входит:
1. Воспитание.
2. Забота.
3. Знакомство с окружающими объектами.
Ребенок может реагировать на эти влияния, но результатом здесь будет максимальное развитие личности ребенка. Под словами «развитие личности» на данной стадии я имею в виду различные значения слова «интеграция», а также психосоматическое взаимодействие и объектные отношения.
Ребенок получил заботу и участие, все хорошо, и он начинает знакомиться с объектами, которые представляются ему таким образом, чтобы не нанести ущерб его переживанию всемогущества, неограниченного контроля над объектами. И тогда ребенок сможет применять объекты, при этом у него будет чувство, как будто это субъективный объект и он сам его создал.
Все это происходит в самом начале жизненного пути человека, а если этого нет, то в эмоциональном и умственном развитии ребенка возникают серьезные проблемы
[43].
Итак, наступает момент, когда ребенок осматривается вокруг себя. Когда младенец сосет грудь, он, может быть, не смотрит на саму грудь. Более характерным является то, что ребенок смотрит в лицо матери (Toy (Gough), 1962). Что младенец при этом видит? Чтобы ответить, давайте вспомним какие-нибудь случаи из психоаналитической практики, когда пациенты возвращались к самым ранним переживаниям и при этом могли их вербализовать (когда чувствовали, что способны на это), сохранив всю тонкость доречевого, невербалированного и невербализуемого опыта (возможно, поэзия — здесь исключение).
Что видит ребенок, когда он или она смотрит на лицо мамы? Я предполагаю, что, в обычной ситуации, ребенок видит там самого себя или саму себя. Другими словами, когда мама смотрит на младенца,
то, как она сама выглядит, имеет прямое отношение к тому, что она сама видит. Это выглядит очень правдоподобно. Но дело в том, что, если мать, которая заботится о своем ребенке, естественным образом выполняет какое-то действие очень хорошо, все равно нельзя принимать это как универсальную закономерность. Возьмем случай с ребенком, чья мать может отразить, то есть передать ребенку, лишь свое собственное настроение или, того хуже, лишь ригидность своих собственных защитных реакций. Что в таком случае младенец видит на лице матери?
Конечно, бывают случаи, когда мать не может отреагировать. Однако, многим детям приходится переживать довольно длительные периоды, когда они не получают обратно то, что сами отдают. Они смотрят и не видят самих себя. И этому есть последствия. Во-первых, их собственная креативность начинает притупляться, и дети так или иначе начинают искать другие способы, чтобы где-то снаружи, при помощи окружающей среды, найти самих себя по кусочкам. Эти способы тоже могут быть вполне успешными, ведь слепым детям также необходимо получать свое отражение не обладая зрением, через другие органы чувств. Конечно, если ее лицо неподвижно, мама при этом способна реагировать как-то по-другому. Большинство матерей реагируют, когда ребенку плохо или он злится, и особенно когда он заболел. Во-вторых, ребенок привыкает к тому, что когда он смотрит, то, что он видит, — это лицо матери. В этом случае лицо матери уже перестает быть зеркалом. Таким образом восприятие здесь встает на место апперцепции, замещает
то, что
могло бы стать началом значимого обмена с окружающим миром, двухстороннего процесса, когда самосовершенствование чередуется с открытием новых значений в воспринимаемом мире.
Конечно, в этой схеме есть и промежуточные стадии. Некоторые дети не оставляют надежду и исследуют объект, делают все возможное, чтобы обнаружить его значение, если только оно доступно для восприятия. Другие дети, которых угнетает такое неадекватное поведение матери, для того чтобы предсказывать настроение матери, исследуют разные варианты ее внешнего вида, так же как все мы занимались бы наблюдением за погодой. Младенец быстро научается делать такие прогнозы: «Так, вот теперь можно вполне безопасно отвлечься от маминого настроения и вести себя спонтанно, но в любой момент ее лицо может застыть или начнет доминировать ее собственное настроение, и тогда я должен буду отказаться от собственных потребностей, иначе ядро моего „Я“ может пострадать от этого нападения».
Сразу за этим в направлении патологии идет предсказуемость, которая ненадежна и запирает ребенка в границах его собственной способности предусматривать происходящие явления. Это вносит элемент хаоса, и ребенок будет уходить от этой ситуации или, защищаясь, будет смотреть, только чтобы воспринимать. У ребенка, с которым так обращались, в дальнейшем будут затруднения: что такое зеркало, и что оно должно делать? Если лицо матери безответно, то зеркало тоже будет вещью, на которую надо смотреть, не заглядывая в него.
Чтобы вернуть ситуацию к норме, девочки обычно, когда разглядывают свое лицо в зеркале, таким образом успокаивают, обнадеживают себя тем, что там — мамин образ и мама может видеть ее, мама с ней в
гармоничном контакте. Когда юноши и девушки, в своем вторичном нарциссизме, ищут красивого партнера чтобы влюбиться, это уже признак накопившихся сомнений в бесконечности любви и заботы со стороны их матерей. Поэтому мужчина, который влюбляется в красотку, сильно отличается от мужчины, который любит девушку и чувствует, что она красива, видит, в чем ее красота.
На этом я прерву разъяснения своей теории, а вместо этого приведу несколько примеров, чтобы читатель сам смог подвергнуть эти идеи критическому пересмотру.
Случай 1
Начну с рассказа о моей знакомой, замужней женщине, у которой три прекрасных сына. Она также оказывала хорошую поддержку своему мужу, который занимался творческой и очень важной работой. В частной жизни, не на публике, эта женщина всегда была близка к депрессии. Она сильно портила свою супружескую жизнь тем, что каждое утро просыпалась в состоянии отчаяния и безнадежности. И ничего не могла с этим поделать. Разрешение от этой парализующей депрессии происходило каждое утро, когда в конце концов приходило время вставать с постели, и умывшись и одевшись, она могла «навести марафет», буквально, надеть на себя лицо. Только тогда она чувствовала себя обновленной, могла контактировать с окружающим миром и выполнять свои семейные обязательства. Этот исключительно умный и ответственный человек на каждую неприятность реагировал обострением хронической депрессии, что в итоге перешло в хроническое физическое заболевание и закончилось инвалидностью.
Вы видите здесь повторяющийся паттерн, который легко прослеживается в социальном или клиническом опыте каждого из нас. Этот случай иллюстрирует в преувеличенном виде то, что есть в любой нормальной ситуации, и только это. Эта гиперболизация связана с задачей использования зеркала для наблюдения и подтверждения своих гипотез. Женщине пришлось быть матерью самой себе. Если бы у нее была дочь, это несомненно стало бы ей огромным облегчением, но наверное дочь тоже пострадала бы, ведь перед ней встала бы безумно важная задача: скорректировать неуверенность мамы по поводу взгляда на нее ее собственной матери.
Читатель наверняка вспомнил Френсиса Бэкона (Francis Bacon). Сейчас я обращаюсь не к Френсису Бэкону, который сказал: «Прекрасное лицо — это молчаливое согласие» и «Настоящую красоту не видно на рисунке», а к невыносимому, талантливому и вызывающему художнику современности, который всегда рисует значительно искаженные, деформированные лица людей. С точки зрения, которая предлагается в этой главе, этот Френсис Бэкон из наших дней видит свое отражение в лице матери, но несколько искаженно, с его или же с ее стороны, что раздражает его, а заодно и всех нас. Я ничего не знаю о частной жизни этого художника и привожу его пример только по той причине, что он утверждает этот свой подход во всех современных дискуссиях по поводу лица и самости. Лица Бэкона кажутся мне далекими от восприятия актуальной реальности, когда он смотрит на лица, у меня создается впечатление, что он мучительно стремится к тому, чтобы быть увиденным, а это лежит в основе творческого видения мира.
Кажется, мне удалось связать апперцепцию (целостное постижение) и восприятие, постулируя исторический процесс (внутри индивида), который зависит от того, чтобы быть увиденным:
Когда я смотрю, меня видят, а значит, я существую.
Теперь я могу позволить себе самому смотреть и видеть.
Теперь я смотрю на мир творчески, и то, что я постигаю внутри, я и воспринимаю извне тоже.
На самом деле, я не стремлюсь видеть то, чего нет в поле моего зрения (если только я не устал).
Случай 2
Пациентка сообщила: «Вчера вечером я пошла в кафе-бар и была просто в восторге, когда увидела там множество совершенно разных персонажей» и описала некоторых из тех людей. Сейчас у этой пациентки потрясающая внешность, и если бы она умела этим пользоваться, то могла бы быть «звездой» в любой компании. Я спросил: «А на вас кто-нибудь смотрел?» Она смогла перейти к мысли о том, что на самом деле она «зажигала» окружающих, но вместе с нею был ее друг, и ей казалось, что все смотрят именно на него.
На этом этапе мы вместе с пациенткой уже смогли дать предварительный вариант ранней истории и детства пациентки исходя из того, что ее должны видеть, чтобы она почувствовала свое существование. Ее реальный опыт в этом отношении был плачевным.
Затем, в обилии материала, эта тема затерялась, но в определенной степени весь анализ крутился вокруг «быть увиденной», и это было в каждый момент актуально для нее. Временами тот факт, что ее на самом деле видят, хоть это незаметно, был для нее самым главным в терапевтическом процессе. Эта пациентка чрезвычайно чувствительный ценитель живописи и изобразительного искусства, отсутствие красоты разрывает ее личность, она переживает недостаток красоты как ужас (дезинтеграция или деперсонализация).
Случай 3
В одном из моих исследований участвовала женщина, которая проходила очень длительный психоанализ. Эта пациентка, уже в солидном возрасте, вдруг выяснила, что жизнь реальна. Циник мог бы сказать: ну и что дальше? Но сама она чувствовала, что дело стоило того, а я сам научился через нее многому из того, что я знаю о феноменах самого раннего детства.
Этот анализ включал серьезную и глубокую регрессию к инфантильной зависимости. Ее окружение было жестко травматичным во многих аспектах, здесь я хочу рассмотреть влияние на пациентку материнской депрессии. Мы постоянно возвращались к этой проблеме, и, как аналитик, я был вынужден взять на себя роль этой матери, с тем чтобы пациентка смогла начать свое существование в качестве отдельной личности
[44].
Недавно, когда наша работа уже подходила к завершению, пациентка послала мне фотографию своей няни. У меня уже был портрет ее матери, и я в подробностях был знаком с ригидностью защитных механизмов этой женщины. Очевидным стало то, что мама (по словам пациентки) выбрала депрессивную нянечку, чтобы избежать потери контакта с детьми. Жизнерадостная няня сразу же «украла» бы детей у депрессивной матери.
У этой пациентки вообще не было такой распространенной у женщин характеристики, как интерес к своему лицу. У нее, видимо, в подростковом возрасте не было стадии изучения себя в зеркале, а сейчас пациентка заглядывает в зеркало лишь затем, чтобы в очередной раз напомнить себе, что «выглядит как старая карга» (ее собственное выражение).
За неделю перед этой сессией она увидела мою фотографию на обложке в книге и написала мне письмо, в котором просила выслать более крупную копию, чтобы можно было во всех подробностях рассмотреть эти «развалины». Я послал фотографию (она живет далеко, и мы можем встречаться лишь эпизодически), сопроводив ее интерпретацией, в основе которой — именно та тема, которую я обсуждаю в этой главе.
Эта пациентка считала, что просто захотела иметь фотографию человека, который очень много сделал для нее (я действительно много работал с ней). Но ей также нужно было сказать о том, что мое морщинистое лицо в чем-то похоже на застывшие лица ее матери и няни.
Я уверен, что это было важно — то, что я понимал, зачем нужно лицо, что я мог проинтерпретировать то, что пациентка искала лицо, в котором могла бы отразиться ее собственная личность и одновременно, из-за морщин, прослеживалось бы застывшее лицо матери.
В действительности у пациентки было вполне приятное лицо, и она потрясающе симпатичный человек, когда находится сама в таком настроении. Она, на определенный период времени, может-взять на себя заботы и проблемы другого человека. Но как часто это ее качество заставляло людей воспринимать ее как человека, на которого можно положиться! Факт заключается в том, что как только пациентка чувствует себя вовлеченной, особенно в депрессию другого человека, она сразу же уходит и оказывается в постели с грелкой, и только лишь это тепло может согреть ее душу. Именно в этом ее ранимость.
Случай 4
После того как все это уже было написано, появился материал еще одной сессии, который вполне может иметь в своей основе обсуждаемые здесь проблемы. Пациентка — женщина, безмерно озабоченная тем, на каком этапе становления личности она находится. В какой-то момент во время сессии она пропела припев из песенки «Зеркало на стене», а потом сказала: «Представьте себе, как, наверное, это ужасно, когда ребенок смотрит в зеркало и не видит там ничего!»
Дальнейший материал был связан с тем, что ее окружало в детстве, когда мама с кем-то разговаривала, вместо того чтобы активно включаться о взаимодействие с младенцем. Суть в том, что когда девочка смотрела на мать, она видела ее разговаривающей с другим человеком. Далее пациентка рассказала о своем увлечении живописью Френсиса Бэкона и очень хотела, чтобы я взял у нее почитать книгу об этом художнике. Она обратилась к одной из интересных деталей в этой книге. Френсис Бэкон «говорит, что ему нравится, когда его картины закрывают стеклом, ведь тогда люди видят не только саму картину, они могут увидеть самих себя»
[45].
Затем пациентка заговорила о, «Исследовании Зеркала» («Le Stade du Miroir»), она знала эту работу Лакана, но сама она не могла сделать то, что, кажется, удалось мне — установить связь между зеркалом и лицом матери. В мою задачу на этой сессии не входило прояснение этой связи для пациентки, которая находилась на этапе знакомства с новыми для себя вещами и явлениями, а в подобных обстоятельствах преждевременная интерпретация уничтожает креативность пациента и травматична, поскольку направлена против процесса личностного роста. Эта тема, оставаясь важной на протяжении всего анализа этой пациентки, проявлялась самыми разными способами, в самом разном обличье.
Моменты, когда младенец или ребенок видит, заглянув в лицо матери, а затем и в зеркале, самого себя, дают возможность по-новому взглянуть на саму задачу анализа и психотерапии. Психотерапия заключается не в том, чтобы сделать умную и искусную интерпретацию; в основном она заключается в том, чтобы на протяжении некоторого времени постоянно возвращать пациенту то, что отдает он сам. Результат — это сложная производная, которая включает лицо, предмет отражения и то, как происходит это отражение. Мне приятно думать о своей работе именно так и понимать, что если я делаю это хорошо, то пациент сможет обнаружить самого себя, сможет научиться существовать и обретет чувство реальности. Это чувство — больше чем существование, оно означает существовать за самого себя, строить объектные отношения за самого себя и обрести самость, которая станет безопасным местом, где можно не напрягаться, почувствовать релаксацию.
Но мне бы не хотелось, чтобы создалось впечатление того, что эта задача отражения является нетрудной. Она тяжела и изнурительна в эмоциональном плане. Но мы получаем за это награду. Даже если состояние пациента не улучшится, он будет благодарен за то, что мы видим его таким, какой он есть, а именно это приносит психотерапевту глубочайшее удовлетворение своей работой.
То, о чем я говорил применительно к роли матери, которая отражает и показывает младенцу его самого, столь же важно и во взаимоотношениях более старшего ребенка с матерью и семьей. Естественно, по мере развития ребенка сам процесс взросления усложняется, спектр идентификаций ребенка становится шире, и ребенок все меньше и меньше зависит от получения отражения себя в лицах родителей, братьев и сестер, других близких людей (Winnicott, 1960a). Тем не менее, если семья остается, целостной, то каждый ребенок может извлечь дополнительную пользу из того, что он имеет возможность увидеть себя сквозь призму установок отдельных членов или семьи в целом. Сюда же мы можем включить и настоящие зеркала, а также все, что ребенок имеет возможность увидеть в других людях. Должно быть понятно, что реальные зеркала здесь значимы главным образом в метафорическом смысле.
Таков еще один возможный способ рассмотрения вклада семьи в развитие и обогащение внутреннего мира личности каждого из своих членов.
10. Взаимосвязь перекрестных идентификаций, независящая от инстинктивной активности
В этой главе я непосредственно сталкиваю две противоречащие друг другу концепции, каждая из которых по-своему иллюстрирует процессы общения. Есть множество различных типов коммуникаций, и необходимо как-то их классифицировать, даже если какие-то разграничения будут искусственными.
Мой первый пример — психотерапевтическая консультация с девочкой-подростком. В результате этой встречи мы подготовили почву для интенсивной психоаналитической работы, которая в течение трех лет смогла успешно завершиться. Однако выбор именно этого случая обусловлен не столько продуктивным результатом, а тем фактом, что все случаи данного типа так или иначе иллюстрируют способы работы психотерапевта в качестве зеркала для пациента.
Описание этого случая я хочу дополнить теоретическими положениями по поводу важности коммуникации в построении перекрестных идентификаций.
Общий комментарий
Пациенты с нарушенной способностью идентификации через проекцию или интроекцию представляют серьезную трудность для психотерапевта, который обязательно должен принять на себя все, что связано с отреагированием и явлениями
переноса, бессознательными по своей природе. В таких случаях вся надежда терапевта — в том, чтобы как-то развить, усилить перекрестные идентификации пациента, а это происходит не столько при помощи интерпретирования, сколько благодаря особым переживаниям в аналитическом процессе. Чтобы запустить эти переживания, терапевт должен учесть и фактор времени, не стоит надеяться на немедленные результаты. Даже точные и своевременные интерпретации не обеспечивают результат в полной мере.
В этой части работы психотерапевта интерпретации в большей степени связаны с вербализуемым опытом, который переживается прямо сейчас, в консультативном процессе. Концепция интерпретации как вербализации возникающих сознательных идей здесь не совсем подходит.
Должен заметить, что явной причины, по которой этот материал должен был оказаться в книге, посвященной феномену перехода, здесь нет, однако есть масса вопросов по поводу самого раннего этапа функционирования индивида, когда еще не сформированы те механизмы, которыми занимается классический психоанализ. Термин «феномен перехода» может быть использован для объяснения типов функционирования в раннем возрасте в любой классификации. Было бы полезным также обратить внимание на тот факт, что существует множество различных вариантов классификации психических процессов, и это имеет огромное значение в исследованиях психопатологии шизоидных состояний. Более того, если удастся найти удовлетворительный подход к рассмотрению самых ранних этапов жизни человеческого существа, можно будет воспользоваться теми же самыми категориями классификации. Также нет никаких сомнений в том, что понятие «феномен перехода» можно применить и к культурному аспекту жизни человека, включая религию, искусство, философию.
Беседа с подростком. Терапевтическая консультация[46]
Саре было, на момент консультации, шестнадцать лет. Ее брату было четырнадцать, а сестре — девять лет, семья полная.
Оба родителя переехали вместе с Сарой из деревни, где жила семья. Всех троих я видел лишь те три минуты, пока мы знакомились, и между нами восстановился контакт. Я не стал интересоваться целями их визита. Затем родители перешли в приемную. Я отдал папе ключи от входной двери со словами о том, что не знаю, как долго будет идти наша беседа с Сарой.
Я опускаю довольно много деталей, накопившихся с тех пор, как я впервые встретился с Сарой — ей тогда было два года.
В шестнадцать у Сары были прямые волосы до плеч, неяркого цвета, она выглядела здоровой физически и хорошо сложенной для своих лет. Девочка была одета в черный полиэтиленовый плащ и выглядела очень просто, совсем по-деревенски. Она умная девочка, с чувством юмора, но очень серьезная, она с радостью отнеслась к тому, чтобы начать нашу встречу с игры.
«А что за игра?»
Я рассказал ей про сквигл — игру без правил
[47].
1. Моя неудавшаяся попытка сквигла.
2. Моя вторая попытка.
По словам Сары, школа ей нравилась. Мама с папой хотели, чтобы она приехала и встретилась со мной, но направили ее из школы. Она сказала: «Я уверена, что тогда, в два года, меня привели к вам потому, что мне не нравилось, что родился брат; но я сама этого не помню. Кажется, я могу вспомнить это лишь частично».
Она посмотрела на сквигл 2 и спросила: «А эта штука может пойти вот сюда наверх?»
Я сказал: «Здесь нет правил». И она превратила мой сквигл обратно в листик. Я сказал, что мне понравилось, и отметил грацию в линиях рисунка.
3. Ее сквигл. Она сказала: «Я сделаю его как можно сложнее». Одна из линий в этом сквигле была дорисована сознательно. Эта линия стала у меня указкой, а остальное превратилось в строгую классную даму. Девочка сказала: «Нет, это не моя учительница, она немножко не такая. Это может быть та учительница, которая мне не нравилась, из моей первой школы».
4. Мой, которого Сара превратила в человечка. По ее словам, у него были длинные волосы, как у мальчика, а по лицу он мог быть и мальчиком, и девочкой.
5. Ее, которого я попытался сделать танцором, и испортил первоначальную картинку своими дорисовками.
6. Мой сквигл, из которого Сара очень быстро сделала человека, прислонившегося носом к теннисной ракетке. Я спросил: «Ты хочешь сыграть?» Она ответила: «Нет, конечно, что вы».
7. Ее сквигл, нарисованный вполне сознательно, обдуманно, на что указала она сама. Я сделал из него что-то вроде птички. Сара показала, что сама могла бы сделать (если посмотреть вверх ногами) с этой картинкой, получился какой-то дядя в цилиндре и большом тяжелом воротнике.
8. Мой, которого она превратила в старый шаткий нотный пюпитр. Сара любит музыку, поет, но сама не играет.
9. Здесь у нее появились серьезные трудности с самой техникой сквигла. Нарисовав картинку, она сказала: «Это все стиснуто, несвободно и не может распространяться вокруг».
Вот главное сообщение. Естественно, то, что здесь было нужно, — это чтобы я воспринял это как сообщение и был готов разрешить ей развивать эту идею дальше.
(Читателю нет необходимости вчитываться в детали этой беседы, но я все-таки привожу ее полностью, ведь материал доступен, и упустить здесь что-либо было бы все равно, что не воспользоваться возможностью рассмотреть пример самораскрытия подростка в ситуации психотерапевтического контакта).
Я спросил: «Это ты, не так ли?»
Она ответила: «Да. Видите, я немного испугалась».
Я сказал: «Это естественно, ведь ты не знаешь меня, не знаешь, почему пришла сюда и что мы будем делать, и…»
И она сама же продолжила: «Вы могли бы дальше сказать о том, что эта сквигл-игра — не спонтанная. Я все время пытаюсь произвести впечатление, поскольку чувствую себя недостаточно уверенно. Я очень давно такая, много лет. Я не помню, чтобы когда-то было по-другому».
Я сказал: «Печально, не правда ли?» — показывая таким образом, что я ее услышал и у меня есть чувства, связанные с теми смыслами, которые она вложила в свои слова, обращенные ко мне.
Теперь мы с Сарой находились в общем пространстве общения, и она стремилась занять, распространиться в нем, раскрывая себя мне и себе самой.
Она продолжала: «Это глупо, просто тупость какая-то. Я все время прилагаю усилия, чтобы заставить людей любить меня, уважать, не делать из меня дурочку. Это просто эгоизм. Если бы я старалась, этого можно было бы избежать. Конечно, когда ты стараешься развлечь людей и они смеются, это так и надо. Но я все время сижу, ничего не делая, и. жду — смотрю, какое такое впечатление я произвела на человека. Я продолжаю делать это, пытаюсь быть потрясающе успешным человеком».
Я сказал: «Но здесь, сейчас ты не такая».
Она: «Да, потому что сейчас это не важно. Видимо, вы сами здесь для того, чтобы обнаружить, в чем же суть дела, так что вы даете мне возможность не делать всего этого (о чем говорилось выше. —
Прим. пер.). Вы хотите понять, все ли у меня нормально. Мне кажется, что это просто особая фаза развития, просто я расту. Я не могу избавиться от этого, не знаю, зачем это надо».
Я спросил: «А в мечтах ты как себя представляешь?»
«О, я вижу себя спокойной, собранной, легкомысленной, очень успешной, ужасно привлекательной, стройной, с длинными руками и ногами, с длинными волосами. Я плохо рисую (попытка 10) сейчас хочу изобразить, как я бегу, размахивая сумочкой. Я не застенчива и не пуглива».
«В своих мечтах ты мальчик или девочка?»
«Обычно я девочка. Я не воображаю себя мальчиком, не хочу им быть. У меня были мысли про то, что я мальчик, но не было желания. Конечно, у мужчин есть вера в себя, влиятельность, они могут достичь намного больше».
Мы рассматривали мужчину на картинке 6 и она сказала: «Солнечный день, и ему жарко, он устал, а сейчас отдыхает, втиснув свой нос между струнами ракетки. А может, он подавлен».
Я спросил Сару про ее отца.
«Папа не заботится о себе, он думает только о работе. Да, я люблю его и очень им восхищаюсь. А у моего брата барьер между ним самим и другими людьми. Он замечательный, очень дружелюбный и ласковый. Но то, о чем он думает, спрятано, говорит он только в радостной, беззаботной манере. Он очарователен, очень веселый и хорошо соображает, но свои проблемы держит при себе.
Я — наоборот. Я врываюсь к людям в комнаты с криком: „О, я так несчастна!“ и все такое».
«А с мамой ты можешь так себя вести?»
«О, да, а в школе для этого есть мои друзья. И мальчики в этом смысле лучше, чем девчонки. Мой очень хороший друг — девочка, совершенно такая же, как я сама, но только чуть старше. Кажется, она всегда может сказать, что сейчас чувствует себя точно так же, как и год назад. Мальчики не болтают, они не называют меня дурой. Они добрые и они лучше понимают меня. Понимаете, мальчикам не нужно
доказывать свою собственную мужественность. Моего лучшего друга зовут Дэвид. Он часто бывает в подавленном, унылом настроении. Он меня младше. Вообще, у меня видимо-невидимо приятелей, но только несколько настоящих друзей, которые относятся ко мне доброжелательно».
Я спросил про ее сновидения.
«Большинство — страшные. Но одно повторялось несколько раз».
Я попросил ее попробовать изобразить этот сои.
11. Повторяющийся сон. «Ситуация во всем достаточно реальная, похоже на обстановку у меня дома. Высокая изгородь, за ней розовые кусты, узкая дорожка. За мной гонится мужчина, я бегу. Все это очень ярко, до ужаса. И гадко. После того как заворачиваю за угол, я чувствую, что мои ноги в чем-то вязнут. Не вижу в этом ничего хорошего».
Позже она добавила: «Он огромный и черный (не чернокожий). Он — дурное предзнаменование. Я просто в панике. Нет, этот сон не касается секса. Я не знаю о чем он».
12. «Другой сон относится к моему детству, мне было, наверное, лет шесть. Это наш дом. Я нарисовала вид сбоку, но во сне было по-другому
[48]. Слева ограда, которая переходит в сам дом. За ней дерево. Я вбегаю в дом, мчусь наверх по лестнице и нахожу в буфете колдунью. Это похоже на детскую сказку. У колдуньи метла и гусь. Она проходит мимо меня и
оборачивается. В этом сне все напряженно. И тишина при этом, ты ждешь звуков, а их нет. В буфете здоровенный белый гусь, но для этого крошечного шкафчика он чересчур огромен, на самом деле он не мог там поместиться». «Путь до ограды (которая превращалась в дом) был вниз под горку. Я любила сбегать с этой горы, она очень крутая, и ты мчишься вниз, теряя всякий контроль над собой. Как только колдунья делала шаг, предыдущий след исчезал, поэтому я не могла уйти от нее или спуститься обратно к дому».
Я представил это Саре как часть ее воображаемых отношений с матерью.
Она сказала: «Возможно, так и есть. Это даже можно объяснить. Тогда, в том возрасте, я постоянно врала маме. Я до сих пор обманываю, но очень стараюсь останавливать себя вовремя».
Здесь она обращается к чувству разорванности, диссоциированности. Возможно, что здесь также выражено чувство Сары, что ее обманули, предали.
Я спросил, ворует ли она сама вещи у других людей, и она сказала: «Нет, с этим проблем никогда не было».
Дальше она рассказывала о том, как он врала тогда и все это было связано с ее ежедневными обязанностями по дому: «Ты убралась в комнате? Пол натерла?» и так далее. «Я все время врала, и чем сильнее мама пыталась подталкивать меня к признанию лжи, тем больше я обманывала. Я много врала в школе и также по поводу работы. Я не особо вкладываю себя в работу. Понимаете, в прошлом семестре мне было хорошо, а в этом — я несчастна. Мне кажется, я расту очень быстро, ну, не слишком уж быстро, но расту. Понимаете, в плане логики и рациональности я развиваюсь куда быстрее, чем в плане эмоций. Эмоционально я отстаю от других».
На мой вопрос про мастурбацию она ответила: «Да, конечно, несколько
лет назад».
На этом этапе стала говорить о вещах, важность которых она чувствовала сама, и возможно здесь она ближе всего подошла к формулированию своей собственной позиции. Она сказала: «Я не могу объяснить это; у меня такое чувство, как будто я стою на крыше церкви, на самом шпиле. Я совсем беспомощна, вокруг нет ничего, за что можно ухватиться, чтобы не упасть. Кажется, я могу только балансировать там, и больше ничего».
Тогда я ей напомнил, хотя и знал, что сама она этого не помнит, как она изменилась после того, как мама, которая до сих пор очень хорошо заботилась о ней, вдруг перестала это делать — не могла по причине беременности. (Саре тогда было год и девять месяцев, а следующая беременность матери пришлась на ее шести или семилетний возраст.)
Казалось, что девочка все это понимает, но сказала она следующее: «Все серьезнее. Что до преследования, то это не мужчина преследует девушку, а
что-то преследует
меня саму. Люди
за моей спиной делают это».
На этом этапе изменился сам характер нашей беседы — Сара превратилась в больную, демонстрирующую выраженное психиатрическое расстройство параноидального типа. Действуя таким образом, она попадала в зависимость от определенных особенностей, обнаруженных ею психотерапевтической ситуации, а также показывала высокий уровень доверия ко мне как к терапевту. Она могла бы доверять мне в работе с ее состоянием как болезнью или стрессом, но не в том случае, когда будет виден мой страх того, что она больна.
Тема увлекла ее и Сара продолжала: «Если я не успеваю вовремя взять себя в руки и справиться с этим логически, то страх проникает внутрь и ранит меня».
Я предложил Саре, чтобы она попробовала рассказать мне самую тяжелую ситуацию в ее жизни.
«Мне было лет, ну скажем, одиннадцать, я как раз только что перешла в свою последнюю школу. В младших классах мне нравилось [и она описала цветущие кусты, которые были в школе, и многое другое, что ей нравилось там, а также рассказала про директрису], а средняя школа оказалась враждебной, полной снобизма и лицемерия». Она говорила с сильным чувством: «Я чувствовала, что
ничего не стою, и мой испуг проявлялся на физическом уровне. Мне казалось, что в любой момент меня могут зарезать, пристрелить, задушить. Особенно ярко я чувствовала страх быть заколотой.
Ты как будто бы носишь мишень на спине, не зная об этом».
После этого она сказала, совершенно другим голосом: «Ну, мы продвинулись куда-нибудь?»
Казалось, для того, чтобы продолжать, ей нужно какое-то поощрение. Я, понятное дело, не знал, что именно может выясниться в дальнейшем рассказе.
«Хуже всего мне было (сейчас все не так плохо), когда я доверяла кому-то какую-то очень личную информацию и
это делало меня
абсолютно верной этим людям, зависимой от них. Но видите, они изменились, никого из них больше нет со мной». И добавила: «Самое неприятное — когда плачешь и никого невозможно найти, никого нет рядом». После чего она смогла отойти от позиции уязвимого, страдающего человека и произнесла: «Хорошо, я справлюсь с этим. Но хуже всего, когда я в депрессии, я кажусь нудной и неинтересной. Я в такие периоды очень угрюма и погружена в свои мысли, и все, кроме моей подруги и Дэвида, отворачиваются от меня».
Здесь ей потребовалась помощь с моей стороны.
Я сказал: «Депрессия имеет свое собственное значение, что-то, связанное с бессознательным. [С этой девочкой я мог использовать это слово.] Ты ненавидишь человека, которому доверяешь, но который изменился, перестал быть надежным, перестал понимать тебя, а может быть даже, стал озлобленным. А ты ударяешься в депрессию, вместо того чтобы ненавидеть его — человека, который был, но теперь перестал быть надежным».
Кажется, это помогло.
Она продолжала: «Мне не нравятся люди, которые причиняют мне боль», — после чего начала напрямую ругать какую-то женщину из школы, отбросив логику и позволив себе выражать чувства, даже те, которые не имеют достоверного основания.
Можно сказать, что сейчас она вновь переживала какой-то маниакальный приступ, который случился в школе и о котором я ничего не знал. Теперь понял, почему ее отправили домой и рекомендовали проконсультироваться у меня. А дальше все было примерно так:
«Эту женщину из школы я просто не выношу, невозможно описать словами, как она мне не нравится. В ней есть все самое плохое, и я это вижу, поскольку у меня у самой тоже все это есть. Она думает только о себе. Она эгоцентрична и тщеславна, я — то же самое. Она равнодушна, бессердечна и недоброжелательна. Она работала нянечкой, ее заботы — это стирка, кофе с бисквитами и все такое. Она не делает свою работу. Сидит, заигрывает со всеми молодыми мужчинами из персонала, пьет херес [употребление алкоголя в школе запрещается], курит крепкие русские сигареты. И делает все это совершенно открыто в
нашей столовой.
Я взяла нож и просто кинула его об дверь. Если бы я задумалась, то поняла бы, какой устроила шум. Конечно, входит эта женщина. „Что это такое! Ты в своем уме?“ Я попыталась ответить вежливо, но повелась на ее слова о том, что у меня помутилось в голове. Конечно, я наврала, и никто не знает, что это ложь, кроме моей подруги, Дэвида и теперь вас. И хотя она и сказала „Я тебе не верю“, я смогла ее убедить. (Она наврала — сказала, что пыталась починить дверь, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь верил ей)».
Она еще не закончила свой рассказ и была очень возбуждена: «У меня есть такая шапка [описала ее форму], а она пришла и говорит: „А ну-ка сними эту дурацкую шляпу!“ Я сказала: „Нет, почему это?“ Она сказала: „Потому что я велела. Снимай немедленно!“ После этого я закричала и все кричала и кричала, не переставая!»
Тут я вспомнил, как она изменилась в год и девять — из нормального ребенка превратилась в больного, — мать была на третьем месяце, и это явно травмировало девочку — она кричала и кричала, не переставая. Я в то время работал с Сарой, и мои наблюдения, сделанные четырнадцать лет назад, позволили объяснить рассказанную сейчас историю, так что я не сомневаюсь в правильности выбранного пути.
Сара продолжала говорить про ту женщину: «Понимаете, внутри
она такая же неуверенная, как все остальные люди. Она орала: „Ну что же ты больше не кричишь?“, как бы провоцируя меня. Ну, я и закричала, а она: „Ну что ты орешь?“ Я закричала громче. На этом все закончилось. Вы понимаете, она женщина немолодая».
Я спросил: «Сорок?»
Она: «Да», и продолжала: «Я подала жалобу обо всем, что она делает в
нашей комнате, как мы обязаны стучаться в нашу дверь, чтобы войти, и как она ноет: „Никогда не зайдете ко мне, всегда только за булочками и кофе приходите“ (это действительно так)».
Этот материал обнажает амбивалентность в паре альтернатив — механизмы регресса и механизмы прогресса, который ведет к независимости.
Далее я не мог делать заметки, поэтому значительная часть материала не запротоколирована.
Мы очень серьезно обсудили случившееся. Я указал ей, что возможность полностью выразить свою ненависть стала для нее (Сары) облегчением, но проблема не только в этом. На самом деле, ее провоцирует не та ненавистная женщина, а кто-то другой, надежный и понимающий. При угрозе провокации, реакции той женщины вызывают ненависть. Речь идет о маме, которая была хорошей, а стала плохой; произошло внезапное разрушение иллюзии, именно в тот момент, когда мама была на шестом месяце беременности, когда вместе с изменения, произошедшими с мамой изменилась и сама Сара.
Сара постоянно напоминала мне, что у ее мамы есть все, что она хочет в ней видеть и считает, что должно быть у мамы.
Я говорил, что знаю об этом, но первоначальное внезапное разрушение иллюзии сформировало у нее уверенность в том, что даже очень хороший человек через некоторое время все равно изменится и станет ненавистным. Однако (сказал я) я знаю., что Сара никогда не станет ненавидеть, не станет уничтожать хорошего человека. Я применил эту мысль к себе самому, сказав: «Вот я здесь перед тобою. Тебе пришлось обходиться со мной особым образом. Но твой паттерн никуда не делся — ты ждешь, что я стану другим, может быть даже предам тебя».
Поначалу я решил, что Сара не поняла идею паттерна ожиданий, но вскоре она продемонстрировала понимание, рассказав мне об опыте ее отношений с одним мальчиком. Мальчик был просто изумительный. Сара смогла почувствовать свою зависимость от него. Он никогда не кидал ее, любил и любит до сих пор. Но ее потерявшее надежду «Я» пыталось испортить отношения. Она старалась разлюбить его, а он продолжал ее любить. Через два месяца такой жизни он сказал: «Мы больше не увидимся, никогда, ни при каких обстоятельствах. Это слишком жутко». Сара была шокирована и удивлена этим. Он ушел, и их отношениям пришел конец. Она отлично понимала, что она сама способствовала их разрыву, из-за своей иллюзии, что он изменится, и что он разрушит их отношения.
Я указал ей на повторяемость событий, которую она боится и одновременно ждет, которая уже является частью ее личности. Основа возникновения этого замкнутого круга — в том, что, когда мать забеременела, Саре было всего лишь полтора года и она не могла справиться с изменениями, произошедшими с мамой, кроме как посредством заключения, что все хорошее когда-то изменится и будет вызывать лишь ненависть и желание разрушить.
Казалось, что Сара уже разобралась во всем этом и сейчас постепенно успокаивается. Она рассказала, как мать говорила ей о том, что это просто этап развития и она должна, минуя саму жизнь, изо дня в день выстраивать свою собственную
философию.
Затем она рассказала про своего исключительного Дэвида. Он циник. Но сама она сказала: «Цинизм — не для меня. Я не понимаю этого. Для меня вполне естественно доверять людям. Вот только у меня, депрессия. Дэвид рассказывал мне про экзистенционализм, и это было просто как обухом по голове. Мама объясняла, что людям может казаться, что они нашли правильный подход к жизни, но потом они отказываются от этого и начинают все сначала. Я хочу начать. Мне надоело жить подобно растению. Я хочу быть менее эгоистичной, отдавать людям больше и быть более восприимчивой».
Ее «идеальное Я» сильно отличалось от того, что она обнаружила, исследуя саму себя.
Я сказал: «Хорошо, но я хочу, чтобы ты понимала, что я вижу одну вещь, которую сама ты не видишь, и что твоя злость относится к доброй женщине, а не злой. Хорошая женщина становится плохой».
Она сказала: «Это ведь мама, но с мамой сейчас все отлично».
Я сказал: «Да, в твоем сне, который ты не помнишь, ты сама уничтожаешь хорошую, надежную маму, и это твой паттерн. Теперь
твоя задача — пережить какие-то неприятности в отношениях, когда ты становишься злой и подозрительной, но каким-то образом все остаются живы».
Казалось, что мы уже закончили работу, но Сара задержалась: «Но скажите, как мне делать так,
чтобы не ударяться в слезы?» — Она сказала, что она самом деле плакала на протяжении всего нашего разговора, просто не давала слезам течь: «Иначе я бы не смогла
говорить».
Сара прошла через некоторый опыт, который я с нею разделил. Она выглядела ожившим человеком, хотя мы оба устали.
В конце она спросила: «Ну хорошо, и что мне делать? Вечером я на поезде приеду опять в школу, и что будет дальше? Если я не буду заниматься, меня выгонят, Дэвид и мои друзья считают меня плохой, но…»
Тогда я сказал: «Знаешь, разобраться во всех этих делах куда важнее,
чем выучить историю или другие уроки, поэтому как насчет того, чтобы посидеть дома до конца семестра? Мама согласится?»
Она сказала, что это замечательная идея, о которой она уже подумывала тоже. В школе ей дадут задание, и в мирной домашней обстановке она обдумает все, о чем мы сейчас говорили.
Я обсудил это с мамой, Сара тоже присутствовала.
Напоследок Сара сказала мне так: «Дрджно быть я вас утомила».
Я чувствовал, что Сара подошла к очень значимым переживаниям и что она сумеет извлечь пользу в следующие два месяца, проведенные дома, а впереди будет наша следующая встреча — на каникулах.
Вывод
Результатом психотерапевтической консультации стало стремление Сары начать психоаналитическую терапию. Вместо того чтобы вернуться в школу, она начала анализ и работала с полной отдачей на протяжении трех или четырех лет. Могу с уверенностью утверждать, что терапия закончилась естественным образом и может быть названа успешной.
В двадцать один год Сара успешно училась в университете. По тому, как она строила свою жизнь, было ясно, что Сара освободилась от параноидальных вкраплений, вынуждавших ее разрушать хорошие взаимоотношения.
Заключение
Я бы прокомментировал свое собственное поведение во время этой сессии. Большинство из того, что я говорил, не было необходимым в тот момент, когда произносилось. Но не забывайте 6 том, что в тот момент я не мог знать, будет ли другая возможность оказать Саре помощь. Если бы я заранее знал, что она будет продолжать лечение, то говорил бы значительно меньше, кроме тех замечаний, когда я давал Саре знать, что услышал ее, заметил, что она чувствует, и показывал ей собственными реакциями, что способен справиться с ее тревогами. Я тогда был бы больше похож на зеркало.
Построение взаимоотношений с точки зрения перекрестных идентификаций[49]
Давайте рассмотрим общение, исходя из наличия или отсутствия способности применять психические механизмы проекции и интроекции.
Постепенное развитие объектных отношений — признак прогресса в становлении эмоциональной сферы индивида. Первая крайность в понимании объектных отношений состоит в том, что им приписывается инстинктивная природа, и в данной концепции объектных отношений охвачен весь спектр феноменов, связанных и берущих свое начало в замещениях и символизациях. Другая крайность — заключение о том, что объектные отношения существуют с самого рождения, когда объект еще не отделен от субъекта. Сюда подходит термин «слияние», ведь всегда может произойти возврат из сепарированного состояния, к тому же, хотя бы теоретически, стоит принимать в расчет самый начальный этап, стадию, предшествующую сепарации «не-Я» от «Я» (ср.: Милнер, 1969). Именно здесь применительно к игре возникает слово «симбиоз» (Малер, 1969), но мое мнение, что этот термин слишком биологически нагружен, чтобы быть приемлемым. С точки зрения наблюдателя, в первичном состоянии слияния можно вычленить объектные отношения, но не забывайте, что вначале любой объект является «субъективным». Я использую этот термин «субъективный объект» для того, чтобы отличать наблюдаемое мною от переживаемого самим ребенком (Winnicott, 1962).
По мере эмоционального развития индивида он достигает этапа, когда уже может быть назван целостным, отдельным от других. Я это называю стадией «Я существую» (Winnicott, 1958b), и значение этой стадии (судя по названию) в том, что индивиду необходимо обрести
существование прежде, чем он станет что-то
делать. «Я существую» должно предварять «Я делаю», иначе делание будет бессмысленным для самого ребенка. Предполагается, что эти этапы развития неуловимо проявляются уже в самом раннем возрасте и их подпитывает сила «Я» мамы ребенка, а значит, они напрямую зависят от способности матери адаптироваться к потребностям ребенка. Я уже много раз говорил о том, что адаптация к потребностям ребенка состоит не только в удовлетворении его инстинктивных побуждений, а в первую очередь рассматриваться с точки зрения ухода и воспитания.
Ребенок развивается и постепенно, если все идет хорошо, становится все более самостоятельным, способным брать на себя ответственность, независимо от внешней поддержки. Конечно, остается уязвимость по отношению к серьезным неприятностям со стороны социального окружения, которые могут привести к потере индивидом новой способности сохранять целостность, будучи независимым.
Эта стадия, которую я называю «Я существую» очень тесно связана с концепцией Мелани Кляйн (1934) о депрессивной позиции. На этой стадии ребенок может сказать так: «Вот я. Внутри меня — я, а снаружи от меня — не я». Слова «внутри» и «снаружи» относятся здесь одновременно и к психическому, и к телесному, поскольку, по моему мнению, удовлетворительное взаимодействие между психикой и телом является условием здорового развития. Но тогда возникает вопрос о том, где находится разум, ведь его необходимо рассматривать отдельно, постольку поскольку он становится отдельным феноменом по отношению к взаимодействию психики и тела (Winnicott, 1949).
Внутренняя психическая реальность ребенка становится все более организованной и структурированной, поскольку она постоянно должна приходить в соответствие некоторым внешним образцам. Сейчас уже развита способность к объектным отношениям, а именно способность, основанная на обмене между внутренними моделями и внешней реальностью. Эта способность видна по тому, как ребенок применяет символы, в его творческой игре и, как я пытался продемонстрировать, в постепенном становлении способности применять культурный опыт в той мере, в которой это выполнимо в непосредственном социальном окружении ребенка (глава 7).
А теперь обратимся к очень важному новообразованию этого периода, а именно к построению взаимоотношений на основе механизмов проекции и интроекции. Это больше связано с эмоциональной привязанностью, чем с инстинктивным влечением. И хотя идеи, о которых идет речь, были сформулированы еще Фрейдом, наше внимание они привлекли благодаря Мелани Кляйн, которая в своих работах (Klein, 1932, 1957) убедительно разделяет проекцию и интроекцию, подчеркивая первостепенную важность обоих механизмов.
Описание индивидуального случая: женщина сорока лет, не замужем
Для того чтобы проиллюстрировать важность этих механизмов на практике, я хочу привести выдержку из анализа одной из моих пациенток. Здесь нет необходимости более подробной информации, за исключением того, что ее жизнь была лишена красок и яркости, поскольку она не была способна «поставить себя на место другого человека». Она либо находилась в изоляции, либо усиленно пыталась, под действием бессознательных импульсов, строить объектные отношения. Специфические трудности пациентки были обусловлены очень сложными причинами, но можно утверждать, что она все время жила в мире, искаженном ее неспособностью сопереживать другим людям. Вместе с этим она не понимала, что другие люди могут понимать ее чувства и знать, что она за человек.
Будет вполне понятным, что в случаях, как с этой пациенткой, которая нормально работает, и лишь эпизодически ее состояние ухудшается настолько, что возникает опасность суицида, это состояние является защитной реакцией и связано с сохранившейся с детства несостоятельностью лишь частично. Как это часто бывает в психоанализе, для того чтобы понять суть исходного состояния, мы должны изучить психические механизмы, исходя из уже сформированных, высокоразвитых, сложных защитных структур. У этой моей пациентки были несколько областей, в которых она проявляла сильнейшую эмпатию, например, она очень сочувствовала и симпатизировала всем дискриминируемым людям во всем мире. Сюда включались все группы, которые подвергаются притеснению со стороны других групп, а также женщины. В глубине души она знала, что женщины — хуже других, «третьесортная» группа. (Вместе с тем, мужчины — это ее отщепленное мужское начало, поэтому в своей реальной практике она не могла впустить в свою жизнь мужчин. Тема, связанная с отщеплением элемента другого пола, значима, но здесь обсуждаться не будет, поскольку не является основной темой главы; в главе 5 она рассмотрена подробно.)
За несколько недель до обсуждаемой сессии произошло несколько знаковых событий, которые подтолкнули пациентку к осознанию нехватки способности к проективной идентификации. Она несколько раз заявила довольно агрессивно, как будто бы ждала, что ей будут возражать на то, что никогда не стоит сожалеть об умершем человеке. «Вы можете пожалеть того, кто остался и любил умершего, но мертвый — он мертв, и все». Это было вполне логичным и для этой пациентки здесь не было ничего, кроме логики. Такая позиция пациентки заставляла всех ее друзей ощущать какую-то недостаточность, нехватку в ее личности чего-то неосязаемого, и поэтому круг ее друзей не был широким.
В течение этой сессии пациентка упомянула о смерти мужчины, которого она очень уважала. Она понимала, что таким образом говорит о возможности смерти аналитика, о потери той части, в которой она все еще нуждалась. Создавалось ощущение, что она понимала, насколько бессердечно относится к аналитику — ей нужно было, чтобы он жил лишь на основании того, что она в нем все еще нуждалась (ср.: Блейк (Blake), 1968).
В какой-то момент, моя пациентка сказала, что ей безумно хочется кричать, причем этому нет никакой причины. Я указал ей на то, что говоря это мне, она также сообщила и том, что не может закричать. Она ответила так: «Здесь я не могу кричать, потому что только здесь я что-то получаю и я не хочу тратить время даром» и, не выдержав, со словами «Все это вздор!» зарыдала.
Фаза завершилась, и пациентка начала рассказывать мне сны, которые она записала.
В школе, где она преподает, один из учеников, мальчик, возможно, скоро оставит учебу и пойдет работать. Она отметила, что здесь снова есть чему огорчиться, это похоже на потерю собственного ребенка. В анализе, последние год или два, это была область, в которой механизм проекции приобрел очень большое значение. Дети, которых она учила, а в особенности талантливые, олицетворяли ее саму, их достижения были ее достижениями, а если они покидали школу, то это было для нее несчастьем. Черствое отношение с их стороны, от тех учеников, которые были ее олицетворением, особенно если это были мальчики, заставляло ее чувствовать себя обиженной, оскорбленной.
Это пространство, где стало возможным осуществление проективной идентификации, появилось не так давно. И хотя с клинической точки зрения это можно расценивать как патологическую компульсивность, все это остается ценным с точки зрения тех потребностей, которые есть у детей по отношению к учителю. Важно то, что она не относилась к этим детям как к какому-то сброду, хотя из того, что она рассказывала об этой школе, становится понятно, что большинство персонала там просто презирали учеников.
Впервые за весь длительный период анализа появился материал, на котором я мог явно показать пациентке ее проекции. Конечно, я не использовал этот термин. Тот мальчик из сна, который мог уйти работать вместо того, чтобы закончить свое обучение, воспринимался бы моей пациенткой (его преподавателем) как место, где можно найти что-то, относящееся к ее «Я». То, что она там обнаружила и было ее отщепленным мужским началом (но, как я уже сказал, эта важная подробность здесь обсуждаться не будет).
Теперь пациентка могла начать обсуждать эти перекрестные идентификации и вспоминать какие-то недавние переживания, когда она была невероятно жестока к тем, кто не понимал ее неспособность к проекции и интроекциии. На самом деле она, нездоровый человек, навязывала себя другому человеку, у которого были свои проблемы, она требовала к себе постоянного внимания «абсолютно не обращая внимания» (как сказала она сама, увидев себя новыми глазами) на ту реальную ситуацию, в которой находится тот человек
[50]. На этом этапе она применила слово
отчуждение описывая чувства, которые испытывала всегда по причине неспособности построения перекрестных идентификаций. Она смогла пойти дальше и сказала, что ее ревность по отношению к другу (который был для нее как брат), которому она внушала, что больна, во многом была направлена на позитивную способность жить и общаться при помощи перекрестных идентификаций.
Моя пациентка далее продолжила рассказом о своих переживаниях во время экзамена, на котором она следила за порядком. Мальчик, один из ее учеников, сдавал экзамен по искусству. Он сделал прекрасный рисунок, но потом все перечеркнул. Ей это показалось просто ужасным на вид, и она знала, что это тот вопрос, некрасивый с точки зрения экзаменационной этики, по которому некоторые ее коллеги будут здесь спорить. Смотреть на хорошую картину, от которой отказался сам автор и которую уже не спасти, — это было серьезным ударом по ее нарциссизму. Она использовала этого мальчика для выражения собственного жизненного опыта, и это так глубоко укоренилось, что она лишь с величайшим трудом смогла увидеть ценность этого отказа от хорошей работы для самого мальчика. У него, например, могло не хватить сил для того, чтобы сделать хорошо и принять похвалу, или он мог решить, что для успешного прохождения экзамена нужно соответствовать ожиданиям комиссии, а это будет предательством по отношению к самому себе. А возможно, так и должно было быть, он должен был провалиться.
Здесь мы видим механизм, который сделал ее саму плохим экзаменатором, но это отразилось в том, что она обнаруживала конфликты в тех детях, которые олицетворяли какую-то часть ее самой, особенно мужское или связанное с действиями начало в ней самой. В данном случае она практически самостоятельно, без моей помощи, смогла понять, что эти дети живут не для нее, хотя она чувствовала, что они делают именно так. Она пришла к мысли, что сама может чувствовать себя живой лишь постольку, поскольку живы те дети, на которых она проецирует части самой себя.
По тому, как данный механизм действует у этой пациентки, мы можем понять, о чем идет речь в некоторых из положений Кляйн по этому вопросу. Ее язык подразумевает, что пациент в действительности все перекладывает на кого-то другого, на животное, на аналитика. Уместный пример: пациент в депрессивном настроении, но сам не переживает это состояние, поскольку перекинул свои депрессивные фантазии аналитику. Следующий сон был про маленького ребенка, которого медленно травил химик. Пациентка, и это совершенно точно, все еще была на фармакологической терапии, хотя зависимость от лекарств в ее случае не является основополагающей характеристикой. Сама она не может уснуть и, по ее собственным словам, хотя она ненавидит лекарства и делает все возможное, чтобы избежать их применения, ей гораздо хуже, когда она не спит и вынуждена днем жить в состоянии депривации сна.
Далее возникло новое продолжение старой темы этого длительного анализа. Среди последующих ассоциаций была цитата из стихотворения Джерарда Манли Хопкинса:
Я — тонкий песок
Из песочных часов, прикрепленных к стене;
Но изнутри я наполнен стремлениями, течениями,
Которые спешат и обрушиваются вниз водопадом;
Сам я недвижим, как вода в колодце, и меня не коснется никакой яд и никакое горе,
Но я остаюсь привязанным всеми своими жилами, всеми нервами вдоль изгибов всех холмов, которых море…
Здесь подразумевается ее полная подвластность какой-то силе, которая толкает, несет ее куда-то, и она теряет контроль над чем бы то ни было. Она часто ощущает подобное по отношению к анализу и решениям аналитика о дате и длительности встреч. Здесь можно выделить некоторую идею жизни без перекрестных идентификаций, то есть сам аналитик (он же Бог, он же судьба) при помощи проекции (то есть посредством понимания потребностей пациента) ничего не может дать пациенту.
С этого момента пациентка обратилась к другим важнейшим проблемам, которые уже не связаны с перекрестными идентификациями, а имеют отношение к непримиримому по своей природе конфликту между женской самостью пациентки и ее отщепленным мужским началом.
Она описала саму себя как заключенную в тюрьме, которая не может ничего сделать, как песок в песочных часах. Стало ясно, что она развивала проективные идентификации через ее отщепленное мужское начало, и, принимая во внимание учеников и других людей, на которых она могла спроецировать свою мужскую часть, это служило неким замещением. Однако применительно к ее женской сущности оставалась разительная неспособность к проецированию. Пациентка всегда воспринимала себя только как женщину, но она
знает и всегда знала, что женщины — это «третьесортные» граждане, и она всегда
знала, что с этим ничего не поделаешь.
Теперь она уже могла взглянуть на свою дилемму с точки зрения сепарации или развода между ее женской сущностью и мужским началом в ней самой. И здесь возникло новое видение своего отца и матери, которая привносила в их отношения как супругов и родителей теплоту и преданность. Самый яркий момент в ее воспоминаниях был тогда, когда она вновь увидела шарф своей матери, и это несло с собой воспоминание о том состоянии слияния с матерью, связанном, хотя бы теоретически, с исходным состоянием, когда объект еще не отделен от субъекта, состоянием, предшествующим становлению объекта как объективно воспринимаемого, отдельного или внешнего явления.
Теперь у пациентки уже было несколько воспоминаний, которые послужили подпиткой, не дали угаснуть тому, что было достигнуто в этой сессии. Это были воспоминания о хороших людях вокруг, и среди которых она, пациентка, была больным человеком. Она всегда обращала внимание лишь на плачевные стороны в окружающем мире, эти отрицательные факторы имели для нее этиологическое значение. Она часто упоминала о том, что когда она была маленькой, она иногда видела как ее родители целуются, и это приносило ей радость и облегчение. Сейчас она стала по-новому, более глубоко осознавать значение того, что тогда происходило, поверила в подлинность тех чувств, которые стояли за этими поцелуями.
Эта сессия дала заметное продвижение в развитии способности к проективной идентификации, способности, которая вносит в отношения новые качества, те, которые ранее были недоступны для пациентки. Вместе с тем новую жизнь обрели многие вещи, которые ранее были связаны с обеднением ее взаимоотношений с миром, особенно все, что имеет отношение к общению. Должен еще добавить, что с развитием
эмпагции в переносе появились беспощадность и новые жестокие требования к аналитику, исходя из того, что теперь аналитик, будучи отдельным, внешним явлением,
сам сможет позаботиться о себе. Она чувствовала, что аналитику должно понравиться, что она стала скупой, а скупость, что важно, в определенном смысле является эквивалентом любви. Теперь работа аналитика — в том, чтобы выжить.
Пациентка стала другой. Две предыдущие недели она приходила только затем, чтобы сказать, как жалеет свою умершую мать, потому что та не может сама носить драгоценности, которые оставила дочери, но она, пациентка, не могла их носить. Едва ли она помнила, что совсем недавно заявляла, что нельзя жалеть умерших, что было истинно с точки зрения холодной логики. Теперь ее жизнь была наполнена
воображением, она хотела носить драгоценности, для того чтобы ее
мертвая мама пожила еще, пусть чуть-чуть, пусть через этот заместитель — драгоценности.
Изменения и психотерапевтический процесс
Возникает вопрос: каким образом происходят изменения способностей пациента? Конечно же,
не подходит вариант ответа о том, что они (изменения. —
Прим. пер.) возникают под действием прямой интерпретации психического механизма. Я говорю об этом несмотря на тот факт, что в данном клиническом материале я действительно позволил себе эту роскошь — дал прямую интерпретацию; на мой взгляд, в тот момент, когда я стал говорить, вся работа уже была сделана.
В данном случае история анализа очень длительная, несколько лет работы моих коллег и три года моей собственной.
Очень привлекательно выглядит предположение о том, что собственная способность аналитика к применению механизмов проекции, наверное, самое важное качество, необходимое для ведения психоанализа, постепенно интроецируется. Но это не единственное и не фундаментальное положение.
Здесь, как и в других подобных случаях, я обнаружил, что у пациента есть потребность регрессировать на стадию зависимости в переносе, это дает пациенту переживание полной адаптации к его потребностям со стороны аналитика (матери), в основе которого лежит способность аналитика (матери) идентифицироваться с пациентом (младенцем). В этом опыте присутствует слияние пациента и аналитика (матери), которого достаточно для того, чтобы пациент мог жить и строить отношения, не нуждаясь в собственных механизмах проекции и интроекции. Затем идет тяжелый процесс, посредством которого происходит разделение субъекта и объекта, аналитик становится отделенным от пациента, находящимся за пределами его возможности контроля. Выживание аналитика вопреки деструктивности, которая относится к этим изменениям и сопровождает их протекание, позволяет пациенту использовать самого аналитика, а затем начать строить новые отношения на основе перекрестных идентификаций (смотри главу 6). Теперь пациент может в воображении встать на место аналитика, и одновременно аналитику будет полезно примерить на себя позицию пациента, оставаясь все же самим собой.
Таким образом, благоприятный результат обусловлен самой природой эволюционных изменений внутри процесса переноса и осуществляется благодаря непрерывности аналитического процесса.
Психоанализ все внимание уделяет функционированию и сублимации инстинктивных влечений. Важно помнить о том, что есть важные механизмы объектных отношений, которые не подчинены влечениям. Я особо выделил не зависящие от влечений элементы игры. Я на примерах проиллюстрировал взаимоотношения, относящиеся к зависимости и феномену адаптации, который естественным образом связан с младенчеством, отцовством и материнством. Также я показал, как много взаимоотношений в нашей жизни построены на основе перекрестных идентификаций.
А теперь обратимся к специфическим отношениям, которые строятся между родителями и подростками-«бунтарями».
11. Современные концепции развития подростка и их значение в области высшего образования[51]
Предварительные наблюдения
Мой подход к этой очень широкой теме, те замечания, которые я могу сделать, исходят из моей психотерапевтической установки. Будучи психотерапевтом, я оперирую следующими понятиями:
— эмоциональное развитие индивида;
— роль матери и родителей;
— семья как нечто естественное, вытекающее из потребностей ребенка;
— роль школы и других групповых социальных формирований как продолжения семьи и освобождение от жестких семейных паттернов;
— особая роль семьи в том, что касается потребностей подростка;
— подростковая инфантильность, незрелость;
— постепенный процесс достижения зрелости в жизни подростка;
— обретение индивидом идентичности с социальной группой и всем обществом, без серьезных потерь в области его личной самостоятельности и спонтанности;
— общество как собирательное понятие, структура социума, состоящего из отдельных людей, как взрослых, так и не взрослых;
— абстрактные понятия политики, экономики, философии и культуры как вершина в развитии человеческой природы;
— мир как нагромождение биллионов индивидуальных паттернов.
Динамика заложена в самом процессе развития, и это достояние каждого человека. Хорошая легкая окружающая среда на самых первых этапах развития для каждого индивида является условием
sine qua non[52], и это не нужно доказывать. Некоторые паттерны и тенденции роста могут быть унаследованы генетически, но все равно без хорошей поддержки со стороны социального окружения в эмоциональном развитии индивида не произойдет ничего. Заметьте, что в этом предложении отсутствует прилагательные «абсолютная», «совершенная» по отношению к роли окружающей среды. Эти определения подошли бы к машине, а человеческая адаптация со всеми ее дефектами и изъянами является неотъемлемой характеристикой легкого социального окружения.
Основа всего этого — идея
зависимости индивида, которая вначале практически полная и определенным образом постепенно переходит в относительную зависимость и далее к независимости. Независимость никогда не становится абсолютной, и даже если индивид производит впечатление автономного существа, на самом деле он никогда не обретает независимость по отношению к социальному окружению. Однако, зрелый человек может чувствовать себя свободным и независимым, в той мере, насколько это позволяет ему чувствовать себя счастливым и ощущать собственную идентичность. Посредством перекрестных идентификаций происходит размывание четкой границы между «Я» и «не-Я».
На данный момент все, что я сделал — это лишь перечисление различных рубрик энциклопедии, которой является человеческое общество. Индивидуальное развитие, рассмотренное в динамике и исходя из социального контекста, представляется мне огромным кипящим котлом, бурление в котором никогда не успокаивается. Необходимо ограничить ту область, за которую я готов взяться, и здесь мне важно выделить то, о чем я буду говорить, из необъятного поля явлений, связанных с людьми, явлений, которые могут быть рассмотрены с разных точек зрения, и увидеть их можно, посмотрев в телескоп с любого конца.
Болезнь или здоровье?
Раз я покончил с общими фразами и обратился к особенностям, я вынужден что-то включать, а что-то отбрасывать. Например, возьмем психическую болезнь, которой страдает индивид. Все люди включены в общество. Структура социума строится и сохраняется благодаря его психически здоровым членам. Тем не менее в нем обязательно должно найтись место больным; общество, к примеру, включает:
— незрелых людей (по возрасту);
— психопатов (депривированных людей, которые,
пока еще есть надежда, должны донести до общества факт собственной депривации — то, что они лишены хорошего, любимого объекта или подходящей структуры, которой можно доверять, чтобы справиться с нагрузками, возникающими из спонтанных движений);
— невротиков (терзаемых бессознательными влечениями и амбивалентностью);
— эмоционально неустойчивых (балансирующих между суицидом и другими альтернативами, которые могут включать высочайшие достижения в плане вклада в жизнь общества);
— шизоидов (у которых с самого начала есть работа — жизнь, а именно выстраивание себя как индивида, обладающего идентичностью и чувством реальности);
— больных шизофренией (которые, особенно на поздних стадиях, уже не могут чувствовать реальность, и в лучшем случае могут достичь чего-то, опираясь на доверенное лицо).
Сюда еще нужно добавить самую проблематичную, противоречивую категорию, включающую самых разных людей, но все они ставят себя в позицию власти или ответственности, например, параноики подчиняются системе мышления. Эта система должна объяснять абсолютно все и всегда, иначе человек (страдающий подобным расстройством) переживает замешательство, чувствует, что его поглощает хаос и мир перестает быть предсказуемым.
Все определения психиатрической болезни в чем-то повторяют друг друга. Люди не разбиваются четко на группы по нозологии. Именно поэтому психиатрия так трудна для терапевтов и хирургов. Они говорят так: «У вас есть заболевание, а у нас есть (или будет через год-два) лекарство». Никакая психиатрическая категория и тем более ярлыки «нормальный» или «здоровый» не могут полностью соответствовать конкретному случаю.
Мы можем рассматривать социум исходя из болезни: как больные члены общества привлекают к себе внимание, и как само общество окрашивается присутствием в нем групп, Характеризующихся определенной болезнью. Конечно же, мы можем исследовать, каким образом семья и другие социальные институты могут давать обществу психически здоровых людей, кроме тех случаев, когда социальное влияние изначально неэффективное и даже негативное.
Я решил, что этот путь мне не подходит. Я рассматриваю социум
с точки зрения его потенциального здоровья, то есть роста и постоянного самовосстановления, независимо от здоровья отдельных индивидов. Я считаю именно так, хотя мне известно, что иногда процент психически нездоровых членов группы может стать слишком высоким, и тогда ее здоровая часть уже не может больше с этим справиться. В этом случае сам социальный институт становится жертвой психического заболевания.
И все же я намерен рассматривать общество как состоящее из психически здоровых людей. Проблемы, которые есть в социуме, никогда, никуда не денутся при таком подходе. Их будет более чем достаточно!
Заметьте, что я не использовал слово «норма». Слишком уж оно упрощает всю картину. Но я уверен в том, что существует такая вещь, как психическое здоровье, а это значит, что обосновано исследование социума (как это сделано у многих авторов) в терминах общества как собирательного обозначения персонального роста по направлению к самореализации. Из аксиомы, что нет другого социума, кроме выстроенного, сохраняемого и непрерывно реконструируемого самими индивидами, следует, что вне общества невозможна реализация ни одного из его членов, а само общество не существует отдельно от собирательного процесса развития тех людей, которые его составляют. Давайте не будем искать тех, кто является «гражданином мира», и будем довольствоваться тем, что то тут, то там нам встретятся люди, область социальных контактов которых шире, чем какая-то локальная группа, и выходит за переделы этнической группы или за рамки религии. На самом деле нам нужно принимать тот факт, что сохранение психического здоровья и самореализация людей зависит от их приверженности к определенной ограниченной части социума, это может быть, например, членство в местном боулинг-клубе. Почему бы и нет? Мы только будем расстраиваться все время, если везде будем высматривать Герберта Мюррея (Gerbert Murray).
Основные положения
Последние пятьдесят лет отмечены серьезными изменениями в понимании важности хорошего материнства, и формулирование моих идей сразу же наталкивает меня на эти изменения. В материнский уход включается и поведение отца, пусть отцы позволят мне использовать термин «материнство» для описания в целом установки по отношению к детям и уходу за младенцами. Понятие «родительский» вступает в силу чуть позже, чем «материнский». Отец, как мужчина, приобретает значимость постепенно. Далее идет семья, основа которой — мать и отец, разделяющие ответственность за то, что они вместе создали — за новое человеческое существо, их дитя.
Давайте рассмотрим материнскую поддержку. Теперь мы знаем, какое значение имеет уход за ребенком и его воспитание, что важно, кто именно ухаживает за ребенком, его настоящая мать или кто-то другой. В нашей теории, посвященной уходу за ребенком и нормальному социальному окружению, центральное место занимает непрерывность заботы, мы считаем, что только благодаря этому младенец, будучи зависимым, может обрести качество непрерывности своей собственной жизни, а не паттерн реагирования на жизнь как на череду непредсказуемо прерывающихся и возникающих вновь событий (ср.: Милнер, 1934).
Здесь я могу сослаться на работу Боулби (Bowlby, 1969), предметом которой была реакция двухлетнего ребенка на потерю материнской фигуры (даже временную), при условии, что длительность этой потери выходит за временные рамки, в пределах которых ребенок может удерживать образ матери. Эти исследования должны быть продолжены, но важно, что за этим стоит идея, применимая вообще к проблеме непрерывности материнского ухода, с самого рождения ребенка, еще до того, как он может объективно воспринимать мать как таковую.
Еще одна новая особенность: как детские психиатры, мы занимаемся не только проблемами, связанными со здоровьем. Жаль, что этого нельзя сказать про психиатрию вообще. Мы занимаемся чувствами счастья и насыщенности жизни, которые есть у здоровых людей, а у психически больных они
не формируются, даже если у ребенка есть врожденные предпосылки успешной самореализации.
Теперь мы смотрим на трущобы и нищету не только с чувствами страха и ужаса, но и не закрывая глаза на ту возможность, что младенец или маленький ребенок в семье нищих находится в более безопасных и «хороших» в плане нормального социального окружения условиях, чем в семье, живущей в прекрасном особняке, где им ничего не угрожает и никакие общечеловеческие опасности их не касаются
[53]. Также давайте не будем постоянно делать акцент на тех различиях между социальными группами, которые связаны с принимаемыми традициями. Возьмем, к примеру, пеленание и, напротив, принятое сейчас в британском обществе позволение ребенку самому проверять окружающие предметы на прочность, исследовать мир, брыкаться и т. д. Каково отношение к использованию ребенком соски, сосанию пальца, аутоэротическим действиям вообще? Как люди реагируют на естественное недержание мочи у младенцев, вообще отсутствие у него самоконтроля и связывают это со сдержанность взрослого? И тому подобное. Взрослые люди все еще занимаются тем, что стремятся загладить свой комплекс Труби Кинга, тем, что позволяют своим детям самим узнавать суть человеческой морали, и это видно по тому, что крайняя вседозволенность является нормой воспитания. Возможно, именно это приводит к тому, что главным различием между белыми и чернокожими гражданами США вместо цвета кожи становится тип кормления младенца. Популяция белых американцев, вскормленных из бутылочки, неизмеримо завидует чернокожим, подавляющее большинство из которых, я уверен, кормили грудью.
Возможно, вы обратили внимание, что я занимаюсь бессознательной мотивацией, что не является популярной темой. Необходимые мне данные невозможно собрать при помощи анкетирования или тестов. Невозможно запрограммировать компьютер на вычленение бессознательных мотивов у индивидов, которые стали в исследовании «подопытными кроликами». Те, кто посвятили психоаналитической работе всю свою жизнь, должны взывать к рассудку и опровергать необоснованное доверие к поверхностным явлениям, которым посвящаются компьютеризованные исследования человеческой природы.
Дополнительные источники заблуждений
Другой источник заблуждений — поверхностное заключение о том, что если мама с папой хорошо обращаются и заботятся о детях, то проблем будет меньше. Не тут-то было! Это очень хорошо вписывается в основную тему главы. Сейчас я хотел бы донести следующее: когда мы работаем с подростком, который представляет собой нагромождение всех родительских успехов и неудач в его воспитании, мы должны понимать, что некоторые его теперешние проблемы связаны с положительными элементами современных установок по поводу воспитания и прав человека.
Если вы делаете все, на что только способны для содействия становлению личности вашего отпрыска, вам придется научиться иметь дело и с результатами этого процесса, которые могут сразить вас наповал. Как только ваши дети обнаружат самих себя, им больше уже не будет нужно ничего, кроме как познания самого себя целиком, а это, помимо различных положительных элементов, которые можно обозначить в целом как любовь, подразумевает и деструктивные элементы и агрессию. Это будет долгой борьбой, в которой вам самому необходимо выжить.
С кем-то из ваших детей все будет отлично, если с вашей помощью он быстро начнет и научится применять символы, играть, видеть сны, получать удовлетворение в творчестве, но даже в этом случае путь не будет легким. Вы все равно будете ошибаться, вам будет казаться, что эти ошибки — роковые и пагубные для ребенка. А дети постараются заставить вас почувствовать себя ответственным за эти неудачи, даже если на самом деле вы не виноваты. Дети просто скажут: «Я никогда не просил, чтобы меня рожали».
Вашей наградой будет постепенное обогащение ребенка как личности. Если у вас это получилось, то будьте готовы к тому, что начнете завидовать собственным детям, у которых было больше возможностей личностного роста, чем у вас самих. Вы почувствуете, что получили награду, когда однажды ваша дочь попросит посидеть с ее ребенком, отмечая, что вы умеете хорошо это делать; или когда ваш сын захочет в чем-то быть похожим на вас или влюбится в девушку, которая, будь вы помоложе, понравилась бы вам тоже. Вознаграждения приходят
не напрямую. И конечно, вы сами знаете, что вы никогда не получите благодарности.
Значение смерти и убийства в подростковых процессах взросления
Теперь я перейду к рассмотрению вышеназванных проблем в плане их влияния на те задачи, которые встают перед родителями подростков, испытывающих муки пубертатного периода.
Хотя публикуется огромное количество работ по проблемам личности и общества, которые возникли и стали актуальными в последнее десятилетие, раз подростки теперь имеют большую свободу для самовыражения, я позволю себе сделать следующий комментарий по поводу фантазий в этом возрасте.
В подростковом возрасте мальчики и девочки оставляют детство и зависимость позади и начинают пробираться к взрослости — на ощупь, неуклюже, неравномерно. Рост здесь обусловлен не только наследственными факторами, но и сложными взаимосвязями в сопутствующей им социальной обстановке. Если семья есть, то она используется подростком по полной программе, если же семья недоступна для использования, как в позитивном, так и в негативном смысле (например, как отвергаемый объект), то необходимы другие малые группы, внутри которых будет обеспечено сопровождение процесса взросления подростка. В пубертатный период усиливаются те проблемы, которые были заметны и раньше, когда нынешние подростки были еще относительно безобидными детьми или вовсе малютками. Стоит также отметить, что если вы и раньше и по сей день все делали и делаете хорошо, вы все равно не можете рассчитывать на бесперебойную, гладкую работу запущенного механизма. На самом деле вам стоит быть готовыми к трудностям. Определенные проблемы присущи этому возрасту по своей сути.
Будет полезно сравнить то, о чем думают дети, и идеи подростков. Если в фантазиях детей часто присутствует
смерть, то у подростков появляются идеи
убийства. Даже если на данном этапе развития пет выраженного кризиса, подростку придется столкнуть с острыми проблемами, связанными с руководством, поскольку повзрослеть — значит занять место родителей.
Это действительно так, а не иначе. На уровне бессознательных фантазий взросление является актом агрессии. И ваше дитя уже не ребенок, по возрасту, да и по размеру.
Здесь вполне правомерно и полезно, мне кажется, рассмотреть игру «Я — Царь этого Дворца». Эта игра связана с мужским началом в мальчиках и девочках (я мог бы начать анализ с женского элемента, но здесь это невозможно). Эта игра возникает в начале латентного периода, а в пубертатном на замену ей приходят реальные жизненные ситуации.
«Я — Царь этого Дворца!» — это личный девиз человека. Это означает некоторое достижение индивида в его эмоциональном развитии. Эта позиция подразумевает смерть всех соперников или доминирующую позицию. Атакуют короля при помощи следующих слов: «Жди, негодяй, своего конца!» Назови своего соперника, и ты поймешь, где ты сам. Вскоре кто-то из этих негодяев обыгрывает Царя и сам, в свою очередь, становится Царем. Иона и Петер Они (Opies, 1951) ссылаются на эти строки, по их словам, эта игра очень древняя, сам Гораций (Horace, 20 г. до н. э.) упоминал такие детские стишки:
Rex erit qui recte faciet;
Qui non faciet, non erit
[54].
He надо думать, что изменилась сама природа человека. Мы должны в мимолетном попытаться разглядеть вечное. Необходимо детскую игру перевести на язык бессознательной мотивации подростка и на язык социума. Ребенок обязан повзрослеть, и он может сделать это, только перешагнув через труп другого взрослого. (Я сейчас опираюсь на уже известные читателю идеи бессознательных фантазий, которые лежат в основе игры.) Конечно, мне известно, что иногда эта стадия протекает постепенно, в гармонии с родителями, без выраженного кризиса или бунта. Но и не забудьте о том, что неповиновение подростка связано с той свободой, которой вы сами наделили своего ребенка, воспитывая его таким образом, что он способен жить своей собственной жизнью. Подходящими здесь были бы такие слова: «В начале был ребенок-ангел, а в результате получилась бомба». На самом деле эта формула всегда истинна, но выглядит по-разному.
В подростковом и юношеском возрасте всеобщей и основной особенностью бессознательных фантазий является
чья-то смерть. Многое можно преодолеть через игру, замещение, при помощи перекрестных идентификаций. Но я как психотерапевт могу утверждать, что в практике индивидуальной терапии с подростками обнаруживается, что смерть и личная победа являются теми внутренними характеристиками, которые но сути своей присущи процессу взросления и обретения взрослого статуса. Именно поэтому они (процессы взросления. —
Прим. пер.) приносят столько проблем родителям и опекунам. Но точно так же все это тяжело и для самих подростков, которые робеют перед убийством так же, как перед своим успехом, на критической стадии взросления. Бессознательные процессы могут выразиться в суицидальных намерениях или реальной попытке самоубийства. Родители здесь практически ничем не могут помочь ребенку; самое лучшее, что они могут сделать — это
выжить самим, сохранить цельность, не изменив себе, не отказываясь от своих принципов. Это не значит, что сами они не развиваются при этом.
Какая-то часть подростков станут жертвами этого возраста. Они достигнут зрелости (или чего-то, похожего на взрослость) в плане секса и супружества, возможно, сами станут родителями. Да, они смогут сделать это. Но где-то на заднем плане у них останется борьба жизни и смерти. Если он слишком легко и слишком успешно избежит противоречий этого возраста, он таким образом лишится всего богатства, изначально присущего ситуации взросления.
Здесь я подхожу к самому главному и сложному пункту —
инфантильность подростка. Зрелые взрослые люди знают, что это такое, и должны как никогда верить в свою зрелость.
Поймите, довольно сложно сформулировать эти вещи и избежать при этом двусмысленности, ведь так легко, говоря об инфантильности, назвать это просто деградацией личности. Но я имею в виду другое.
Любой ребенок (лет, скажем, шести) может внезапно оказаться в ситуации, когда ему необходимо стать ответственным, например, в случае смерти кого-то из родителей или распада семьи. Такой ребенок должен раньше времени стать взрослым, лишившись детской беспечности и спонтанности в игре и творческих стремлениях. Подростки чаще оказываются в подобной позиции, когда внезапно обнаруживают, что уже имеют право голоса на выборах или обязаны принимать решение о поступлении в колледж. Конечно, обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы не сможете избежать преждевременного возложения ответственности на ребенка (например, кто-то из родителей заболеет или умрет, в семье возникнут финансовые затруднения). Может получиться так, что ребенку необходим уход и учебные занятия, а при этом семье не хватает денег на жизнь. И совсем другое дело, когда взрослые обдуманно скидывают ответственность на ребенка. Суть таких действий взрослого — подвести, кинуть ребенка в критический момент. С точки зрения игры, игры, которая называется жизнью, вы отрекаетесь от ребенка, как будто бы он угрожает вашей жизни, хочет вас убить. И кому от этого радость? Конечно, не самому подростку, который теперь стал сформированным отдельным существом, утратившим всю свою активность в сфере воображения и все силы в борьбе с собственной незрелостью. Бунт уже не имеет никакого смысла, и получается, что подросток, которому так легко далась победа, попадает в собственный капкан — он вынужден сам стать диктатором в семье и быть убитым — не собственными детьми, а его братьями и сестрами. Естественно, он стремится их контролировать.
Здесь одна из многих областей социальной жизни, где общество игнорирует опасности, связанные с бессознательной мотивацией. Конечно, социологи и политики, точно так же как обычные взрослые люди (будучи зрелым в своей ограниченной сфере влияния, человек может в своей частной жизни оставаться незрелым), лишь в малой степени могут извлечь пользу из материала каждодневной психотерапевтической работы.
Я утверждаю (категорично, но зато кратко), что подросток
инфантилен. Инфантильность является существенным элементом в здоровье подростка. Есть только один путь лечения инфантильности подростка — это
само течение времени и обретение взрослости, что приходит со временем.
Инфантильность — самое драгоценное, что есть в отрочестве и юношестве. Сюда относятся самые яркие творческие идеи, новые пьянящие чувства, идеи новой жизни. Обществу нужна встряска со стороны новых людей, которые пока не несут никакой ответственности. Если взрослый отдаляется от ребенка, то он взрослеет раньше времени и сам приобретает статус взрослого, но ложным образом. Обществу следует прислушаться к такому совету: в связи с инфантильностью подростков, но ради их собственного блага, не давайте им возможность «бежать впереди паровоза» и достигать ложной зрелости, скидывая на них ответственность, которая пока еще ими не освоена, даже если они борются за эту ответственность.
С тем условием, что взрослый не отказывается и не отрекается от заботы о подростке, мы уже можем думать дальше — о том, как подросток стремится найти самого себя и заявить о своей судьбе как о самом потрясающем явлении в окружающем мире. Сама по себе юношеская идея идеального общества очень захватывающая и обладает побудительным действием, но суть самого этого периода остается в его инфантильности и отсутствии ответственности. Это — самое драгоценное и святое, что
есть в юношестве, и длится-то всего несколько лет, это та особенность, с которой, по достижению зрелости, каждый индивид должен расстаться навсегда.
Я постоянно напоминаю самому себе о том, что только такие подростки остаются в обществе, а те взрослеющие мальчики и девочки, которые, увы, за пару лет становятся взрослыми, идентифицируются лишь с некоторым подобием каркаса системы, в которой новые младенцы, дети, подростки могут быть свободны в своих взглядах, мечтах и идеях о новом мироустройстве.
Победа — это достижение зрелости постепенно, в процессе развития. Ложная зрелость, поверхностное подражание взрослому — это не победа личности. И за этой формулировкой стоят ужасные факты.
Природа инфантильности
Сейчас необходимо бросить быстрый взгляд на саму природу инфантильности. Мы не должны ждать, что подросток будет осознавать свою собственную незрелость или знать признаки инфантильности. Мы сами не можем знать это во всех подробностях. Важно принять, ответить на вызов подростка. Но кто сделает это?
Сознаюсь, у меня такое чувство, что уже говоря об этом, я могу задеть за живое, вообще перевернуть всю проблему с ног на голову. Чем более простыми словами мы будем говорить, тем менее эффективным это будет. Представьте, что кто-то, глядя на подростков свысока, начнет им объяснять: «У вас самое замечательное — это ваша инфантильность». Это пример серьезной неудачи в попытке ответить на вызов со стороны подростков. Фраза «ответить на вызов» здесь скорее связана с трезвой, здравой реакцией, ведь вместо
понимания теперь
конфронтация. Это слово здесь обозначает способность взрослого человека отстоять право иметь свою собственную точку зрения, которую могут поддержать и другие взрослые люди.
Подростковый возраст — скрытые возможности
Давайте посмотрим, что именно не является достижимым в подростковом возрасте.
Даже у здоровых детей изменения, связанные с пубертатным периодом, не обязательно относятся к определенному возрасту. Мальчикам и девочкам нужно просто ждать этих изменений, от них не требуется никаких действий. Это ожидание ведет к значительному напряжению, которое сказывается на всем в жизни подростка, особенно у тех ~детей, кто запаздывает в развитии. Можно обнаружить, следовательно, что те, у кого развитие идет медленнее, стремятся имитировать поведение тех, у кого этот процесс начался раньше и даже уже завершился, а это ведет к ложной зрелости, построенной на идентификации, а не на естественных процессах развития. В любом случае, изменения в сексуальной сфере — не единственное, что происходит в этом возрасте. Происходит физический рост и укрепление организма, человек становится по-настоящему сильным; отсюда идет новая опасность — насилие, которое в подростковом возрасте приобретает новое значение. Вместе с физической силой подросток приобретает знания и практические умения.
Юноша или девушка могут лишь с течением времени и накоплением жизненного опыта постепенно принять ответственность за все происходящее в их индивидуальных фантазиях. Между тем в этом возрасте сильна склонность выражать агрессию в форме суицида. Или же агрессия выливается в поиск наказания, чтобы выйти из системы бреда преследования. Там, где в состоянии бреда преследования можно ожидать наказания, проявляется склонность к провоцированию агрессии, в попытке освободиться от безумия. Один единственный ребенок (мальчик или девочка) в группе, страдающий психической болезнью и обладающий сформированной бредовой системой, может взорвать все групповые нормы, что приведет к ситуациям
спровоцированного преследования и наказания. Если хоть раз подросток побывал в этой позиции жертвы, основанной на бредовом упрощении ситуации, то уже никакие доводы разума и логики не смогут повлиять на это.
Но самым трудным для подростка является напряжение, связанное с бессознательными сексуальными фантазиями и соперничество, которое по ассоциации связано с выбором сексуального объекта.
Подросток, парень или девушка, которые все еще находятся в процессе развития, еще не могут нести ответственность за жестокость и страдания, за убийства и смерть от руки убийцы, а именно это им предлагается в мире. На данном этапе это предохраняет человека от чрезмерных негативных реакций но отношению к собственной латентной агрессии, а именно от суицида (к чему приводит патологическое принятие ответственности за все существующее и предполагаемое зло). Создается впечатление, что латентное чувство вины у подростков просто огромно, и для того чтобы развить у индивида способность находить в себе равновесие между плохим и хорошим, видеть, что ненависть и разрушение идут рядом с любовью, потребуются годы. В этом смысле зрелость — это более поздний возраст, а от подростка нельзя ожидать того, что он видит на годы вперед и знает, что с ним будет в 20–25 лет.
Иногда считается само собой разумеющимся, что парни и девушки, которые «не спят две ночи подряд в одной постели», вступают в половые сношения (была беременность, и даже не одна), достигли сексуальной зрелости. Они сами понимают, что это не так, и начинают презирать секс как таковой. Это слишком просто. Сексуальная зрелость подразумевает, что человек принимает свои сексуальные фантазии и потребность в интимности, а также способен отдавать себе отчет в том, что происходит в его сознании параллельно с процессами выбора сексуального объекта, закрепления постоянства этого объекта, сексуальным удовлетворением и сексуальным актом. Также здесь присутствует чувство, вины, которое определяется всеми бессознательными фантазиями в целом.
Построение, компенсация, восстановление
Подростку пока еще не понятно, что удовлетворение может принести участие в таком деле, где от каждого требуется такое качество, как его собственная надежность. Подросток не может представить себе, насколько работа, в связи с тем, что это вклад в жизнь сообщества, уменьшает в человеке чувство вины (которое относится к бессознательной агрессивной активности и тесно связано с объектными отношениями и чувством любви) и как она помогает смягчить внутренние страхи, снизить интенсивность суицидальных импульсов или предрасположенность к катастрофическому, рискованному поведению.
Идеализм
Одна из самых захватывающих тем, связанных с подростковым возрастом — это идеализм подростков. Они еще не включены в процесс разрушения иллюзий, а результат таков — они свободны в том, чтобы строить идеальные структуры. Например, студенты, изучающие искусство, понимают, что его можно преподавать хорошо, и они требуют, чтобы именно им хорошо его преподавали. Почему бы и нет? Только они не учитывают того факта, что в мире есть лишь несколько человек, которые могут хорошо научить искусству. Или студенты видят, что условия их жизни слишком стесненные, что это можно улучшить, и они начинают бастовать и с криками требовать этого. А проблема в деньгах. Они скажут: «Хорошо, откажитесь от оборонной программы и потратьте деньги на новые здания для университета!» С точки зрения подростка здесь нет необходимости смотреть исходя из более длительной перспективы, такое видение естественным образом появляется у людей, которые прожили уже много десятилетий и начинают стареть.
Все это усиливается, концентрируется просто до абсурда. При этом упускается первостепенная значимость дружбы. Также пренебрегают позицией тех юношей и девушек, которые не вступают в супружеские отношения или откладывают их на потом. За бортом остается и жизненно важная проблема бисексуальности, которая разрешима, но никогда не решается полностью в контексте гетеросексуального поведения. Также по поводу теории творческой игры очень многое лишь принимается на веру, но не доказывается. Более того, что касается культурного наследия, среднестатистический подросток практически не знаком с культурой, ведь знания в этой в этой области требуют серьезной работы. Сегодняшние мальчики и девочки в свои шестьдесят будут, в попытке скомпенсировать потерянное время, с пеной у рта преследовать богатства цивилизации вместе с ее побочными продуктами.
Самое главное состоит в том, что юношество и подростковый возраст — это нечто большее, чем физический пубертатный период, хотя и основанный на нем. Подростковый возраст подразумевает рост, а рост занимает время. И пока развитие идет вперед,
ответственность должны взять на себя родительские фигуры. Если они отходят в сторону, то подростку приходится перепрыгивать в ложную зрелость и терять таким образом свой главный козырь: свободу в идеях и импульсивных действиях.
Резюме
Это просто замечательно, что подростки стали активными и высказывают свое мнение, но их борьба, связанная с ощущением, что необходимо немедленно решить все проблемы во всем мире, может обрести свое существование, стать реальной, вещественной лишь через конфронтацию. Конфронтация должна быть личной, индивидуальной. Взрослым нужно, чтобы подростки обязательно жили и радовались жизни. К конфронтации не относится месть или репрессивные меры, но она имеет свои собственные сильные стороны. Полезно помнить о том, что происходящие в настоящее время студенческие беспорядки и открытое, яркое самовыражение подростков частично является результатом наших установок, которыми мы так гордимся, по поводу ухода за младенцами и воспитания детей. Позвольте молодежи переделывать, изменять общество, а старших научите видеть мир по-новому; но там, где взрослеющий человек, мальчик или девочка, бросает вызов обществу, позвольте, взрослому принять вызов. И это не обязательно будет чудесным и радостным.
Ведь в бессознательных фантазиях, по сути дела, есть и жизнь, и смерть.
Послесловие
Я выдвигаю предположение, что в развитии человека есть стадия, которая предшествует объективности и восприимчивости. Теоретически, в самом начале ребенок живет в субъективном мире или мире представлений. Переход из этого первичного состояния к иному, где возможно объективное восприятие, обусловлен не только врожденными или унаследованными процессами развития; для этого необходимо дополнительное минимальное влияние со стороны социального окружения. Этот процесс относится к широчайшей области — перемещение индивида от зависимости по направлению к независимости и самостоятельности.
Этот промежуток между представлением и восприятием дает богатый материал для исследования. Я постулирую важнейший и неотъемлемый парадокс, который необходимо принимать и который не нужно разрешать. Это парадокс, занимающий центральное место в концепции, который необходимо принять и разрешить ему быть в течение определенного промежутка времени, и это касается ухода за каждым ребенком.
Примечания
1
Опубликовано в «Международном психоаналитическом журнале» (International Journal of Psycho-Analysis. 1953. Vol. 34. Part 2) и в книге Винникотт Д. «Собрание работ: от педиатрии к психоанализу» (Winnicott D. W. Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis. London: Tavistock Publications, 1958a).
(обратно)
2
Оригинальный текст здесь несколько модифицирован. (Прим. авт.)
(обратно)
3
Я включаю сюда все способы материнской заботы. Когда говорят, что материнская грудь — первый объект в жизни ребенка, под словом «грудь», я полагаю, понимают как способ материнского ухода, так и реальное человеческое тело. Можно быть хорошей матерью (в моем понимании этого слова), вскармливая ребенка и из бутылочки.
(обратно)
4
Опубликовано в издании «Детская психология и психиатрия» (Child Psychology and Psychiatry. 1960. Vol. 1) и в книге Винникотт Д. «Взросление и фасилитирующее социальное окружение»
(Winnicott D. W. The Maturation Processes and the Facilitating Environment. London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1965).
(обратно)
5
Другой подход к обсуждению этой темы представлен в работе «Маниакальные защитные реакции» («The Maniac Defence»), опубликованной в книге Winnicott (1958a).
(обратно)
6
У нее есть основания, чтобы это понимание достичь.
(обратно)
7
Обсуждение элементов феминности и маскулинности см. в главе 5.
(обратно)
8
Это довольно сложно, исходя из «опыта всемогущества», который я описал как существенный процесс в первичном переживании «Я» и «не-Я» (ср.: Wirmicott, 1962; также см. ниже главу 3, с. 8–9). «Опыт всемогущества» относится, по существу, к зависимости, а в данном случае всемогущество относится к потере надежды на зависимость.
(обратно)
9
Обсуждение другого аспекта подобных переживаний в терминах эго-оргазма см.: Winnicott, 1958b.
(обратно)
10
Это можно рассмотреть и в терминах соответствия ложной организации «Я» (ср.: Winnicott, 1960a).
(обратно)
11
Ниже автор вводит различие понятий play (игра) и playing (буквально «играние»). Далее в тексте слово playing переведено как игра и выделено шрифтом. (Прим. пер.)
(обратно)
12
Дальнейшее обсуждение этого вопроса можно найти в моих работах «Интеграция „Я“ и развитие ребенка» («Ego integration in Child development», 1962) и «Общение и отказ от общения: исследование противоположностей» («Communicating and not communicating leading to a stady of Certain Opposites», 1963a).
(обратно)
13
Я рассмотрел другие, более сложные и запутанные аспекты данного переживания в своей работе «Способность к одиночеству» («The Capacity to be Alone», 1958b).
(обратно)
14
Я ни коим образом не проверял точность этого воспроизведения интерпретации предыдущего аналитика.
(обратно)
15
Таким образом, ощущение самости строится на основе хаотичного состояния, которое, однако, по определению, сам индивид не может ни увидеть, ни запомнить и которое не теряется, только лишь будучи опознанным и отраженным другим — человеком, которому индивид доверяет и который оправдывает это доверие, не допуская зависимости. Когда я веду подобную работу, то всегда поблизости есть чайник и плита, кофе, чай и какое-нибудь печенье.
(обратно)
16
Строчка из стихотворения «Утешение для трупа» («Carrion comfort») звучит так:
Нет, я не буду… потеряв последние силы, плакать я больше не могу. Я могу.
(обратно)
17
Она сама несколько раз цитировала: «Та, о ком вы скорбите — и есть Маргарет» (из стихотворения Хопкинса «Ручей и Водопад» («Spring and Fall»).
(обратно)
18
Среди большого количества работ, посвященных творчеству в науке, хочу порекомендовать Гиллспи, «Границы Объективности» (Gillespie, «The Edge of Objectivity», 1960).
(обратно)
19
Этот факт был включен еще Фрейдом в его гипотезу о формировании сновидений, но с тех пор был неоднократно пересмотрен (ср.: Freud, 1900).
(обратно)
20
В другом месте (1966) я обсуждаю особый пример этого явления в терминах невроза навязчивых состояний.
(обратно)
21
Необходимо различать первичную умственную неполноценность и нарушения, вторичные по отношению к детской шизофрении, аутизму и пр.
(обратно)
22
Ab initio — с начала, с возникновения (лат.). Прим. пер.
(обратно)
23
Это предшествует облегчению, которое возникает благодаря таким механизмам, как перекрестные идентификации.
(обратно)
24
Этот текст был прочитан для Британского психоаналитического общества 2 февраля 1966 г. и переработан для публикации в «Форуме» (Forum).
(обратно)
25
Детальное обсуждение роли матери как зеркала в развитии ребенка смотри в главе 9.
(обратно)
26
Я не утверждаю, что физическое заболевание этого мужчины, самый настоящий грипп, было вызвано именно эмоциональными переживаниями, которые влияют на физическое состояние человека. Я надеюсь, что это понятно.
(обратно)
27
Я буду и дальше использовать эту терминологию (мужские и женские характеристики), поскольку-мне не известно о других подходящих к описанию терминов. Определения «активные» и «пассивные» я считаю некорректными, так что придется использовать те термины, которые доступны.
(обратно)
28
Здесь логичным будет дополнить описание работы, которую мы провели вместе с этим мужчиной, похожим отрезком работы с женщиной или девочкой. Например, мне вспоминается давний случай — молодая женщина, которая рассказала, что в возрасте латентного периода она страстно желала быть мальчиком. Она потратила много времени и сил на то, чтобы обзавестись пенисом. Однако ей не хватало лишь понимания того, что она несомненно девочка, что она счастлива тому, что она девочка, но в то же самое время (диссоциация — 10 %) она знает и всегда знала, что является мальчиком. С этим была связана ее уверенность в том, что ее кастрировали и лишили таким образом некоего деструктивного потенциала, с этим совпала смерть матери и все ее мазохистические защитные реакции, которые стали цетральными в структуре ее личности. Приводя здесь клинические примеры, я конечно рискую отвлечь внимание читателя от главной темы, но если все же мои идеи верны и универсальны, то у каждого читателя найдутся свои случаи для иллюстрации диссоциации, в отличие от вытеснения мужских и женских характеристик у представителей обоих полов.
(обратно)
29
Перевод М. Лозинского. (Прим. пер.)
(обратно)
30
В основу положен доклад, прочитанный Нью-Йоркскому психоаналитическому обществу 12 ноября 1968 г. и опубликованный в International Journal of Psycho-Analysis, Vol. 50 (1969).
(обратно)
31
Психоневроз — устаревший термин, по значению соответствует современному термину «невроз». (Прим. пер.)
(обратно)
32
Выбором заглавия к своей книге «The Maturational Processes and the Facilitating Environment» (International Psycho-Analytical Library, 1965) я продемонстрировал, насколько сильно на меня повлиял на Конгрессе в Эдинбурге доктор Филлис Гринак (Dr. Phyllis Greenacre, 1960). Я сожалею, что не выразил признательность по этому поводу в самой книге.
(обратно)
33
В этом аспекте на меня оказало влияние то, как это понимал Клиффорд Скотт («Коммуникация субъекта», 1940).
(обратно)
34
Следующая задача для того, кто занимается феноменом перехода I— переформулировать проблему с точки зрения выделения.
(обратно)
35
Когда аналитик знает, что у пациента припасен револьвер, мне кажется, ему не стоит браться за эту работу.
(обратно)
36
На самом деле все серьезно усложняется в том случае, если ребенок рождается с зубами: ведь он никогда не сможет попробовать воздействовать на грудь с помощью десен.
(обратно)
37
Опубликовано в «Международном психоаналитическом журнале» (International Journal of Psycho-Analysis. 1967. Vol. 48, Part 3).
(обратно)
38
Сославшись на применение объекта, мы несколько упрощаем ситуацию, но моя основополагающая работа называлась все-таки «Переходные объекты и феномен перехода» (1951).
(обратно)
39
Меррелл Миддлмор (Merrell Middlemore, 1941) видела очень богатый потенциал в уподоблении в паре мать — ребенок. Она была очень близка к тем идеям, которые я здесь пытаюсь сформулировать. Физический контакт между матерью и ребенком (его наличие или отсутствие) — вот богатое поле для наблюдений, которые принесут нам лишь радость, особенно если мы (как в непосредственном наблюдении, так и в процессе анализа) не будем рассуждать лишь об оральном эротизме, его удовлетворении или фрустрации и т. д. и т. п. Также см. работы Хоффера (Hoffer, 1949, 1950).
(обратно)
40
Это еще одна формулировка темы предыдущей главы, рассчитанная на совсем другую аудиторию.
(обратно)
41
Я подробно обсуждаю этот тезис в работе «Первичная материнская вовлеченность» («Primary Maternal Preoccupation», 1956).
(обратно)
42
Опубликовано в книге под редакцией П. Ломаса «Проблема Семьи: дискуссии в психоанализе» (P. Loraas (ed). The Predicament of the Family: A Psycho-analytical Symposium). London: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1967).
(обратно)
43
Дальнейшее детальное обсуждение этой идеи можно найти в моей книге «Теория детско-родительских отношений» («The Theory of the Parent-Infant Relationship», 1960b).
(обратно)
44
Обсуждение другого аспекта этого случая можно найти в моей работе «Клинические и метапсихологические аспекты регрессии, протекающей в рамках, заданных психоаналитической сессией» («Metapsychological and Clinical Aspects of Regression within the Psycho-Analitical Set-Up», 1954).
(обратно)
45
См.: «Френсис Бэкон: упорядоченный каталог и документация» (Francis Bacon. Catalogue raisonne and documentation. Alley, 1964). Джон Ротенштайн пишет во введении к этой книге следующее: «… смотреть на картины Бэкона — значит смотреть в зеркало и видеть свои собственные недостатки и страхи — одиночества, неудачи, унижения, старости и смерти, а также непредсказуемых катастроф, угрожающих миру/ <…> Его известное предпочтение закрывать стеклом свои картины связано в том числе с его постоянным ощущением зависимости от случая. Это предпочтение — следствие того, что стекло некоторым образом разделяет картину и окружающий мир (точно так же как на его картинах клумбы и ограды отделяют субъекта от живописного фона), а также выполняет функцию защиты, но более важна в данном случае уверенность художника в том, что случайная игра отражений обогатит сами картины. Особенно, по его собственным наблюдениям, они выигрывают от того, что зритель может увидеть свое отраженное в стекле лицо, его работы в темно-синих тонах».
(обратно)
46
Примеры из клинического материала обязательно включают подробности, которые непосредственно не релевантны рассматриваемой теме, поскольку тщательное редактирование лишает материал подлинности, достоверности.
(обратно)
47
Здесь нет необходимости приводить рисунки. В тексте на них есть ссылки, обозначенные цифрами 1, 2, 3 и т. п. Другие примеры использования этой техники смотри в работе «Терапевтическая консультация в детской психиатрии» (Winnicott. Therapeutic Consultation in Child Psychiatry, 1971).
(обратно)
48
Сбоку возможно имеет отношение к тому, что с этой позиции легко на ранней стадии заметить новую беременность матери.
(обратно)
49
Опубликовано под заголовком «La interrelacion en terminos de identificaciones cruzadas» в Revista de Psicianalisis (Buenos Aires, 1968. Tomo 25. № 3–4).
(обратно)
50
Говоря языком, связанным с анализом психоневроза, это было бессознательное садистское действие, но здесь эта терминология не имеет смысла.
(обратно)
51
Выдержка из материалов симпозиума, прошедшего в рамках 21-го ежегодного совещания Британской студенческой здравоохранительной ассоциации, Ньюкасл-на-Тайне, 18 июля 1968 г. (21st Annual Meeting of the British Student Health Association in Newcastle upon Tyne, 18 July 1968).
(обратно)
52
Sine qua non — обязательное, непременное условие; то, без чего нельзя обойтись (лат,). Прим. пер.
(обратно)
53
Перенаселенность, голод, инвазия, постоянная угроза болезни, бедствия или новые филантропические законы.
(обратно)
54
Царь ошибается, который правильно делает;
Кто не делает, тот не ошибается (лат.)
(обратно)
Оглавление
Благодарности
Введение
1. Феномен перехода и переходные объекты
2. Сны, фантазии и жизнь: история случая первичной диссоциации
3. Игра[11]: теоретические положения
4. Игра: творческая активность и поиск самого себя
5. Творчество и его истоки
6. Использование объекта и построение отношений через идентификацию[30]
7. Локализация культурного ОПЫТА[37]
8. Наше жизненное пространство[40]
9. Роль матери и семьи как зеркала в развитии ребенка[42]
10. Взаимосвязь перекрестных идентификаций, независящая от инстинктивной активности
11. Современные концепции развития подростка и их значение в области высшего образования[51]
Послесловие
*** Примечания ***

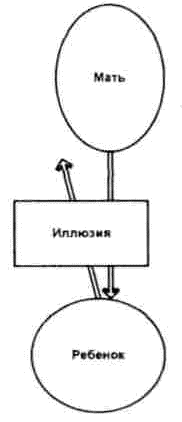 Рис. 1
На рис. 1 иллюстрируется следующая идея: на ранней стадии развития, с теоретической точки зрения, ребенок способен в определенном, заданном матерью направлении, представлять идею некоторого объекта, который соответствует напряженному состоянию его инстинктивных потребностей. Вначале ребенок не знает, что должен создавать. И в этот момент появляется мама. Обычно она дает ребенку грудь и свое потенциальное стремление накормить. Если мать достаточно хорошо адаптирована к нуждам ребенка, у него возникает иллюзия, что существует внешняя реальность, которая соответствует собственной способности младенца создавать что-то новое. Другими словами, происходит совпадение предоставленного мамой и представленного ребенком. С точки зрения наблюдателя, ребенок воспринимает то, что мать ему действительно предлагает, но есть и другое. Ребенок воспринимает грудь исключительно в той мере, в которой она может быть воссоздана непосредственно в данный момент. Между матерью и ребенком не происходит обмен. Психологически ребенок берет из груди то, что является частью самого ребенка, а мать кормит молоком ребенка, который является частью ее самой. В психологии идея обмена основана на иллюзии самого психолога.
Рис. 1
На рис. 1 иллюстрируется следующая идея: на ранней стадии развития, с теоретической точки зрения, ребенок способен в определенном, заданном матерью направлении, представлять идею некоторого объекта, который соответствует напряженному состоянию его инстинктивных потребностей. Вначале ребенок не знает, что должен создавать. И в этот момент появляется мама. Обычно она дает ребенку грудь и свое потенциальное стремление накормить. Если мать достаточно хорошо адаптирована к нуждам ребенка, у него возникает иллюзия, что существует внешняя реальность, которая соответствует собственной способности младенца создавать что-то новое. Другими словами, происходит совпадение предоставленного мамой и представленного ребенком. С точки зрения наблюдателя, ребенок воспринимает то, что мать ему действительно предлагает, но есть и другое. Ребенок воспринимает грудь исключительно в той мере, в которой она может быть воссоздана непосредственно в данный момент. Между матерью и ребенком не происходит обмен. Психологически ребенок берет из груди то, что является частью самого ребенка, а мать кормит молоком ребенка, который является частью ее самой. В психологии идея обмена основана на иллюзии самого психолога.
 Рис. 2
На рис. 2 область иллюзии очерчена для иллюстрации того, что я считаю главной функцией переходного объекта и феномена перехода. Переходный объект и феномен перехода дают каждому человеческому существу «в дорогу» то, что навсегда останется важным — нейтральную область опыта, которая не будет отнята или оспорена. Можно сказать, что переходный объект — это суть такого соглашения между нами и ребенком: мы никогда не спросим: «Ты это сам себе представляешь, или тебе это показывают извне?» Важно, что здесь нечего надеяться на решение. И даже задавать вопрос.
Эта несомненно значимая для ребенка проблема вначале проявляется в скрытом виде, но постепенно становится очевидной на основании того факта, что главная задача матери (следующая после предоставления возможности для иллюзии) — разрушение иллюзий. Она предшествует задаче отнятия от груди, а также остается одной из задач родителей и учителей. Другими словами, вот сущность иллюзии: эта проблема присуща людям в своей основе, но ни один человек никогда окончательно не справляется с ней, хотя теоретическое постижение иллюзии может привести к теоретическому решению проблемы. Если все идет хорошо, в постепенном процессе разрушения иллюзий устанавливается стадия, к которой мы относим все фрустрации, связанные с отнятием младенца от груди. Но не забудьте, что когда речь идет о феномене, который Кляйн (1940) особым образом освещает в своей концепции депрессивной позиции) отнятия от груди, мы предполагаем и основополагающий для него процесс, который обеспечивает саму возможность возникновения и разрушения иллюзии. Если возникновение-разрушение иллюзий протекает неправильно, то ребенок и не доберется до такой вполне нормальной вещи, как отнятие от груди, не отреагирует на это, и в этом случае абсурдно даже упоминать отнятие от груди. Просто окончание грудного вскармливания — еще не отнятие от груди.
Для нормального, здорового ребенка отнятие от груди — чрезвычайно значимый процесс. Когда мы видим комплексную реакцию некоторого ребенка на отнятие от груди и знаем, что него процесс возникновения-разрушения иллюзии успешно доведен до конца, мы можем этот процесс проигнорировать и заняться обсуждением непосредственно отнятия от груди.
Рис. 2
На рис. 2 область иллюзии очерчена для иллюстрации того, что я считаю главной функцией переходного объекта и феномена перехода. Переходный объект и феномен перехода дают каждому человеческому существу «в дорогу» то, что навсегда останется важным — нейтральную область опыта, которая не будет отнята или оспорена. Можно сказать, что переходный объект — это суть такого соглашения между нами и ребенком: мы никогда не спросим: «Ты это сам себе представляешь, или тебе это показывают извне?» Важно, что здесь нечего надеяться на решение. И даже задавать вопрос.
Эта несомненно значимая для ребенка проблема вначале проявляется в скрытом виде, но постепенно становится очевидной на основании того факта, что главная задача матери (следующая после предоставления возможности для иллюзии) — разрушение иллюзий. Она предшествует задаче отнятия от груди, а также остается одной из задач родителей и учителей. Другими словами, вот сущность иллюзии: эта проблема присуща людям в своей основе, но ни один человек никогда окончательно не справляется с ней, хотя теоретическое постижение иллюзии может привести к теоретическому решению проблемы. Если все идет хорошо, в постепенном процессе разрушения иллюзий устанавливается стадия, к которой мы относим все фрустрации, связанные с отнятием младенца от груди. Но не забудьте, что когда речь идет о феномене, который Кляйн (1940) особым образом освещает в своей концепции депрессивной позиции) отнятия от груди, мы предполагаем и основополагающий для него процесс, который обеспечивает саму возможность возникновения и разрушения иллюзии. Если возникновение-разрушение иллюзий протекает неправильно, то ребенок и не доберется до такой вполне нормальной вещи, как отнятие от груди, не отреагирует на это, и в этом случае абсурдно даже упоминать отнятие от груди. Просто окончание грудного вскармливания — еще не отнятие от груди.
Для нормального, здорового ребенка отнятие от груди — чрезвычайно значимый процесс. Когда мы видим комплексную реакцию некоторого ребенка на отнятие от груди и знаем, что него процесс возникновения-разрушения иллюзии успешно доведен до конца, мы можем этот процесс проигнорировать и заняться обсуждением непосредственно отнятия от груди.