Астрид Линдгрен
Кати в Италии


I

— Великолепно! — воскликнул Ян. — Раз так, мы сейчас же поженимся!
— Правда? — удивилась я, задумчиво склонив голову.
Я буквально сию минуту рассказала ему, что Тетушка уехала и вышла замуж за своего старого поклонника из Чикаго. Да, именно Тетушка, заменившая мне мать! Тетушка, с которой я делила двухкомнатную квартиру на улице Каптенсгатан
[1]. И теперь я стала обладательницей этой маленькой квартирки на четвертом этаже! Более того, я внезапно стала богатой невестой! Лучше две комнаты с кухней и с Кати на улице Каптенсгатан, чем маленькая отвратительная меблированная комната у грубиянки вдовы на Кунгсхольмене
[2]. Ею Ян вынужден был Довольствоваться, а для молодого многообещающего архитектора это не так уж и много. Неудивительно, что он счел просто великолепным переехать ко мне домой. Он долго и без перерыва говорил, как это чудесно будет. Но мне все время казалось, что чудесна моя двухкомнатная квартирка, а вовсе не я. В конце концов я спросила Яна, слышал ли он известную историю об агрономе, поместившем брачное объявление в газете:
«Молодой агроном, рассчитывая на возможную женитьбу, ищет знакомства с дамой — владелицей трактора. Пришлите в ответ фотографию трактора!»
— Что ты имеешь в виду? — раздраженно спросил Ян.
— Мне кажется, ты похож на этого агронома.
Но Ян не понял.
— Не мели чепуху, надевай плащ и пойдем дадим объявление о помолвке! — воскликнул он.
— О нет, дорогой Ян, мне страшно идти за тебя. В один прекрасный день ты, возможно, встретишь другую с
тремя комнатами и кухней, и тогда я останусь с носом.
Ух как Ян рассердился. Он сказал, что если я так глупа, отвергая любовь благородного человека, то сама буду виновата, если останусь старой девой, а он не станет мне больше докучать.
Он и не стал мне докучать. Целых два дня. Все эти два дня я судорожно размышляла. Он сказал «старая дева»! Я начала осторожно привыкать к этой мысли. Можно завести себе маленького мопса и несколько канареек, совершенно не обязательно иметь при себе Яна. Да, чем больше я думала о Яне, тем сильнее склонялась к мопсу. Мне было двадцать два года, и с девятнадцати лет я постоянно встречалась с Яном. Да, так легко влипнуть в беду со скороспелым замужеством! А я не желала влипнуть в беду с замужеством, которое не считала надежным. Ах, откуда знать, какое замужество надежно?
Не завести ли какую-нибудь «волшебную лозу»
[3], чтобы испытывать всех своих поклонников? (У меня, разумеется, был всего один, но все-таки…) Если бы такая «волшебная лоза» опустилась внезапно на чью-то голову, то можно было бы сразу уверенно сказать: «Это он!» Кто знает, быть может, где-то в мире есть кто-то совсем другой, не такой, как Ян, который только и делает, что ждет, когда моя «волшебная лоза» укажет на него, Единственного и Настоящего. Я иногда сомневаюсь, что Ян и есть тот самый Единственный и Настоящий! Правда, Ева утверждала, что мужчины существуют лишь для того, чтобы закалять нас, и с этой точки зрения Ян, возможно, настоящая находка. Ян действительно был чрезвычайно склонен к тому, чтобы меня закалять или, скажем, изменить. Он постоянно пытался сделать меня другой, не такой, какая я на самом деле. Мне не следовало быть слишком веселой, потому что тогда Ян считал меня примитивной, мне не следовало быть слишком серьезной, потому что за маленькими выпуклыми девичьими лобиками не должно скрываться слишком много «мыслей и обрывков мыслей». Но мне следовало интересоваться всем на свете, чтобы он мог обсуждать со мной ту или иную проблему. Он должен говорить со мной о работе. Разумеется, о
своей работе. Не о моей же! Стоило мне хоть когда-нибудь случайно попытаться рассказать ему о моей увлекательной жизни стенографистки в адвокатской конторе, как он сразу впадал в рассеянность, и разговор кончался тем, что я, вздохнув, говорила:
—
All right! Поговорим лучше о твоих эскизах. Как ты представлял себе северный фасад народной школы в Пюттокре?
Об этом я размышляла все два дня, пока Ян не давал о себе знать. Но было еще одно: мне, как я уже говорила, исполнилось двадцать два года, и все-таки до сих пор я ходила, держась за Тетушкину юбку. Я никогда и не пыталась стать самостоятельной. Жизнь была полна практических мелочей, о которых я и понятия не имела. Нужно было подавать декларацию о доходах, и вешать платья в специальных мешках, предохраняющих от моли, и смотреть в оба, не жилистый ли кусок мяса покупаешь, и внимательно следить, не истекает ли срок страховки, и знать, как вести себя, чтобы денег на еду хватило на целый месяц. Все это делала для меня Тетушка. Я была не в состоянии выполнить все сама. Мне надо было этому научиться. Я
не могла прямо из Тетушкиных объятий перекочевать в объятия Яна теперь, когда я наконец получила возможность стоять на собственных ногах.
В самом мягком тоне я попыталась объяснить это Яну, когда мы встретились вновь.
— Похоже, ты не хочешь меня больше знать! — бесконечно оскорбленный, сказал он.
Нет, это было не так. Частенько внушала я себе, что влюблена в Яна. Во всяком случае частенько думала, что он и есть тот самый Единственный и Настоящий. Но мне хотелось удостовериться в этом. Мне нужно было немного времени.
— Дай мне год! — попросила я Яна.
— Делай как хочешь, — мрачно ответил он. — Но за год многое может случиться!
Я допускаю, что в этих словах таилась угроза, но для моих ушей они прозвучали как обещание чего-то светлого в будущем.
После того как Ян ушел, я долго стояла у открытого окна, задумчиво глядя на пунктир редких звезд в ночном летнем небе за рядами домов на улице Каптенсгатан.
— Многое может случиться за год, — в ожидании чего-то светлого в будущем сказала я себе. А потом пошла и позвонила Еве.
— Хочешь один год делить со мной холостяцкое хозяйство? — спросила я.
— Что делить? — переспросила Ева.
Я повторила свое предложение. В трубке наступила полная тишина.
— Ты слышишь меня? — нетерпеливо спросила я. — Почему ты не отвечаешь?
— Я упаковываю вещи, — сказала Ева.
II

Да, Ева, что можно сказать о Еве? Она блондинка, и очень любит поговорить, и довольно остроумна. И все это плюс известная склонность к капризам и переменчивость ее настроений сливаются в своего рода весенний апрельский шарм, перед которым не в силах устоять многие несчастные юнцы.
— С любовью я
определенно покончила… временно, — часто говорила она.
Ева то и дело влюблялась, но любовь эта быстро кончалась. А объекты ее любви так быстро менялись, что от одного вида этого кружилась голова. Пока я встречалась со своим старым Яном, храня ему верность, Ева уже назавтра после новой встречи не знала, к кому питает вечную любовь.
— And if I loved you Wednesday
Well, what is that to you?
I do not love you Thursday
безжалостно заявила она исполненному надежд юноше, который позвонил ранним утром в четверг и напомнил ей все нежные любовные слова, сказанные ему накануне вечером. Но ему оставалось только винить самого себя за то, что он позвонил Еве до девяти часов утра — до того как она попила чаю.
Колыбель Евы качалась в Омоле
[5]. В двадцать лет она отправилась в столицу. Должно быть, в Омоле тогда стало ужасно тихо!
Мы с Евой служили в одной конторе и всегда хорошо ладили друг с другом. Никого, кроме Евы, я бы не хотела видеть в бывшей Тетушкиной комнате, а она была в восторге, что может туда переехать. Уже два года она жила в Стокгольме. За эти два года ей довелось пожить в семи разных местах, где ей было почти так же «уютно и приятно», как Дрейфусу
[6] на Чертовом острове, утверждала она.
Сейчас Ева снимала комнату на улице Дебельнсгатан
[7]. Там стояли кровать, стол и две огромные пальмы в кадках.
— Когда окно открыто, листья пальм шелестят, и я представляю себе, что здесь Средиземное море, — говорила Ева. — По-другому, вероятно, мне никогда не доведется побывать на Средиземном море, — добавляла она.
Время от времени по ночам на подушке Евы обнаруживался какой-нибудь заблудившийся клоп. Она тут же ловила его и запирала в специальную маленькую коробочку, которую называла «клоповня» и хранила возле кровати. Утром она исправно передавала коробочку хозяйке, утверждавшей, что вредных насекомых в квартире нет. Хозяйке совсем не нравилось, когда ей приносили «клоповню». Она поджимала губы, и выражение лица у нее становилось такое, словно она подозревала, что у Евы есть собственный клоповник, а коробочка представляет собой своего рода клоповореставрационный питомник, где Ева выращивает особо выдающиеся особи.
— Два года страданий сделали меня абсолютно беспардонной по отношению к теткам, сдающим комнаты с полным пансионом, — предупредила меня Ева.
— Звучит многообещающе! — ответила я. — Одно, во всяком случае, точно: ты не переступишь порог моей квартиры, пока не пройдешь основательную санобработку.
Уже на следующий вечер, преисполненная ожиданий и, по ее собственным уверениям, абсолютно продезинфицированная, Ева поднялась ко мне на четвертый этаж в сопровождении носильщика, который тащил все ее земное имущество.
Я живу в старом, слегка модернизированном доме, где нет и намека на лифт. С тех пор как я в шестилетнем возрасте причалила у Тетушки, я бегала вниз-вверх по этим лестницам. Вот была бы работа статистикам — сосчитать, сколько раз обежала я вокруг Земли лишь по этим ступенькам!
— Только поэтому ты такая стройная и злющая, — говорила Ева.
Как мы веселились в тот вечер, когда она переехала ко мне! Сначала мы произвели осмотр всех покоев. Много времени на это не потребовалось, потому что Двухкомнатная квартира совсем невелика. Да, более того, она мала, расположена на самом верху дома и по-старомодному уютна со своим скошенным потолком и оконными нишами. В одной комнате — маленький альков. А кухонька, должно быть, самая маленькая во всем Эстермальме.
В квартире, естественно, бросается в глаза след, оставленный Тетушкой, чрезвычайно мрачный след — табачно-коричневый, но мы решили как можно скорее покончить с этим.
Усевшись в оконной нише, мы начали строить планы. Ели и строили планы. В Омоле родители Евы были абсолютно уверены, что их крошка дочурка умрет с голоду в столице, если время от времени не присылать ей посылку с домашними припасами. Такую посылку с домашней колбасой, жареным цыпленком и печеньем она получила как раз сегодня.
Мы ели, сидя в оконной нише, и, держа в руке цыплячью ножку, я расписывала те изменения, которые собиралась сделать в квартире.
— Взорвем все ради воздуха и света! — сказала я, а Ева согласно кивнула.
Через открытое окно мы слышали звуки шагов внизу на уличной мостовой. Ах, только шаги звучат так по-летнему! Только летом так весело звучат шаги на улицах Стокгольма! Теплый вечерний воздух овевал наши лбы, а ландыши в вазе на подоконнике обдавали нас порой самыми опьяняющими волнами аромата. Все вместе было очень приятно!
— Как чудесно будет сегодня спать! — сказала Ева. — Без шелеста пальм и клоповни.
III

Каждой женщине необходимо когда-нибудь устроить собственный дом — не важно при этом, замужем она или нет. Живущее в ее душе стремление подрубать полотенца, скупать маленькие грубые огнеупорные формы для печенья, украшать настенные полки кружевными оборками должно быть, вне всякого сомнения, удовлетворено независимо от ее гражданского состояния. Как это часто бывает, девушка, стремясь окутать себя всей этой мишурой, легко может внушить себе, что влюблена в какого-нибудь парня, который может принести ей только несчастье. В любого парня, который даст ей возможность удовлетворить свою жажду обустройства и покупки мебели и одновременно назовет ее женой, что, разумеется, не менее важно.
По вечерам, подшивая с Евой занавески, я излагала свои взгляды.
— Желание обустроить дом и удостоиться звания жены погубило многих девушек! — уверенно заявила я. — Да, да, и это, возможно, не так уж странно.
— Да, — согласилась Ева, — не так уж странно сделаться вдруг, к примеру, фру
[8] Юханссон! А бедняге Юханссону, должно быть, станет не очень весело, когда до него дойдет, что в каком порядке приобретала его жена. Сначала полотенца, потом кофейный сервиз, потом довольно долго совсем ничего и только потом уж Юханссон!
Нам было
несказанно жалко этого незнакомого господина Юханссона, и мы были очень довольны своими великолепными взглядами и тем, что
нам нет необходимости принуждать мужчин к браку, на самом деле стремясь воплотить потаенную мечту о тюлевых занавесках в крапинку. Кроме того, мы сохранили чудесную, никем не нарушаемую свободу пришивать воланы к занавескам. Мы делали это чрезвычайно основательно, и выходило нарядно. Шили метр за метром. Да, и не только это! Мы переоборудовали всю двухкомнатную квартиру, да так, что у Тетушки, увидь она это, обозначилась бы строгая морщинка у рта. Ян, мой милый, правда немного ожесточившийся, Ян помогал мне. Ему, наверное, было не слишком весело вечер за вечером клеить обои или, сидя на четвереньках, покрывать лаком пол, постоянно думая о том, что, не будь я так упряма, сюда переехал бы он, а не Ева. Он считал меня ужасной дурочкой и постоянно говорил мне об этом, энергично обрабатывая малярной кистью мрачные Тетушкины стены. И хотя он вообще-то хорошо относился к Еве, он, конечно, не мог слишком радужно воспринимать ее переезд в мою двухкомнатную квартиру.
— Через год ты съедешь отсюда, заруби себе это на носу! — уверял он ее.
— За год многое может случиться! — отвечала ему Ева.
Когда я вновь услышала эту фразу, во мне что-то дрогнуло в тайном ожидании, хотя я никоим образом не могла тогда предвидеть свое будущее.
Но я быстро отбросила все мысли о том, что может случиться, и сосредоточилась на том, чтобы как можно уютнее разместить старый Тетушкин диван времен Карла XIV Юхана
[9] и расставить книги на новой полке, сделанной Яном. Мои дорогие старые книги!
— Не читай так много, Кати! — частенько говаривала мне Ева. — Лучше живи!
Но ее призывы были тщетны. Я как была книжным червем, так им и останусь. Жизнь, описываемая в книгах, была для меня более реальной, чем сама реальная жизнь. Сколько себя помню, я собирала книги и теперь с чувством тихой внутренней радости перенесла их в новое хранилище.
Июньские вечера были долгими и светлыми, и мы работали допоздна. Но все-таки не уставали, — должно быть, потому, что нам было так весело! Нам так долго было весело! Каждый день, когда часы били пять, мы с Евой поднимали усталые головы над пишущими машинками, бросали блокноты со стенограммами в ящик, накидывали курточки, бросались в сутолоку движения на улице Кунгсгатан
[10] и как можно быстрее мчались домой, в наше гнездышко. У нас едва оставалось время для еды. Мы запустили все остальные дела.
Стояла пора белых ночей, благословенных белых ночей! Расчет доброго Господа Бога, когда Он создавал стокгольмские белые ночи, состоял, конечно, в том, чтобы молодые мужчины и женщины, крепко обнявшись, медленно прогуливались летней ночной порой под сенью дубов Юргордена
[11], мечтательно странствовали вдоль тихих синих вод. А мы? Что делали мы? Мы шили занавески! По вечерам к восьми часам приходил Ян, поначалу немного угрюмый, чуть ершистый, но потом мало-помалу его захватывал архитекторский энтузиазм — переделать две маленькие мрачные каморки в мансарде во что-то светлое и просторное, в квартиру, где можно дышать. Часов в двенадцать ночи мы пили чай и обсуждали итоги дня, а потом Ян шел домой, к своей вдове на Кунгсхольмен. И, слыша, как звуки его шагов постепенно затихают на лестнице, я всякий раз испытывала угрызения совести, но недолго.
В конце концов все было готово, и в один прекрасный вечер мы пригласили Яна отметить окончание ремонта. Я обнаружила, что готовить еду вообще-то не так уж трудно, если только пунктуально следовать указаниям поваренной книги. А у Евы были врожденные кулинарные способности.
— Самое лучшее у Евы — ее котлетки! — заявил Ян, положив себе на тарелку целую гору котлеток.
Он не сказал, что самое лучшее — мои тушеные сморчки, но я-то сама считала, что они фантастически хороши. И настроение у нас тоже было хорошее. Даже Ян расслабился и хохотал так, что стекла звенели. В самый разгар веселья в дверь позвонили. Я открыла. Предо мной стоял абсолютно незнакомый молодой человек с веселыми голубыми глазами, держа в руках лютню. Он быстренько вторгся в наше общество и сказал:
— Какой тут шум, смех и болтовня, дорогие друзья! И почему меня никогда не бывает там, где царит веселье?! И почему меня не приглашают к столу?
— Мы думали, вы уже поели, — сказала я.
— А кроме того, мы думали, что от тушеных сморчков у вас начнутся колики, — сказала Ева. — А между прочим, кто вы такой, собственно говоря?
— Альберт конечно, — весело сообщил голубоглазый. — Уже несколько недель я ваш ближайший сосед!
— Приятно! — сказала Ева.
— Я довольно долго сидел и слушал, как вы веселитесь, — продолжал Альберт. — Могу вас уверить, вас замечательно слышно со всех сторон! Но потом какой-то коварный негодник так понизил голос, что я не все мог разобрать, а в таком случае теряется смысл происходящего. И я подумал, что лучше мне прийти сюда.
— Совершенно правильно, — подтвердила Ева.
Но тут пробудился к жизни Ян. Смерив пришельца с ног до головы бодрящим, как открытая могила, взглядом, он было начал:
— По какому праву…
— Минутку, Ян, — предупреждающе сказала я. — Это мой дом, и я охотно приглашаю Альберта отведать тушеных сморчков.
— Во имя святого соседства, — подтвердила Ева и поставила на стол чистую тарелку.
— Да, спасибо, раз вы так настаиваете… — поблагодарил Альберт.
Отставив лютню в сторону, он без всяких церемоний сел за стол. Веселый, ничуть не смущающийся, шумный, он совершенно не обращал внимания на то, что Ян был поначалу немного мрачен.
Альберт рассказал, что снял комнату у пожилой супружеской пары, жившей рядом с нами. Он артист и недавно вернулся из длительных гастролей по провинции. Мы вспомнили, что видели в газетах его фотографии. Он сказал, что играл Отца
[12].
Ян заметил, что если несчастная провинциальная публика узрела Альберта в роли Отца, то скука в провинции стала от этого еще более удручающей. Но Альберт только расхохотался и взял еще одну котлетку.
Все это время лютня стояла в углу, словно мрачная Угроза нашему веселью.
— Думаешь, он будет петь? — боязливо прошептала я Яну.
— Не представляю, как тебе удастся ему помешать, — прошептал мне в ответ Ян.
Вообще-то звуки лютни — чудесны… только потому, что, когда она замолкнет, наступает благословенно прекрасная тишина. Но большая часть поющих под лютню обычно как можно дальше отодвигает этот сладостный момент. И у меня всегда становится тоскливо на душе, когда огромные сильные парни, по виду профессиональные боксеры, встают в позу и возвещают: «Я девушка, что бродит в лохмотьях вокруг…» — а затем до бесконечности: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, хопп-сан-са…»
Но Ева, видимо почувствовав к Альберту известный интерес и зная, как лучше польстить мужчине, пока мы с Яном ставили на стол кофейные чашки, явно улучила момент, чтобы подстрекнуть его спеть что-нибудь. Потому что Альберт, внезапно поднявшись, с наигранным смущением сказал:
— Кое-кто просил меня спеть!
— Кто этот идиот?.. — спросил Ян.
Но Альберт не позволил сбить себя с толку! А Ева сидела рядом с ним с горящими глазами, и в конце концов он и в самом деле перешел к песне: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, ХОПП-сан-са…» — но тут мы с Яном вышли на кухню и поставили кипятить воду для кофе. А Ян поцеловал меня и сказал, что если бы я не была такая глупенькая и непонятливая маленькая дурочка, то мы могли бы быть уже женаты и иметь свой дом без всяких там певцов с лютней и все было бы хорошо.
И как раз в этот момент я почувствовала, что по-настоящему влюблена в Яна. И он держал меня в своих объятиях, пока кофе не сбежал, а я подумала, что, возможно, поступила неправильно. В комнате Альберт по-прежнему «ходил за пивом», а я сказала Яну, что об этом усердном хождении следовало бы, вероятно, доложить в Общество трезвости.
Но если не считать пения под лютню, Альберт был совершенно нормален и по-настоящему мил и приятен. И даже Ян стал в конце концов привыкать к нему. Мы завели граммофон и танцевали, пока не стало совсем светло. Потом сели в машину и покатили в Юргорден и мерзли, сидя там на скамейке на террасе Русендальского дворца
[13], пока солнце не выползло из тумана за Йердетом
[14], а маленькая певица малиновка совсем рядом не рассыпала первую трель наступающего дня.
IV

Кто сказал, что в конторе должно быть скучно? В нашей конторе настолько весело, что это почти опасно для жизни! Во всяком случае, Барбру, сидя за пишущей машинкой, однажды хохотала так, что свалилась со стула и сломала ребро.
Когда мы — Ева и Барбру, Агнета и я — хохочем как сумасшедшие, выходит из своей комнаты Сова-Халва и
смотрит на нас. Сова-Халва — это фрёкен Фредрикссон, кассирша. Ей абсолютно не трудно быть серьезной. Думаю, она и на свет родилась с серьезным жизненным мировоззрением и с двумя глубокими морщинами на лбу. А у Агнеты с Барбру и у нас с Евой взгляд на жизнь более радостный и светлый. По-видимому, так считает и Сова-Халва, когда говорит, что никогда в жизни не встречала четырех таких хохотушек. Морщины на ее лбу всякий раз обозначаются резче, когда ей надо пройти мимо «Моря рабов», где сидим мы — каждая за своей машинкой. «
Море рабов», — возможно, слова эти звучат как
что-то невероятно огромное и пустынное, но это абсолютная ошибка. Это — совершенно обычная комната, где наши четыре письменных стола стоят, плотно прижавшись друг к другу посреди комнаты. Кроме них остается место только для четырех пишущих машинок и для нас. «Квартет, Которому Тесно»
[15] — это мы и есть! Каждая из нас — секретарша своего адвоката.
— Работать в адвокатской конторе по-настоящему приятно, только если откажешься от старозаветного представления о том, что адвокаты тоже люди, — говорит Ева.
Они вовсе не люди. Они рабочие механизмы и требуют, чтобы их секретарши тоже превратились точно в такие же механизмы.
Как сказала Ева, когда ей пришлось однажды работать после двух часов ночи:
— Если в России крепостное право было отменено уже в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, то весьма странно, что в Швеции его отмена двигается так чертовски медленно.
Но в целом мы любим и нашу работу, и наших адвокатов. Хотя больше всего мы любим их, когда они находятся в суде, или на встречах, или уходят на долгие ленчи. Потому что у них, в отличие от нас, совершенно не развито чувство юмора. Я имею в виду — они не считают, будто
смеяться надо весь рабочий день напролет. Вообще-то иногда мы думаем точно так же. Когда, например, перед тобой целый стенографический блокнот, полный писем и прошений, которые надо расшифровать до семнадцати часов, сделав девяносто девять заверенных копий, то смеешься гораздо меньше. И когда при этом еще непрерывно, как пожарная сирена, гудят телефоны. Пишешь, пишешь и пишешь так, что раскаляются клавиши машинки, и всякий раз, когда звонит телефон, потихоньку проклинаешь Александера Грейама Белла
[16] и жестоко отвечаешь, что, мол, нет, у адвоката раньше следующей недели времени не будет.
Но вообще-то, как правило, с клиентами мы чрезвычайно любезны. Ведь среди них часто встречаются люди, придавленные горем. Горем, которое они с благодарностью переваливают на наши плечи, если адвокатов нет на месте. Агнета специализируется на утешении несчастных плачущих женщин с серыми лицами, которые приходят к нам рассказать о своем разводе.
Но есть и веселые клиенты, крупные бизнесмены, вид у них приветливый, и они говорят тебе, что фрёкен прекрасна как роза, и удивляются, почему мы раньше не встречались, и спрашивают, не могли бы мы вместе перекусить в каком-нибудь уютном местечке. Но мы отвечаем в таком случае, что нет — не могли бы. И правильно делаем.
Случалось, что и сами адвокаты делали такие предложения, то есть однажды его сделал адвокат Евы, а больше никто из тех милых и корректных типов личностей, на которых работаем мы — остальные. Адвокат Евы в один прекрасный день вдруг превратился из рабочей машины в человека и пустился во все тяжкие по образцу: «Шеф заводит флирт с очаровательной секретаршей». Это был, по всей вероятности, как считает Ева, случайный гормональный всплеск. Знал бы он, как мы веселились назавтра в комнате для ленча! Мы сидели там со своим радостным мировоззрением и бутербродами с ветчиной, а Ева передразнивала своего адвоката, рассказывая, что он говорил и делал.
— Он начал — довольно осторожно — уже с самого утра, — сказала Ева. — Он заметил, что у фрёкен миленькие ножки. И тут же после ленча зажег сигарету и, меланхолично выпустив несколько облачков дыма, сказал: «Как, должно быть, чудесно, когда рядом с тобой женщина, которая действительно тебя понимает…» И намекнул, что в этом плане с его женой не так-то легко…
Вечером для Евы нашлась сверхурочная работа, а через некоторое время он спросил, не пойти ли им в какое-нибудь уютное местечко поужинать?
— На свете нет никого наивнее мужчин, — изрекла Ева, закончив свой рассказ. — Подумать только, выложить все это
в один день! Вместо того чтобы растянуть на некоторое время! Как они не понимают!
— Не понимают… чего? — спросила я.
— А того, что
man merkt die Absicht und wird verstimmt[17] в высшей степени, — объяснила Ева.
* * *
В высшей степени
verstimmt пришла однажды в контору и Агнета, хотя было это совсем по другим причинам.
— Разве это жизнь? — спросила она и со вздохом уселась за машинку. — Неужели ради этого моя мама поила меня касторкой, кормила препаратами железа, когда я была маленькой, и следила за тем, чтобы я не промочила ноги? И все это ради того, чтобы я была здорова и выросла для такой жизни!
Она выразительно показала рукой на нас, и на контору, и на копии, и на серенький дневной свет за окнами — словом, на все. Ясно: она была не в настроении. Был понедельник, шел дождь, с утренней почтой ей пришел счет от портнихи, а на подбородке у нее вскочил прыщ, и за все воскресенье
ее молодой человек ни разу не позвонил. Она ужасно жаловалась и в конце концов жутко нам надоела.
— Давай сюда старца Иова!
[18] — сказала Ева. — Он ведь был просто весельчак и забавник по сравнению с тобой!
Но я считаю, что когда твои друзья удручены, надо попытаться их приободрить. Я сочла, что Агнете полезно узнать, что кому-то еще хуже, чем ей.
Наши с Агнетой столы стоят друг против друга, и на каждом по телефону. Ближе к полудню, когда началась жуткая горячка и телефоны звонили непрерывно, я подняла телефонную трубку и набрала номер Агнеты. Она ничего не заметила и отвечала как обычно.
— Алло! — сказала я на певучем финско-шведском наречии, чтобы мой голос стал неузнаваем. — Меня зовут фру Блумквист. Я хотела бы прийти и посоветоваться по поводу развода.
— Минутку, я посмотрю, когда господин адвокат сможет вас принять, — учтиво сказала Агнета.
Тут я начала всхлипывать, и Агнета с виду тут же сильно приободрилась. Ведь, как уже говорилось, ее специальность — утешать плачущих женщин.
— Ну-ну! — успокаивающе сказала она. — В чем дело?
— Мой муж бьет меня, — сказала я. — Получит жалованье и сразу же покупает дешевые украшения, чтобы не оказаться с пустыми руками, когда захочет швырнуть что-нибудь мне в голову. Есть ли в брачном кодексе статья, подтверждающая, что он вправе так поступать?
Агнета, похоже, была потрясена.
— При таких обстоятельствах развод — единственно правильное решение! — энергично заявила она.
— Да, но дети… — попыталась было я.
— У вас много детей? — поинтересовалась Агнета.
— He-а, не так уж и много, — ответила я. — Но, верно, двенадцать-тринадцать найдется, если сосчитать всех.
Агнета ловила ртом воздух.
— Упаси бог! — воскликнула она. — Тогда вы, видимо, живете в ужасной тесноте. Быть может, в этом причина дурного настроения вашего мужа?
— He-а, не в такой уж тесноте мы живем, — сказала я. — У нас большая прекрасная однокомнатная квартира!
— Однокомнатная квартира! — вне себя от ужаса заорала Агнета. — Четырнадцать человек в однокомнатной квартире!
— Восемнадцать! — поправила я. — Восемнадцать, с возлюбленными моего мужа и его побочными женами. Но свекровь живет на кухне, так что она не в счет.
Агнета яростно ковыряла в носу. Она поняла, что кто-то ее разыгрывает, но совершенно не заподозрила меня, сидевшую всего в метре от нее.
— Вы что — разыгрываете меня? — возмущенно спросила она.
— Нечего ковырять в носу, когда разговариваете с клиенткой, — сказала я. — Это выглядит совершенно по-торпарски и глупо.
— Извините, — сказала Агнета и прелестно покраснела.
Затем смущенно посмотрела на свою телефонную трубку. А потом наконец взглянула на меня.
Услышав воинственный клич Агнеты, из своей комнаты появилась Сова-Халва. Пожалуй, это исключительно ее заслуга, что утренние газеты не вышли с заголовком на трех полосах:
«Ужасное кровавое злодеяние в адвокатской конторе!»
* * *
Но на следующий день я пришла с повинной. Положив пакетик жареного миндаля на пишущую машинку Агнеты, я написала маленькую дружескую записку:
«Милая фрёкен! Ваше теплое участие ко мне во время нашего вчерашнего разговора по телефону мне чрезвычайно помогло. А кроме того, вчера вечером у нас появилась новая побочная жена, очень добрая, она помогает мне сортировать детей и колотить их. Так как мои домашние обязанности благодаря этому значительно упростились, я полагаю, что тоже смогу потихоньку начать швыряться украшениями. Похоже, как раз тогда, когда все видится в исключительно мрачном свете, все может еще наладиться.
О, я так счастлива! Жизнь улыбается мне!
В надежде, что с Вами происходит то же самое, остаюсь
Ваша Мария Блумквист».
V

Между тем лето и впрямь вступило в свои права. Совершенно холодный июнь сменился необычайно теплым июлем, и все разъехались в отпуска. Все, кроме Евы и меня. Оба наши адвоката собирались в сентябре на Мальорку
[19], и мы, как волы в одной общей упряжке, должны были корпеть над бумагами. Только в сентябре нам светит долгожданный отпуск нашей мечты. Да, мы решили, что это будет отпуск нашей мечты. Единственное, что мы еще не решили: как проведем свободные золотые деньки?
О, эти жалкие три недели с золотой каемочкой! Собственно говоря, в кошмарном ожидании отпуска есть что-то завораживающее! Взволнованные этим ожиданием, мы все — «маленькие человеки»
[20], которые сидят в конторе, и мечтают, и жаждут, и строят планы, и экономят, и фантазируют, веря, что все их мечты осуществятся, стоит лишь пойти в отпуск. Мы храбро пробираемся сквозь глубокие снежные заносы, преодолеваем простуды и эпидемии гриппа и вообще страдаем, не жалуясь. Ха, только бы нам дождаться отпуска! Это ужасно! И вероятно, следовало бы специально учредить должность психиатра, который занимался бы теми, кто возвращается после неудавшегося отпуска. Ведь если отпуск оказывается неудачным, как сможет бедное дитя человеческое осмелиться пойти навстречу новой зиме?
[21] Поверьте мне, тут необходимы успокоительные пилюли!
Мы с Евой что ни день строили новые планы. То мы собирались выбраться на западное побережье — на западном побережье, утверждал Ян, в сентябре бывает чудесно… то поехать на велосипедах на Эланд
[22]. А порой, охваченные манией величия, решали отправиться в какую-нибудь туристическую поездку в Италию. Но это была совсем не сложная математическая задача высчитать, что эта страна — за пределами наших возможностей. Хотя строить планы было весело, да, очень весело!
У Яна отпуск был в июле, и он отправился в Стрёмстад
[23], откуда присылал мне открытки с видами местных красот и со множеством восторженных восклицаний о солнце, и о соленых волнах, и о прекрасных наядах. Полагаю, что строки о прекрасных наядах были задуманы как легкое напоминание о том, что я не должна быть слишком уверена в своей неотразимости. Но я относилась и к наядам, и к отъезду Яна так спокойно, что Ева, огорченно качая головой, говорила:
— Если это любовь, то я питаю истинную страсть к моему старому велосипеду!
Но что делать, если Стокгольм прекрасен даже без Яна?! Стокгольм летом, о, как я люблю все это! Сидеть на ступеньках лестницы Концертного зала
[24] во время перерывов на ленч и загорать! Пить кофе по вечерам в парке Берцелиуса
[25] и слушать музыку, доносящуюся из ресторана Берна!
[26] Отправиться в какой-нибудь кинотеатр, где идет хороший старый фильм, который мечтаешь посмотреть снова, и выйти после сеанса в сладостный мрак! И не мерзнуть в легком платьице!.. Разве все это не удивительно прекрасно?
Повсюду на открытых площадях стоят большие горшки с цветами, да весь город цветет, и люди тоже, духовный климат становится словно бы чуть мягче и нежнее, чем обычно. Повсюду на улицах слышится иностранная речь, вызывающая любопытство, и ты видишь своеобразнейших людей со всех уголков земного шара… И внезапно тебя охватывает приятное чувство, что ты живешь в столице мира, в столице, к счастью, не большой, а маленькой-премаленькой, цветущей и очаровательной; озаренная солнечным светом, она плывет по голубым водам.
А кроме того, это было первое лето, когда мы вели хозяйство самостоятельно. И хотя в обычных случаях приготовление пищи не слишком популярный вид летнего спорта, для нас оно все еще имело огромное очарование новизны. В особенности для Евы, которой до того приходилось питаться в маленьких дешевых кафе, и она с большим рвением принялась устраивать кулинарные оргии. Она смешивала салаты, и мариновала сельдь, и жарила рыбу так, что приятно было садиться за стол.
Однажды она приготовила гуляш, и благодаря этому гуляшу мне довелось совершить один из самых замечательных акробатических номеров современности.
Была суббота, августовская суббота. Я пошла в торговый центр Эстермальма сделать кое-какие покупки к воскресенью
[27]. Проходя мимо рынка, я купила букетик желтых ноготков и, нагруженная бумажными пакетами и цветами, счастливая шла домой, купаясь в солнечных лучах.
Я знала, что Ева придет раньше меня. Она накроет на стол и подогреет гуляш, приготовленный накануне.
Как чудесно возвращаться домой, вдруг поняла я, поднимаясь, запыхавшись, по лестнице.
На верхней ступеньке четвертого этажа сидела Ева.
— Ты что, скупила весь торговый центр? — спросила она. — За то время, что ты пропадала, можно было совершить туристическую поездку.
— У тебя потрясающий
esprit d’escalier[28], — сказала я. — Но почему ты так мрачно сидишь здесь, вместо того чтобы заниматься домашними делами?
— Я сбежала вниз — опустить письмо — и забыла взять с собой ключ!
—
Как можно быть такой небрежной? — строго спросила я. — Гуляш стоит в кухне на плите?
— Да, на плите, — ответила Ева.
— Повезло нам, что в доме есть все-таки
один аккуратный человек, — сказала я.
Только тот, кто уже когда-то сжег гуляш так, что ужасный чад вызвал возмущение среди домашних хозяек в дальнем Васастане, только тот знает, что гуляш терпеть не может, когда его одного надолго оставляют на плите.
Поставив все пакеты на площадку, я начала рыться в сумке в поисках своего ключа. Но, как ни странно, его там не было. Там лежали только ключ от ящика письменного стола в конторе, ключ от дверей дома, ключ от моего велосипеда, ключ от чердака и еще совершенно неизвестно откуда взявшийся отвратительный маленький ключик, которого я никогда прежде не видела, и зеркальце, и расческа, и пудреница, и губная помада, и карманный дневник, и книжка почтового сберегательного банка
[29]. А также два носовых платка, кошелек, авторучка, несколько фотографий и старых писем, а еще ключ от туалета, который долго искали, когда он необъяснимым образом исчез из милейшей семьи на острове Юстеро
[30], где я гостила однажды июльским воскресным днем.
— Как уже сказано, — заметила Ева, — повезло нам, что в доме все-таки есть
один аккуратный человек!
Она задумчиво осмотрела ключи, которые я разложила рядком на лестничной площадке.
— Думаю, умнее всего предупредить криминальную полицию, — сказала она. — Скажи мне только одно, где ты в квартире держишь лом?
Мы перепробовали по очереди все ключи подряд в тайной надежде, что один из них подойдет. Но после последней отчаянной попытки с ключом от туалета нам пришлось признать тот горький факт, что мы заперты снаружи. И что гуляш заперт наедине с самим собой, в обществе неумолимого газового пламени.
Ева выглянула в лестничное окно.
— Окно в твою комнату открыто, — сказала она. — Все, что от тебя требуется, — это пробалансировать вдоль водосточного желоба и влезть в квартиру.
Она произнесла эти слова так легко, словно предлагала совершить прогулку по Страндвеген
[31]. Я тоже выглянула из окошка, и меня всю затрясло. Ева была, несомненно, права. Очевидно, следовало, если не закружится голова и не грохнешься вниз, пробалансировать по водосточному желобу прямо к моему окну. Но наши окна открываются наружу, и я не могла представить себе, как можно пройти мимо открытой створки и влезть в комнату. Я спросила Еву, как это сделать.
— Очень просто, — сказала она, — ты только чуточку подогнешь ногу и протиснешься мимо створки.
— Замечательно, — согласилась я. — Я только чуточку подогну ногу и очнусь уже на погребальных носилках в морге Саббатсберга
[32]. Спасибо тебе, но никакие ноги здесь не согнутся, по крайней мере мои.
Мы немного постояли молча, тоскливо глядя на окно.
— Этим путем гуляш выйдет в свет, — сказала в конце концов Ева.
Мы были голодны, и можно было бы найти более веселое развлечение в субботу после полудня, чем сидеть на старой лестнице. Кто-то должен был пожертвовать собой, это было очевидно.
— Бросим жребий, — решила Ева, — орел или решка!
И мы бросили монетку. Во избежание недоразумений… Мы бросили жребий не для того, чтобы узнать,
кто должен пожертвовать собой, а только для того, чтобы узнать,
должна ли я это сделать или нет. Потому что у Евы начинает кружиться голова, стоит ей только забраться на кухонный стол.
Через минуту я уже вылезла на крышу и начала послеобеденную прогулку на высоте четырех этажей над уровнем улицы. Меня сопровождал тревожный взгляд Евы.
Я шла, обратившись лицом к крыше, а спиной — к ужасающему Ничто. Ничто, кроме узкой хрупкой кромки жести, не отделяло меня от лучшего мира. Сначала ноги казались мне удивительно вялыми, но постепенно я чуточку расхрабрилась. «Ведь все идет хорошо», — подумала я и бросила взгляд вниз. Ой, этого мне ни в коем случае не следовало делать! В дикой панике прижалась я к крыше и тихонько постояла, пока Каптенсгатан немного не успокоилась. Но в конце концов мне все равно пришлось продолжить путь.
Когда я прошла почти полдороги, Альберт высунул голову из своего окна. Думаю, ему хотелось посмотреть на открывавшийся оттуда вид. Да, вид, который открылся, разумеется, ужаснул его! Он побледнел так, словно увидел, как по крыше пронеслась дикая охота, и в горле его как-то странно забулькало.
— Куда… куда ты? — закричал он, беспомощно размахивая руками.
— Мне надо домой, посмотреть, не кончилась ли моя страховка! — закричала я в ответ.
Он только застонал, но я утешила его:
— Тебе вовсе незачем бояться. Потому что я сама боюсь!
Правда, как я боялась! И когда мне в конце пути пришлось согнуть ногу, чтобы обогнуть открытую наружу створку, я услышала жалобные стоны Евы. Она, конечно, боялась — да, она тоже! Как раз когда я проходила мимо, пуговица от платья зацепилась за створку окна, и я стала отрывать ее, смертельно боясь, что мне не высвободиться! Но мне все-таки удалось вырваться. Да, сверх всяких ожиданий удалось! И только потому, что в последнюю минуту я сумела крепко уцепиться за крючок окна и благодаря этому избежала возможности, с шумом и грохотом свалившись вниз, стать маленьким ангелом.
Минутой позже я уже была в квартире, возле гуляша. Самое время! Я с любовью слегка полила его водой, а потом пошла и открыла Альберту и Еве, стучавшим в дверь.
— Цирк Шумана
[33] никогда не слышал о тебе? — спросил Альберт.
Должна признаться, нет, не слышал! Цирк Шумана не имел ни малейшего представления о том, что одна из лучших воздушных акробаток прозябает в безвестности на улице Каптенсгатан. Альберт, вытянув руку, показал, что обкусал два ногтя исключительно на нервной почве. Я восприняла это как знак истинной дружбы. Ева накрывала на стол, все время непрерывно горько плача. Ее нервы обычно сдают потом, когда уже все в порядке.
Успокоившись, она позвонила Яну.
— Приходи сейчас же и съешь гуляш! — сказала она. — Мне так жаль тебя! Ты чуть не стал вдовцом, еще даже не женившись!
Ян тут же явился, и мы все вчетвером сели за стол, где на фоне голубой скатерти весело светились желтые ноготки.
— Как это так? — спросила я Яна. — Неужели нельзя получить медаль Карнеги, если с опасностью для жизни спасаешь гуляш? Ну хотя бы маленькую-премаленькую?
Но Ян так не думал.
Когда мы перешли к кофе и сигаретам, я сунула руку в карман платья проверить, нет ли там спичек. Спичек не было. Но было кое-что
другое. Моя рука наткнулась на плоский маленький ключик! Так хорошо знакомый ключик от квартиры!
Я так рада, что не наткнулась на него, пока ползла по водосточному желобу. Думаю, тогда я непременно свалилась бы вниз.
VI

«За год многое может случиться!» — сказал Ян, и я все усердней ждала, когда же наконец все начнется. Идти по водосточному желобу, спасая запертый в квартире гуляш, я вовсе не считала «событием», так же как и то, что Ева выскочила на ходу из автобуса, упала, оцарапав лицо о землю, и потом долго не осмеливалась показываться на людях.
— Разве это не событие? — горько вопрошала Ева. — Чего тебе, собственно говоря, надо? Может, ты признала бы «событием» ужасное кораблекрушение?
Она недовольно смотрелась в зеркало. Вся ее левая щека представляла собой один сплошной большой синяк. Ева считала, что в ближайшее время внешние контакты ей совершенно противопоказаны. Естественно, ей необходимо было ходить в контору, но все остальное время она большей частью сидела дома, к великому горю и досаде толпы энергичных молодых воздыхателей, которые звонили ей, приглашая провести с ними вечер. Она вообще отказывалась встречаться с людьми.
Единственный, кого она, несмотря на все попытки, не смогла удержать на расстоянии, был Альберт. У него появилась привычка бродить по нашей квартире, словно он огромный добрый сенбернар. Как только Альберт освобождался от своих фильмов, он располагался у нас, явно собираясь делать это и в дальнейшем, даже если бы Ева вся превратилась в один сплошной синяк.
Он принес с собой несколько алых роз и спел своим красивым баритоном:
«Red roses for a blue lady»[34].
Ева, ворча, поставила цветы в вазу и прекратила борьбу. Яну тоже нельзя было отказать от дома, и поэтому мы все четверо вели некоторое время тихую домашнюю жизнь, пока синяк Евы не прошел.
Оба они — и Ян, и Альберт — были страстными футбольными болельщиками. Они болтали об «Общешведской футбольной команде», делали на нее ставки и были увлечены так, что нам с Евой это жутко надоело. Однажды они получили восемь крон пятьдесят эре за одну ставку, сочли это выдающимся, единственным в своем роде подвигом и не переставали им хвастаться.
— Восемь крон пятьдесят эре, — высокомерно заявила Ева, — есть из-за чего поднимать такой шум! Думаю, это вам, мальчики, не по зубам. Поставим и мы с Кати, тогда вы увидите, что из этого получится!
И мы поставили, едва отзвучали залпы надменного хохота. Мы ничегошеньки не знали ни об одной из команд. Но полагались на женскую интуицию.
— Команда «Мальмё Ф. Ф.»
[35], — сказала я. — Звучит честно и приятно. Эти мальчуганы из Сконе
[36], ясное дело, выиграют. Поставь им крестик, Ева!
— Глупышка! — сказал Ян. — Если ты думаешь, что они выиграют, поставь им в этом случае два крестика.
И тогда мы с Евой поставили по два крестика всем, про кого мы думали, что они выиграют. И нам посчастливилось. Мы угадали двенадцать раз. Понадобилась целая неделя, прежде чем Ян и Альберт нас простили.
— В ставках должны быть своего рода порядок и система, — поучительно сказала Ева.
Это было уже потом, когда мы немного успокоились. Вначале в угаре успеха мы только бегали кругами и кричали. Мы получили примерно три тысячи крон за наши двенадцать правильных ставок. Явно кроме нас было еще много тех, кто делал ставки по разумной системе.
— О! — сказала Ева. — С тремя тысячами крон можно многое сделать! Их можно положить в банк. Или начать грандиозную светскую жизнь, часто посещать рестораны. Или поехать в Италию!
— Да, — сказала я. — С тремя тысячами крон можно поехать в Италию.
— Да, но… ты в самом деле думаешь, что?.. — заколебавшись, спросила Ева.
— Ева, — ответила я, — согласно статистике, в этом году в Италию ездили шестьдесят семь тысяч шведов. И то, что достаточно хорошо для шестидесяти семи тысяч шведов, пожалуй, хорошо и для меня.
— Ну ладно, — согласилась Ева, — позвони в Центральное статистическое бюро или тому, кто там теперь этим занимается, и скажи, чтобы изменили цифру на шестьдесят семь тысяч ноль-ноль два.
Затем, обхватив друг друга за талию, мы, обезумев от радости, исполнили воинственный танец. Отпуск мечты — теперь он станет реальностью! Италия — небесная, солнечная Италия!
Многое может случиться за год! А путешествие в Италию было «событием», да, несомненно!
— Надо начинать учить итальянский, — сказала Ева. — Самые необходимые фразы, например: «Удивительно, какой у вас пламенный взгляд, синьор!» Или что-нибудь в этом роде!
VII

Ева упрямо настаивала на том, чтобы мы учили итальянский.
— Дорогая Кати! — со строгим видом говорила она. — Если собираешься ехать в чужую страну, необходимо хотя бы немного знать язык.
— Начнем зубрить грамматику? — спросила я. — Что-нибудь вроде: «Я любила бы…» — и в этом же роде?
— Не будь дурочкой, — сказала Ева. — Я имею в виду только то, что нам надо выучить самые употребительные фразы. Так мы получим гораздо большую пользу от поездки. Коренное население просто теряет голову от восторга, когда говорят на его собственном прекрасном родном языке. Хотя бы немного!
— Охотно! — согласилась я.
Ева немного торопилась, так что покупку необходимых учебников я взяла на себя. По дороге домой я завернула в магазин старой книги и приобрела несколько итальянских разговорников и словарей.
Прошло
несколько дней, прежде чем у нас появилось время для занятий, но однажды в воскресенье, еще до полудня, когда шел дождь, Ева сочла, что торжественный миг настал. Мы как раз только что выпили утренний кофе и сидели в одних пижамах на диване в комнате Евы.
— А теперь посмотрим, — сказала Ева, жадно хватая верхнюю книгу из купленной стопки. Это была старая честная книга Кунце «Полиглот». — «Новый легко усваиваемый метод — сразу же начать говорить по-итальянски без учителя. Содержит все необходимые для повседневных нужд слова и обороты речи», — прочитала она. — Но это же великолепно, как раз то, что нам нужно!
Довольная, она откусила кусочек венской булочки и стала листать книгу.
— Посмотрим! — снова сказала она.
Некоторое время Ева молчала, но глаза ее медленно расширялись.
— Mi arrichi i baffi — дерни меня за усы, — прочитала она.
— Превосходно! — сказала я. — Мы не можем ехать в Италию, не овладев этим оборотом речи — таким емким искренним выражением чувств.
— Может, это выражение в стиле нашего «Поцелуй Карлссона»?
[37] — спросила Ева. — В таком случае его, вероятно, можно употреблять.
— Читай дальше, — потребовала я.
И она так и сделала:
— «К вашим услугам, синьор, будьте так любезны подняться со мной наверх!»
— Думаю, это выражение нам лучше
не учить, — сказала я. — Если мы начнем приглашать итальянских синьоров подняться с нами наверх, это повлечет сплошные недоразумения.
— Ты думаешь? — протянула Ева. — Во всяком случае, мне кажется, это лучше, чем предложить им спуститься с нами вниз, что могло бы означать «покатиться по наклонной плоскости» и так далее. Ну ты знаешь!
— Пусть господин Кунце нас извинит, но думаю, мы совершенно проигнорируем это крайне необходимое выражение, — ответила я, — тогда ты наверняка найдешь что-нибудь получше.
Ева перевернула страницу.
— Что скажешь об этом? — спросила она. — «Мне хочется приобрести пару сапог — это очень хорошие сапоги!»
— Звучит неплохо, — ответила я. — Мы поедем в Италию и купим там по паре сапог, которые нам, видимо, необходимы!
— Но они стоят денег! — воскликнула Ева.
— Сколько? — спросила я.
— Не знаю. Но скажи только: «Пожалуйста, счет!» — и сразу узнаешь, — уверила меня Ева.
— Ни одного дурного слова о господине Кунце, — заявила я, — он наверняка человек чести, но не кажется ли тебе, что его слова и обороты речи, пожалуй, чуточку опередили свое время? Перейдем лучше к этой книге!
Я схватила следующую книгу из стопки — это был разговорник, напечатанный в 1934 году.
— Что ни говори, — заметила Ева, — а разговорники интересны. Более или менее намеренно они многое разоблачают в той стране, о которой идет речь.
— В самом деле? — спросила я, испуганно глядя в разговорник. — Тогда нам лучше остерегаться Италии. Послушай-ка: «Этот человек украл у меня часы». «Я не могу найти свой железнодорожный вагон». «Здесь нет ночного горшка». «Ночью меня жутко мучили блохи…» В самом деле, какая опасная страна!
— Да уж! Взять хотя бы «Нет ночного горшка»! — возмущенно произнесла Ева. — И туда едут добровольно!
— Да, Ева, — продолжала я. — А население Италии производит впечатление людей грубых и навязчивых. Послушай-ка, что значится в рубрике «Чаевые»: «Если вы такой бессовестный, вы вообще ничего не получите… Если вы не оставите меня в покое, я вызову полицию!»
— Становится страшно, — резюмировала Ева.
— Все эти итальянские мужчины и назойливы, и плутоваты, уж поверь мне, — сказала я и продолжила чтение: — «Этот человек без всякого повода оскорбил меня — он только притворяется глухим».
— Почему он притворяется глухим? — со свойственной ей любознательностью спросила Ева. —
Почему, во имя неба?
— Этого в разговорнике нет, — ответила я. — Очевидно, это часть какого-то коварного и ужасного плана. В решающий момент наверняка выяснится, что он, этот остолоп, слышит как нельзя лучше.
— Все это настораживает, — сказала Ева, наливая по рюмочке ликера. — Предлагаю прекратить занятия итальянским, а не то мы наберемся такого страху, что побоимся ехать.
— О нет! — сказала я. — Ты послала меня купить книги, и теперь уж я позабочусь о том, чтобы ты все-таки выучила итальянский и смогла обходиться без посторонней помощи в чужой стране. Как ты сама сказала: только самые необходимые фразы!
— Например? — спросила Ева.
— Например, вот эта, — ответила я, предварительно заглянув в книгу. — «Могу я попросить у вас понюшку табака?»
— Да, да, — глухо сказала Ева. — Ужасно, если бы мне пришлось блуждать по Венеции обезумевшей из-за отсутствия нюхательного табака. И все только из-за того, что я не знаю, как он называется по-итальянски.
— Такого случиться не должно, — решила я. — Ты совершенно спокойно подойдешь к пожилому синьору на пьяцце
[38], трогательно посмотришь на него и совершенно непринужденно скажешь:
«Mi favorirebbe ипа presa?» — «Могу я попросить понюшку табака?»
Ева кивнула:
— Это разумная просьба, на которую нельзя не откликнуться.
— Да, а туземцы совершенно обалдеют от восторга, если с ними станут разговаривать на их собственном прекрасном родном языке, ведь ты так сказала, верно? Старикашка сбагрит тебе целую табакерку нюхательного табака, уж поверь мне!
Глаза Евы засверкали от восторга.
— Я начинаю думать, — сказала она, — что мы здорово повеселимся в Италии. Но одно меня удивляет: что за люди составляют эти разговорники?
Я не ответила. Потому что нашла в книжке
кое-что очень интересное: список «наиболее распространенных болезней». Начинался он очень многообещающе — алкогольным отравлением и кончался совершенно логично почечной коликой. Опасная страна эта Италия! Сразу видишь, до чего в Италии доводит неудержимая страсть к пьянству.
Я углубилась в названия болезней. Болезнь может быть либо
«ereditaria», то есть наследственная, либо «
di corso lento» — вялотекущая, либо
«uncurabile» — неизлечимая, объяснял словарь-разговорник. Я тотчас же принялась зубрить все эти слова и выражения.
Но Ева сочла такое усердие преувеличенным.
— К чему это? — спросила она.
— К чему? — переспросила я. — Ты ведь сама сказала, что мы должны учить итальянский. А если в Италии я заболею, то, думаю, смогу сказать врачу на звучном итальянском: я подозреваю, что у меня вялотекущая почечная колика.
— Дерни меня за усы и поцелуй Карлссона, — сказала Ева, швырнув разговорник на пол.
VIII

Два Рыцаря Печального Образа
[39] стояли на перроне. Это были Ян и Альберт. При скудном освещении оба казались бледно-серыми и немного обиженными судьбой.
— Они производят такое же бодрое и смешное впечатление, как главные герои современного романа, — сочувственно сказала я.
— В то время как мы, напротив, кипим и прыгаем от радости, словно герои эпохи Ренессанса
[40], — сказала Ева.
Ян с упреком смотрел на окно нашего купе.
— Послушай-ка, Кати! — сказал он. — Надеюсь, ты не слишком будешь прыгать от радости. Шведских девушек, которые, стоит им выехать за границу, срываются с тормозов, и без тебя хватает!
— И я, конечно, тоже сорвусь, — сказала я. — Все мои тормоза отпадут, как остатки кожи, которая шелушится после скарлатины.
Но в этот миг поезд тронулся, и если Ян и высказывал еще какие-то предостережения, то я, во всяком случае, не расслышала. Он исчез из поля зрения, и я его больше не видела. Некоторое время я по-прежнему стояла у окна, погрузившись в размышления. Почему-то я почувствовала, что Ян исчез не только из поля моего зрения, но и из моей жизни вообще. Я не хотела этого, но тут уж ничего не поделаешь! Я не могла избавиться от ощущения, будто оставляю
нечто безвозвратно прошедшее. Это немного испугало и опечалило меня.
— Прости меня, Ян, — прошептала я, прижавшись лицом к стеклу.
Ведь если даже иногда его предупреждения надоедали мне и я чувствовала себя чуточку оскорбленной его недостаточным вниманием к моему внутреннему «я», все же он был всегда так добр ко мне! И я дружила с ним целых три года. Мне вовсе не нравилось это новое ощущение, словно он ускользает от меня.
Но Ева не оставила мне ни минуты для подобных размышлений. Ведь мы были на пути к солнечной Италии, и радость Евы, ее восхищение были слышны всему поезду. Еще долго после того, как мы влезли на полки в спальном вагоне, она хихикала, и болтала, и журчала, и ворковала, так что пассажиры соседнего купе, которые явно не были людьми эпохи Ренессанса, в конце концов стали стучать в стенку, чтобы заставить ее замолчать.
В Копенгагене светило солнце и уличные торговки предлагали нам фиалки, а Ева сказала, что всем телом ощущает, как мы приблизились к континенту и как тормоза уже начинают отказывать, так что… бедный Ян, если бы он только знал!
Мы пообедали у «Лорри», в ресторане Драхмана
[41], где два милых маленьких старичка с серебряными волосами пели нам песни Бельмана
[42], так что глаза наши увлажнились слезами, и, почувствовав себя патриотами, мы задались вопросом, не слишком ли мы поторопились, оставив наше любезное отечество, где жили такие поэты?!
В ресторане было очень людно. Неподалеку от нас сидел веселый господин в сером полосатом костюме. Он пил водку «Ольборг» и пиво «Карлсберг» и становился все веселее. Он действительно соответствовал цитате из Драхмана, вырезанной на одной из живописных потолочных балок: «Здесь мое чело разгладилось так, что уже никакие морщины не в силах были избороздить его».
Нет, у этого господина в самом деле никаких морщин на лбу не было. Он с головы до пят был одно сплошное солнечное сияние.
В тот момент, когда мы в Евой накинулись на жаркое из свинины с красной капустой, он поднялся и подошел к нашему столику.
— Густафссон, — представился он и поклонился. — Вижу, дамы обедают здесь в полном одиночестве?
— Нет, мы здесь играем в карты с братом, — холодно ответила я, потому что, если даже Бельман и настроил нас на патриотический лад, все же наш патриотизм не распространялся на первого попавшегося шведа, заблудившегося в чужой стране.
Господин Густафссон совершенно не обратил внимания на мою убийственную иронию. Он по-прежнему весь сиял.
— Как приятно слышать за границей шведскую речь, — продолжал он. — Мне кажется, о ней можно по-настоящему тосковать.
Снедающую его тоску только долгое изгнание могло объяснить, и Ева сочувственно спросила господина Густафссона:
— Давно вы из Швеции?
— С сегодняшнего утра, — ответил господин Густафссон.
Мы онемели.
— Я еду в туристическую поездку в Италию, — продолжал он, хотя никто его об этом не спрашивал.
Ева поперхнулась.
Наша туристическая группа должна была отправиться из Копенгагена на другой день, и мы еще не видели будущих спутников.
Но мы немало размышляли о том, какими они будут. Ева оптимистка и все время была непоколебимо уверена в том, что большинство из них окажутся молодыми, статными, широкоплечими мужчинами, которые смогут защитить нас во мраке катакомб
[43] и вместе с нами будут мечтать под венецианской луной. Я отчетливо увидела, как при словах господина Густафссона жгучее сомнение начало закрадываться в ее душу. Подумать только! Что если он едет с
пашей туристической группой! Подумать только! Что если с нами не будет нескольких молодых, статных, широкоплечих мужчин, а только такие, как господин Густафссон! Да, разумеется, Форум Романум
[44] — он всегда Форум Романум, но видеть некоего господина Густафссона, четко вырисовывающегося на фоне разрушенных колонн и выветрившихся руин, она явно не хотела. Это было заметно. Она так поникла, что бедный господин Густафссон в конце концов недовольно вернулся к своему столику. У нас было впечатление, что мы сильно испортили ему вечер.
— Ах, на свете столько туристических поездок, не надо думать, что все толстяки мира поедут вместе с нами, — все-таки молвила мне в утешение Ева, когда он уже не мог нас слышать.
Мы закончили трапезу, а затем вышли в сладостную осеннюю тьму. То был один из последних вечеров, когда Тиволи
[45] был еще открыт, и мы решили пойти туда. Ева хотела сначала пойти в Нюхавн
[46]. Но я отказалась, заявив, что если уж меня где-нибудь похитят, то пусть это будет в Неаполе, и, подумав хорошенько, Ева признала мою правоту. Жаль, если бы наше путешествие в Италию закончилось, еще даже не начавшись, в Нюхавне.
Ева никогда раньше не была в Копенгагене, так что мне пришлось показывать дорогу в Тиволи. Способность ориентироваться была у меня не на высоте, но это меня ничуть не беспокоило. Я взяла Еву под руку, и мы двинулись туда, где, как я полагала, находится Тиволи. Несколько раз я спрашивала, как туда пройти, но поскольку я обладаю сказочной способностью, задавая подобные вопросы, натыкаться на городских идиотов, то случилось то, что случилось. Мы причалили на узенькой, сумрачной и безлюдной улице, где еще никогда не ступала моя нога.
— Это и есть знаменитый копенгагенский Тиволи, о котором я столько слышала? — спросила Ева. — Развлечения, песни и танцы… — добавила она.
И в самом деле! Из ближайшего дома вырывались развеселые звуки. Открытая дверь вела в какой-то кабачок. Мы осторожно заглянули туда. Там было полным-полно людей, которые, казалось, необычайно веселились. В основном это были дородные матроны и квадратные веселые дяденьки, вертевшиеся на крохотном тесном пятачке. Но там мелькали и молодые люди, и все казалось так весело и уютно!
— Публика здесь не особо элегантная, — сказала я Еве. — Но зато весело! Давай зайдем! Когда приезжаешь за границу, нужно смешиваться с толпой, это-то и создает атмосферу!
И мы нырнули в толпу, чтобы создать себе атмосферу. Деньги за вход в этот примитивный ночной клуб платить явно было не надо. Мы просто вошли туда и расположились за маленьким столиком. В кабачке стало заметно тише. Все смотрели на нас, широко раскрыв глаза.
— Мы, наверное, чуточку слишком элегантны и сенсационно-вызывающе одеты для этого кабака, — сказала Ева, удовлетворенно поглаживая свое платье из фая
[47]. — Но они быстро к нам привыкнут.
За всеми остальными столиками пили кофе, а мы всегда, куда бы ни пришли, придерживаемся местных обычаев.
— Официант! — громко окликнула я. — Две чашечки кофе! Будьте любезны!
Да, он хотел оказать нам любезность. Хотя видно было, что вначале жутко колебался.
Танцы продолжались. Мы с Евой уселись поудобней, чтобы сразу же вскочить, как только нас пригласят.
Но нас не пригласили. Никто к нам не подошел.
— Они не осмеливаются, — сказала Ева. — Надо им показать, что мы простые и веселые и ничего не имеем против их примитивных танцев.
Потому что было абсолютно ясно, в какой культурный центр с полькой и старомодным вальсом мы попали: никаких более современных ритмов, которые куда лучше подошли бы нам с Евой. Но мы, как уже говорилось, придерживаемся обычаев тех мест, где появляемся. Заиграли умопомрачительную польку, и я пригласила Еву на танец. Мы пустились в пляс прямо поперек комнаты, стремясь слиться с народным весельем, и все другие пары испуганно шарахнулись в сторону. Приободренные успехом, мы еще больше ускорили темп, — пусть датчане увидят, как танцуют польку в Швеции! Мы пели и подпевали «тра-ля-ля», а иногда Ева выкрикивала душераздирающее «эгей!».
— Не надо больше орать «эгей!», — задыхаясь после восьми кругов по залу, сказала я Еве. — Если они еще и теперь не поняли, насколько мы близки к народу, пусть пеняют на себя!
Совершенно обессиленные, опустились мы возле нашего столика и стали ждать, что будет дальше. Но подумать только, какие тугодумы эти датчане! Они совершенно не оценили наш демократический настрой. Нас так никто и не пригласил! Глубоко возмущенные, мы уже подумывали было удалиться, но тут как раз должно было начаться всеобщее пение.
— Все будут петь — прекрасно! — сказала Ева. — Пение объединяет людей, было бы странно в конце концов не познакомиться поближе с нашим любимым братским народом.
У всех присутствующих были в руках маленькие тетрадки с напечатанным на машинке текстом. И они все вдруг поднялись и запели. Все, кроме одной пожилой дамы, спокойно сидевшей у столика, она, верно, устала, бедняжка! Мы с Евой тоже встали. Никакой тетрадки у нас не было, так что мы заглядывали в текст через плечо милого пожилого дяденьки, стоявшего к нам ближе всех. А он стал вертеться, словно мы причиняли ему беспокойство, и все время, пока пел, бросал на нас косые взгляды, стараясь отодвинуться как можно дальше. Но не тут-то было! Мы с Евой неотступно следовали за ним, упорно заглядывая в его тетрадку… Да, потому что нам
необходимо было сблизиться с братским народом.
Мелодия, которую они пели, была такая знакомая: «Тра-лле-ри, тра-лле-ра». Но датский текст, разумеется, был совершенно не похож на тот, к которому мы привыкли.
«Нашей бабушке сегодня исполняется семьдесят… — пели мы с Евой, да так, что только звон стоял: — Тра-лле-ри, тра-лле-ра!»
У Евы было чистое, высокое сопрано, и мой скромный альт был тоже преступно красив. Мы часто изображали «сестер Эндрю»
[48], и здесь у нас появилась великолепная возможность проявить наши таланты. Мы так тралялякали, что это привлекло всеобщее внимание. Песня была длинная, в четырнадцать куплетов, так что мы могли развернуться как следует. Каждая строфа начиналась совершенно одинаково: «Нашей бабушке сегодня исполняется семьдесят…» О, песня была в целом такая юмористическая, что я подумывала, уж не ввести ли нам этот текст в Швеции.
Но когда все приступили к четырнадцатой строфе и мы приготовились в последний раз грянуть изо всех сил: «Нашей бабушке сегодня исполняется семьдесят!» — я случайно бросила взгляд на пожилую даму, которая осталась сидеть за столиком. Она мило улыбалась и кивала в такт песне. Рядом с ней на столике лежало множество тортов, украшенных взбитыми сливками. И на одном из них я с ужасом прочитала белоснежную, выведенную сливками надпись: «70 лет».
Тут внезапно и беспощадно
мне открылась ужасающая правда:
пожилая дама и была та бабушка, которой исполнилось семьдесят лет, и мы попали на совершенно частную вечеринку в честь дня рождения. Я смолкла, и самое последнее «тра-лле-ра», булькнув, замерло у меня в горле. Но Ева, совершенно счастливая, пела так, что стены дрожали.
— Пой же! — прошипела она мне.
Но я дернула ее за платье.
— Ева, осталось несколько секунд! — шепнула я ей. — Бежим изо всех сил! Речь идет о нашей жизни!
И мы так и сделали. Мы рванули в дверь и оказались в безопасности, прежде чем отзвучали последние слова песни, посвященной бабушке. Ева хотела услышать от меня, почему мы бежали так поспешно. И, узнав, в чем дело, прислонилась к стене и захохотала так, что смех перешел в крик. Я втолкнула ее в такси, и мы спаслись в нашем отеле.
— Будьте любезны, разбудите нас завтра утром в половине восьмого! — серьезно сказала Ева портье.
Но секунду спустя она расхохоталась так, что напугала этого несчастного до полусмерти.
— Что случилось? — взволнованно спросил он.
— Я смеюсь потому, что нашей бабушке исполнилось семьдесят лет, — сказала Ева и, икая от хохота, вошла в лифт.
IX
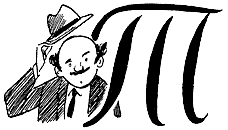
Туристические поездки имеют свои прелести, и нас действительно предупреждали об этом осмотрительные люди (то есть Ян и Альберт), прежде чем мы уехали из дома.
— Туристические поездки… — презрительно фыркнув, сказал Альберт. — Да, если жутко хочется тащиться через сотни церквей с толпой жирных теток в цветастых летних платьях, то лучше туристических поездок ничего не найти.
— А что плохого в цветастых летних платьях? — спросила Ева. — И вообще, с таким маленьким опытом путешествий, как у меня, гид необходим. Я совершенно растеряюсь, если придется пересаживаться из одного поезда в другой.
— Как, ты ведь не раз ездила в Омоль и обратно. И сама техника этого тебе известна, — напомнила я.
Альберт рассказал, что однажды в ранней юности ездил с туристической группой во Францию. Когда он вернулся домой, его товарищи, хитро подмигивая, спросили:
— Ну, что за девочки в Париже?
— Не имею ни малейшего представления, — ответил Альберт. — Но преподавательницы подготовительных классов народной школы в Маркарюде очаровательны.
Альберт уверял, что этим о туристических поездках все сказано.
— У вас не будет никакого контакта с итальянским народом, — предупредил он.
— Ха! — воскликнула я. — Ты не знаешь нас с Евой! Итальянский народ не успеет опомниться, как мы с ним подружимся.
Нет, у нас с Евой не было предвзятого мнения о туристических поездках, и мы с самыми радужными надеждами явились на Центральный вокзал, где у турникета при входе на перрон римского экспресса был назначен сбор группы. Первый, кого мы увидели, был господин Густафссон. Он тоже увидел нас. Солнечное сияние, озарявшее его в кабачке Драхмана, совершенно исчезло с чела этого туриста. Остались лишь красные следы от укусов комаров, которые при нашем приближении стали еще краснее. Господин Густафссон упорно смотрел в сторону. Рядом с ним стояла дама приятной, но весьма решительной внешности.
— Его жена, если не ошибаюсь, — сказала Ева.
— Ты так думаешь? — спросила я.
— Мой дорогой Ватсон!
[49] Только жена может показать, что она управляет мужем, подняв брови всего на полсантиметра.
Но где же молодые широкоплечие мужчины, с которыми мы собирались мечтать под озаренным лунной венецианским небом? Здесь, во всяком случае, их не было! Здесь был, насколько нам удалось разглядеть, всего лишь один мужчина, да и тот гид. О нем в самом деле можно было сказать: «Он был силен, за его спиной стояли женщины!» И не только за его спиной, но и вокруг него, со всех четырех сторон, стояли женщины! Как изюмины в скудном пудинге, торчала то тут, то там одинокая мужская голова, но ни одна из них не была такой, чтобы непосредственно навести на мысль о ночных прогулках под луной в небе Венеции.
— Всегда переизбыток женщин! — вздохнула Ева.
— Ты что, не одобряешь свой пол? — спросила я.
— Да нет, конечно одобряю, — сказала Ева. — Но эти мужчины стали такие капризными и избалованными, что просто непереносимо! Я-то уж знаю, знаю. У самого никудышного парня, если его окружает дюжина женщин, которые непрерывно перед ним рисуются, рано или поздно случается приступ мании королевского величия.
С нашей стороны, во всяком случае, никакой готовности не будет. В этом мы с Евой были едины. С этим твердым намерением мы и вошли в зарезервированный для нас вагон вместе с будущими спутниками. Все втихомолку разглядывали друг друга. На пароме между Корсёром и Нюборгом
[50] мы ели ленч, и была всеобщая презентация. Все ходили и пожимали друг другу руки. Разумеется, и господин Густафссон подошел к нам вместе со своей женой и протянул нам свою маленькую, пухлую, как булочка, руку.
— Густафссон! — натянуто сказал он.
— Мы начинаем вам верить! — ответила Ева.
По вопросу о туристических поездках можно сказать то же самое, что Сторм Петерсен
[51] сказал об искусстве играть на контрабасе: «Самое трудное — транспортировка». Длинные железнодорожные перегоны, прежде чем прибудешь на место,
могут несколько изнурить, когда сидишь взаперти несколько суток в одном и том же вагоне и все время видишь вокруг себя одни и те же лица. Вначале туристы как бы застегнуты на все пуговицы и настороженны. Вежливы друг с другом, но не более того. Прежде чем начать выдавать какие-то сердечные тайны, все хотят удостовериться в том, что имеют дело с порядочными людьми. Но когда позади остается изрядная часть Германии, лед начинает трогаться. Все входят и выходят из купе, и болтают, и рассказывают, потому что уже знают: спутники у них — великолепнейшие люди. Все едят завтрак, ленч и обед вместе в вагоне-ресторане, и делятся бутылкой вина, и неожиданно узнают, что у них множество общих знакомых. Вытаскивают фотографии детей и фотографии виллы и летнего домика, чтобы каждый мог видеть: ты не первый встречный и имеешь солидный доход. И образуются мелкие кружки, компании, Которые сохраняются на протяжении всего маршрута.
Мы с Евой решили не примыкать слишком тесно к какой-нибудь компании. Мы хотели по приезде в Италию передвигаться совершенно самостоятельно. Мы были сами юными в этом обществе, состоявшем, вообще-то, либо из супружеских пар средних лет, либо средних же лет одиноких женщин. Во всей этой толпе, кроме гида, был еще
один холостяк, это адъюнкт
[52] Мальмин, очень нарядный и совершенно сухой по натуре господин лет сорока. Он называл нас с Евой «девчушки», но все же был очень любезен и обещал дать нам небольшое представление о культуре Италии, если у него, конечно, найдется для этого время.
Нельзя судить о людях по первому впечатлению. Когда мы с Евой обходили наших спутников, знакомясь с ними, тo, конечно, сначала решили, что это скопище старых болванов, в обществе которых нам нечего ждать удовольствия. И мы было подумали, уж не прав ли Альберт в вопросе о туристических поездках?! Но мало-помалу мы пришли к выводу, что большинство из наших «болванов» были по-настоящему человечны, приятны и просто занимательны. Даже господин Густафссон оказался милашкой. Он часто заходил в наше купе и рассказывал о своем «шефе». Господин Густафссон был главным бухгалтером в большой фирме, торговавшей луковицами цветов и семенами, а шеф этой фирмы отравлял жизнь господина Густафссона.
— И человек, который едва знает, как выглядит луковица тюльпана, является и вмешивается во все дела! — восклицал господин Густафссон, с тоской глядя нам в глаза и взывая к сочувствию.
И мы с Евой, содрогаясь от ужаса, говорили, что это просто безобразие, когда люди вмешиваются в чужие дела, не имея ни малейшего представления о луковицах тюльпанов. Господин Густафссон счел нас необычайно понятливыми для своего возраста и объявил свое мнение всему остальному обществу. Вообще многим казалось, что мы понятливы. Так думала и фру Берг. Она тоже приходила в наше купе и изливала душу. Фру Берг была весьма состоятельная дама, она владела большими домами в Стокгольме и ехала в Италию, только чтобы хоть чем-то заняться. У нее были черные, как вороново крыло, крашеные волосы, и когда-то она, должно быть, была красива. Но это было давным-давно. Теперь это была раздражительная старуха, которая жаловалась на высокие налоги и вероломных мужчин. Мужчины в ее жизни — это была постоянная тема разговора, и она перечисляла их Еве и мне так, словно речь шла о кабинете министров страны, годах правления и прочем.
— Какая поразительная откровенность! — сказала я, когда однажды фру Берг покинула наше купе.
— Какая поразительная память! — воскликнула Ева.
Но одна из наших спутниц была милее всех остальных, вместе взятых. Это была фрёкен Стрёмберг, Фрида Стрёмберг, ехавшая в свое первое заграничное путешествие. Она явилась прямо от кухонной плиты в пансионате, где была поварихой, и с бьющимся от волнения сердцем села в поезд, который должен был увезти ее в чудесный мир. Фрёкен Стрёмберг и в самом деле думала, что мир чудесен! В первый день она сидела, как маленький испуганный воробушек, не смея вымолвить ни слова. Но все достопримечательности, которые она видела из окна купе, приводили ее в такой безумный восторг, что она больше не могла молчать.
— Милые вы мои люди, как это чудесно! — закричала фрёкен Стрёмберг, когда мы миновали мост над Кильским каналом
[53].
Она разражалась столь же ликующими восклицаниями даже тогда, когда никто другой не видел ничего поразительного или бросающегося в глаза. Фрёкен Стрёмберг была чрезвычайно начитанна. Она действительно кое-что знала об Италии, в отличие от большинства из нас. И у нее была детская способность радоваться увиденному.
— Подумать только, мы увидим Уффици!
[54] Милые вы мои люди! Как это будет чудесно, — сказала Фрида, и ее светло-голубые глаза засияли так, что большое лицо поварихи стало по-настоящему прекрасным!
Мы оставили Германию позади и выехали в зеленую нарядную Швейцарию. В Сен-Готардеком туннеле
[55] у меня начало так стучать в ушах, что я, к сожалению, не смогла расслышать, что господин Густафссон собирался сказать своему шефу, как только представится подходящий случай. Но то, что он разберется с ним всерьез, мне, во всяком случае, стало ясно.
Но вот поезд подошел к Кьяссо, итальянской пограничной станции, и мы с Евой принялись изучать народную жизнь через окно купе. На перроне стояли двое парней и разговаривали между собой на языке знаков. Они делали удивительные жесты, тыкали пальцами и были необычайно подвижны.
— Посмотри, вот бедняги — глухонемые! — сказала я.
Честное слово, я
думала, что они глухонемые. Но тут Ева расхохоталась и открыла окно, и я услышала их журчащие голоса. Не были они глухонемыми!
— Ты уже в Италии, моя девочка! — сообщила Ева.
X

О! Какое удивительное чувство — проснуться в чужом городе, в чужой стране! Проснуться в Италии! Конечно, всего лишь в Милане, но… тем не менее! Ну конечно, сам по себе Милан, вероятно, не «всего лишь»
[56], но город этот не вопиет тающим от восторга голосом на каждой улице и в каждом переулке: «Италия!» Он почти такой же, как любой большой город.
— Но по сравнению с Омолем Милан, безусловно, имеет свои преимущества и свое очарование, — сказала Ева, когда мы вышли утром из отеля и увидели, как мельтешат перед глазами машины, и ощутили всеми фибрами души чужую атмосферу.
После Копенгагена мы практически нигде не побывали, только ехали на поезде, и, когда поздним вечером прибыли на гигантский Центральный вокзал Милана, тотчас направились прямо в отель и стремглав бросились в постель. Поэтому наш первый трепетный контакт с новой и незнакомой нам страной состоялся утром.
На свете, вероятно, немного впечатлений, сравнимых с чувством, испытываемым ранним утром на залитой солнцем улице, о которой ничего не знаешь, в городе, о котором ничего не знаешь, в толпе людей, о которых ничего не знаешь. В тебе бурлит радость открытия, ведь за ближайшим углом может случиться все, что угодно. С замиранием сердца ожидаешь чего-то, как в детстве, когда ты читала о сказочном принце: «И отправился он бродить по белу свету». Ах, мне всегда так нравилось, когда принц отправлялся бродить по белу свету, потому что тогда-то и начинались приключения, там можно было найти в траве золотое яблоко, а галоши счастья только и ждали, чтобы их надели на ноги
[57].
Мы с Евой быстро пустились в путь по солнечной улице, уверенные, что найдем на дороге много золотых яблок. Нашли мы не совсем золотые яблоки, но персики уж точно!.. Огромные сочные персики, которые продавались почти даром. Маленький старичок во фруктовой лавке был первым итальянцем, с которым мы заговорили, и он чуть не сбился с ног, показывая нам дорогу к Пьяцца-дель-Дуомо
[58]. Мы поблагодарили его и пошли в ту сторону, куда он показал. Персиковый сок стекал у нас по подбородкам и пальцам.
Не успели мы сделать и нескольких шагов, как я схватила Еву за руку. Мы как вкопанные остановились в восторге перед потрясающим зрелищем. Нет, это был не Миланский собор! Это был полицейский — весь в белом! Он стоял посреди необычайно оживленного движения на большущей шляпной коробке с черно-белыми полосами и гигантским красным сердцем! Постамент этот был точно как коробка для шляп! Ах, как это было прелестно! Вскоре мы обнаружили, что в городе все полицейские — регулировщики движения стоят точно так же и что коробки для шляп — это реклама известного сорта кофе.
Мы с Евой обещали самим себе, что глаза наши будут открыты для хороших идей, которые мы привезем потом домой в Швецию. И вот она — первая! Немедленно поставить всю шведскую полицию на коробки для шляп! Немедленно, говорю я! Но на коробке обязательно должно быть и гигантское красное сердце! А затем начнем обсуждать вопрос и о более безопасном движении у Тегельбаккена
[59] и на площади Стуреплан
[60].
— Красное сердце и любезные люди — это как предварительная реклама, — довольно сказала Ева.
Мы еще не пили кофе и поэтому завернули в небольшую мясную лавку и сели за столик. Это
была в самом деле мясная лавка, потому что на прилавке лежали зернистая колбаса салями, красная говядина для жаркого и розовая телятина. Был там и хлеб. А в углу находился бар, где несколько мужчин как раз осушали первые дневные бокалы Campari Bitter
[61]. И совсем рядом стояла пара столиков, там мы с Евой выпили кофе с чудесной выпечкой.
— Вот новая идея, — сказала Ева. — Так же уютно должно быть и в мясной лавке на улице Каптенсгатан!
— Удивительно, когда все так перемешано и все вверх дном, — сказала я. — Тогда чувствуешь себя хорошо!
Чувствуешь себя хорошо — вот именно! Я уже начинаю бояться: со мной что-то неладно. Куда бы я ни поехала, я чувствую себя как рыба в воде! Нахожу все восхитительным и не могу делать критические и колкие замечания. Думаю, как хорошо, как чудесно! И хотя теперь я заранее решила не терять голову от Италии и итальянцев — и все же через час была побеждена. С Евой, кажется, случилось то же самое.
— Думаешь, мы слишком добры и глупы? — тревожно спросила я ее, когда мы вышли из мясной.
Как раз когда мы опасались своей предполагаемой глупости, кое-что произошло. Появился юноша, который нес клетку из реек, битком набитую домашней птицей. У некоторых головки свисали между рейками. Сначала я не очень обратила на это внимание, считая, что куры, конечно, дохлые. Но одна из них вдруг слабо закудахтала и пошевелила гребешком.
Выяснилось совершенно точно, что мы с Евой вовсе не добры и не глупы. Мы злые, как шершни, вот мы какие! Если нас, конечно, рассердить!
Мы кинулись на юношу с клеткой (невысокого хилого беднягу с кротких лицом) и, дико жестикулируя, попытались заставить его понять, что мучить птиц нельзя, так набивая клету живыми курами.
— Давай сюда «Полиглота» Кунце! — закричала мне Ева. — И посмотри, нет ли у него примерно такой фразы: «Немедленно выпусти кур из клетки, хулиган, а не то я вызову полицию!».
Я усердно рылась в разговорнике, но смогла найти в спешке лишь такую: «Если хочешь хорошенько выучить язык, нужно использовать любую возможность говорить на нем». Но ведь это мы и делали. Показав на кур, мы закричали: «Troppo, troppo!»
[62] — в надежде, что итальянец поймет: для такой маленькой клетки там слишком много кур! Однако лицо его было угрюмо и выражало полное непонимание.
—
Fa finta di essere sordo! Он только притворяется глухим! — сердито закричала я.
Теперь понятно, почему эта фраза есть в разговорнике! В Италии, разумеется, полным-полно таких глухих тетерь, которые слышат, только когда им это надо!
В конце концов мы сдались. Через несколько минут предстояла встреча в соборе с остальной группой, так что на защиту животных времени не было.
Мы искали собор, но он не показывался, и пришлось взять такси.
Не знаю, что подумал о нас шофер. Возможно, он счел, что нам позарез нужно в собор — застать священника и спешно получить последнее причастие. Во всяком случае, такси прогромыхало за поворот и помчалось со скоростью пожарной машины у нас в Швеции, примерно с такими же отвратительными сигналами и примерно с таким же шумом. Мы с Евой, бледные от страха, судорожно вцепились друг в друга. Ведь нашей жизни грозила опасность. Мы хотели выйти из машины. Я лихорадочно искала в разговорнике подходящую фразу, начинающуюся со слова «остановитесь…». И действительно, я тотчас обнаружила то, что надо: «
Fermate! Voglio scendere!» — «Остановитесь, я хочу выйти!» Между тем автомобиль так трясло, что я заблудилась среди напечатанных мелким шрифтом строчек. И когда шофер в следующий момент против своей воли вынужден был остановиться из-за образовавшейся пробки, я нетерпеливо сказала:
—
Perché si ferma? Почему вы останавливаетесь здесь?
Да, шофер, конечно, тоже думал, что это совершенно не нужно, потому что в следующую секунду он снова рванул вперед, пробиваясь сквозь строй телег, велосипедов, автомобилей и пешеходов. Мы закрыли глаза и не осмелились их открыть до тех пор, пока такси, резко затормозив, не остановилось перед кафедральным собором. У шофера был довольный вид, как будто он думал: «Успели!»
Мы с Евой, шатаясь, вышли, чувствуя себя вполне созревшими для последнего причастия.
Но когда мы вошли в
собор, нас осенили мир и покой. Стояла такая тишина! Мне понравилась маленькая набожная старушка, преклонившая колени перед образом Девы Марии. В мягком свете восковых свечей ее морщинистое лицо сияло от восторга. Мне понравились дети, поспешно вбегавшие в церковь и с серьезным лицом крестившиеся пред изображением Мадонны
[63], прежде чем броситься к новым играм. Фрёкен Стрёмберг бродила, словно в садах Эдема
[64]. Мне она тоже понравилась. Однако адъюнкт Мальмин мне не понравился. Он был из тех, кто хочет знать все: когда заложен фундамент, какова высота башни… все нужно было ему знать и все записать! Я сказала ему, что, если он собирается изучать Италию так детально, ему придется остаться здесь до конца жизни. Однако он проигнорировал мой выпад и продолжал мучить гида:
— Вы говорите, ренессансный фасад был завершен в девятнадцатом веке?
Не понимаю, как люди могут придавать такое значение фасадам! Может, мне надоело, что Ян столь часто и подолгу говорил о фасадах! Ах, я так устала от этих лекций! Совсем как один тугоухий старик. Когда пастор спросил его, как ему понравилась проповедь, он ответил: «Я плохо слышу, а понимаю еще меньше, но меня это не беспокоит».
Но не таков был господин Мальмин. Его это чрезвычайно беспокоило. Он не собирался возвращаться домой в Швецию, не узнав, что высота башни составляет сто восемь метров, и продолжал бомбардировать гида вопросами. Мы с Евой неодобрительно смотрели на него.
— Может, он был милым ребенком? — шепнула я Еве, честно пытаясь найти что-нибудь хорошее и в господине Мальмине.
— Наверняка, — ответила Ева. — Он был из тех детей, что будят маму в воскресенье в пять утра и спрашивают: «Мама, а Бог женат? И как сделать круглую жестяную банку?»
Моя добрая Тетушка прислала мне довольно много долларов, и они жгли мне карман. Поэтому я сочла, что мы с Евой можем позволить себе развлекаться самостоятельно в этот наш первый день в Италии. Мы попрощались со своими спутниками. Но до этого я отвела господина Мальмина в боковой неф
[65] и сказала, что, насколько я слышала, высота башни собора благодаря поднятию грунта теперь составляет сто девять метров и я от всей души советую ему влезть наверх и проверить это.
Затем мы с Евой вышли к голубям на Пьяцца-дель-Дуомо. Не успели мы покинуть собор, как какой-то господин с фотоаппаратом накинулся на нас, безостановочно болтая и жестикулируя. Мы поняли, что он хочет нас сфотографировать.
— Ничего удивительного, ведь мы так прекрасны! — сказала Ева, принимая красивую позу. — Он наверняка из какого-нибудь иллюстрированного журнала!
— Девушки с обложки — да, благодарю, — произнесла я, вставая так же, как эти девушки. Я точно представила себе, как фотограф задумал обложку: наша своеобразная, чуть меланхоличная северная красота, вокруг белые трепещущие крылья голубей, на заднем плане собор — каменный гимн вечному стремлению человеческого духа в высшие сферы. О, эта фотография заставит людей останавливаться, испытывая сладостную боль.
Боже мой, как нас только не сфотографировали! Этот человек был честолюбив! Он снимал нас вблизи и издалека; и Еву одну, и меня одну; и Еву в профиль, и меня в фас; и Еву с голубями у ног, и Еву с голубем, сидящим на ее вытянутой руке, и меня с голубиным пометом на платье. Да, потому что
не все голуби сидели на земле, многие еще и летали…
В конце концов все было готово!
— Шесть тысяч лир! — сказал человек с фотоаппаратом.
Мы в восторге посмотрели друг на друга. Мы знали, что фотомоделям хорошо платят, но такая сумма была во всяком случае лучше, чем мы ожидали. Шесть тысяч лир — неплохая прибавка к нашей кассе, рассчитанной на путешествие!
Понадобилось довольно много времени, прежде чем мы поняли: это
мы должны заплатить фотографу шесть тысяч лир! Столько, оказывается, стоит снимок своеобразной северной красоты, увековеченной на Пьяцца-дель-Дуомо в Милане! Но это был наш первый день в Италии, так что мы даже не сообразили, что можно поторговаться. Я медленно вытащила шесть больших «кусков обоев» (как Ева упорно называла итальянские банкноты) и с печальным видом протянула их фотографу.
— Должно быть, он придворный фотограф! — утешая меня, сказала Ева.
— В таком случае это безумно дешево! — ответила я.
По-видимому, придворный фотограф никогда в жизни не встречал таких жутких идиоток, как мы! Его охватило чувство сострадания к нашей дурости, и он побежал следом за нами. Он хочет сделать побольше снимков!
—
Gratis, gratis![66] — повторял он.
— Что скажешь? — спросила Ева. — Разрешим мы ему нас фотографировать?
— Почему нет? — устало спросила я. — Меня еще не фотографировали с северо-западной стороны.
Мы получили фотографии — около пятидесяти — в отеле на следующий день. Наша северная красота на всех фотографиях предстала настолько своеобразной, насколько можно было пожелать! Как я себе и представляла — смотришь на фотографию и испытываешь чувство сладостной боли.
— Теперь нам хватит рождественских открыток на всю оставшуюся жизнь! — сказала Ева.
XI

От всего этого фотографирования у нас разыгрался жуткий аппетит, и мы решили подыскать уютный ресторанчик, чтобы позавтракать. Тому, кто недавно выложил шесть тысяч лир за фотографии, не стоит мелочиться, решили мы и выбрали самое шикарное место, какое только могли найти, — ресторан «Джаннино».
Там у входа в зал стояла женщина в белом халате и пекла небольшие пиццы. У них в Италии все вверх тормашками, и пиццы пекут прямо в зале, на глазах у посетителей. А за стеклом в сверкающей кухне можно видеть весь кухонный персонал в самом разгаре работы. Там не было никакого обмана в приготовлении мяса, поджаренного с луком и картофелем. Все продукты были выставлены на обозрение в сыром виде в различных стеклянных витринах, так что котлету можно было видеть в ее первозданном, естественном состоянии, а в больших аквариумах плавали рыбы, которых подадут на ленч. Естественно, что гигиена здесь абсолютно гарантирована.
Я всегда слышала: чтобы уметь обращаться с палочками для еды и поглощать ласточкины гнезда
[67], не роняя ни кусочка, надо быть китайцем. И что только итальянец может есть спагетти, не запутываясь в них и не вываливая половину за воротник. Поэтому я радовалась, что наконец-то научусь есть спагетти самым изысканным и элегантным способом. Пустые разговоры!
Нет никакого изысканного и элегантного способа есть спагетти! Это просто невозможно! Пусть итальянцы говорят что угодно, правда заключается в том, что макаронины свисают у них, как окладистая борода. Сев за столик, мы с Евой стали удивленно оглядываться вокруг. Публика была элегантная, все, казалось, были изящно и хорошо одеты, но ой-ой-ой сколько пятен от томатного соуса пестрело на верхних рубашках и платьях из натурального шелка, когда спагетти, извиваясь, попадали людям в рот. Мы с Евой испугались и заказали себе вместо спагетти
valdostana di vitello[68]. Это блюдо по крайней мере ведет себя спокойно, и ты знаешь, где оно находится в данный момент, чего о спагетти как раз сказать нельзя.
За столиком напротив нас сидел какой-то господин. Мы окрестили его Чезаре Борджа
[69], потому что он был и красив, и порочен на вид, и мы по-настоящему заинтересовались им, пока не увидели, как у него из уголка рта свисает полметра спагетти. И тогда он частично утратил для нас свою демоническую притягательность.
Но после того как мы поглотили
valdostana вместе с первой бутылкой кьянти
[70], у нас стало так весело и так тепло на душе, что нам очень захотелось заключить пакт дружбы со всем итальянским народом, пусть даже сквозь завесу из макарон.
Бросив прощальный взгляд на Чезаре Борджа, мы покинули «Джаннино». Остаток послеполуденного времени мы посвятили
window shopping[71] на элегантных торговых улицах города. Ведь мы приехали в землю обетованную натурального шелка; и сердца наши таяли при виде чудесных тканей всех цветов в витринах.
Seta pura, «Натуральный шелк», — эту манящую вывеску мы видели повсюду! Мы бормотали эти магические слова так, что это звучало как клятва. «Полиглот» Кунце ни словом не упомянул о
seta pura, и все же следует знать, что среди «необходимых слов и оборотов речи» нет ничего более необходимого, чем это. Еще раз пересчитав Тетушкины доллары, я тотчас учредила небольшой
«seta pura фонд» во внутреннем кармане жакета. Время от времени я засовывала туда руку и ощупывала банкноты, и это приносило мне такое ощущение счастья, словно я уже ощущала, как сверкающий шелк переливается под моими пальцами.
Вечером мы отправились в Галерею, потому что именно туда ходят в Милане. Галерея — вовсе не обычная улица, это аркада
[72], соединяющая Пьяцца-дель-Дуомо с Пьяцца делла Скала
[73]. Идешь под высоким стеклянным сводом по гладчайшему полу, а в Галерее полным-полно ресторанов и кафе на тротуарах, магазинов и людей, прежде всего людей, и прежде всего вечером, и прежде всего там, где должны идти мы с Евой!
— Ну не странно ли это? — говорю я Еве. — Если я нахожусь за границей и шагу не могу ступить без того, чтобы мне не отдавили ноги, я называю это интересной и бурной народной жизнью! Но если я дома, я говорю — и это истинная правда, — что на улице проклятая толкотня!
Некоторое время мы раздумывали об этом своеобразном феномене, позволяя толпам народа медленно увлекать нас за собой и прислушиваясь к возбуждающим звукам музыки, доносящимся из разных музыкальных капелл.
— Разница в том, — наконец разумно ответила Ева, — что когда мы, несчастные домоседы с Севера, сталкиваемся с такой толпой дома, то это означает: либо играют княжескую свадьбу, либо все стремятся на футбольный матч, либо кого-то тяжело ранили и его увозит «скорая помощь».
— Либо в дождливый день в пять утра надо ехать на автобусе, — добавила я.
— Именно, — поддержала меня Ева, — надо протиснуться вперед, чтобы попасть на этот автобус или увидеть мельком того несчастного, которого должны увезти.
— Того несчастного? — переспросила я. — Ты имеешь в виду того, за кем должна приехать «скорая помощь»?
— Да, а ты что думала? — спросила Ева. — Что я имею в виду князя и княжескую свадьбу?
Ева, вероятно, была права. В Швеции толкотня — неестественное состояние, которое только создает неприятности. Один человек на один квадратный километр — вот что должно быть у нас дома. И еще человек, который сидит один-одинешенек и размышляет о жизни, а при случае не чаще раза в месяц выходит из дома и выкрикивает в берестяной рожок ругательства в адрес своего ближайшего соседа!
Но итальянцы должны толкаться. В их городах, на их улицах и площадях должна быть сутолока.
— А мы с тобой иногда являемся сюда и вмешиваемся в их сутолоку и избавляемся от своей лапландской болезни
[74], — сказала Ева и потянула меня за собой в кафе Биффи
[75] на тротуаре, где мы, сев за столик, заказали
caffe espresso.
— Если это не поможет против лапландской болезни, то ничто не поможет, — сказала я и подула на чересчур крепкий кофе. — Послушай, как все гудит вокруг нас, и подумай, как мы далеко от нашей меланхолической родины.
— Да, иногда в самом деле приятно слышать вокруг себя иностранную речь, — сказала Ева.
Тут сквозь шум прорезался женский голос, произнесший на шведском языке:
— Ой, как у меня устали ноги!
Ева посмотрела на меня.
— Иностранную речь, — спокойно повторила она. — Включая благородный сконский диалект
[76].
Мы не смогли обнаружить ту, у которой устали ноги, она исчезла в толпе.
—
Ships that pass in the night![77] — растроганно пробормотала я.
Но Ева сказала, что жители Сконе охотней всего сидят в своих домах вокруг горы Ромелеклинт. И так далеко на юг от своей проселочной дороги, как Галерея в Милане, они не забираются.
Мы выпили еще
caffe espresso, мягко и спокойно вглядываясь в кипение народной жизни.
— Предположи, что итальянец в результате несчастного случая лишился обеих рук, — сказала Ева. — Знаешь, к чему бы это привело?
— Он оказался бы совершенно беспомощен, если бы речь зашла о том, чтобы помериться силой или о перетягивании каната, — сказала я. Мне не очень хотелось выдвигать такие печальные предположения в этот сладостный вечер.
— Дурочка! — сказала Ева. — Это привело бы к заиканию и другим существенным дефектам речи. Как он мог бы говорить, если бы у него не было рук и пальцев, чтобы жестикулировать?
Нам, конечно, не раз приходилось слышать, что южане жестикулируют, но я даже не предполагала, что так безумно. Двое молодых людей что-то обсуждали неподалеку от нашего столика. Они размахивали руками самым отчаянным образом — иногда от плеча, иногда от локтя, а иногда кистью, и я надеюсь, что они выражались достаточно утонченно. Пальцы их трепетали в воздухе, как мелкие пичужки. Зрелище было просто чарующим!
* * *
Выпив кофе, мы направились в отель и прибыли туда как раз в тот момент, когда господин Густафссон с багрово-красным лицом вылетел из двери, на которой написано
«Signore». Вот как опасно, покинув отчий дом, не обращать внимания на окончания множественного числа. Бедный господин Густафссон явно решил, что «
signore» означает «синьоры» и является множественным числом от слова «синьор».
— Ужасная ошибка, — сказала Ева так назидательно, словно говорила с маленьким неразумным мальчиком. — Там, куда стремился господин Густафссон, на конце должно быть «i», а не «е».
«Signori».
— Потому что, видишь ли, в этом то и состоит различие между фальшивым и истинным синьором, — сказала я, увлекая за собой Еву в наш номер.
Невозможно переоценить пользу знания языков.
XII

У меня не было особых иллюзий относительно Венеции. «Банальный город, где играют свадьбы; несколько грязных каналов и кое-где по углам немного золоченой мозаики», — легкомысленно думала я, не желая обмануться.
Это я и сказала Еве, войдя в поезд в Милане.
— Посмотрим, — заключила Ева.
* * *
Вообще-то ужасно думать, как слепо идет человек навстречу судьбе. Счастье или несчастье настигают его одинаково неожиданно. Он просто идет им навстречу, как бездумный маленький агнец, не подозревая, что, к примеру, четверг 29 сентября перевернет всю его жизнь вверх дном.
Как бездумный маленький агнец, вошла в вагон и я, известив заносчивым блеянием, что не позволю Венеции обмануть себя!
У швейцарца, которого мы встретили в поезде, было такое же презрительное отношение к Венеции, как и у меня.
— Венеция! — сказал он. — Венецию осмотришь в два счета. В полдень пропустишь стаканчик на Пьяцце
[78], поглядишь на Дворец дожей
[79] и на собор Сан Марко
[80]. После полудня опять пропустишь стаканчик на Пьяцце и прогуляешься по улице Мерчериа
[81] к мосту Риальто, а на обратном пути снова выпьешь стаканчик на Пьяцце. А больше в Венеции делать нечего!
— А почему бы не выпить стаканчик на Пьяцце, прежде чем сесть в гондолу? — с любопытством спросила Ева. — Все, что вы сказали, мне кажется, звучит как-то беспорядочно, бессистемно и небрежно.
— Да, вспомните, уважаемый, — предупреждающе сказала я, — что упорядоченный образ жизни — путь к здоровью!
Швейцарец задумчиво посмотрел на нас.
— Вы правы! — сказал он. — Простите мою некомпетентность! Итак, вечером выпиваешь стаканчик на Пьяцце, поплаваешь в гондоле и закончишь день стаканчиком на… да, отгадайте с трех раз!
Эта беседа подкрепила мои опасения относительно Венеции. Прибежище для жаждущих удовольствий туристов, и только! И это Венеция, та, что зовется «Королевой Адриатики»!
— Королева Адриатики, да, тра-ля-ля! — сердито сказала я, выходя из вагона на скучном вокзале Венеции.
Встреча с Canale Grande
[82], сразу же у вокзала, меня ни капельки не тронула, и я с величайшим душевным спокойствием проплыла на катере через весь город до самого Лидо
[83], где мы должны были жить.
He раньше, чем начало смеркаться, справились мы с Евой Со всеми земными заботами в отеле. И тут же, взявшись за руки, помчались, чтобы успеть на катер, идущий в Венецию. Мы точно не знали время отплытия и помчались к пристани что есть духу. И там…
О Королева Адриатики, прости меня!
Bella Venezia![84]Мечта, сотканная из серебра и перламутра, прости мою глупую болтовню!
Serenissima[85], смиренно целую я подол твоего одеяния, хотя край его слегка грязноват!
Мы с Евой застыли как вкопанные и только смотрели. Под отливающим перламутром небом в море из струящегося серебра прямо перед нашими глазами плавали острова лагуны
[86]. Зрелище было сверхъестественное. И пламя восторга, вспыхнувшее во мне, было, разумеется, тоже не из этого мира. Оно отняло у меня рассудок. Оно лишило меня дара речи и совершенно сбило с толку. Без единого слова поднялись мы с Евой на борт суденышка и поплыли по венецианской лагуне. И перед нами предстал Дворец дожей, такой редкостно прекрасный, такой редкостно, неправдоподобно прекрасный, словно из сказки. Редкостным и неправдоподобным, да, именно таким все предстало перед нами! Что-то было в этом городе — что-то необъяснимое. Я была заколдована, я не узнавала себя. Да, я Кати, но это была не я! Я — незнакомая, девушка вне времени, поднятая рукой богов и оказавшаяся в Венеции именно в этот вечер потому, что так пожелали боги. И все это серебро, весь этот перламутр они рассыпали здесь, потому что желали доставить
мне радость. И белый дворец поставили здесь ради моего удовольствия! Да, я была любимицей богов, а Венеция — моей позолоченной шкатулкой, и этой ночью решалась моя судьба!
Как во сне, последовала я за Евой через толпу к Пьяцце. Пьяцца-ди-Сан-Марко — самая красивая площадь мира! Краткие сумерки уже миновали. Пьяцца раскинулась, ярко освещенная, в сиянии тысяч электрических лампочек, оркестрик посреди площади заиграл грациозную легкую мелодию, которую я никогда прежде не слышала, а золотистый мозаичный фасад собора Сан Марко так и сверкал. Я попыталась разорвать паутину мечтаний, все больше опутывавшую меня, но тщетно.
— Ева, жизнь — это мечта, — сказала я, твердо беря ее за руку. — Или же здесь ставят оперный спектакль. Ты видишь, что вся Пьяцца-ди-Сан-Марко — позолоченная кулиса театра.
— Разве? — спросила Ева.
— Да, скоро явится сюда пара здоровенных парней, поднимет на плечи собор и унесет его, а вместо него притащит сельскую харчевню. И все, кто фланирует взад-вперед по Пьяцце, — это все актеры, которые в первом акте играют священников, а во втором — разбойников.
— «Che gelida manina»
[87], — запела Ева, чтобы показать: если речь идет об опере, она охотно примет в ней участие. — А вообще-то, почему у тебя холодные руки? Ты мерзнешь?
— Да, я мерзну, — ответила я. — Но от волнения. Этот город почему-то вселяет в меня беспокойство.
— Венеция не такой город, чтобы чувствовать себя спокойной, — сказала Ева. — Так никогда не было, так никогда не будет. Почему именно ты должна стать первой?
Да, в самом деле, почему я должна стать первой? Есть ли на свете еще хоть один город, где сердечная тревога была бы сильнее, чем здесь? Разве люди когда-нибудь любили жарче, и страдали глубже, и ненавидели яростнее, чем здесь? Здесь любовь и смерть танцевали рука об руку по улицам и площадям, а мрачная тень убийства из-за угла затемняла воду каналов. Здесь текла кровь; безумней и яростней, чем где-либо, здесь пели песни, здесь танцевали. Сердца в этом городе были полны тревоги, так почему бы и моему не биться по вечерам более страстно, чем обычно?
— А не поступить ли нам, как наш швейцарец, и не пропустить ли стаканчик на Пьяцце? — спросила Ева.
Это предложение показалось мне заманчивым, и мы так и поступили. Но у меня не хватало терпения сидеть спокойно. Я хотела вывернуть Венецию наизнанку и посмотреть, что там внутри! И это должно было произойти тотчас же. Именно сейчас же.
Под Torre del Orologio
[88] открывался вход на улицу Мерчериа, и мы вошли туда, как раз когда два мавра на башне
[89] возвестили нам о неумолимом беге времени, ударив своими молотами по колоссальному бронзовому колоколу, увенчанному крестом.
Случайность ли управляет людьми или что-то другое? Потом я спрашивала Еву, не думает ли она, что это именно Судьба привела нас тогда на улицу Мерчериа, на эту восхитительно извивающуюся узкую маленькую улицу, напоминающую улицу Вестерлонггатан
[90] в воскресенье в пору адвента
[91], только с той разницей, что на улице Мерчериа толпа вдвое гуще.
— Ерунда, — отрезала Ева. — Запусти свободных от работы женщин в чужой город, и через пять минут врожденный инстинкт приведет их именно на ту улицу, где можно купить больше всего вещей. Судьба тут ни при чем. Это все равно что найти жемчужину в куче зерна.
Мне это показалось довольно грубым объяснением того, почему… да, того, почему все произошло так, как произошло.
Но здесь были привлекательные витрины с красивыми вещами — венецианское стекло, венецианское серебро, кожаные изделия, шелковые ткани! Ева тащила меня от одной витрины к другой, а я шла за ней, правда нехотя. Ведь я шла, чтобы найти сокровеннейшую душу Венеции. А Ева бродила в поисках хорошенькой и недорогой сумки, и, как только мы подходили к магазинам, где продавались сумки, она останавливалась.
— Это здесь! — в конце концов сказала Ева. Она обнаружила магазин кожаных изделий, и глаза ее так и рыскали по витрине.
Кто-то спокойно стоял у витрины. Это был молодой человек. Казалось, он безумно интересуется сумками; он стоял совершенно неподвижно и смотрел. Я взглянула на него украдкой, но он был не из тех молодых людей, на которых посмотришь только один раз. Он выглядел поразительно приятно: совершенно темные волосы и южный загар.
— Ты заметила?.. — спросила я Еву, уставившись на витрину, чтобы он не понял, что я говорю о нем…
— Что?
— Ну, того… с такой коричневой, загорелой кожей?
— Нет, я предпочитаю черную, — возразила Ева.
Эта ослица решила, что я говорю о
сумках.
— Ах
этого! — сказала она, когда наконец поняла, о чем я говорю.
В глазах ее пробудился интерес!
— Да, это необыкновенно очаровательный итальянский тип, — призналась она. — Ты обратила внимание, что мужчины в Италии гораздо красивее женщин?
— Да, особенно этот, — сказала я. — Это, вероятно, шестое или седьмое колено от Казановы
[92], совершавшего молниеносные левые набеги на Венецию.
— Тут вы ошибаетесь, — произнес приятный голос совсем рядом со мной. — Мои предки совершали свои левые набеги где-то на Севере, в Даннемурских краях. Они все до одного были кузнецами из Вермланда
[93].
— Черт побери! — воскликнула Ева.
Но тут же смолкла, и мы обе страшно покраснели.
— Здесь, в Италии, всегда столько землетрясений, — жалобно произнесла я. — Почему бы одному из них не произойти прямо сейчас, когда в нем действительно есть нужда?
Тогда загорелый, улыбаясь, заглянул мне в глаза и сказал:
— Мне кажется, мы только что пережили одно из них!
Я немного поразмышляла над тем, что он имел в виду, но тут они с Евой начали болтать и оторвали меня от моих размышлений. Некоторое время мы торчали в толпе, в сутолоке, и рассказывали друг другу, как нас зовут и прочее в этом же роде. Его звали Леннарт Сундман, и он был из Стокгольма.
— Вообще-то мне кажется, я встречал вас на разграблении рождественской елки, когда вам было лет восемь! — сказал он мне.
— Ах тогда! — испуганно произнесла я. — Но вы должны признать, что с тех пор я немного подросла.
А иначе бы оказалось, что я совершенно напрасно до четырнадцати лет расхаживала с железными пластинками на передних зубах!
— О да, вы выглядите теперь
немного лучше, — учтиво заметил Леннарт Сундман. — И вы, наверное, больше не деретесь?
— Нет, теперь я абсолютно безопасна! — заверила я.
— Ну да, безопасна — я не стал бы это утверждать! — сказал он.
Мы стояли, и все проходившие мимо толкали нас. Леннарт Сундман в конце концов сказал:
— Думаю, ничто не помешает двум друзьям детства, которые случайно встретились, вместе пообедать. А эту милую незнакомую девушку мы захватим с собой, — сказал он, бросив взгляд на Еву.
Я посмотрела на нее, опасаясь, что она выступит с какими-нибудь возражениями, так как я чувствовала, что нет сейчас на земле для меня ничего более желанного, чем хоть немного побыть вместе с Леннартом Сундманом. Он был как-то связан со странной тревогой в моем сердце. Он так хорошо вписывался в эту окутывавшую меня паутину мечтаний, которыми я жила в последние часы. Я пыталась внушить себе, что во всем виновата Венеция и что глупо думать, будто таинственное волшебство города имеет что-то общее с Леннартом Сундманом. Но это не помогало. Я была с первого мгновения очарована им, и то, что он призвал на помощь Венецию, лишь усилила роковое влечение.
К счастью, Ева ничего не имела против того, чтобы отложить покупку сумки и пообедать с Леннартом Сундманом. Мы прошли вдоль всех извилин улицы Мерчериа к Canale Grande. На мосту Rialto мы остановились ненадолго и посмотрели на канал, по которому скользили черные гондолы. Но потом Леннарт повел нас в ближайшую маленькую тратторию
[94] с клетчатыми хлопчатобумажными скатертями на грубых деревянных столах, и мы там обедали. Мы сидели в траттории долго-долго. И я чувствовала себя такой счастливой и беззаботной, как никогда прежде.
Удивительно — иногда встречаешь людей, о которых через пять минут знакомства думаешь, что знал их всю свою жизнь. Таким человеком был Леннарт Сундман. И я не могу вспомнить более веселой и прекрасной трапезы, чем тот обед в простой маленькой траттории вместе с ним.
— Мне побольше каракатицы! — высокомерно приказала Ева, всадив зубы в маленькую каракатицу во фритюре.
Для Евы каракатица была настоящим лакомством. Не могу сказать, что особенно ценю каракатиц, но в этот вечер я бы ела скорпионов и кузнечиков, не замечая между ними никакой разницы.
Я обезумела, уверяю, я совершенно обезумела! И радовалась, ужасно радовалась в душе оттого, что это — Венеция, это — я, а это — Леннарт Сундман, встреча с которым была для меня волнующим событием. А еще эти необычные возгласы, которые я слышала издалека, — это гондольеры на Canale Grande окликали друг друга, и… О небо, как чудесна Венеция!
— В восемнадцатом веке — вот когда надо было здесь побывать! — воскликнула Ева. — В веселые карнавальные дни!
— Да, это того стоило, — подтвердил Леннарт. — Впечатление, видимо, необыкновенное, если верить тому, что пишут о тех днях! «Глупость звенит колокольчиками, сердце трепещет и прыгает от радости в груди, а маленькие амуры
[95] играют в прятки на углах улиц…» Да, так было во время карнавала.
Вот как, значит, было во время карнавала! Я сочла, что слова эти соответствуют моему нынешнему душевному состоянию. «Глупость звенит колокольчиками…» Да, могу поклясться, что это так, и я думаю, звон колокольчиков слышался над всей Венецией. «Сердце трепещет и прыгает от радости…» О да, мое сердце трепетало и прыгало в груди. «…А маленькие амуры играют в прятки на углах улиц…» «Надо посмотреть, когда мы пойдем отсюда… — думала я. — Будь что будет с амурами, я не променяю этот мой первый вечер в Венеции ни на один самый веселый карнавал минувших времен». Но Ева не могла избавиться от мысли о радостях, утраченных ею из-за того, что она родилась на пару столетий позднее.
— Казанова и я, — мечтательно произнесла она, — мы бы крались здесь в маленьких проулках, облаченные в белые шелковые одежды, в черных бархатных масках и…
— И теперь бы уже умерли, — жестко сказала я. — Нет, я хотела бы жить, когда живу!
Время неслось так быстро! Этот вечер скоро подойдет к концу. Нам нужно было вернуться обратно на Лидо. И кто знает, увижу ли я когда-нибудь еще Леннарта Сундмана?!
Я ведь не могла предложить, ему встретиться снова. И маловероятно, что это сделает он.
Я снова спрашиваю себя: это случайность или Судьба, которая так мудро всем распоряжается? Мы прибежали в самые последние секунды, когда катер на Лидо уже должен был отплыть. То есть я прибежала еще позднее, когда лодка уже отчалила. Потому что, естественно, в эту лодку хотела попасть еще тысяча человек. А я никогда не умела в сутолоке пробиваться сквозь толпу. Не знаю, может быть, Ева в детстве тайком тренировалась и наловчилась продираться сквозь толпу на ярмарках в Омоле, но она, вдруг сильно опередив меня, вскочила на борт, когда катер уже тронулся. А я осталась на берегу. Некоторое время я раздумывала, не прыгнуть ли и мне, но тут же поняла, что если я совершу этот прыжок, то с полным правом смогу выступать на следующих Олимпийских играх. Золотую медаль за прыжки в длину мне преподнесут на блюдечке.
Леннарт, стоя за моей спиной, смеялся.
— Следующий катер придет нескоро, — сказал он.
— Хорошенько присматривай за Кати! — крикнула Ева, прежде чем ускользнуть от наших взглядов, и темнота поглотила и ее, и катер.
Леннарт сказал, что весьма охотно присмотрит за мной и что лучшее место, которое он только может придумать, это гондола.
—
Гондола, гондола! — закричал он, и тут же вынырнувшая гондола скользнула к нам по воде.
Когда я стану одинокой старушкой, разбитой подагрой, и народной пенсии
[96] не будет хватать, и я буду ждать смерти, я вспомню время, когда была молода и плыла по Венеции в гондоле. Я буду вспоминать, как светила луна, и какой черной была вода в каналах, и как таинственно светились во мраке старинные палаццо
[97]. И еще я буду вспоминать Леннарта Сундмана, я буду вспоминать его лицо и еще, как он сидел в гондоле напротив меня и говорил о будничных вещах. Я не буду вспоминать ни о поцелуях, ни о словах любви, потому что их не было. И вообще ничего и никого не было, даже Леннарта, и ничего не случилось в этой гондоле. Ничего, кроме того, что я без памяти влюбилась — впервые в жизни.
* * *
Ну не горько ли? Я встретила Леннарта в свой первый вечер в Венеции. И в тот же самый вечер я его потеряла. Ему понадобилось всего лишь пять часов, чтобы привести мою душу в ужасающее смятение. А потом он исчез. Мы потеряли друг друга в толкотне на Пьяццетте
[98], когда он хотел проводить меня к лодке. Не знаю, как это произошло. Он вдруг исчез, а у меня уже не оставалось времени искать его.
В полном отчаянии побежала я через Пьяццетту вниз к набережной. Там высился на своей колонне крылатый лев Сан Марко
[99]. Задержав на мгновение шаги, я в горе своем воззвала к святому покровителю Венеции.
— Дорогой Сан Марко, — молила я. — Помоги мне! Подари мне Леннарта, это единственное, чего я себе желаю. Это твой город, и ты немного в ответе за то, что происходит на твоих улицах и каналах. И вот сюда приезжает несчастная иностранка, не сделавшая тебе ничего дурного, а ты пускаешь в ход лунный свет, и гондолы, и песни в ночи только потому, что не можешь видеть в Венеции человека, который не влюблен. Теперь ты доволен? Видишь, как дрожат мои губы? Но почему ты отнял его у меня? Сан Марко, прошу тебя, верни мне Леннарта — о Сан Марко!..
XIII

Адриатическое море, разбивавшее свои теплые могучие волны о берег Лидо, окатило мой большой палец, которым я пыталась начертить имя Леннарта на песке. Когда волны отхлынули, имя исчезло, словно его там никогда и не было. Леннарт тоже исчез, точь-в-точь как если бы его никогда не существовало. Осталась лишь ноющая боль в сердце.
Ева лежала рядом со мной на песке и пыталась образумить меня. Она отказывалась принимать эту историю с Леннартом всерьез.
— Не внушай себе, что влюблена, — сказала она. — Ты просто жертва окружающей среды. Ты оказалась слишком слаба для Венеции.
— Я влюблена в Леннарта, — упрямо повторяла я. — И не только из-за Венеции. Я влюбилась бы в него где угодно.
— Но только не в Сундбюберге
[100] воскресным ноябрьским днем, когда льет дождь, — заявила Ева. — Нет, виновата Венеция, и только! Здесь про каждого можно сказать, что он спятил! Например, Вагнер
[101], и Мюссе
[102], и лорд Байрон
[103]. Ведь они, сидя здесь, только и делали, что стонали от любовных мук!
Я печально кивнула. И Вагнер, и Мюссе, и Байрон, и я — мы кое-что знали о любви, да!.. Ева же ничего о ней не знала. До сих пор и я не ведала ничего о ней.
— Ева, — в отчаянии сказала я, — я никогда больше не увижу его, он даже не знает, в каком отеле мы живем. Никогда!
— Никогда! — словно эхо, повторила Ева.
С ума сойти! Есть ли хоть несколько слов в человеческом языке, вмещающих большую тоску и покорность, чем это «Никогда!»?
Мои глаза печально скользили по яростным волнам Адриатики и длинному песчаному берегу, где лорд Байрон когда-то мчался на коне. Но это было давно. Единственный, кто мчался сейчас, был господин Густафссон. Правда, не на коне! Он занимался гимнастическими упражнениями после купания. Другие туристы из нашей группы разбрелись по берегу кто куда. И мы могли беспрепятственно обсуждать мое горе.
Ева кормила меня виноградом, чтобы утешить, а я меланхолично выплевывала косточки, сея их вокруг себя и горюя. В конце концов Ева разозлилась.
— Вагнер, Мюссе, Байрон — и ты! — сказала она. — Когда влюбленный Вагнер сидел в Венеции, он сочинил оперу «Тристан и Изольда»
[104]. Мюссе извлек из своих любовных мук дивные элегии, а Байрон написал поэму «Дон Жуан»! А ты, что делаешь ты? Скулишь и выплевываешь виноградные косточки прямо мне в волосы!
— Я напишу, да, я тоже, — сказала я и поднялась с песка. — Напишу Яну! Он разгуливает там дома и думает, что все как прежде. Это несправедливо!
— А ты не хочешь подождать несколько дней, чтобы одуматься? — предложила Ева.
— Тут нечего думать, — ответила я и целеустремленно направилась в отель.
Писать было трудно, и я все время испытывала неприятное ощущение, будто и Вагнер, и Мюссе, и Байрон заглядывают в письмо через мое плечо. Но я пыталась, как могла, объяснить Яну: теперь я уверена в том, что давно подозревала, — никогда в жизни мы не смогли бы быть вместе и, если бы попытались, стали бы несчастны. Я написала, что здесь, в Венеции, глупость прозвенела мне колокольчиками и я безвозвратно, без надежды на спасение погибла. «Спрячь память обо мне в ящик бюро и забудь меня!» И, очень расстроенная, лизнув конверт, заклеила его и спустилась с ним к портье.
— Да, да,
знаю, это жалкое письмо, и вы написали бы его гораздо лучше, — нетерпеливо заявила я Вагнеру, Мюссе и Байрону и отправилась на поиски Евы. Она появилась, подхватив под руку с одной стороны господина Мальмина, а с другой — господина Густафссона. Вся туристическая группа собиралась в Венецию — осмотреть Дворец дожей, и разбитое сердце не было достаточно веской причиной, чтобы освободить меня от обязанности ехать вместе со всеми.
Я пробралась поближе к Фриде Стрёмберг; в печали очень хочется держать ее за руку! Она из тех, на кого можно опереться на этой земле.
— Фрида, — шепнула я ей, — ты когда-нибудь влюблялась?
— Да, один раз, — ответила она с готовностью, как будто я спросила ее: «Который час?»
— А он, он любил тебя?
— Вовсе нет, — ответила Фрида. — Это был наш школьный учитель, на десять лет моложе меня, к тому же еще и помолвлен.
— Ах, Фрида, разве ты не была тогда несчастна? — участливо спросила я.
— Несчастна? — переспросила Фрида. — Да я никогда в своей жизни не была так счастлива! Милые вы мои люди, как это было чудесно!
Я недоверчиво посмотрела на нее. Что чудесного в безответной любви?
— Отгадай, что он мне однажды сказал? — оживленно продолжала Фрида. — «Фрёкен Стрёмберг, у вас воистину красивый голос!» Понимаешь, он руководил у нас церковным хором. А я тоже пела в хоре! Иногда соло. Вот тогда он и сказал это, когда мы репетировали. И все слышали его слова. Это было, как раз когда мы стояли перед школой и прощались. Я потом всю ночь не спала!
Мне не довелось услышать других сердечных тайн Фриды, потому что мы уже приплыли и надо было сойти на берег.
— Да, да, у каждого свои воспоминания, — сказала Фрида и посмотрела на меня своими лучистыми глазами. — И должна сказать тебе, Кати, одно: чудесно быть влюбленной. И любят тебя или нет, это совершенно не важно!
Задумчиво брела я ко Дворцу дожей. Кажется, можно приучить себя довольствоваться такой малостью! Кажется, можно прожить остаток жизни, повторяя себе несколько слов, которые любимый изволил некогда обронить! Только несколько слов восхищения! Я рылась в памяти, желая вспомнить что-нибудь красивое, сказанное мне Леннартом. Что-нибудь, в чем я буду черпать утешение в грядущие одинокие дни и ночи! «И теперь вы, наверное, больше не деретесь?»
Да, он действительно так спросил, и это единственные его слова, запавшие мне. Видимо, их можно принять за похвалу. Но в качестве утешения на все оставшиеся годы это невероятно скудно.
Возле Дворца дожей я обнаружила господина Густафссона, погрузившегося в транс при виде барки с пивом, вылетевшей стрелой прямо из-под арки моста Вздохов
[105]. Что я говорю: барка с пивом? Я имею в виду: гондола с пивом! Гондола с пивом, управляемая статным поющим гондольером, а на заднем плане — печально знаменитый мост, по которому столько несчастных узников прошли тяжелыми шагами в камеры под свинцовой крышей!
— Если даже барка с пивом романтична и называется гондола, то дело
зашло слишком далеко, сказала я Еве. — В этом городе ты беззащитна! У тебя просто нет шанса убраться отсюда живой и здоровой.
И Ева согласилась, что это трудно.
* * *
Я должна извиниться перед Тицианом, Тинторетто и Веронезе
[106]. Они наверняка сделали все, что было в их силах, на стенах Дворца дожей, но их старания, потраченные на меня, именно в тот день были абсолютно напрасны. Только в одном месте я остановилась, выказав интерес к искусству. Ведь именно Тинторетто написал портрет старика, лоб которого напомнил мне лоб Леннарта
[107]. Ева же просто блаженствовала. Она говорила, что начала верить в переселение душ, и была абсолютно убеждена в том, что в прежней жизни была в Венеции прекрасной, увешанной драгоценностями венецианской догарессой
[108].
— Мои ноги чувствуют себя как дома в этом танцевальном зале, — сказала она и сделала несколько веселых па из самбы.
Вот что верно: люди, которые верят в переселение душ, всегда были крайне изысканны в прежней жизни: египетская царица
[109], или Генрих VIII
[110], или что-нибудь в этом роде. А теперь Ева, — разумеется, догаресса! Она восторженно описывала блистательные праздники, которые задавала венецианцам в гигантских залах дворца. Она считала совершенно в порядке вещей то, что ее супруг дож время от времени поспешал на галерею со стороны Пьяццетты и пред лицом народа зачитывал два-три смертных приговора! Он бывал занят таким приятным делом, а догаресса могла беспрепятственно посвятить себя танцам со смуглыми молодыми людьми из высшей знати. А если кто-нибудь из кавалеров не нравился догарессе, ей нужно было только положить небольшой анонимный донос в этот ужасный львиный зев в стене перед покоем трех инквизиторов, небольшой донос, мол, этот кавалер — угроза безопасности государства! И тогда кавалер мог проститься со своей земной жизнью!
—
И когда голова его скатывалась с плеч, я говорила «хопп-ля-ля!», — удовлетворенно произнесла догаресса и поправила свои белокурые локоны.
На другой день нам предстояло покинуть Венецию, и, когда мы закончили осмотр Дворца дожей, я захотела сделать последнюю отчаянную попытку найти Леннарта. Я просила, я молила Еву помочь мне.
— Мы образуем цепь и устроим облаву на улице Мерчериа, — умоляюще сказала я.
— Тогда, возможно, нам удастся найти убежавшего маленького пострела спящим под елкой и совершенно невредимым, несмотря на жгучий ночной мороз, — ответила Ева.
Три раза заставила я ее пройти со мной по улице Мерчериа, и мы видели множество людей, и у них у всех было одно общее: они не были Леннартом.
— Тебе бы повнимательнее следить за своей собственностью, — заявила Ева. — В Милане ты потеряла перчатки, но об этом я много говорить не стану. Но потерять двухметровую персону мужеского полу — это преступная небрежность!
— Леннарт не моя собственность! — буркнула я. — К сожалению!
Так оно и было. Но почему тогда я бегала и искала Леннарта? Только теперь меня осенило, что даже найди я его — от этого лучше бы не стало. Что, собственно говоря, случилось? Трое земляков, неожиданно встретившись за границей, вместе пообедали, вот и все! Где бы ни находился Леннарт Сундман, он наверняка давным-давно забыл о моем существовании. Я сдалась!
—
Гондола, гондола! — кричали гондольеры у моста Rialto. Именно здесь, у этого старого моста, бедный Венецианский купец
[111] заложил Шейлоку фунт своей собственной плоти. Но к счастью, в последний момент, когда Шейлок уже начал точить нож, чтобы вырезать из груди Венецианского купца его сердце, был спасен благодаря мудрости Порции. О Шейлок, Шейлок, ты бы мог получить взамен мое! Оно для меня всего лишь бремя и мука!
—
Гондола, гондола!
Гондольерам не надо было повторять это слово дважды, чтобы Ева услышала. Она уже бежала вниз, в гондолу.
* * *
Ночь над Венецией.
Как дивно этой тишине ночной
Подходят звуки сладостных гармоний
[112] —
так красиво пишет Шекспир в своей венецианской драме.
Не хочу утверждать, что поездки в гондоле являются лечебным
средством от несчастной любви. Но они способствуют «звукам сладостных гармоний». Так сладостно, так покойно было качаться в гондоле, скользя вдоль узких извилистых каналов, мимо темных домов и освещенных проулков, где играли и смеялись дети. Сворачивая за угол, слышать окрики и предупреждения гондольеров встречным гондолам… Сидеть молча и думать о Леннарте, теперь уже вполне покорившись судьбе… Заглядывая в небольшие садики, сидеть в гондоле, и мечтать, и прислушиваться к медленному плеску весла по воде. Нет, я не утверждаю, что плавание в гондоле — средство от несчастной любви. Наоборот! Но оно помогает ее переносить. Думаешь при этом, что, несмотря на все, — прекрасно быть влюбленной, а особенно прекрасно — жить на свете!
XIV

Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена…
[113]
— Нет, послушай-ка, Ева! — воскликнула я. — Данте — он знал это!
Мы ехали поездом во Флоренцию, и я вытащила маленький карманный томик «Divina Commedia»
[114], который я в качестве удобной для чтения в дороге лекции о городе Данте везла из самого Стокгольма. Мы должны были прибыть через несколько минут. Венецию мы оставили позади, и мои «радостные времена» я буду пытаться забыть во Флоренции. Если получится! Но я хотела, чтобы Ева поняла: это не так легко. Прекрасно было заручиться поддержкой Данте!
Мы прибыли во Флоренцию поздним вечером. Все устали и хотели лечь спать. Все, кроме нас с Евой. Жизнь так коротка, и Ева сказала, что «если я умру ночью, так и не увидев Флоренцию, то это меня просто неописуемо разозлит!».
Поэтому мы отправились на ночную прогулку, меж тем как супруги Густафссон, и фру Берг, и господин Мальмин, и остальные погрузились в сон. Мы ни словом не упомянули о наших планах, поскольку был риск, что господин Мальмин увяжется за нами. В последнее время он выказывал вызывающую беспокойство склонность постоянно и внезапно появляться рядом с Евой.
А нам хотелось обрести Флоренцию для себя. Мы хотели делить ее только с несколькими ускользающими тенями, тенями Данте и Савонаролы
[115]. И Микеланджело
[116], и Лоренцо Медичи
[117]. Их голоса, их шепот слышались в шуме ночного ветра, проносившегося над холмами Тосканы
[118] и над спящей долиной реки Арно. Он шумел так печально, и это были грустные слова о крови, поте и слезах… Мы хотели обрести этот ветер для себя, а не делить его с господином Мальмином.
Piazza della Signoria
[119] — вот там-то и следовало искать их тени. Мы стояли на Пьяцце посреди ночи, на том самом месте, где Савонаролу сожгли на костре. Мы смотрели на темный фасад Палаццо Веккьо и дрожали от возбуждения, думая обо всех знаменитых людях, которые ступали но этой площади до нас и которые ныне спали в своих могилах. Мы дрожали еще сильнее, думая обо всей той крови, которая здесь пролилась, и о мрачных судьбах людей, которые прошли свой путь до конца под сенью Палаццо Веккьо!
— Здесь гвельфы и гибеллины
[120] сражались так, что кровь текла рекой, — напомнила я Еве. — А может, гибеллин Данте стоял когда-то на том самом месте, где стою теперь я, и озирался в поисках, нет ли тут какого-нибудь подходящего гвельфа, чтобы его прикончить.
— Фу, что ты болтаешь! — трепеща от ужаса, воскликнула Ева.
Я выискивала во мраке ночи и другие призрачные фигуры.
— А Лоренцо Magnifico, — продолжала я (потому что, прежде чем уехать из дома, основательно вызубрила историю Ренессанса и собиралась теперь поразить Еву своими познаниями), — лет пятьсот назад был маленьким милым ребенком и жил в этом городе. Возможно, в один прекрасный день он проковылял по этой площади, держась своей мягкой детской ручонкой за руку мамы Лукреции
[121]. Возможно, именно на этой самой площади Лоренцо упал и разбил свою маленькую пухлую коленку… и даже не подозревал, что человек, с которым он когда-нибудь познакомится, известный Савонарола, пятьдесят лет спустя умрет на этом самом месте. И даже не подозревал, что сам-то умрет задолго до этого. Люди в прежние времена действительно не доживали до старости!
— Мягкая детская ручонка, пухлая коленка — это еще что за чепуха! — возмутилась Ева. — Я хочу представить себе Magnifico взрослым! Ах, Кати, он был настоящим мужчиной! Если бы я жила в те времена, он был бы опасен для моей жизни!
Мы пришли к единому мнению, что трудно представить себе что-нибудь более чарующее, чем профиль Лоренцо Magnifico с его волевым подбородком и спокойным повелительным взглядом.
— Какой мужчина! — возбужденно продолжала Ева. — Какой жизнелюб! Я считаю, что такими, как он, и должны быть настоящие мужчины!
С этим следовало согласиться. Такими и должны быть настоящие мужчины! Такими страстными в любви и такими теплыми и необычайно верными в дружбе, как Лоренцо Медичи! О, это был потрясающий человек! Он мог вести ученые беседы с исследователями и философами, писать чудеснейшие стихи. Он был отважен в битве, а когда подвергался нападению, умел с оружием в руках защищать свою жизнь! Он любил красоту и делал Флоренцию прекрасной, он твердой рукой правил этим городом. Однако такие люди рождались лишь в эпоху Ренессанса.
— Ни единого дурного слова о современных мужчинах — хотя Magnifico ни одного из них не назовешь! — сказала Ева.
Ее суровый приговор причинил мне боль. Мне вдруг стало так жаль современных мужчин! У них ведь тоже есть привлекательные черты.
— Во всяком случае, ты должна отдать им должное: они гораздо реже предлагают женам отравленные пирожные, когда хотят завести себе новую спутницу, — сказала я. — Если я правильно поняла, то по крайней мере во времена последних Медичи отравленные пирожные явно входили в обычную диету их жен
[122].
— Конечно, конечно! — согласилась Ева. — Современные мужчины милы! Я говорю только, что они не Лоренцо Magnifico.
Я поразмышляла.
— Леннарт Magnifico! — пробормотала я, проверяя звучность этих слов.
— Дерни меня за усы, иди домой и ложись спать! — сказала Ева.
Но мы не пошли домой и не легли спать! Слишком заманчиво было бродить по улицам и смотреть, чем занимаются флорентийцы. Мы просто благословляли удивительную привычку южан практически
жить на улице! Это давало нам возможность все время видеть что-то новое. Естественная, почти животная жизнь заполняла узкие проулки, и люди были так чудесно непринужденны. Матери, сидя на поребрике тротуара, невозмутимо кормили грудью детей. Молодые родители гуляли посреди ночи с новорожденными младенцами, чтобы те тоже послушали музыку. А дети всех возрастов носились повсюду в счастливом неведении, что в определенный час следует ложиться спать.
— Видела всю эту малышню? — спросила Ева. — В нашем ведомстве по охране детства задрыгали бы ногами, если бы увидели такое!
Но здесь никто не дрыгал ногами, разве что сами ребятишки.
Далеко в глубине улицы мы услышали песню и отправились туда. Маленькое дешевое кафе на тротуаре — то есть оно не было на тротуаре целиком — выдвинулось до самой середины улицы. И вот посреди улицы так все и сидели вперемежку — молодые, старые и дети — и пели так, что только держись! Мы постояли немного и послушали. Этим людям было весело! Наверняка они были бедны, но это была веселая бедность.
— Непременно надо жить так радостно, и просто, и естественно, — сказала я. — Только петь и веселиться!
— По утрам они, возможно, хмурые! — с надеждой сказала Ева, так как она, конечно, тоже ощутила укол зависти перед лицом такой жизнерадостности.
Мы пошли по какому-то проулку. Он был совершенно пустынен и безлюден. Нам попался всего лишь один человек — мужчина средних лет, сидевший на тротуаре перед своим домом. Он беззаботно раскачивался на стуле и пел в свое удовольствие ворчливую коротенькую песенку:
— Ум-по-по-ум-по-по, ум-по-по!
Насколько мы поняли, он был абсолютно трезв. Он просто сидел и веселился среди ночи.
— Ева, — сказала я, — сейчас я задам тебе арифметическую задачу. Если в полночь на улице Вестманнагатан
[123] в Стокгольме на стуле сидит человек и распевает «ум-по-по…», в котором часу приедет вызванный по рации полицейский и заберет его?
— Фу, теперь ты начинаешь задавать вопросы точь-в-точь как мой старый учитель математики в Омоле, — сказала Ева. — Этот пример: «длина пути», помноженная на «скорость ходьбы», равна «времени» — я никогда не понимала. Но держу пари, что, пожалуй, вызванный по рации полицейский прибудет к старикашке через две минуты.
— Готова держать пари, что это именно так! — согласилась я.
Стало быть, всем этим «ум-по-по»-старикашкам живется в Италии намного лучше!
Мы начали уставать. У Евы особенно устали ноги, так как она в своем тщеславии отправилась на прогулку в туфлях на высоких каблуках.
— И
зачем только я нацепила эти кровавые каблуки? — рассерженно воскликнула она.
Но так как теперь она была в Италии и научилась воспринимать все естественно, то попросту сняла с ног орудия пытки и отправилась в отель в одних чулках. С наслаждением пошевелив большими пальцами ног, она продекламировала:
— «Тот страждет высшей мукой, Кто радостные помнит времена»… Разве не так сказал Данте? Значит, ему никогда не приходилось совершать туристическую поездку, да еще на высоких каблуках!
Я довольно посмотрела на свои собственные изношенные лодочки, которые уже давным-давно пора было выбросить.
Ева дразнила меня из-за этих туфель еще до отъезда из дома.
— В них нельзя показаться на людях, — говорила она. — Послушайся книжки Кунце «Полиглот», купи себе пару новых сапог!
Но я решила, что эти туфли должны непременно увидеть Неаполь, а потом умереть!
[124] О, сколько раз я испытывала благодарность за то, что эти туфли у меня есть! Единственный завет, который я хочу оставить после себя человечеству: «Не отправляйтесь за границу, не захватив с собой пару старых изношенных туфель!»
* * *
Мы жили в действительно прекрасном отеле в центре города. В элегантном отеле.
— Я рада, что нам досталась тихая комната окнами во двор, — сказала я Еве, когда мы легли спать. — Мы тут будем спать спокойно!
Во сне я очутилась в Средневековье. Я бежала, спасая свою жизнь, по узким улицам, где гвельфы и гибеллины сражались в полной готовности уничтожить друг друга! Они кричали и выли и со свежими силами лили с крыш домов расплавленный свинец на головы друг друга, что было для них приятным обычаем.
Но как они выли! Они выли так, что я проснулась! Однако вой почему-то не прекратился!
Ева сидела в кровати, прямая, как свеча, со смертельным испугом на лице.
— Либо «Inferno»
[125] открыл во Флоренции свой филиал, либо кого-то убивают, — сказала я.
Со двора доносился самый что ни на есть адский вой, и посреди всего этого шума выкрикивал угрозы грубый мужской голос.
— Помяни мое слово, он истязает жену, — сказала Ева. — Мы должны сделать что-нибудь, помочь несчастной женщине. Так воют только в смертельном страхе.
Босыми ногами мы прошлепали к окну, открыли деревянные, сделанные из реек ставни и выглянули во двор.
Гвельфы и гибеллины оказались
пятью кошками, которые дрались так, что только клочья шерсти летели. А грубый мужской голос принадлежал постояльцу отеля, которому очень хотелось спать.
Мы ведь слышали, что Италия — страна тощих, изголодавшихся кошек, а теперь поверили в это. Совершенно измученные и возбужденные, мы снова легли спать. И спали хорошо. До пяти часов утра, пока два проснувшихся во дворе отеля петуха не закукарекали так, словно хотели разбудить всю Тоскану.
Я уже упомянула о том, что мы жили в элегантном отеле в центре Флоренции? Удивительная страна эта Италия!
XV

Много испытаний выпало на долю Флоренции с тех пор, как этруски
[126] пришли из Фьезоле
[127], а теперь к этому добавились еще шведские туристические группы! Самое худшее всегда приходит последним.
Будь я истой флорентийкой, думаю, я бы ненавидела всех этих обезумевших женщин, которые врываются в магазины, и вырываются оттуда, и задают вопросы, и торгуются, и считают, и покупают, и теребят шелковые ткани своими мерзкими алчными руками. Будь я истой флорентийкой и обладай я хоть каплей того чувства красоты, которое во все времена отличало жителей этого города, я сочла бы безвкусной всю эту преувеличенную лихорадочную погоню за
seta pura и другими мирскими вещами. Будь я истой флорентийкой, я указала бы на чудесный розово-бело-черный фасад собора Santa Maria del Fiores
[128] и сказала бы: «Разве вы не видите, что он сияет прекраснее, чем любой натуральный шелк!» И привела бы всех этих женщин к Кампаниле
[129] и к «Вратам Рая» Джотто
[130]. Я поводила бы их среди сокровищ искусства Галереи Уффици и сказала бы:
— Купайте души в море красоты, женщины!
Однако я, к счастью, не флорентийка и не несу никакой ответственности за всех этих безумных женщин, что, жужжа, как шершни, то влетают в лавки и магазины, то вылетают оттуда… А мы с Евой — во главе!
Естественно, мы были в Галерее Уффици. Мы наслаждались прекрасным. Там был портрет очень юной фрёкен Медичи
[131], завоевавший мое сердце, и портрет милой нежной мадонны в темно-зеленом плаще.
Мы долго стояли перед Баптистерием
[132], поражаясь невиданной роскоши «Врат Рая». Мы впали в восторг, осматривая собор Santa Maria del Fiores. Разумеется, мы купали души в море красоты!
Но, но, но… Когда женщины, жужжа, как шершни, влетали в лавки и магазины и вылетали оттуда, мы с Евой были во главе!
— «Врата Рая», — сказала Ева, рванув дверь магазина, в котором был самый большой выбор шелковых тканей. Я тоже была в угаре приобретательства. Наконец-то мой
«seta pura фонд» выйдет на белый свет из внутреннего кармана жакета и превратится в плотный черный шелк. Ева купила шелк телесного цвета.
Когда мы снова вышли на улицу, разгоряченные, с пылающими щеками, нам стало чуточку стыдно нашего безумия.
Но там, на улице, ведущей к Ponte Vecchio
[133], было так много очаровательных мелких лавочек. Нас тянуло туда словно магнитом. Ева, пожалуй, была права, сказав: это, мол, все равно что пустить свиней в огород, где растут трюфели
[134]… Женский инстинкт и в чужом городе обнаружит
Нужную Улицу! Вообще-то, пусть никто не подходит ко мне и не произносит ни единого дурного слова о тех, кто заглядывает в витрины. Я благодарю своего Создателя, что во Флоренции я не
все время провела в Галерее Уффици. Иногда
нужно постоять и перед витринами!
Мы с Евой так и сделали. Мы стояли перед ювелирным магазином, а в витрине лежало кольцо, самое прекрасное, какое мне только доводилось видеть.
— Ева! — заорала я. — Видала, какое кольцо! Ну то, с бирюзой! Ой, какое кольцо!
И тут за спиной я услышала голос:
— Кричи громче, Кати! Может, на окраине города еще кто-нибудь тебя не слышит!
Я обернулась — это был Леннарт! О боже, Леннарт! Чуть насмешливо улыбающийся и все такой же загорелый.
В моей душе что-то оборвалось. Мне хотелось броситься ему на шею и заплакать, бормоча о том, как мне было худо, и как мне его не хватало, и что я не в силах была выдержать разлуку с ним!.. Но ведь такое позволить себе нельзя! Поэтому я сказала:
— Ты опять здесь? Все бегаешь за нами! Просто ужас!
Ева пронзительно и глупо хихикнула, но я одним взглядом заставила ее замолчать.
— Да, я здесь, — признался Леннарт. — Но ты, пожалуй, скоро снова затеряешься в толпе.
Я рассказала, как искала его на Пьяццетте в Венеции, и он чуть насмешливо улыбнулся.
— Я тоже искал тебя, — сказал Леннарт.
— Правда? — с надеждой спросила я.
— Ну да, я даже заглядывал в газеты, в рубрику «Потерянные вещи».
— Правда? — спросила я с еще большей надеждой.
Он подхватил Еву и меня под руки, и мы медленно пошли по улице. Ева поинтересовалась, сколько еще времени он останется во Флоренции и куда собирается ехать потом? Я молча благословила ее, я была так благодарна ей за то, что мне не надо самой задавать Леннарту эти вопросы. Да, он поедет дальше завтра утром! Точно еще не знает куда, а позднее, очевидно, в Рим.
Я почувствовала, что меня снова охватывает глубокое отчаяние. Мне дано встретить его на такой краткий миг, а потом он снова исчезнет. Это было выше моих сил! О, пусть небо сжалится над такими, как я! Несчастная любовь в семь раз хуже зубной боли!
— Возможно, мы и в Риме увидимся, — как можно равнодушнее сказала я. — Мы тоже едем туда!
— Ничего нельзя знать заранее! — ответил Леннарт.
Я чуть не вскрикнула. Он сказал: «Ничего нельзя знать заранее!» Разве он не понимает, что я
должна встретиться с ним! Я
должна убедить его, что он не сможет жить без меня! Конечно, мне это не удастся, но я все же могла бы, по крайней мере, получить пристойный шанс попытаться это сделать. Несправедливо, что различия наших маршрутов помешает мне в этом и сделает меня несчастной на всю оставшуюся жизнь. Нельзя же, в самом деле, требовать от девушки, чтобы ей удалось завоевать сердце мужчины, если ей дается на это время от времени по пять минут.
Но Леннарт шел рядом со мной, улыбался, ничего не подозревая ни о моей беде, ни о моем отчаянии. Я еще отчаяннее ломала голову, как сделать, чтобы снова увидеть его. Мимоходом упомянула я название отеля, в котором мы будем жить в Риме. Пять раз упомянула я как бы мимоходом название нашего отеля в Риме. Но не похоже, чтобы Леннарт принял его во внимание и запомнил.
Ева — добрая душа, всегда готовая помочь, делала все, что в ее силах.
— Ты имеешь представление, где находится этот отель? — поинтересовалась она.
— Ни малейшего, — ответил Леннарт, по-видимому чрезвычайно этим довольный. — Какой восхитительный Старый мост! — продолжал он, остановившись посреди Ponte Vecchio. — Действительно, поразительно красивый Старый мост! — повторил он, глядя с огромным интересом в желто-илистые воды Арно
[135].
«О, какое же ты чудовище! — молча сетовала я. — „Восхитительный Старый мост“! Вот на таком восхитительном старом мосту во Флоренции Данте впервые встретил Беатриче Портинари
[136]. Знаешь ли ты об этом? Думаешь,
он шел и улыбался и смотрел на
мост?»
Нет, для Леннарта я не Беатриче Портинари, это очевидно, и я заставляла себя осознать сей факт. Самое лучшее — сразу же покончить со всеми надеждами и посмотреть правде в глаза! Пусть уезжает! «Я преодолею свою роковую любовь, — решила я. — Надо немного подождать, и мне, вероятно, удастся, если я его больше не увижу!»
— Знаете, что мы сделаем? — спросил Леннарт. — Мы втиснемся в мой маленький автомобиль и поедем во Фьезоле посмотреть, как садится солнце.
Я первая издала восхищенный вопль в ответ на это предложение. Я сказала себе, что если мне нужно преодолеть свою роковую любовь, то это можно с тем же успехом сделать во Фьезоле и в обществе обожаемого субъекта.
Но, пожалуй, это умозаключение было ошибочным. Если речь идет о том, чтобы преодолеть несчастную любовь, то Фьезоле для этого наверняка одно из наименее подходящих мест в мире.
Сердце всегда немного щемит, когда видишь нечто более прекрасное, чем все его описания. Но стоять рядом с тем, кого ты любишь, и видеть, как заходит солнце над Флоренцией и долиной реки Арно, — это приводит к помутнению рассудка, и ты готов тут же расплакаться. И видишь, что даже и не стоит пытаться преодолеть там свою любовь!
В Италии красивее всего сумерки. И здесь, в Тоскане, тоже. Пожалуй, здесь, в Тоскане, — больше всего! Классический ландшафт с затянутыми серебристой дымкой холмами и нескончаемые аллеи тополей, взывающих к тебе и беседующих с тобой всей своей тишиной, и покоем, и безмерностью. Здесь ничто не изменилось! Так же молчаливо спускались сумерки, когда Фра Анджелико
[137] писал своих мадонн, над Флоренцией так же сверкали вечерние звезды. Вероятно, такая же чуть фиалковая синева окрашивала воздух в те далекие времена, когда один из блистательных дней Лоренцо Magnifico завершился однажды в старинном Палаццо Медичи
[138] на вершине холма.
Быть может, именно в сумерках Лоренцо Медичи почувствовал, что умирает, быть может, он бросил через окно последний взгляд на свой любимый город. О, надеюсь, такой же мягкий сумеречный свет озарил его усталые глаза, а вечерняя звезда горела так же ясно, как и теперь! Быть может, то был отблеск нескольких свечей, зажженных внизу во Флоренции, быть может, он видел их и горевал, потому что вскоре умрет для этого города внизу и для живущих в нем людей. А быть может, он, Magnifico, ужасно устал и жаждал долгого покоя…
Даже Ева молчала, когда мы стояли там. Из францисканского монастыря
[139] на вершине холма доносился тонкий тихий звон колоколов, чтобы заставить преисполниться все вокруг еще большей грустью, а меня еще сильнее почувствовать собственную потерянность. Мы побрели по крутой тропинке наверх, где нас встретил бедный маленький монах, выглядевший словно маленький бедный человечек Божий.
Он пригласил нас войти в цветущий монастырский сад и заверил, что говорит по-шведски.
— Пожалуйста… красивые цветы… спускайтесь
вниз… — весьма энергично сказал он.
Затем мы вернулись на Пьяццу, которая в период античности была форумом Фьезоле. Там мы уселись в небольшом уличном кафе и подкрепились чашкой кофе.
По правде говоря, я нуждалась в чем-то подкрепляющем.
Я ощущала беспросветную печаль, а жизнь представлялась мне столь прекрасной и столь грустной, что лучше было умереть и избавиться от всего на свете… Как чудесно и покойно было бы умереть и не думать больше ни о Леннарте, ни о вечерних звездах и вообще ни о чем! Ева и Леннарт весело болтали, я же хранила полное молчание. Горло у меня болело, я не могла выдавить ни единого слова, в глазах стояли слезы, готовые вот-вот сорваться с ресниц, если я только не удержу их. Иногда Леннарт спокойно и чуть равнодушно поглядывал на меня, и я улыбалась бледной улыбкой. Но вдруг он сказал куда-то в пространство:
— А ведь у Кати по-настоящему прелестные ушки!
Он сказал это невзначай, примерно так, как если бы констатировал, что кофе вполне сносный.
Только: «А ведь у Кати по-настоящему прелестные ушки!»
Но этого было достаточно. Сначала я подумала было, не подбросить ли мне кофейные чашки в воздух, чтобы дать выход забурлившей во мне радости? У меня прелестные ушки… о, если бы я могла снять их и подарить ему на память как маленький сувенир! У меня прелестные ушки — спасибо, спасибо Тебе, дорогой Боже, за это и за то, что жизнь так чудесна! И за то, что Ты сотворил столько вечерних звезд и много другого прекрасного! И хотя Ты так спешил, Ты все-таки нашел время сотворить для меня пару прелестных ушек, спасибо Тебе за это, дорогой, дорогой Боже!
Подумать только, как чудесно жить на свете! Я едва усидела на стуле! И если бы умела махать своими прелестными ушками, то сделала бы это! Боль в горле, мешавшая мне разговаривать, совершенно исчезла! Я начала так болтать, что испугалась за себя! Мой порыв заразил Еву и Леннарта, и мы болтали и шумели до тех пор, пока на лицах сидевших вокруг нас людей не появилось задумчивое выражение.
— Следует считаться с этими чопорными южанами, — заметил в конце концов Леннарт. — Они не привыкли к нашей буйной северной жизнерадостности.
* * *
Но одно — точно! Когда ты влюблена, невозможно радоваться долго. Радуясь своим прелестным ушкам, я совершенно забыла, что мне вот-вот предстоит разлука с Леннартом. Я не понимала этого до тех пор, пока мы не оказались в холле отеля и не протянули друг другу на прощание руки.
Леннарт жил в том же отеле, что и мы. Кто бы мог подумать?! Но он хотел пообедать с несколькими итальянскими друзьями, а потом рано лечь спать и назавтра в семь часов утра пуститься в путь. А мы с Евой должны были обедать с супружеской четой Густафссон, и с фру Берг, и с господином Мальмином, и всеми прочими. А какая уж тут радость от прелестных ушек?
— Увидимся! — сказал Леннарт, быстро пожав нам руки.
«Увидимся», — что он мог знать об этом? Увидимся небось через двадцать лет на какой-нибудь улице в Стокгольме… Нет, вообще-то я тогда уже давным-давно буду мертва, медленно исчахну в от безрадостной жизни. Черное, как ночь, отчаяние вновь охватило меня. Я ринулась наверх в наш номер, бросилась поперек кровати и зарыдала. Но потом — постепенно — я вынуждена была успокоиться и спуститься вниз к обеду. Господин Густафссон сидел рядом со мной, говорил о своем шефе и страшился того дня, когда надо будет снова вернуться к нему. Но в конце концов господин Густафссон заметил, что я отвечаю несколько односложно. Тогда он огорченно посмотрел на меня и спросил, не заболела ли я. Участливо погладив мою руку, он сказал:
— Глотайте аспирин, это помогает!
— Ах, если бы все было так просто!
Наша группа собиралась после обеда в ночной клуб, но я отказалась идти с ними. Я собиралась лежать и плакать в отеле. Ева тотчас вызвалась сидеть на краю моей постели и менять мне носовые платки, но я заставила ее пойти вместе с остальными.
— Достаточно того, что
я лежу в номере и горюю, — сказала я. — Не нужно портить из-за этого вечер господину Мальмину!
— Чихать мне на господина Мальмина! — грубо сказала Ева.
Но в результате удалось убедить ее, что мне станет лучше, если я буду плакать в одиночестве.
Она ушла, а я подняла настоящий рев. Но через несколько минут Ева прибежала обратно. Она была чрезвычайно возбуждена.
— Кое-то сидит внизу, в холле, и читает газету! — выпалила она.
Я подняла с подушки свое красное заплаканное лицо.
— Не иначе, это рыцарь Синяя Борода
[140], если ты вне себя от страха?!
— Это не рыцарь Синяя Борода, — ответила Ева. — Это Леннарт Magnifico. И это гораздо лучше!
Я опустилась на подушку в очередном приступе плача.
— Послушай-ка! — строго сказала Ева. — Кончай реветь! Спускайся вниз к Леннарту, потому что это, разумеется, единственное, чего тебе хочется!
Я, совершенно обессилев, покачала головой:
— Я не могу вот так откровенно бегать за ним, ты что, не понимаешь?
— Тогда пусть он бегает за тобой! — заявила Ева. — Садись в холле и тоже читай! Как будто ты его не видишь! Он тебя заметит через некоторое время, и тогда ты сможешь разыграть огромное удивление!
Предложение было заманчивым. Еще раз увидеть его! Места колебаниям не было! Вскочив с постели, я быстро запудрила самые страшные следы слез.
— Возьми! — сказала Ева, сунув мне в руки карманную «Divina Commedia».
Быть может, это выглядит странно — сидеть в холле отеля и читать «Divina Commedia» в одиннадцать часов вечера, но пусть это будет как угодно странно… В этот момент ничего другого у меня под рукой не было, а я торопилась. Взяв книгу, я помчалась вниз по ступенькам, терзаясь страхом, что Леннарт уже успел исчезнуть.
Но он не исчез. Он сидел там, спрятавшись за газетой. Однако волосы, торчавшие из-за нее, не позволяли ошибиться. Во всем мире существовал лишь один-единственный такой вихор.
Я уселась на почтительном расстоянии и открыла книгу как раз случайно на том самом месте, где Данте встречает в аду Франческу да Римини
[141] и она рассказывает ему о своей запретной, незаконной любви к брату мужа, Паоло Малатеста, с которым навечно соединена в геенне огненной. О, она помнит, как все это было и как печально все кончилось! Оба влюбленных сидели, читая одну и ту же книгу о любви, и чтение так воспламенило их, что, по словам Франчески,
…он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,
Поцеловал, дрожа, мои уста!
А затем ее спокойная, констатирующая, заключительная реплика:
«Никто из нас не дочитал листа»
[142].
Нет, ни в тот день и вообще ни в какой другой… Потому что для них не осталось больше ни одного-единственного дня на земле!
Несчастные, они были убиты оба в разгар любви неистовым мужем Франчески, ворвавшимся к ним и уничтожившим их счастье…
Бедная Франческа! Мне было так жаль ее! И я робко посмотрела поверх книги на Леннарта. Когда, собственно говоря, он собирается обнаружить меня? Когда же мне начать разыгрывать изумление? Неужели его так заинтересовали новости спорта?
Минуты шли. Леннарт читал. Я снова переключилась на Франческу и еще раз перечитала ее трагическую любовную сагу. Но на этот раз она стала мне чуточку надоедать!
Леннарт явно перешел к объявлениям. Неужели он ищет работу? Неужели учит объявления наизусть? И неужели это непременно нужно делать сегодня вечером? Нашим единственным, драгоценным вечером?
Я снова принялась читать про Франческу. Эта женщина действительно может кому угодно подействовать на нервы! Я начала думать, что Inferno — подходящее место для нее. Я так нервничала, что у меня все зачесалось. Почему, собственно говоря, издают такие толстые газеты, что на прочтение их требуется множество часов? Если он сейчас же не закончит, то…
Тут Леннарт перешел к передовице. Нет, должен же, в самом деле, быть предел! Больше мне не выдержать! Я уже возненавидела Франческу! Я возненавидела газеты! Я возненавидела и себя, и Леннарта, и в придачу многих других, чьи имена вспомнить именно в тот момент не могла. Я решила уйти отсюда как раз в эту самую минуту. Я навсегда забуду этого длинноногого, несносного, читающего газету идиота, а свои прелестные ушки попрошу оставить лишь для себя!
Но тут
наконец-то Леннарт опустил газету. Он улыбнулся, увидев меня. Он улыбнулся… на всем свете не найдется человека, который выглядит так мило, как Леннарт, когда он улыбается. Я любила его.
Да…
«Никто из нас не дочитал листа».
XVI
 — Bira, uva, panino! Bira, uva, panino![143]
— Bira, uva, panino! Bira, uva, panino![143]
Протяжные крики торговцев слились в громогласный хор, когда поезд остановился на какой-то станции. Но продавали они не только пиво, виноград, хлебцы и булочки. Можно было купить еще и вино, большие оплетенные бутылки кьянти, ликеры,
cioccolata[144], и
cigarette[145], и маленькие подушечки, на которых можно было спать, когда устанешь. Торговать итальянец учится наверняка уже в колыбели. У туриста легко создается впечатление, что все итальянцы стоят, выстроившись в ряд, протягивая дешевые бусы, кораллы, черепаховые шкатулочки, открытки, шелковые шарфы и
birra, uve, panini, и хотят бесконечно продавать, продавать и продавать!
Мы с Евой охотно купили и
birra, и
uve, и
panini и закончили покупки, как раз когда поезд тронулся в путь. Молча жуя бутерброды с салями, смотрели мы на холмистый ландшафт, где белые волы мирно тянули за собой круг среди серебристо-серых оливковых деревьев и где паслись большие овечьи стада. Все словно на картинках из Библии! Небольшие белые игрушечные селения дремали, озаренные солнцем. Вдали синели Апеннины.
Мы ехали в Рим. В Рим, куда ведут все дороги
[146].
Собственно говоря, не следовало ли и нам с посохом пилигрима в руке идти к этому городу по одной из этих белых дорог?
Нет, это так же точно, как то, что все дороги ведут в Рим! Все мы — пилигримы из Стокгольма, из Аскерсунда, из Вернаму
[147], выехавшие оттуда, чтобы увидеть Вечный город
[148], ехали, забронировав места в вагоне, и сидели развалившись на мягких подушках! Это было, что ни говори, на редкость удобное паломничество.
Но в поезде были и вагоны третьего класса, ой-ой-ой! Пожалуй, никогда по-настоящему не узнаешь, что такое перенаселение, пока не увидишь битком набитое итальянцами купе третьего класса. Когда я говорю «битком набитое», то я и имею в виду битком набитое. Я вовсе не хочу сказать, что там народу — ровно по числу сидячих мест. Вовсе нет! Но если я говорю, что там на каждом месте, предназначенном для одного человека, сидят двое, а проходы так забиты, что выгибаются спины, а те, кому не хватает места, свешиваются из двери вагона, то это дает лишь слабое представление о том, как выглядит битком набитый итальянский вагон третьего класса. В Швеции это ни за что бы добром не кончилось, даже в неделю вежливости
[149]. Люди начали бы злобно наступать друг другу на мозоли и осыпать друг друга взаимными угрозами. Но итальянцы, похоже, в самом деле и более гибки, и легче прессуются.
Мы ехали в Рим! Держа по бутерброду с салями в каждой руке! В самый разгар трапезы адъюнкт Мальмин сунул голову в наше купе и спросил, нельзя ли ему войти. Ему разрешили. Мы попытались даже заставить его съесть бутерброд, но он, содрогаясь, отклонил его. Это был элегантный, застегнутый на все пуговицы господин, а вовсе не тот тип, что станет чавкать публично, поглощая бутерброд! Однако, казалось, он с некоторым удовольствием смотрел, как смертельно голодная Ева вонзала зубы в ломтики колбасы.
Господин Мальмин был холостяк и философ. И одно, пожалуй, вытекало из другого. Он пребывал у ног Шопенгауэра
[150] и теоретически почерпнул у своего кумира кое-что и о женщинах. Уже на ранней стадии знакомства Мальмин обратил наше с Евой внимание на то, что практически все крупные философы к женскому полу относились отрицательно и прекрасно могли обойтись без всего, что носит имя «женщина».
— Да, а мы очень даже прекрасно можем обойтись без этих старцев философов, так что мы квиты! — сказала Ева.
Думаю, господин Мальмин воспринимал Еву как прямой вызов Шопенгауэру. Он производил впечатление человека чем-то обеспокоенного, и это с каждым днем становилось все более и более заметно. А откуда бы ни доносился громкий смех Евы, можно было быть уверенным, что поблизости найдешь и господина Мальмина. Внешне он сохранял свое огромное чувство превосходства, но иногда можно было случайно наткнуться на него, когда он украдкой смотрел на Еву глазами голодного ребенка. Ева ничего не замечала, во всяком случае тут она не притворялась. Она смеялась все так же беззаботно и обращалась с адъюнктом так же неуважительно, как с самого начала. А сейчас она, размахивая своим бутербродом с салями, спрашивала Мальмина, не думал ли он когда-нибудь посвататься к Фриде Стрёмберг?
— Нет, избави меня Бог! — испуганно ответил Мальмин.
— Глупо! — заявила Ева. — Фрида такая милая! И к тому же прекрасно готовит! Я уверена, что Шопенгауэр ничего не имел бы против. Но возможно, куда труднее было бы уговорить Фриду.
Господин Мальмин поднялся и ушел. Он не желал больше слышать о Фриде Стрёмберг. Но Ева, видимо, заронила в его душу семя сомнения, хотя, возможно, не в том направлении, в каком бы этого хотелось ему. Некоторое время спустя, когда я, стоя одна в проходе, смотрела на Апеннины, он подошел ко мне и стал говорить о Еве. Выражался он весьма туманно и неопределенно, но хотел совершенно точно знать, не занята ли уже Ева где-то на стороне.
— Не более чем обычно, — правдиво ответила я.
— «Не более чем обычно» — что это значит? — удивился господин Мальмин.
— Ха! — воскликнула я. — Пожалуй, пять-шесть кандидатов в резерве, а с одним или с двумя она чуточку — слегка — помолвлена. Но занята?.. Нет, этого утверждать нельзя!
Господин Мальмин испуганно смотрел на Апеннины. Мне было так жаль его! Мне вовсе не хотелось его огорчать. Я только собиралась деликатно разъяснить ему девиз Евы:
«Один мужчина — это не мужчина!»
— Только не падайте духом! — сказала я ему в утешение и похлопала его по плечу. — Вы, господин Мальмин, можете, пожалуй, встать в очередь!
Но в ответ господин Мальмин заявил, что я совершенно не поняла его. Он задал мне вопрос исключительно из любознательности, а вовсе не по какой-то другой причине.
Да, да, ведь господин Мальмин спрашивал так часто, и так много, и так долго из чистой любознательности, и можно было ожидать чего угодно… Но на этот раз им наверняка двигала не только любознательность. Я, сама поверженная несчастной любовью, узнавала ее симптомы. Я решила произнести речь и предупредить Еву, а также попросить ее быть впредь чуточку более осторожной и не улыбаться все время, пуская в ход свои ямочки на щеках.
— Господин Мальмин такой милый человек и блестящий знаток, ну да, конечно же, — сказала я ей. — Он не заслуживает того, чтобы стать твоей игрушкой!
— Хо-хо! Ничего себе игрушка!
— Да! Не будь такой высокомерной! — воскликнула я.
— Да, но что я такого сделала? — Ева сердито вытаращила на меня глаза. — Ты что, утверждаешь, будто я поощряла Мальмина?
Нет, во имя справедливости, этого я, разумеется утверждать не могла. Она ничего не делала, кроме того, что была самой собой, то есть веселой и привлекательной. Я попыталась объяснить ей, что такой серьезный и сдержанный человек, как Мальмин, при встрече с таким жизнерадостным существом, как Ева, неизбежно становится беспомощной жертвой и… Короче говоря, она могла бы быть хоть немного осторожней, завершила я свой умный пассаж. Правда, я не знала, как эта осторожность должна выглядеть на практике.
— Вот как, нельзя даже и повеселиться! — негодующе изрекла Ева. — Ну ладно, пускай! В следующий раз, когда Мальмин заржет и зальется своим мелким смешком в моем присутствии, я скажу: «Э, нет, господин Мальмин, сейчас мы будем думать о смерти!»
Результатом моего предупреждения стало то, что когда господин Мальмин в следующий раз зашел в наше купе, Ева, смертельно серьезная, сидела в углу и прятала свои ямочки на щеках, сжимая губы и втягивая щеки так, что это могло кого угодно навсегда лишить радости жизни. Господин Мальмин робко посмотрел на нее и спросил, как она поживает и здорова ли?
— Да, я здорова, — ответила Ева. — Я думаю о смерти и очень хорошо поживаю!
Господин Мальмин покачал головой и отправился восвояси.
— Думаешь, помогло? — с надеждой спросила Ева.
— Не притворяйся дурочкой! Нечего делать вид, будто не понимаешь, что я имею в виду!
Я напомнила ей, что Мальмин не единственная жертва ее ямочек на щеках. Во Флоренции был еще один бедняга — румяный портье нашего отеля, который, вероятно, сейчас сидит и плачет из-за нее.
— Ну, это же совсем другое дело! — воскликнула Ева. — Все портье в отелях любят меня!
В этом она права. Таинственная притягательность Евы для портье — тема, которая должна быть исследована в докторских диссертациях каким-нибудь ученым, интересующимся феноменом сверхъестественного. Стоит какому-нибудь портье увидеть Еву, как он роняет все, что держит в руках, отталкивает в сторону магараджу из Майсура
[151] или другого незначительного гостя, которого обслуживает, и спешит с глубокими поклонами к Еве, чтобы передать ей ключи от княжеских покоев. Меня он не видит в упор. Я стою с улыбкой, с каждой минутой все более смиренной, и чувствую себя Урией Типом
[152]. Я робко бормочу, нет ли для меня писем, и тогда портье окидывает меня неодобрительным взглядом и говорит, что нет, ничего нет.
Зато меня любят горничные отелей, а я люблю этих горничных. Особенно в Италии! Мы смеемся и киваем друг другу, а я смущенно болтаю, смешивая слова всех известных мне языков. Но горничные все равно понимают, что я имею в виду: я считаю Италию самой красивой страной на свете, а итальянцев исключительно любезными, талантливыми и приятными… Еще я думаю, что сегодня прекрасная погода, а завтра, вероятно, будет такая же прекрасная и что я хочу получить мое выглаженное платье
subito, то есть сию же минуту.
—
Subito, — повторяют они, и глаза их дружески сияют.
—
Subito, — говорят они и кивают в знак согласия.
Ну да, конечно, платье будет выглажено сию же минуту.
Затем они исчезают вместе с платьем, а три часа спустя я, облаченная в розовые шелковые брючки, буквально лезу на венецианскую хрустальную люстру, чтобы утихомирить свои разбушевавшиеся нервы. Через пять минут мне надо идти обедать, но даже если розовые шелковые брючки мне к лицу, они еще не воспринимаются как вечерний туалет, по крайней мере в лучших ресторанах.
Но я все равно люблю горничных отелей, это точно! Даже если, говоря
subito, мы имеем в виду совершенно разные вещи!
Ева по-прежнему желает думать о смерти в своем углу, а я тогда устраиваюсь поудобней в своем и думаю о Леннарте. Этот последний вечер во Флоренции вселил в меня абсолютную уверенность — спасения для меня нет. Я обречена вечно любить Леннарта Сундмана. А кроме того, у меня появилась надежда! Надежда жалкая и маленькая, но она упрямая и не желавшая умирать. Я питала ее мелкими, но значительными деталями, по крайней мере я внушала себе самой, что они значительные.
Леннарт так нежно взглянул на меня, обнаружив в холле отеля во Флоренции, — это первое! Он возил меня в своем автомобильчике ночью по городу — это второе. Мы часами ездили по темным дорогам Тосканы, и я болтала столько всяких глупостей о самой себе, а он слушал! О, как удивительно он слушал! Зачем ему было носиться ночью по всей Тоскане, если бы он совершенно мной не интересовался? Он обещал отыскать нас в отеле в Риме — это третье! «Нас», а не «меня»! Ой, в этом-то и была вся загвоздка! Никакой уверенности, что он явится ради меня! На самом деле он не сказал ровно ничего, что прямо свидетельствовало бы об этом. Единственное, что он сказал: Ева, мол, милая и веселая! О милая и веселая Ева, не отбирай у меня моего единственного маленького агнца
[153], ведь у тебя целое стадо баранов!
* * *
Мы прибываем через несколько минут. Мое сердце забилось сильнее при мысли о Риме и о возможности встретить Леннарта, а еще в надежде, что
вопреки всему он, быть может, явится ради меня.
— Вообще-то это несправедливо, — неожиданно заявила Ева. — Только из-за того, что ты влюблена, ты получаешь от поездки в Италию гораздо больше, чем я! Если я вижу красивый пейзаж, то я нахожу, что это просто красивый пейзаж. Но ты, влюбленная, просто подпрыгиваешь и совершенно таешь от восторга. Собственно говоря, несправедливо, что
мне пришлось заплатить за поездку столько же, сколько тебе!
— А ты не можешь в таком случае влюбиться немного в господина Мальмина? — предложила я. — Чтобы получить за свои деньги еще хоть какое-то преимущество. В огне твоей всепоглощающей любви Колизей
[154] и термы
[155] Каракаллы станут для тебя фантастическим переживанием!
Но Ева сказала — она, мол, не так бедна, чтобы влюбляться в господина Мальмина ради презренной выгоды.
— Ева, помолчи, — сказала я, положив руку на ее плечо, — посмотри на эти уродливые ветхие «доходные» дома! Знаешь, что это такое? Это первые постройки Рима, понимаешь, это — начало Вечного города… о Ева!
— Да, конечно, первые постройки! — радостно подхватила Ева. — Эти дома, кажется, не ремонтировались со времен Ромула и Рема
[156].
XVII
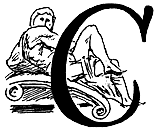
Солнце пылало над римским Форумом, и воздух трепетал от жары. На камнях, оставшихся от ростры
[157] Цезаря
[158], сидели мы с Евой, благоговейно рассматривая окружавший нас выветрившийся мрамор. Ева, конечно, по-прежнему думала о смерти, потому что вдруг сказала:
— Послушай, Кати, я сижу здесь и думаю об одном. Представь себе, как вообще-то мало людей осталось в живых. Большинство ведь уже давным-давно умерло!
— Да, нас всего-то несколько и осталось, — сказала я, внезапно почувствовав такую благодарность за то, что принадлежу к тем, кто еще может видеть розы вокруг храма Весты
[159] и ощущать лицом солнечное тепло, глядя вверх на мраморную капитель
[160] Диоскуров
[161].
Ах, как они были мертвы — все эти, властители мира, некогда жившие здесь и решавшие судьбы всего человечества! Зато господин Мальмин, и фру Берг, и господин Густафссон, и все мы прочие, мы были живы! Мы бродили тут на солнцепеке на абсолютно живых ногах, и наши живые голоса наполняли воздух бездумной болтовней. Собственно говоря, мы не принадлежали к этому миру. Он не для живых!
Нельзя было Фриде Стрёмберг расхаживать тут в пестром, с крупными цветами, летнем платье. Я хотела видеть здесь фигуры в белых тогах
[162], и они должны были странствовать среди позолоченных гигантских статуй, памятников и великолепных мраморных дворцов, сверкающих золотом и лазуритом
[163], а не среди разрушенных столбов колоннады и выветрившихся каменных развалин. Прочь отсюда и господин Мальмин! Я хотела бы слышать, как Цезарь со своей ростры обращает речи к римлянам. Я хотела бы видеть, как лицо Юния Брута
[164] искажается ненавистью в тот миг, когда он поднимает кинжал на своего господина и друга!
Я хочу, чтобы сегодняшний день был не обычный сентябрьский день две тысячи лет спустя, а чтобы мы перенеслись в мартовские иды 44 года до нашей эры
[165]. Исчезните отсюда, господин Густафссон, и явись, Марк Антоний
[166], самый безрассудный из римлян! Явись и произнеси свое знаменитое надгробное слово о Цезаре и предай его тело очищающей власти огня! Я люблю тебя за твое рыцарство, и великодушие, и самоотверженность, и за твое безрассудство! Ты пожертвовал державой ради женщины, которую любил, и умер за свою любовь
[167]. За это я люблю тебя! Явись сюда, Октавиан!
[168] У тебя строго сжатые губы, и мне не нравится, что ты носишь длинные зимние кальсоны. Это не подобает мужу, который войдет в историю под именем императора Августа! Но, во всяком случае, явись сюда. Исчезните, фру Берг и фру Густафссон, и явись сюда, Фульвия
[169], жестокая кровожадная Фульвия! Нет, вообще-то оставайся в Царстве мертвых, Фульвия! Там твое место! От такой дьявольской злобы, как твоя, увяли бы розы на Форуме! Ты плевала на мертвое лицо Цицерона
[170] и жестоко расправилась с его языком, время от времени вещавшим тебе правду. Ты повелела выставить его голову на столбе здесь, на Форуме, а руку его, написавшую столько сочинений на латинском языке, ты повелела прибить гвоздями…
[171] Оставайся в Царстве мертвых, Фульвия! Если бы ты хоть один-единственный раз выказала самую малость женской доброты и милосердия! Теперь ты можешь каяться, но уже слишком поздно!
Кто сказал, что надо быть хорошим, пока еще не поздно? Ни Марк ли Аврелий
[172], чью покрытую патиной
[173] статую я видела недавно на вершине Капитолийского холма? «Живи не так, словно тебе предстоит прожить еще тысячу лет. Смерть витает над тобой. Пока ты еще жив, пока ты еще можешь, будь добрым!»
О небо! Я вдруг почувствовала, как коротко время и для меня! Мы живем всего одну-единственную краткую минуту — это я с ужасающей отчетливостью поняла здесь, на Форуме! И поняла еще одно! Что ни говори о господине Мальмине, о фру Берг и о супругах Густафссон, да и о других тоже, — у них, во всяком случае, есть одна чрезвычайно примечательная особенность:
они мои современники! Они делят со мной эту маленькую краткую минуту жизни. И если я хочу быть доброй, то надо начинать с моих современников! Они — единственные, кто мне доступен. Единственные, для кого я могу что-нибудь сделать! О, времени у меня в обрез! Господин Мальмин, господин Мальмин, мой милый, добрый современник, я несусь к вам на всех парусах и хочу быть доброй! Я похлопываю его по спине, чтобы обратить на себя внимание.
— Послушайте, послушайте, дорогой, дорогой господин Мальмин!
Но дорогой господин Мальмин наверняка никогда не читал Марка Аврелия и не понимает, что значит для него, господина Мальмина, делить краткую минуту жизни со мной! Нетерпеливо сбросив мою руку со своего плеча, он возобновляет беседу с гидом.
— Здесь в самом деле чувствуешь, как шелестят и шумят страницы истории! — глубокомысленно изрекает он.
Тут я становлюсь такой ехидной по отношению к моему милому маленькому современнику!
— Да, ведь у вас, господин Мальмин, неприятности из-за шума в ушах еще с тех пор, как мы проезжали Сен-Готардский туннель, — говорю я и удаляюсь, потому что не желаю, чтобы меня так принимали, когда я, исполненная доброты, приношусь на всех парусах!
Мне необходима другая жертва для моей доброты, чуточку более восприимчивая. Я оглядываюсь вокруг в поисках ее. Возле храма Весты сидит фру Берг, словно несколько увядшая весталка более поздней эпохи, и покоит свои уставшие ноги. Она смотрит прямо перед собой совершенно пустыми глазами. Она вконец измучена жарой, и у нее уже не осталось сил для Римского форума. Я внимательно наблюдаю за ней, чтобы понять, не чувствует ли и она, как шелестят и шумят страницы истории! О нет, фру Берг уже бывала в Риме и прежде, и для ее особы с шелестом и шумом страниц истории уже покончено. Фру Берг вовсе не считает, что ей вообще надо выказывать какое-то восхищение в Италии, будь то восхищение красотой Венеции, или сокровищами искусства Флоренции, или достопримечательностями Рима, ведь она уже видела все это, и мы — все остальные — должны эта себе раз и навсегда усвоить. Она считает нас глупыми, когда мы всплескиваем руками и восклицаем «Ах!» и «Ох!». К тому же она вообще раскаивается в том, что поехала вместе с нами в это путешествие. Она не раз внушала нам, что ей следовало бы остаться дома и заняться своим недвижимым имуществом в Стокгольме.
Я осторожно сажусь рядом с ней. Она кажется такой озабоченной. Возможно, она и есть та самая душа в беде, которую я могу утешить, одна из моих современниц, к которой я могу быть доброй!
— Смотри, как отекли на жаре мои ноги! — говорит фру Берг и кладет их на угловой камень древнего храма. Я даю ей высказать все жалобы, я выслушиваю их, и я так добра! Вскоре она уже переходит на свою излюбленную тему — недвижимость, которая не приносит достаточного дохода, а содержание которой стоит таких больших денег… Ведь здесь, на Форуме, она видит ужасающие последствия плохого содержания домов. А эта безумная налоговая политика! О, она просто приводит фру Берг в ярость! Я пытаюсь развернуть перед нею широкую историческую перспективу. Ничто не ново под солнцем, и менее всего — жалобы на налоги. Разве не сюда, на Форум, ворвалась некогда толпа разъяренных римлянок и стала протестовать против законов Марка Аврелия? Что он имел в виду, обложив их такими непомерными налогами? Он, видно, хочет выгнать их на улицу, чтобы там собрать налоги?
— Именно так и надо жаловаться, — призываю я фру Берг. — Никаких мелких сетований и стонов в тишине, а громкие неистовые протесты перед министерством, чтобы министр финансов подпрыгнул до потолка, — такова схема действий!
Фру Берг явно оскорблена. Она, конечно, не понимает, что я всего лишь пытаюсь быть доброй и навести ее на более радостные мысли. Она, конечно же, не понимает, что я всего лишь пытаюсь изо всех сил пробудить ее энтузиазм, ее волю к жизни, которая так коротка, ее интерес к солнцу, к цветам и к столь богатой историческими воспоминаниями земле, на которой мы сидим. Но она сопротивляется! Она не желает радоваться! В конце концов она все-таки вынуждена чуть угрюмо признать, что Римский форум «жутко очаровательный».
Юлий Цезарь, Марк Антоний, Август, вы слышали? Высокочтимые тени, думаю, вам лучше всего вернуться в ваше великое молчаливое небытие, предоставив Форум одной лишь фру Берг! Раз уж она полагает, что он такой жутко очаровательный!
* * *
Надеюсь, шум в ушах господина Мальмина за день еще усилился, ведь в этом городе ему на каждом шагу слышно, как вопиют даже уличные камни. Все время он держался рядом с Евой. Когда мы вошли в Колизей, он начал читать длинный культурно-исторический доклад. Он долго говорил о христианских мучениках за веру, которые истекали кровью там, на гигантской арене. В конце концов Ева сказала:
— О эти бедные мученики! К счастью, я знаю, что можно быть ничтожной маленькой язычницей, не нарушающей закон!
Я смотрела вниз на арену, купавшуюся в лучах солнца, и пыталась представить себе, каково стать беззащитной жертвой кровожадного льва. О, я хотела бы стать мученицей за веру, если бы только осмелилась!.. Но я и сама знала, какая я трусиха! Будь я мученицей, стоило бы льву лишь покоситься в мою сторону, как я, запыхавшись, ринулась бы к императорской ложе и отреклась от своей веры. Я знала это и поэтому дрожала от восхищения, думая о мучениках, которые явили собой блистательный пример того, что силу духа человеческого жестокостью не сломить!
Во все времена существовало множество таких мужественных людей, начиная со святых мучеников за веру и кончая участниками движения Сопротивления
[174]. Я восхищалась ими больше всего на свете!
— Я никогда не могла бы участвовать в каком-нибудь движении Сопротивления, — мрачно сказала я. — Достаточно было бы слегка вывернуть мне палец, как я мгновенно раскололась бы и предала бы все движение Сопротивления и всех своих товарищей. Я бы тут же выболтала все до единого имена, и адреса, и номера телефонов, и все приметы…
— А я нет! — возразила Ева. — Парню, который стал бы выворачивать мне палец, я дала бы свой номер телефона и спасла бы всех от беды!
— О! — воскликнул господин Мальмин. — Вы в самом деле подружились бы с врагом?
— Этого я не говорила! — ответила Ева. — Врагу пришлось бы держаться от меня подальше, не то я начала бы свое собственное движение Сопротивления, да такое, что он бы побледнел!
Я была абсолютно уверена в том, что Ева начала бы свое собственное движение Сопротивления даже против львов на арене Колизея. Весьма вероятно, что она всех их обратила бы в другую веру!
Я спросила фру Берг, не думает ли она, что Колизей тоже жутко очаровательный, и она со мной согласилась. Думаю, после подобного поощрения старый гигантский цирк сможет простоять еще несколько столетий. И это прекрасно. Ибо если рухнет Колизей, то рухнет и Рим, да и весь мир тоже. По крайней мере так полагали древние!
* * *
Потом мы сидели наверху на
Pincio[175] и смотрели, как заходит солнце, и на славных маленьких римских детей, игравших в тени кудрявой зелени каменных дубов
[176]. Невинные малютки явно не были обременены никакими историческими шумами в ушах. То, что когда-то существовала некая ужасная тетка Мессалина
[177], которая не очень скромно вела себя здесь, на Пинчо, их не волновало. И палач в кукольном театре, которому они аплодировали, куда больше будоражил их воображение, чем какой-то там старый злодей Нерон
[178], урна с прахом которого была некогда спрятана здесь в земле
[179].
Однако Ева заинтересовалась Нероном. Ей очень хотелось узнать точное место, куда давным-давно в ту июньскую ночь рабыня Нерона Актея
[180] зарыла урну с его прахом.
— Разве это не удивительно? — спрашивала Ева. — Даже если мужчина такой большой хищный зверь, которого все ненавидят, все равно всегда найдется любящая женщина, которая останется с ним до последней минуты. Даже у такого негодяя, как Нерон, была своя Актея, которая нежными руками зарыла его урну в землю и плакала над ним, прежде чем уйти.
— Ну а я, что есть у меня? — спросил господин Мальмин, лукаво и призывно взглянув на Еву.
— Вы, господин Мальмин, слишком мелкий хищный зверек, — сказала Ева. — Сначала сожгите Рим
[181], а там посмотрим!
XVIII

Почему Леннарт так и не позвонил? Ведь он обещал! Он сказал, что даст знать о себе, как только приедет в Рим. Я так радовалась в первый день в Риме, была так уверена, что телефон скоро зазвонит, и когда я подниму трубку, то это будет Леннарт, и я услышу его теплый глуховатый голос. Однако телефон так и не зазвонил. Вернее, он звонил, но это был господин Густафссон, желавший знать, не хотим ли мы поехать на такси на «блошиный рынок»
[182] с ним и его женой. Или господин Мальмин, обративший наше внимание на то, что в катакомбах может быть довольно прохладно и надо захватить с собой куртки. В конце концов я начала испытывать перед телефоном настоящий страх — и когда он молчал, и когда звонил. Может, Леннарт не хочет звонить? Может, вместо звонка он думает написать письмецо, наскоро набросанное письмецо: «Встретимся в кафе „Ульпия“». Я беспрерывно мучила портье вопросами: нет ли мне письма?
Письмо мне, конечно, все же было. От Яна. Он так мило написал: он надеется, что у меня теперь есть тот, кто сделает меня счастливее, чем мог бы он. И что, несмотря ни на что, я с теплотой буду вспоминать о том времени, которое мы проводили вместе. Я не должна расстраиваться из-за него, писал Ян, еще придут, вероятно, новые весны! Наверняка так оно и будет, а я наверняка иногда буду с теплотой вспоминать о Яне. Но я совершенно ясно чувствовала, что ничто не бывает так мертво, как любовь, которую недавно похоронил.
Ах, время бежало так быстро, а Леннарт все не давал о себе знать. С тяжелым сердцем, утратив всякую надежду, я бродила по Риму, осматривала собор Святого Петра
[183] и термы Каракаллы, Рим христианский и Рим античный — все, что только успевала. Я слонялась по Via Veneto
[184], разглядывая элегантных, пьющих чай римлянок, я смешивалась с толпой на Pincio — словом, делала все, что требуется от туриста в Риме. Но я переживала пребывание в Вечном городе не всем сердцем, как следовало бы. Потому что думала о Леннарте. Я думала о нем в соборе Святого Петра, на Форуме и в Колизее, я думала о нем наверху на Pincio, и на Via Veneto, и в темной глубине катакомб. В особенности в темной глубине катакомб.
Catacombi di San Sebastiano — Beveto Coca Cola! «Катакомбы Сан Себастьяно — пейте кока-колу!»
[185] — было написано на двух плакатах у входа в катакомбы. Ничего тут не поделаешь! Ты вздрагиваешь при виде призрака Сан Себастьяно
[186] и других мучеников, сидящих внизу во мраке и кутящих с бутылками кока-колы в руках. Эта реклама кока-колы, так непочтительно торчавшая повсюду, в самом деле могла подействовать на нервы кому угодно. Еве она тоже не понравилась. Покачав головой, она сказала:
— Держу пари, что когда я умру и явлюсь к небесным вратам, то и там будет висеть плакат: «Вход в небесное обиталище — пейте кока-колу!».
Затем мы спустились вниз в катакомбы, и господин Мальмин освещал нам восковой свечой путь в длинных узких проходах, где мрак, как тяжкий груз, давил на грудь. И я подумала, что, будь я мученицей за веру, пусть бы меня лучше разорвали львы, чем сидеть здесь взаперти в подземелье — без воздуха, без солнца и без света.
После этого господин Мальмин пригласил нас в маленькую тратторию совсем рядом с Аппиевой дорогой
[187]. Мы пили молодое белое вино и безумно радовались, что мы не мученики.
Однако я все время думала о Леннарте. Может, именно в тот момент, когда я сидела здесь, этот мерзкий телефон в номере гостиницы просто содрогался от звона! Да, от таких мыслей появляются морщины на лбу! И мысли эти тебя не отпускают! Пока я рассеянно прислушивалась к болтовне Мальмина и Евы, мой мозг продолжал работать, а маленькие светлые эльфы — проблески мыслей — повторяли мне примерно вот что: «Он говорил, что даст о себе знать. Кто знает, может, он звонил, когда нас не было?! Может, он сделал слабую попытку сдержать свое обещание, а потом плюнул на все». Ведь мужчины вообще часто так поступают, бросая на ходу что-то вроде «Нам надо встретиться!», и, может быть, даже в ту минуту думают именно так, а через час об этом забывают. Моя жалкая маленькая надежда была подобна пламени свечи, которая уже едва мерцает и вот-вот погаснет.
Это был наш последний день в Риме. И было бы хорошо заставить надежду угаснуть совсем и начертать над ее могилой: «Здесь покоится единственная великая любовь Кати!»
Последний обед в Риме был в отеле, где мы остановились. Настроение было веселое и оживленное, и наконец мы зашли так далеко, что после многодневного совместного времяпровождения все стали обращаться друг к другу запросто, по именам, — словом, выпили на брудершафт
[188].
— Виктор, — представился господин Мальмин. — Хотя мои друзья называют меня Викке.
Но Ева решила называть его Виктором.
— Викке! — сказала она. — Мне никогда этого не выговорить! И мало кому так подходит имя Виктор, а не Викке. Виктор звучит так по-настоящему!
Затем вся группа отправилась к фонтану di Trevi
[189] — бросить монетки в воду. А иначе ведь нельзя быть уверенным в том, что когда-нибудь снова увидишь Вечный город. Я тоже бросила монетку. Но, откровенно говоря, мне было безразлично, вернусь я сюда или нет. Рим был для меня городом утраченных надежд.
И должно быть, станет им в еще большей степени.
Виктор, наш новоявленный брат, захотел увидеть Рим
by night[190] и спросил нас с Евой, не пожелаем ли мы сопровождать его. Естественно, обратился он вообще-то к Еве, — видно, не знал, как избавиться от меня. Не успев даже подумать, я ответила: «Да!» Но Ева не ответила «да». Она устала, у нее болит голова, и ей хочется прилечь. У Виктора был совершенно убитый вид, когда он это услышал. Перспектива увидеть Рим
by night наедине со мной ни в коем случае не опьянила его и не привела в восторг, — это было заметно. Я поспешила заверить Мальмина, что при таких обстоятельствах я, естественно, не могу оставить Еву одну. Но Ева решительно отказалась от моего общества, заявив, что ей никто не нужен и ничто не нужно, кроме ее головной боли. Она настаивала на том, чтобы мы с Виктором ушли.
— Поразвлекайтесь хорошенько! — сказала она.
И поскольку Виктор не желал быть совсем неучтивым, он заверил нас, что ему будет очень приятно прогуляться со мной. Я бросила оскорбленный взгляд на Еву за то, что она так поступила со мной. И мы с Виктором ушли.
Мы направились к Библиотеке
[191]. Мы выпили по бокалу aqua di Trevi
[192] и послушали, как широкогрудый певец поет «Санта-Лючия», одно из самых действенных средств, придуманных итальянцами, чтобы мучить иностранцев. Когда слышишь эту песню первые пятнадцать — двадцать раз, это еще куда ни шло, но раз за разом становится все хуже, и, когда черноволосые мальчишки в сотый раз нудят «Санта-Лючия…», хочется стать бешеной собакой и всех перекусать.
Виктор был в тот вечер необыкновенно общителен. Он рассказывал о своем печальном и одиноком детстве и был по-настоящему человечен. Быть может, не совсем так я представляла себе Рим
by night, но слушала заинтересованно, а он надолго и прочно углубился в свою тему. Мало-помалу мы решили отправиться в другое место. В кафе «Ульпия», где, должно быть, так уютно!
Да, в «Ульпии», должно быть, так уютно! Я все еще вижу пред собой эту картину! Лестница, ведущая вниз в сумрачный погребок. Я спускаюсь вниз. Следом за мной Виктор Мальмин. Музыка. Люди за столиками. И в самом конце, в углу, — белокурая голова… и смех, который я узнаю, — смех Евы. Ева… и не одна она… Прямо против нее сидит Леннарт и тоже смеется так, что зубы сверкают на его загорелом лице.
Боже, помоги мне уйти отсюда, прежде чем они заметят меня!
Я отчаянно хватаю Виктора за борт пиджака.
— Нам… нам надо уйти! — заикаюсь я.
— Уйти? — переспрашивает Виктор. — Почему?
Вдруг он тоже замечает тех двоих в углу!..
— Ах, так, значит, это и есть головная боль, — с горечью произнес он, когда мы вышли на улицу.
Я не ответила. Я была так безумно несчастна, что не могла говорить. Трудно сказать, что мне было больнее — предательство Евы или уверенность в том, что Леннарт навсегда утрачен для меня. В любви и на войне все средства хороши — это знаешь отлично, — но то, что Ева… думать об этом было просто невыносимо. Да и вообще, как я могла хоть на один-единственный миг поверить, что Леннарт обратит на меня внимание, когда рядом Ева. Ева с ее ямочками на щеках, с ее веселым юмором и во всем блеске!..
Я стояла на улице и чувствовала себя совершенно одинокой. Одинокой и покинутой и никому не нужной, с солеными слезами горечи на глазах. Рядом со мной стоял Виктор Мальмин, насвистывая «Санта-Лючия», чтобы скрыть свою неуверенность. Кто знает, быть может, он был в таком же отчаянии, как я, и так же одинок? Мы стояли на улице — двое несчастных отвергнутых, — а там, в погребке, сидели Ева и Леннарт, такие радостные и уверенные в себе. И вероятно, так же — друг в друге!
— Виктор, — сказала я, как утопающий, хватаясь за его руку, — пойдем и потанцуем где-нибудь!
Сев в такси, мы поехали наверх к
Pincio. И мы танцевали. В ротонде
[193] под звездным небом и в окружении высоких кудрявых деревьев. Никогда еще более мрачная пара не танцевала под звездами. Мы не разговаривали. Мы только танцевали, крепко держа друг друга за руки. Но между танцами мы садились за столик, и тогда Виктор говорил чуть тихо, чуть односложно и без тени обычного превосходства.
— Да, ведь было одиноко, — говорил он. — Совсем одиноко, но думалось, быть может, Ева… но ведь ясно, что разница в возрасте слишком велика. Да и у нее ведь столько других… А этот подозрительный тип, что сидел с ней в «Ульпии», — кто он?..
— Извини, но
на самом деле он вовсе не подозрительный тип, — живо ответила я, не потерпевшая бы никаких нападок на Леннарта. — Он такой… да, ну это все равно, какой он…
Виктор, задумчиво взглянув на меня, смолчал. И мы снова начали танцевать.
Было уже поздно, когда мы поехали в отель. Наши дрожки катились по ночным улицам, казавшимся такими пустынными, когда смолк веселый дневной шум. Копыта лошадей стучали о мощенную камнем мостовую, и далеко разносилось эхо. Я прислонилась усталой головой к плечу Виктора. Оно оказалось таким же шероховатым и честным, как сам Виктор.
— Не переживай, Кати, — сказал он у двери нашего с Евой номера. — Со временем вырастут розы! По крайней мере для некоторых!
* * *
Когда я вошла, Ева спала, улыбаясь во сне.
XIX

— Я кое о чем должна с тобой поговорить, — сказала мне на следующее утро Ева. — Но ты не узнаешь ничего, пока мы не приедем в Сорренто!
[194] Готовься!
Я молча кивнула. Вот как, значит, в Сорренто я получу милостивую поддержку! Мы будем там сегодня вечером, а уж столько-то времени я смогу потерпеть. Никакого сюрприза я не ожидала, я слишком хорошо знала, что она собирается мне сказать, но интересно посмотреть,
как она думает это сказать и
как объяснить то, что она так подло обманывала меня. Я испытующе глянула на нее. Она стояла наклонившись возле балконной двери и расчесывала щеткой свои белокурые волосы. Они спадали ей на лицо, словно золотая грива. Она весело насвистывала. Неужели ее ни капельки не мучит, что она причинит мне страшную боль? Неужели она так искренне радуется, что ей удалось отбить у меня Леннарта, и она уже больше ни на что не обращает внимания? Кажется, так и есть!
Я начала укладывать свои платья и туалетные принадлежности. На сердце у меня было тяжело, а руки двигались неохотно, и поэтому все шло очень медленно. Казалось, будто у меня никогда не было более тяжелой работы. Я очень мало спала этой ночью, я устала, и каждое движение стоило мне огромного напряжения. В конце концов Ева заметила: что-то неладно!
— Что с тобой? — спросила она. — Ты расстроена?
«Ты расстроена?» — спросил ястреб куропатку.
Расстроена ли я? Нужно было совсем другое слово, чтобы определить мое состояние. Слово, которого нет в словаре, что-то ужасное и душераздирающее. Я не ответила Еве. Но она вдруг оказалась совсем рядом со мной, нежно поцеловала в щеку и спросила:
— Бедное дитя, неужели тебе было
так скучно вчера вечером с Виктором?
— А ты, как у тебя с головной болью? — не смогла я удержаться от вопроса.
Она таинственно засмеялась.
— Боль совершенно прошла, — сказала она.
Затем быстро отобрала у меня платье, которое я собиралась положить в сумку, и сказала:
— Давай я упакую, это будет быстрее!
Через несколько минут она уложила вещи в сумку. Все так быстро — у нее все в руках спорилось. И она все время пела во весь голос:
«Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day!»[195]
Увы, разделить ее мнение было некому. Я стояла совсем вялая, опустив руки, и ждала, когда она закончит.
Потом мы взяли сумки и спустились вниз в холл, где уже все собрались. Ева, игриво толкнув меня в бок, сказала:
— Через несколько часов мы увидим Неаполь, а потом умрем, разве это не чудесно?
«Да, это было бы чудесно», — призналась я самой себе. По крайней мере если можно было бы перепрыгнуть через Неаполь и поскорее умереть.
* * *
Да! Увидев этот город, веселее не станешь! Разумеется, вид на Неаполитанский морской залив — словно дивный сон, а Средиземное море — ярко-голубое чудо, которое я увидела в первый раз. Но я увидела столько всего другого, вселившего в меня еще большую печаль. Бледные истощенные дети, бледные истощенные матери, грязь, бедность и беззастенчивое нищенство, корни которого — в подлинной нужде. Матери, взывая к нашему милосердию, демонстрируют своих грязных, покрытых струпьями младенцев, торговцы с безумным упрямством пытаются всучить нам свои побрякушки. То была Италия бедноты, какую мы еще не встречали.
И надо всем этим светило ясное, срывающее все покровы солнце Божье. Стираное белье, висевшее длинными рядами перед окнами и поперек улиц, выглядело еще более грязно-серым при свете солнца, дети — еще более бледными, а грязь выступала еще отчетливее. На тротуаре лежал лицом вниз человек, вкушавший послеполуденный сон, — он выглядел на солнце еще более бедным и несчастным, как и двое рабочих, что, сидя на краю тротуара, ели скудный завтрак — кусок хлеба. Что толку смотреть на прекраснейшую панораму Земли, если тебе нечего есть?! Голод, должно быть, легче переносить в каком-нибудь по-настоящему уродливом и отпугивающем месте, потому что тогда по крайней мере не видишь такого множества упитанных туристов.
Мы и в самом деле
питались. Мы ели и пили столько, сколько могли впихнуть в себя: ризотто, котлеты, сыр, фрукты, мы пили вино в ресторане на открытом
_ воздухе, под гигантским солнечным тентом внизу в гавани. И все время поблизости стояли голодные люди. Не говоря уже о голодных кошках! Они бегали под столами, терлись о наши ноги и мяукали так чудовищно, что мы едва слышали собственные голоса.
Но шум вокруг стоял не только от кошек. Мне еще никогда не приходилось проводить ленч в более оживленном месте.
— Этот ресторан не назовешь «Тихая Мари»! — сказала я Еве, и она с этим согласилась.
Очевидно, ресторан был расположен в самом центре очень важной магистрали, потому что половина населения Неаполя сновала между столиками. Торговцы устрицами, цветочницы, уличные фотографы теснились вокруг и, громко крича, предлагали свои услуги.
— Если бы мне пришлось здесь питаться некоторое время, я бы заболел язвой желудка, — сказал господин Густафссон.
Но это были только цветочки! Он сказал это еще до того, как заиграл оркестр.
Должно быть, в Италии нет закона, запрещающего шуметь. Рядом, отделенный от нашего только шпалерой
[196], находился другой ресторан. Точно так же битком набитый кошками, торговцами, уличными фотографами и второй половиной населения Неаполя. И там тоже играл оркестр! Оба ресторана были злейшими конкурентами, а их оркестры вели друг с другом благородное соревнование. Так получилось, что, едва наш оркестр заиграл «Санта-Лючия» так, что эхо разносилось над Неаполитанским заливом, тут же вступил другой оркестр с мелодией «О мое солнце!», да так, что Везувий
[197] начал содрогаться. Оба солиста, чтобы перекричать друг друга, пели до посинения. Кошки мяукали, торговцы кричали, уличные фотографы щелкали затворами. Население Неаполя беззаботно сновало между столиками туда-сюда, и все это под дикое пение, возносившееся к небесам.
— Здесь по крайней мере хоть что-то получаешь за свои деньги, — устало сказала Ева и уронила косточку.
* * *
Подумать только! Живешь и достигаешь совершеннолетия, не зная, что на свете есть Сорренто! Конечно, слышишь о нем, но не испытываешь при этом томления в груди.
После поездки в Италию никто не сможет сказать в моем присутствии «Сорренто» без того, чтобы воздух не начинал мерцать вокруг меня, а сладостные голоса звать издалека… Так что я застываю как потерянная на месте и только
вспоминаю.
Я поднялась на борт белого парохода в гавани Неаполя, не подозревая, что направляюсь в райские кущи. О, конечно, это было красиво, и наш белый пароход, и ярко-голубое море, сверкающее на солнце! И там виднелись хорошо известный конус Везувия, и скалистый обрывистый силуэт острова Капри
[198], и высокие отвесные черные стены полуострова Сорренто.
Но я не знала, что направляюсь в райские кущи. Я вообще ничего не знала. Это произошло позднее, когда мы с Евой стояли на террасе отеля, где росли большие платаны. Словно птичье гнездо, прилепился отель к самой вершине скалы, и далеко-далеко внизу у подножия обрывистого горного склона слышалось, как вздыхает Средиземное море. Волны тихо бились о скалу, нашептывая нам свои древние тайны. Напротив нас, по другую сторону залива, вздымал свою голову к небу Везувий, а небо на закате мерцало, переливаясь разными цветами — бирюзовым и розовым, сизым и фисташковым. Сумерки наступили быстро, и по другую сторону вод длинной сверкающей цепью начали зажигаться огни Неаполя. Оттуда внизу скользили к причалу рыбачьи лодки. С нашей вышины они казались игрушечными корабликами, брошенными и забытыми каким-то маленьким мальчиком, уставшим от игр. Рыбаки в лодках перекликались, и голоса их в вечерней тишине слышались так близко, словно они стояли рядом с нами.
Счастлива я была или несчастна? Трудно быть
по-настоящему несчастной, если Земля преподносит своим горюющим детям такие пейзажи!
Ева в белом платье тихо стояла на террасе, перегнувшись через перила. Задумчивым взглядом смотрела она вниз на рыбачьи лодки. А может, глаза ее были печальны? А может, несмотря на все, она грустила, что вскоре ей придется уничтожить для меня всю прелесть этого чудесного вечера?
— Ева, — дрожащим голосом спросила я, — Леннарт очень влюблен в тебя?
Она вздрогнула, сердито повернулась ко мне и прошипела:
— Будь любезна, повтори еще раз, что ты сказала!
— Я имею в виду только… — заикаясь, начала я, — я имею в виду, что если ты и он… если все между вами решено, то…
Ева подбоченилась и нахмурила брови.
— На твоем месте я обратилась бы к врачу, — заявила она. — Тебе еще не мерещатся маленькие белые крольчата или, может быть, ты мнишь себя Наполеоном?
— О Ева! — в отчаянии воскликнула я. — Ведь я видела вас вчера вечером в погребке, в «Ульпии»!
— Ну и что?!
— Я поняла… — пролепетала я. — Я думала, что..
— Ты поняла, и ты думала… — повторила Ева. — Воистину ничего хорошего не бывает, когда такие эксцентричные девчонки, как ты, начинают думать! Думать буду я!
— Но почему ты мне соврала, что у тебя болит голова?
— У меня и вправду
болела голова! Я чувствовала, что сойду с ума, если проведу целый вечер с Виктором Мальмином. Но через две минуты после вашего ухода позвонил Леннарт. А что делает в таком случае истинная подруга? Да еще когда видит, как ты каждый день в Риме вздыхаешь о нем? И не знаешь, где искать тебя именно сейчас? Упустить парня, бросив все на произвол судьбы, не зная, когда увидишь его в следующий раз? Ну нет! Кто угодно поступил бы так, только не такая разумная девушка, как я. Я иду с ним в «Ульпию»! Сижу там целый вечер с головной болью и рассказываю самые восхитительные истории о Кати! И ни единого слова о том, какая она вообще-то редкостная дуреха!
Я бросилась к ней на шею, вперемешку смеясь и плача.
— Прости меня, прости! — всхлипывала я.
Мне казалось, что я пробудилась от кошмарного сна. Во всяком случае, даже если я никогда больше не увижу Леннарта, Ева по-прежнему останется моей подругой. В ту минуту это казалось мне важнее всего на свете!
Но когда я подумала о том, что
могла встретиться с Леннартом, если бы не пошла с Виктором Мальмином, что я, быть может, утратила из-за него свой единственный великий шанс в жизни ради того, чтобы увидеть с Виктором Рим
by night, меня охватил глубокий и несправедливый гнев.
— Ева, я ненавижу Виктора! — воскликнула я. — Я ненавижу его! Он разбил мне жизнь!
— Так я и думала, — сказала Ева. — Я понимала, что ты ополчишься на доброго несчастного Виктора! Поэтому я не хотела рассказывать тебе о Леннарте, пока мы не приедем сюда.
— С твоей стороны это было разумно, — согласилась я. — Здесь такие прекрасные крутые скалы. Я столкну Виктора в Средиземное море!
— Ну, я думаю, ты простишь Виктора, когда снова встретишься с Леннартом.
— Я
никогда не встречусь с Леннартом, — вздохнула я.
— Ты так думаешь? — спросила Ева. — Если зрение мне не изменяет, он уже здесь.
Я обернулась. Кто-то шел по террасе. Совершенно верно! Это был Леннарт!
XX

Раннее утро на берегу Средиземного моря.
— Мне нравится твой затылок, — сказал Леннарт. — Он такой детский!
Я лежала на животе на причале, освещенная утренним солнцем, а Леннарт лежал рядом со мной. Только мы двое, больше никого. Высоко наверху, в отеле, все, наверное, еще спали. Ева, разумеется, бодрствовала. Сидя на террасе, она пила кофе, деликатно оставив нас с Леннартом вдвоем.
— Но как только Виктор Мальмин проснется, я спущусь к вам, — пригрозила она, перед тем как я в одном купальнике ринулась по крутой скалистой тропке вниз к причалу. — Даю тебе один час наедине с Леннартом. На большее не рассчитывай. Я приехала сюда купаться, пусть даже рядом со мной находится пара влюбленных!
Но сейчас, этим ранним утром на берегу Средиземного моря, я была наедине с Леннартом и осторожно покусывала свою руку, еще покрытую каплями соленой воды, чтобы убедиться: это не сон! Леннарту нравится мой затылок. Ужасно, что он разбирает меня по косточкам! Сначала ушки, а теперь затылок… Если я буду жива и здорова, я, может быть, смогу довести его до того, чтобы понравиться ему целиком. Но видимо, это произойдет поэтапно.
Некоторое время я лежала молча, непрерывно и очень сильно ощущая и Леннарта рядом, и солнечное тепло, и запах соленой воды, и исключительное преимущество того, что у меня детский затылок! Наверное, такой затылок редкость, раз он понравился Леннарту.
— Ты не удивилась, когда я вынырнул и здесь, в Сорренто? — спросил Леннарт. — О чем ты подумала, когда увидела меня вчера вечером?
Не могла же я сказать ему, что чуть не упала в обморок от восторга, хотя, вероятно, именно это он и желал услышать. Я только ответила:
— Что думают в таких случаях… «Мир тесен» или что-нибудь в этом роде.
— Как тебе не стыдно, Кати! — возмутился Леннарт. — И это благодарность за то, что я совершенно изменил свой план путешествия?
Сердце мое забилось. Неужели он и вправду взял на себя труд приехать сюда только ради меня?
— Зачем ты это сделал? Зачем изменил свой план путешествия? — с надеждой спросила я.
— Ева уговорила меня, — ответил он. — Мы были в погребке «Ульпия», как ты, вероятно, слышала. Но ты посвятила себя в это время некоему Мальмину.
Ах вот что! Его уговорила Ева! Интересно, больших ли трудов ей это стоило? Похоже, Леннарт отгадал мои мысли, потому что сказал:
— Вообще-то очень уж долго уговаривать меня не пришлось! Я подумал, что очень приятно было бы снова увидеть тебя. Ну и Везувий, конечно, тоже! Прежде всего Везувий!
— Спасибо, Леннарт! — поблагодарила я.
Затем мы снова помолчали. А я думала о необыкновенном явлении, имя которому — «Леннарт».
Как получилось, что я с первого взгляда так беспомощно влюбилась в него? Во-первых, в нем чувствовалась уверенность. Да, в нем были уверенность и дружелюбие, которые сразу бросались в глаза. В то же время он был чуточку надменным, немного насмешливым, и хотя рядом с ним я чувствовала себя маленькой-премаленькой, но тоже личностью.
Я сравнивала его с Яном. И Ян был надменным, но по-другому, словно он все время хотел тебя осадить, поставить на место. Он часто ругал меня и всегда хотел, чтобы я была другой, а не такой, какая я есть. Но все-таки иногда я могла обращаться с ним свысока, и он этому не противился. Я могла быть злой и отвратительной, не опасаясь никаких последствий. А ведь ничто так не опасно, как сознание, что ты можешь плохо с кем-то обращаться безнаказанно. С Леннартом это бы не прошло, я в этом убеждена. Никто не мог бы оседлать его. И ему никогда не надо было кого-то ругать. Он был спокоен и, само собой разумеется, дружелюбен и к себе требовал точно такого же отношения. Он был довольно скрытный, не очень распространялся о самом себе, но постоянно выказывал трогательный интерес ко всему, что рассказывала я, к самым мелочам. Поэтому я любила его. И еще мне нравились его глаза, и его рот, и его руки… Боже мой, теперь я тоже, кажется, начинаю разбирать
его по косточкам.
Явилась Ева и прервала мои размышления.
— Виктор Мальмин проснулся, — угрюмо сказала она и нырнула в Средиземное море с головой.
— Хорошо, Кати, — сказал Леннарт, — тогда тебе лучше пойти и позаботиться о нем!
* * *
По вечерам мы сидели на пьяцце.
— Почему у нас нет никаких пьяцц в Швеции? — удивлялась Ева. — Такой вот по-домашнему уютной маленькой рыночной площади — восхитительной общей комнаты всего города, где встречаются, благоденствуют и общаются.
— Совершенно верно! — подхватил Леннарт. — Это для нас самое нужное. Наши рыночные площади, похоже, созданы только для того, чтобы внушать людям страх. Пришлите сюда несколько шведских архитекторов, чтобы они поучились.
«Например, Яна, — подумала я. — А потом он сможет вернуться домой и построить кое-где пьяццы с маленькими веселыми ресторанчиками и тенистыми деревьями, где люди смогут наслаждаться жизнью».
Может быть, и не очень-то приятно сидеть на пьяцце в Сундбюберге
[199], когда метель и ветер в тридцать баллов, но ведь выдаются иногда весенние солнечные дни и теплые летние вечера. Я всегда ужасно раздражала Яна разговорами о том, что современное градостроительство Швеции неприятно своим однообразием и действует на нервы людям, вынужденным жить в этой стране, оно просто убийственно и уничтожает всякую радость. И когда теперь я видела чудесную способность итальянцев все так живописно и уютно устраивать, я понимала, что права. Посмотрите хотя бы на этот маленький городок с его пьяццей, узкими проулками и веселыми магазинчиками и планом, не начерченным по линейке, а дающим простор воображению, с неожиданными поворотами то тут, то там. Не удивительно ли, что здесь так весело просто бродить? И не удивительно ли, что так уютно сидеть на пьяцце, где все собирались в вечерних сумерках и где наш друг Геркуланум с добрыми глазами подавал нам кофе.
Неподалеку от пьяццы Геркуланум и его братья Помпей и Везувий (имена в Италии тоже весьма живописны; и почему людей в Швеции зовут только «Калле»?) держали магазинчик. Из этого магазинчика он и снабжал кафе продуктами. Случалось, мы являлись на пьяццу посреди ночи, когда обслуживание уже прекращалось. Но тут из какого-то темного угла — всегда стремительно — появлялся Геркуланум и снова расставлял столики и спрашивал, что нам угодно. Времени закрытия кафе не существовало.
В эти беззаботные дни в Сорренто времени вообще не существовало! По крайней мере для меня. Я скользила «по волнам жизни», ни о чем не думая и не считая дней и часов. Мы купались у причала; мы загорали, сидя на террасе; мы, лениво качаясь, ездили по улицам в древних дрожках, которые тянули украшенные кисточками лошади; мы заходили в маленькие темные лавчонки и покупали совершенно ненужные нам вышитые вручную носовые платки и портсигары; мы нанимали лодку и плыли на Капри — чтобы взглянуть на Голубой грот. А по вечерам танцевали на террасе при свете звезд. Я танцевала с Леннартом, и сердце мое колотилось так громко, что мне казалось, люди должны были бы жаловаться
на невероятный шум. Я танцевала под звездами, и, когда музыка замолкала, я слышала там, внизу, вечное бормотание моря. И я сидела в темноте под платанами рядом с Леннартом, и слушала, как плещутся волны, и смотрела на цепь сверкающих огней Неаполя, и я полностью разделяла мнение Фриды Стрёмберг, когда она в сотый раз повторяла:
— Милые вы мои люди, до чего ж это чудесно!
Но один день стал последним. В райских кущах никогда не остаются надолго.
«День, равный всей жизни!» Я знаю человека, сделавшего эти слова своим кредо. Именно так я и чувствовала себя в свой самый последний из несравненных дней в Сорренто, которые никогда больше не повторятся.
Завтра я вернусь домой, к будням и осенней мгле. Путешествие окончено! Фру Берг вернется домой к своей недвижимости, Фрида Стрёмберг — к своей плите в пансионате, Виктор Мальмин — к своему совершенно одинокому существованию — без Евы. Господин Густафссон вернется тоже домой — к своему шефу.
— Он ничегошеньки не смыслит в луковицах тюльпанов! — уверял нас господин Густафссон и плевал в Средиземное море.
Его последний день в Сорренто был основательно омрачен мыслью о том, как мало из всего самого важного в этом мире понимает его шеф.
Я не желала, чтобы хоть что-нибудь омрачило
мой последний день в Италии. Но меня грызло беспокойство. Ведь речь шла о Леннарте, и мне не оставалось ничего, «кроме редких встреч и спешных расставаний». Это было все равно что катание на американских горках: вверх-вниз, от блаженства к отчаянию.
Все, чем я жила теперь, была крошечная надежда, что мы снова встретимся в Стокгольме. Но кто может с уверенностью предсказать это? Для Леннарта наша встреча была, возможно, лишь легким развлечением во время отпуска, которое он быстро забудет. Он не произнес ни единого слова, позволившего бы мне думать иначе. Поэтому так тяжело было пережить этот последний день.
Мы провели его, прощаясь со всеми милыми людьми и дорогими нам памятными местами, а когда настал вечер, мы с Леннартом и Евой уселись под платанами. Неподалеку от нас расположились Виктор Мальмин и другие. Виктор был ужасно весел. Он острил и рассказывал разные истории. Фрида Стрёмберг просто вскрикивала от смеха. Даже фру Берг пребывала в необыкновенно хорошем настроении. Вероятно, потому, что этому трудному путешествию скоро настанет конец. Однако господин Густафссон сидел особняком, и вид у него был очень унылый. Я испытывала чувство глубочайшей солидарности с ним. Я тоже ощущала страшное уныние.
Рассказы Виктора становились все веселее и веселее. Вдруг он смолк, но продолжал тихо сидеть на террасе; виден был лишь кончик его сигары, рдевший во мраке.
Иногда я думаю — может быть, Ева в глубине души немного садистка? Хотя она так добра! Она вдруг запела — медленно и чуточку отрешенно: «Протяни мне на прощание еще раз свои руки…»
Тогда Виктор Мальмин поднялся и исчез.
И я, зная, что руки Леннарта через несколько жалких часов протянутся мне на прощание, тоже не выдержала. Я поднялась и побежала, никому ничего не объяснив. Мне надо было немного побыть одной. Я ринулась вдоль скалистого склона вниз к причалу.
—
Виопа sera![200] — поздоровался молодой итальянец, стороживший у причала и наблюдавший за купающимися. Вниз к воде вела лесенка, но после наступления темноты, когда никто больше не купался, ее поднимали. Именно этим он сейчас и занимался.
Но я остановила его. Я хотела спуститься вниз, в черную манящую воду. Нет, топиться я не собиралась. Но мне хотелось искупаться. Я хотела в последний раз искупаться в Средиземном море. Мой купальник висел на перилах. Он был влажный и холодный. Но вода сомкнулась вокруг меня, словно теплое объятие.
* * *
«День, равный всей жизни!»
Море было подернуто легкой зыбью. Я слабо качалась, лежа на спине, и смотрела на звезды. Мое лицо было залито соленой водой, и я не знаю, было это Средиземное море или мои слезы.
Вверху на причале ходил сторож и, вероятно, удивлялся, что я за дура. Я видела, как беспокойно движется взад-вперед его черная тень. Он, видимо, хотел поднять лесенку и уйти.
Еще несколько минут, мой добросовестный друг! Тебе ведь понятно, что мне, возможно, больше никогда уже не плавать в Средиземном море! Никогда больше не увидеть сверкающую цепь огней — Неаполь! Никогда не услышать, как глухо бьются волны о скалистые берега Сорренто. Понимаешь, этот день равен всей моей короткой жизни!
Ну а что теперь? Не собирается же он влезть в воду и выудить меня? Кто-то спускается по лесенке! О, эти пламенные итальянцы!
Не подходи, потому что тогда, клянусь, я поплыву через залив в Неаполь! Говорю тебе, не подходи!
И тут до меня донесся хорошо знакомый голос:
— Кати, можно сказать тебе одно слово, прежде чем ты утопишься?
Ах, это вовсе не сторож-итальянец! Это Леннарт! Да,
это был Леннарт!
XXI

«Леннарт, мой любимый!
Я люблю тебя! Я должна воспользоваться случаем и сказать об этом, пока помню. Это мое первое письмо к тебе, и было бы так нехорошо, если бы я забыла сказать, что люблю тебя. Хочешь знать как? О, это не так-то легко точно определить! Любовь нельзя измерить и взвесить так, как измеряет и взвешивает в воскресенье свой богатый улов рыбак, хвастаясь им. Но одно, во всяком случае, могу тебе сказать: я
удивлена тем, что столько любви умещается в груди одного-единственного человека. Тем более такого небольшого, как я.
Помнишь ли ты старого злющего императора Тиберия
[201], который, сидя на Капри, управлял Римским государством, приказывая передавать свои указы с одной горной вершины на другую между Капри и Римом?
Точно так же хотела бы поступить и я. Я хотела бы встать на вершине высокой горы и передать свое пламенное послание: „Я люблю тебя!“ И оттуда оно пошло бы все дальше и дальше по всей земле. Его выкрикивали бы на Монблане
[202] и на Гауришанкаре
[203], на Килиманджаро
[204] и в Скалистых горах
[205] и на Фудзияме
[206]: „Я люблю тебя!“ А сидеть всего-навсего здесь и чертить эти слова в письме — такое жалкое занятие. Письмо, которое бросят в прозаический почтовый ящик, поставят на нем штемпель и с нагоняющим тоску равнодушием передадут Королевскому почтовому ведомству! А я бы хотела по меньшей мере послать облаченного в пурпур герольда, который возвестил бы тебе под звуки труб: „Я люблю тебя!“
Понимаешь ли ты меня теперь или хочешь знать еще больше? Тогда послушай, и ты поймешь, как плохи мои дела.
Я думаю о тебе каждую минуту днем, и ты — в моих беспокойных снах ночью! Ложась спать вечером, я говорю подушке: „Леннарт!“ Проходя мимо коня пивовара, я шепчу ему в ухо: „Леннарт!“ Сидя за пишущей машинкой и печатая контракт, я все время думаю: „Леннарт, Леннарт, Леннарт!“
Разрешается ли любить кого-нибудь так сильно, или же это наказание, ниспосланное человеку? Уж не думаешь ли ты, что боги гневаются на меня и отнимут тебя у меня? О всевышние боги, не делайте этого, добрые, добрые боги, потому что вы даже не представляете себе, как трудно мне достался Леннарт! Он так сопротивлялся! У него такое вялое, старое сердце… Понадобилось целых три недели, прежде чем оно встрепенулось, а мне из-за Леннарта пришлось броситься в море!
Леннарт, я не знаю ни одной другой девушки, которая обручилась бы прямо в Средиземном море. А
ты знаешь такую? Я так рада этому обручению! Если какому-нибудь журналисту придет в голову проинтервьюировать меня и задать вопрос: „Когда и где ваш жених просил вашей руки?“ — как надменно я отвечу: „Когда я плавала в Средиземном море!“ Согласись, что это неповторимо!
„Кати, я как раз собирался уговорить тебя выйти за меня замуж, но не знаю, с чего начать! У тебя есть какое-нибудь предложение?“
Это сказал ты. Я сохраню эти слова в памяти до конца своей жизни. Пожалуй, это не очень походило на объяснение в любви, но в моих ушах твои слова прозвучали прекрасней, чем „Песнь Песней“
[207] и все прочие прославленные гимны любви, вместе взятые.
Я сижу и смотрю на мое колечко. У бирюзы сейчас тот же цвет, что у неба над Флоренцией в тот день, когда я впервые увидела это кольцо. Я смотрю на него, и дождливый Стокгольм исчезает. Я мысленно возвращаюсь в маленький ювелирный магазинчик у Ponte Vecchio, а ты стоишь за моей спиной и насмешливо говоришь: „Кричи громче, Кати!..“ А теперь я спрашиваю тебя, Леннарт Сундман: зачем ты потом пошел туда и купил именно это кольцо? Ты уже тогда знал, что я — та, кому ты хотел бы его подарить? Если ты ответишь „да!“, я никогда не прощу тебе! Я никогда не прощу тебе, что ты без всякой необходимости, не подарив мне ни единого слова надежды, заставил меня проехать всю Италию!
Ну погоди, ты будешь наказан за это! Я буду кормить тебя каждый день на обед отварной треской! Так я думаю. Да, да, я еще посмотрю, что я сделаю!
Сегодня в Стокгольме идет дождь. Он стучит в окно, на дворе осень! Справедливо ли, что ты все еще греешься на солнце в Италии? Конечно, несправедливо! Но я рада, что солнце светит тебе, мой любимый! Если бы я могла достать для тебя с неба солнце, луну и звезды, я бы это сделала! Нет ничего на свете, чего бы я не хотела сделать для тебя! Подумав хорошенько, я готова взять обратно свои слова об отварной треске. Как по-твоему, тогда ты будешь счастлив со мной?
Надо быть влюбленной вечно, так сказала я Еве вчера вечером. Знаешь, что она ответила? „Так думал и Оскар Уайльд
[208]. Поэтому никогда не надо жениться и выходить замуж“.
Этот ужасный Уайльд! Не появляйся здесь и не пытайся испортить мое веселое настроение! Я надеюсь с Божьей помощью быть влюбленной, пока жива! Понимаю, что нельзя всегда испытывать такие чувства, какие я переживаю теперь, но кое-что из моих восторгов я хочу спасти и пронести через годы. Обещаю любить тебя, Леннарт, в беде и в радости, даже если это будет утомительно. Не обещаю быть твоей смиренной верноподданной, этого я не сумею! Но в какой-то степени милой и откровенной с тобой — обязуюсь! Достаточно тебе этого? Да, думаю, достаточно! К черту Оскара Уайльда! Я не боюсь!
Одна итальянская пословица гласит: „Мало говорит тот, кто сильно любит!“ А я сижу тут и болтаю без конца. Обещаю в дальнейшем писать только самое необходимое: „Я люблю тебя!“
Ева печет на кухне вафли. Я чувствую запах даже в комнате. Пора заканчивать письмо, потому что мне нужно сварить к вафлям кофе.
Почему тебя нет здесь именно сейчас? Возвращайся домой, мой любимый! Кати с улицы Каптенсгатан имеет честь пригласить Леннарта из Помпеи в субботу через восемь дней на простое блюдо из отварной трески!
А до тех пор будь осторожен! Если увидишь какой-нибудь вулкан, который начинает извергаться, обойди его подальше стороной — ради меня! У меня ведь на всем свете есть только ты!
Кати
P. S. Знаешь что? Я люблю тебя!»
Примечания
1
В одном из центральных районов Стокгольма — Эстермальме.
(обратно)
2
Один из центральных островов Стокгольма, также район Эстермальма.
(обратно)
3
Прутик ивы, проволока и прочие предметы, указывающие «лозоходцу», где рыть колодец.
(обратно)
4
И если я любила вас в среду,
Это прекрасно, но что из того!
Я разлюблю вас уже в четверг,
И это абсолютно верно!
(англ.)
(обратно)
5
Городок в Западной Швеции. Символ маленького городка, где никогда ничего не случается.
(обратно)
6
Дрейфус Адольф (1859–1935) — офицер французского генерального штаба, против которого в 1894 г. было сфабриковано дело по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Приговорен к пожизненной каторге и поселению на Чертовом острове в Карибском море. Помилован в 1899 г. под давлением общественного мнения.
(обратно)
7
В центре Стокгольма, в Васастане.
(обратно)
8
Госпожа
(шв.).
(обратно)
9
Карл XIV Юхан (1763–1844) — шведский король (1818–1844), основатель династии Бернадотов. Был маршалом Франции. В 1810 г. уволен Наполеоном и избран наследником шведского престола.
(обратно)
10
Одна из центральных улиц Стокгольма.
(обратно)
11
Остров, на котором расположен Скансен — этнографический Музей под открытым небом.
(обратно)
12
Главная роль в одноименной пьесе Августа Юхана Стриндберга (1849–1912), известнейшего шведского писателя.
(обратно)
13
Дворец, построенный шведским королем Карлом XIV Юханом.
(обратно)
14
Йердет — поле в Эстермальме, где проходили военные маневры.
(обратно)
15
Название известной повести (1924) крупного шведского писателя Биргера Шёберга (1885–1929).
(обратно)
16
Белл Александер Грейам (1847–1922) — один из изобретателей телефона, шотландец, живший с 1871 г. в США.
(обратно)
17
Их намерения замечают и расстраиваются
(нем.).
(обратно)
18
Иов — благочестивый и богобоязненный человек. Господь, желая испытать его, послал ему великие страдания, но Иов не терял веры в Него.
(обратно)
19
Мальорка (Майорка) — остров в Средиземном море, самый Крупный из Балеарских островов, территория Испании.
(обратно)
20
Имеется в виду персонаж романа немецкого писателя Ганса Фаллады (1893–1947) «Что же дальше, маленький человек?» (1932).
(обратно)
21
Возможно, персонаж романа датского писателя Мартина Андерсена Нексе (1869–1954) «Дитте — дитя человеческое» (1917–1921)
(обратно)
22
Остров в Балтийском море, у восточного побережья Швеции.
(обратно)
23
Город в шведском лене Гётеборг-Бохус.
(обратно)
24
В центре Стокгольма.
(обратно)
25
Берцелиус Йенс Якоб (1779–1848) — шведский химик и Минералог. Парк находится у Драматического театра.
(обратно)
26
Известный ресторан, где собираются писатели, художники, артисты, описанный в романе Стриндберга «Красная комната» (1879).
(обратно)
27
В воскресенье большинство магазинов в Швеции закрыто.
(обратно)
28
Ты задним умом крепка
(фр.).
(обратно)
29
Банк, который переводит клиентам деньги по почте.
(обратно)
30
Один из островов Стокгольмского архипелага.
(обратно)
31
Улица, ведущая от Юргордена в центр.
(обратно)
32
Больница около Васастана.
(обратно)
33
Известный датский цирк, регулярно весной приезжающий на гастроли в Швецию.
(обратно)
34
Алые розы для синей леди
(англ.). Игра слов: «blue» означает и «синяя», и «печальная».
(обратно)
35
Футбольная команда с юга Швеции.
(обратно)
36
Южная провинция Швеции.
(обратно)
37
Карлссон — очень распространенная фамилия в Швеции.
(обратно)
38
Площадь
(ит).
(обратно)
39
Рыцарь Печального Образа — так называл героя своего великого романа «Дон Кихот» испанский писатель Мигель Сервантес де Сааведра (1547–1616). Впоследствии это стало именем нарицательным.
(обратно)
40
Ренессанс — период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы (XIV–XVI вв.).
(обратно)
41
Большой центр с ресторанами и кафе во Фредриксхавне, где есть и комнаты Драхмана.
Драхмап Хольгер (1846–1908) — датский лирик, прозаик и драматург. Ресторан Драхмана оформлен в стиле 2-й половины XIX в.
(обратно)
42
Бельман Карл Микаэль (1740–1795) — знаменитый шведский поэт, автор застольных песен «Послания Фредмама» (1790), «Песни Фредмана» (1791).
(обратно)
43
Системы подземных помещений, обычно искусственного происхождения, служившие в древности убежищем для христиан и захоронений.
(обратно)
44
Форум — в Древнем Риме рыночная площадь, ставшая центром политической жизни. Главный форум Рима — Форум Романум, развиваясь с VI в. до н. э., превратился в парадный архитектурный ансамбль.
(обратно)
45
Парк со всевозможными аттракционами в Дании и Швеции. В Копенгагене — в центре города, близ железнодорожного вокзала и ратуши. Парк Тиволи был основан в 1843 г. лейтенантом Георгом Карстенсеном.
(обратно)
46
Портовый район города, пользовавшийся дурной славой еще в 1940-е гг.
(обратно)
47
Шелковая ткань с поперечными рубчиками.
(обратно)
48
Популярное трио американской эстрады.
(обратно)
49
Друг и соратник Шерлока Холмса, героя многочисленных Детективных произведений английского писателя Артура Конан Дойла (1859–1930). Зд.: как имя нарицательное в значении «сыщик-любитель».
(обратно)
50
До недавнего времени между городками Корсёр (остров Зеландия) и Нюборг (Фюн) ходил большой железнодорожный паром. Сейчас над центральным датским проливом Большой Бельт, соединяющим Балтийское море с проливом Каттегат, построен огромный красивый мост, значительно сокративший время проезда.
(обратно)
51
Петерсен Сторм (1882–1949) — датский писатель-юморист и художник.
(обратно)
52
Преподаватель гимназии.
(обратно)
53
Кильский канал (Норд-Остзе канал). — канал в Германии, соединяет Балтийское и Северное моря. Открыт в 1895 г.
(обратно)
54
Знаменитая картинная галерея во Флоренции, в основу которой легла часть художественной коллекции семейства Медичи — фактических правителей Флоренции с 1434 по 1737 г. Крупнейшее собрание искусства эпохи Возрождения и западноевропейской живописи и графики. Здание 1560–1585 гг., архитектор Джорджо Вазари (1511–1574). С 1737 г. галерея Уффици открыта для всех желающих.
(обратно)
55
Железнодорожный туннель в Альпах, в Швейцарии, длина около 15 км.
(обратно)
56
Линдгрен абсолютно права: достаточно вспомнить такие достопримечательности этого города, как знаменитый готический собор (XIV–XIX вв.), монастырь Санта Мария делла Грацие (XV в.), в трапезной которого — роспись «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи (1452–1519), а также прославленный оперный театр «Ла Скала».
(обратно)
57
Имеется в виду сказка Ханса Кристиана Андерсена «Калоши счастья» (1838).
(обратно)
58
Соборная площадь.
(обратно)
59
В районе ратуши.
(обратно)
60
Центр Стокгольма, в районе улицы Кунгсгатан.
(обратно)
61
Кампари — сухой итальянский аперитив с чуть горьковатым привкусом.
(обратно)
62
Слишком много!
(ит.)
(обратно)
63
Мадонна (букв.: моя госпожа
(ит.) — Богоматерь у католиков, а также Ее изображение в произведениях западноевропейских художников и скульпторов.
(обратно)
64
В библейской мифологии страна, где обитали до грехопадения Адам и Ева; синоним рая.
(обратно)
65
Неф (букв.: корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно базилики), ограниченная с одной или с обеих сторон рядом колонн или столбов.
(обратно)
66
Бесплатно, бесплатно!
(uт.).
(обратно)
67
Деликатесное блюдо восточной кухни.
(обратно)
68
Телятина под соусом
(ит.)
(обратно)
69
Борджа Чезаре (1475–1507) — сын Папы Александра VI (ок. 1420–1503), был командующим папскими войсками и отличался беспредельной порочностью.
(обратно)
70
Кьянти — сухое тосканское вино.
(обратно)
71
Зд.: обзор витрин
(англ.).
(обратно)
72
Ряд арок, галерея из арок.
(обратно)
73
Площадь перед театром «Ла Скала».
(обратно)
74
Грусть, вызванная пребыванием в пустынных краях.
(обратно)
75
Старое театральное кафе в Галерее, 2-я половина XIX в.
(обратно)
76
Один из диалектов шведского языка. Сконе — южная провинция Швеции.
(обратно)
77
Корабли, что встречаются ночью!
(англ.)
(обратно)
78
Зд.: главная площадь Венеции — Пьяцца-ди-Сан-Марко, площадь Святого Марка.
(обратно)
79
Дож — глава Венецианской и Генуэзской республик (XIV–XVIII вв.).
(обратно)
80
Собор Святого Марка (IX–XV вв.).
(обратно)
81
Главная торговая улица Венеции.
(обратно)
82
Большой канал
(ит.).
(обратно)
83
Климатический курорт на побережье Адриатического моря в Италии, вблизи Венеции.
(обратно)
84
Прекрасная Венеция!
(ит.)
(обратно)
85
Светлейшая
(ит.) — историческое название Венеции.
(обратно)
86
Морской залив, отделенный от моря песчаной косой.
(обратно)
87
Имеется в виду ария Рудольфа «Che gelida manina» («Холодная ручонка») из оперы «Богема» выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858–1924).
(обратно)
88
Башня с Часами
(ит.) — построена в конце XV в. по проекту архитектора Мауро Кадуччи (1440–1504).
(обратно)
89
На крыше Башни с Часами установлена бронзовая скульптурная группа — два варвара в лохматых звериных шкурах ежечасно отбивают время. Так как бронза сильно потемнела, в народе их прозвали маврами.
(обратно)
90
Улица в Старом Городе (или Городе среди Мостов) в Стокгольме, идущая от королевского дворца к Слюссен — Шлюзу — между озером Меларен и Балтийским морем.
(обратно)
91
Время, предшествующее Рождеству и охватывающее четыре воскресенья.
(обратно)
92
Казанова Джакомо (1725–1798) — итальянский писатель и знаменитый авантюрист, запечатлевший в своих произведениях итальянские нравы и собственные любовные приключения.
(обратно)
93
Один из живописнейших ленов Швеции.
(обратно)
94
Трактир, ресторан.
(обратно)
95
Амур (купидон) — в римской мифологии божество любви.
(обратно)
96
Общее социальное страхование, дающее скудные средства к жизни лицу, достигшему пенсионного возраста.
(обратно)
97
Дворцы.
(обратно)
98
Небольшая площадь возле собора Сан Марко.
(обратно)
99
Святой покровитель Венеции. Это одна из трех колонн, вывезешь венецианцами в 1127 г. из Сирии и установленная в 1172 г. на Пьяццетте. Бронзовая скульптура льва (IV в.) превратилась в символ Святого Марка.
(обратно)
100
Небольшой город в лене Стокгольм.
(обратно)
101
Вагнер Рихард (1813–1883) — крупный немецкий композитор, дирижер, реформатор оперы. Большинство его произведений основаны на немецкой национальной мифологии.
(обратно)
102
Мюссе Альфред (1810–1857) — выдающийся французский поэт-романтик, автор цикла меланхолических поэм «Ночи» (1835–1837) и многих элегий.
(обратно)
103
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) — великий английский поэт-романтик, автор множества поэм, в том числе и незаконченной поэмы «Дон Жуан».
(обратно)
104
Опера написана в 1859 г.
(обратно)
105
Соединяет венецианскую тюрьму Пьомби с Дворцом дожей.
(обратно)
106
Тициан Вечеллио (1476 или 1480-е — 1576),
Тинторeтто Якопо (1518–1594),
Веронезе Паоло (1528–1588) — итальянские художники венецианской школы эпохи Возрождения.
(обратно)
107
Возможно, речь идет об одном из семидесяти шести портретов первых дожей, выполненных Тинторетто (большей частью его сыном Доменико) на фризе Зала совета во Дворце дожей.
(обратно)
108
Догаресса — жена дожа.
(обратно)
109
Возможно, имеется в виду Клеопатра (69–30 гг. до н. э.) — последняя царица Египта с 51 г. до н. э., из династии Птолемеев.
(обратно)
110
Генрих VIII (1491–1547) — английский король с 1509 г., из династии Тюдоров.
(обратно)
111
Герой одноименной пьесы великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564–1616).
(обратно)
112
Шекспир У. Венецианский купец. Пер. с англ. И. Б. Мандельштама.
(обратно)
113
Данте А. Божественная комедия. Пер. с ит. М. Лозинского.
(обратно)
114
Поэма «Божественная комедия» (1307–1321) — вершина творчества великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321). Родился и жил во Флоренции и воспел ее.
(обратно)
115
Савонарола Джироламо (1452–1498) — настоятель монастыря Сан Марко. Выступал против тирании Медичи, обличал папство, сжигал произведения искусства. После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 г. способствовал установлению республиканского строя. В 1498 г. казнен.
(обратно)
116
Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — знаменитый итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. Ему принадлежат росписи в церкви Сан Лоренцо во Флоренции, в Сикстинской капелле в римском Ватикане и др.
(обратно)
117
Медичи Лоренцо (1449–1492), прозвище Magnifico — Великолепный, — полновластный правитель (синьор) Флоренции с 1469 г. Меценат и поэт, способствовавший развитию культуры эпохи Возрождения.
(обратно)
118
Одна из областей Италии.
(обратно)
119
Площадь Синьории
(ит.) перед Палаццо Веккьо (Старым дворцом,
ит.) во Флоренции. Синьория — правительство города: совет из девяти человек, существовал с 1293 г.
(обратно)
120
Политические группы XII–XV вв., боровшиеся за господство в Италии. Гвельфы поддерживали Папу Римского, а гибеллины — императора.
(обратно)
121
Мать Лоренцо Великолепного Лукреция происходила из знатной флорентийской семьи Торнабуони, была суровой и властной женщиной. Отец Лоренцо — Пьеро Медичи (умер в 1469) стал главой дома Медичи в 1464 г. после смерти своего отца Козимо Медичи Старшего (1389–1464).
(обратно)
122
История семьи Медичи, особенно великого герцога Тосканского (с 1569 г. Козимо I, Медичи, умер в 1574 г.), изобилует тайнами и трагедиями, среди которых много случаев отравления.
(обратно)
123
Улица в центре города в Васастане.
(обратно)
124
Использование известной итальянской поговорки «Увидеть Неаполь и умереть!», отражающей необыкновенную красоту этого города.
(обратно)
125
«Ад»
(ит.) — первая часть поэмы Данте «Божественная комедия», состоящая из трех частей — «Ад», «Чистилище», «Рай».
(обратно)
126
Этруски — древние племена, населявшие в I в. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (Древняя Этрурия, совр. Тоскана) и создавшие древнюю цивилизацию, предшествующую римской.
(обратно)
127
Небольшой городок возле Флоренции, расположенный на живописном холме.
(обратно)
128
Санта Мария дель Фьоре — собор Святой Девы Марии с цветком лилии в руке
(ит.), XIII в., архитектор Филиппо Брунеллески (1377–1446). Главный собор Флоренции с 1412 г., официально посвященный Святой Марии.
(обратно)
129
Колокольня церкви Санта Кроче — Святого Креста, ок. 1320–1325.
(обратно)
130
Джотто ди Бондоне (1267–1337) — итальянский живописец. Порвав со средневековыми канонами, внес в религиозные сцены земное начало. В церкви Санта Кроче сохранились его великолепные фрески.
(обратно)
131
Мария Медичи — дочь великого герцога Тосканского Козимо I Медичи. Ее портрет написан придворным живописцем Козимо I Медичи — Бронзино Аньоло (1503–1572).
(обратно)
132
Крестильня, помещение для крестин. Флорентийский Баптистерий — выдающееся произведение архитектуры XI–XIII вв. Знаменитые Восточные бронзовые двери — работы скульптора Лоренцо Гиберти (1378–1455) — прозваны в народе «Врата Рая».
(обратно)
133
Понте Веккьо — Старый мост
(ит.) — один из самых древних мостов Флоренции и единственный, на котором по обеим сторонам еще сохранились лавки ювелиров.
(обратно)
134
Трюфель — гриб округлой формы, растущий под землей. Служит приправой к изысканным блюдам.
(обратно)
135
Одна из крупнейших рек Италии.
(обратно)
136
Портинари Беатриче — предположительно, историческое лицо, дочь видного флорентийского гвельфа Фолько Портинари (умер в 1289 г.). Она — любовь и муза Данте, посвятившего ей свои сонеты, страницы автобиографического романа «Новая жизнь» (1292), где проза перемежается стихами. Данте и Беатриче впервые встретились, когда им обоим было около девяти лет.
(обратно)
137
Фра Анджелико (Фра Джованни Да Фьезоле; ок. 1400–1455) — живописец эпохи раннего Возрождения. Особо знамениты проникнутые светлым лиризмом и красочной сказочностью фрески монастыря Сан Марко во Флоренции.
(обратно)
138
Первый ренессансный дворец в Италии, закончен в 1459 г.
(обратно)
139
Монастырь ордена францисканцев — нищенствующего ордена, основанного в Италии в 1207–1209 гг. Франциском Ассизским (1181 или 1182–1226).
(обратно)
140
Персонаж, убивавший своих жен, из одноименной сказки знаменитого французского писателя Шарля Перро (1628–1703) из сборника «Сказки моей матушки Гусыни» (1697).
(обратно)
141
Песнь пятая первой части поэмы «Божественная комедия» — «Ад».
(обратно)
142
Пер. М. Лозинского. В другом переводе последняя реплика звучит так: «И в этот день мы больше не читали». Воспроизведена в статье петербургского ученого Б. Кржевского.
(обратно)
143
Пиво, виноград, булочки
(ит.).
(обратно)
144
Шоколад
(ит.).
(обратно)
145
Сигареты
(ит.).
(обратно)
146
Известная поговорка: «Все дороги ведут в Рим».
(обратно)
147
Город в лене Йёнчёпинг.
(обратно)
148
Рим — один из древнейших городов мира.
(обратно)
149
Иногда в Швеции объявляется неофициальная «неделя вежливости».
(обратно)
150
Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ-иррационалист. Рассматривал мир, жизнь как неразумную волю, слепое, бесцельное влечение к ней.
(обратно)
151
Город в Южной Индии.
(обратно)
152
Персонаж романа Чарлза Диккенса (1812–1870) «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим».
(обратно)
153
Агнец — ягненок, который приносится в жертву на Пасху.
(обратно)
154
Громадный амфитеатр Флавиев (династии римских императоров в 69–96 гг.) примерно на 50 ООО зрителей, памятник древнеримской архитектуры (75–80 гг. н. э.). Место боев гладиаторов и других зрелищ.
(обратно)
155
Термы — в Древнем Риме общественные бани, включавшие кроме горячей, теплой и холодной бань парильни, залы для спорта, собраний и т. д.
(обратно)
156
Ромул — по римской мифологии, знаменитый основатель города Рима (вместе со своим братом-близнецом
Ремом) и первый царь (ок. 754/753 гг. до н. э.). Согласно легенде, братья — сыновья бога Марса и жрицы Реи Сильвии (Илии) — были вскормлены волчицей и выращены пастухами. Волчица стала символом Рима.
(обратно)
157
В Древнем Риме ораторская трибуна на Форуме, украшенная носами трофейных кораблей.
(обратно)
158
Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н. э.) — римский диктатор в 49, 48–46, 45 г. до н. э., с 44 — пожизненно. Знаменитый полководец, военный трибун 73 г. В 49 г., опираясь на армию, начал борьбу за единовластие. Стал фактически монархом. Убит в результате заговора республиканцев.
(обратно)
159
В римской мифологии богиня домашнего очага, культ которой поддерживался при храмах жрицами-весталками, дававшими обет безбрачия. Избирались из девочек знатных семейств и служили богине до 30 лет.
(обратно)
160
Капитель — венчающая часть колонны.
(обратно)
161
В греческой мифологии сыновья-близнецы верховного бога Зевса и Леды (супруги царя Спарты — Тиндарея). Зевс влюбился в Леду и, обратившись лебедем, встретился с ней.
(обратно)
162
Тога — верхняя одежда граждан Древнего Рима — белый шерстяной плащ без рукавов.
(обратно)
163
Ляпис-лазурь, ценный поделочный синий или зеленовато-голубой камень.
(обратно)
164
Брут Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) — глава заговорщиков-республиканцев в Древнем Риме в 44 г. против Цезаря. По преданию, одним из первых ударил его кинжалом. Цезарь воскликнул: «И ты, Брут!»
(обратно)
165
Иды — название 15-го (в марте, мае, июле, октябре) или 13-го дня (в остальных месяцах) древнеримского календаря. 15 марта по древнеримскому календарю — день убийства Цезаря заговорщиками-республиканцами Марком Юнием Брутом, военачальником Цезаря Децимом Юнием Альбином Брутом (ок. 84–43 гг. до н. э.), организатором убийства Цезаря Кассием (? —42 г. до н. э.) и др., опасавшимися его монархических устремлений.
(обратно)
166
Антоний Марк (ок. 83–30 гг. до н. э.) — римский полководец, сторонник Цезаря. В 42 г. до н. э. получил управление восточными областями Римской державы.
(обратно)
167
Имеется в виду любовь Марка Антония к последней египетской царице Клеопатре. После объявления римским сенатом войны Клеопатре и поражения египетского флота при мысе Акций (в 31 г. до н. э.) Марк Антоний покончил жизнь самоубийством.
(обратно)
168
Речь идет о римском императоре с 27 г. до н. э. Октавиане Августе (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Внучатый племянник Цезаря, усыновленный им в завещании. Победой в 31 г. до н. э. при мысе Акций над Марком Антонием и Клеопатрой завершил гражданские войны в Древнеримском государстве и сосредоточил власть в своих руках.
(обратно)
169
Фульвия (? —40 до н. э.) — жена Марка Антония.
(обратно)
170
Цицерон Марк Туллий (106–43 гг. до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель. Сторонник республиканского строя.
(обратно)
171
Это, очевидно, одна из римских легенд. Цицерон произнес 14 разгромных речей против Марка Антония. Тот вместе с Октавиа-ном велел казнить Цицерона. Отрубленные руки Цицерона прислали Марку Антонию, и он повелел прибить их перед трибуной, где часто выступал Цицерон.
(обратно)
172
Антонин Марк Аврелий (121–180) — римский император с 161 г., из династии Антонинов. Опирался на сенатское сословие. Представитель философского направления позднего стоицизма. Философское сочинение «К самому себе» (на древнегреч. языке).
(обратно)
173
Медная зелень
(ит.), образующийся от времени налет на старинной бронзе, придающий ей коричневато-зеленый оттенок.
(обратно)
174
Имеются в виду борцы с фашизмом в оккупированных странах Европы в период Второй мировой войны.
(обратно)
175
Пинчо
(ит.) — возвышенность со смотровой площадкой.
(обратно)
176
Каменные (дубравные) дубы растут на горах и в суходолах, в безводных долинах и лощинах, получающих влагу только от дождя и тающего снега; они крепкие, но суховерхие и хрупкие.
(обратно)
177
Мессалина (ок. 25–48) — жена римского императора Клавдия из династии Юлиев, известная своим непотребным поведением и жестокостью. Имя ее стало нарицательным для обозначения принадлежащих к привилегированному классу женщин легкого поведения.
(обратно)
178
Нерон (37–68) — римский император с 54 г., из династии Юлиев — Клавдиев. Согласно историческим источникам — жестокий и самовлюбленный. Репрессиями восстановил против себя разные слои общества. Свергнутый в 68 г., он покончил с собой.
(обратно)
179
Здесь, видимо, использована одна из римских легенд, так как есть сведения, что Нерон был все же похоронен в усыпальнице.
(обратно)
180
Согласно римскому историку Гаю Транквиллу Светонию (ок. 70 — ок. 140), Актея помогала кормилицам Нерона собрать его останки.
(обратно)
181
Имеется в виду многодневный пожар в Риме в 64 г. н. э. Есть свидетельства, что виновником его был Нерон, уничтожавший лачуги и другие здания, чтобы возвести новый прекрасный город Нерополь (Нероноград).
(обратно)
182
Рынок, где продаются старые вещи и новые по более низким ценам.
(обратно)
183
Сан Пьетро (1506–1614) — самая большая церковь в мире. Архитектурный памятник Ватикана — государства-города в пределах Рима, резиденции главы Римско-католической церкви Папы Римского.
(обратно)
184
Виа Венето
(ит.) — одна из центральных улиц Рима с дорогими ресторанами.
(обратно)
185
Катакомбы Сан Себастьяно расположены рядом с церковью Сан Себастьяно. Это один из семи крупнейших храмов Вечного города, центр паломничества.
(обратно)
186
Святой, погибший во времена императора Домициана (51–96) в 81 г.
(обратно)
187
Проложена в 312 г. до н. э. между Римом и Капуей. Известна также тем, что участники восстания рабов (73 или 74–71 до н. э.) под руководством Спартака (? —71), оставшиеся в живых после боя, были повешены вдоль этой дороги. Сам Спартак погиб в сражении.
(обратно)
188
Закрепили дружбу особой застольной процедурой — выпили одновременно свои рюмки, поцеловались и стали обращаться друг к другу на «ты».
(обратно)
189
Ди Треви. Букв.: Перекресток трех дорог
(ит.). Создан в 1730–1760 гг. архитектором Никколо Сильви.
(обратно)
190
Ночью
(англ.).
(обратно)
191
Вероятно, имеется в виду богатейшая Ватиканская библиотека (XV в.).
(обратно)
192
Столовая вода.
(обратно)
193
Ротонда — круглое или полукруглое небольшое здание с куполом.
(обратно)
194
Город в Южной Италии в области Кампания, у Неаполитанского залива.
(обратно)
195
О, какое прекрасное утро, о, какой прекрасный день!
(англ.).
(обратно)
196
Шпалера — специальная решетка для вьющихся растений.
(обратно)
197
Действующий вулкан на юге Италии, близ Неаполя.
(обратно)
198
Остров в Тирренском море, в составе Италии.
(обратно)
199
Городок в лене Стокгольм.
(обратно)
200
Добрый вечер!
(ит.)
(обратно)
201
Тиберий (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — римский император с 14 г. н. э.
(обратно)
202
Самая высокая гора в Западных Альпах.
(обратно)
203
Вершина в Больших Гималаях на границе между Непалом и Китаем.
(обратно)
204
Вулканический массив в Танзании.
(обратно)
205
Горная система в Северной Америке.
(обратно)
206
Действующий вулкан на острове Хонсю, самая высокая вершина Японии в 90 км от Токио.
(обратно)
207
В Ветхом Завете собрате лирических песен (на языке иврит) о страстной, преодолевающей все преграды любви. Предположительно III в. до н. э. По преданию, авторство приписывалось царю Израильско-Иудейского царства в 965–928 гг. до н. э. мудрому Соломону.
(обратно)
208
Уайльд Оскар (1854–1900) — известный английский писатель, автор философского романа «Портрет Дориана Грея» (1891) и множества пьес.
(обратно)
Оглавление
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
*** Примечания ***



 — Великолепно! — воскликнул Ян. — Раз так, мы сейчас же поженимся!
— Правда? — удивилась я, задумчиво склонив голову.
Я буквально сию минуту рассказала ему, что Тетушка уехала и вышла замуж за своего старого поклонника из Чикаго. Да, именно Тетушка, заменившая мне мать! Тетушка, с которой я делила двухкомнатную квартиру на улице Каптенсгатан[1]. И теперь я стала обладательницей этой маленькой квартирки на четвертом этаже! Более того, я внезапно стала богатой невестой! Лучше две комнаты с кухней и с Кати на улице Каптенсгатан, чем маленькая отвратительная меблированная комната у грубиянки вдовы на Кунгсхольмене[2]. Ею Ян вынужден был Довольствоваться, а для молодого многообещающего архитектора это не так уж и много. Неудивительно, что он счел просто великолепным переехать ко мне домой. Он долго и без перерыва говорил, как это чудесно будет. Но мне все время казалось, что чудесна моя двухкомнатная квартирка, а вовсе не я. В конце концов я спросила Яна, слышал ли он известную историю об агрономе, поместившем брачное объявление в газете:
«Молодой агроном, рассчитывая на возможную женитьбу, ищет знакомства с дамой — владелицей трактора. Пришлите в ответ фотографию трактора!»
— Что ты имеешь в виду? — раздраженно спросил Ян.
— Мне кажется, ты похож на этого агронома.
Но Ян не понял.
— Не мели чепуху, надевай плащ и пойдем дадим объявление о помолвке! — воскликнул он.
— О нет, дорогой Ян, мне страшно идти за тебя. В один прекрасный день ты, возможно, встретишь другую с тремя комнатами и кухней, и тогда я останусь с носом.
Ух как Ян рассердился. Он сказал, что если я так глупа, отвергая любовь благородного человека, то сама буду виновата, если останусь старой девой, а он не станет мне больше докучать.
Он и не стал мне докучать. Целых два дня. Все эти два дня я судорожно размышляла. Он сказал «старая дева»! Я начала осторожно привыкать к этой мысли. Можно завести себе маленького мопса и несколько канареек, совершенно не обязательно иметь при себе Яна. Да, чем больше я думала о Яне, тем сильнее склонялась к мопсу. Мне было двадцать два года, и с девятнадцати лет я постоянно встречалась с Яном. Да, так легко влипнуть в беду со скороспелым замужеством! А я не желала влипнуть в беду с замужеством, которое не считала надежным. Ах, откуда знать, какое замужество надежно?
Не завести ли какую-нибудь «волшебную лозу»[3], чтобы испытывать всех своих поклонников? (У меня, разумеется, был всего один, но все-таки…) Если бы такая «волшебная лоза» опустилась внезапно на чью-то голову, то можно было бы сразу уверенно сказать: «Это он!» Кто знает, быть может, где-то в мире есть кто-то совсем другой, не такой, как Ян, который только и делает, что ждет, когда моя «волшебная лоза» укажет на него, Единственного и Настоящего. Я иногда сомневаюсь, что Ян и есть тот самый Единственный и Настоящий! Правда, Ева утверждала, что мужчины существуют лишь для того, чтобы закалять нас, и с этой точки зрения Ян, возможно, настоящая находка. Ян действительно был чрезвычайно склонен к тому, чтобы меня закалять или, скажем, изменить. Он постоянно пытался сделать меня другой, не такой, какая я на самом деле. Мне не следовало быть слишком веселой, потому что тогда Ян считал меня примитивной, мне не следовало быть слишком серьезной, потому что за маленькими выпуклыми девичьими лобиками не должно скрываться слишком много «мыслей и обрывков мыслей». Но мне следовало интересоваться всем на свете, чтобы он мог обсуждать со мной ту или иную проблему. Он должен говорить со мной о работе. Разумеется, о своей работе. Не о моей же! Стоило мне хоть когда-нибудь случайно попытаться рассказать ему о моей увлекательной жизни стенографистки в адвокатской конторе, как он сразу впадал в рассеянность, и разговор кончался тем, что я, вздохнув, говорила:
— All right! Поговорим лучше о твоих эскизах. Как ты представлял себе северный фасад народной школы в Пюттокре?
Об этом я размышляла все два дня, пока Ян не давал о себе знать. Но было еще одно: мне, как я уже говорила, исполнилось двадцать два года, и все-таки до сих пор я ходила, держась за Тетушкину юбку. Я никогда и не пыталась стать самостоятельной. Жизнь была полна практических мелочей, о которых я и понятия не имела. Нужно было подавать декларацию о доходах, и вешать платья в специальных мешках, предохраняющих от моли, и смотреть в оба, не жилистый ли кусок мяса покупаешь, и внимательно следить, не истекает ли срок страховки, и знать, как вести себя, чтобы денег на еду хватило на целый месяц. Все это делала для меня Тетушка. Я была не в состоянии выполнить все сама. Мне надо было этому научиться. Я не могла прямо из Тетушкиных объятий перекочевать в объятия Яна теперь, когда я наконец получила возможность стоять на собственных ногах.
В самом мягком тоне я попыталась объяснить это Яну, когда мы встретились вновь.
— Похоже, ты не хочешь меня больше знать! — бесконечно оскорбленный, сказал он.
Нет, это было не так. Частенько внушала я себе, что влюблена в Яна. Во всяком случае частенько думала, что он и есть тот самый Единственный и Настоящий. Но мне хотелось удостовериться в этом. Мне нужно было немного времени.
— Дай мне год! — попросила я Яна.
— Делай как хочешь, — мрачно ответил он. — Но за год многое может случиться!
Я допускаю, что в этих словах таилась угроза, но для моих ушей они прозвучали как обещание чего-то светлого в будущем.
После того как Ян ушел, я долго стояла у открытого окна, задумчиво глядя на пунктир редких звезд в ночном летнем небе за рядами домов на улице Каптенсгатан.
— Многое может случиться за год, — в ожидании чего-то светлого в будущем сказала я себе. А потом пошла и позвонила Еве.
— Хочешь один год делить со мной холостяцкое хозяйство? — спросила я.
— Что делить? — переспросила Ева.
Я повторила свое предложение. В трубке наступила полная тишина.
— Ты слышишь меня? — нетерпеливо спросила я. — Почему ты не отвечаешь?
— Я упаковываю вещи, — сказала Ева.
— Великолепно! — воскликнул Ян. — Раз так, мы сейчас же поженимся!
— Правда? — удивилась я, задумчиво склонив голову.
Я буквально сию минуту рассказала ему, что Тетушка уехала и вышла замуж за своего старого поклонника из Чикаго. Да, именно Тетушка, заменившая мне мать! Тетушка, с которой я делила двухкомнатную квартиру на улице Каптенсгатан[1]. И теперь я стала обладательницей этой маленькой квартирки на четвертом этаже! Более того, я внезапно стала богатой невестой! Лучше две комнаты с кухней и с Кати на улице Каптенсгатан, чем маленькая отвратительная меблированная комната у грубиянки вдовы на Кунгсхольмене[2]. Ею Ян вынужден был Довольствоваться, а для молодого многообещающего архитектора это не так уж и много. Неудивительно, что он счел просто великолепным переехать ко мне домой. Он долго и без перерыва говорил, как это чудесно будет. Но мне все время казалось, что чудесна моя двухкомнатная квартирка, а вовсе не я. В конце концов я спросила Яна, слышал ли он известную историю об агрономе, поместившем брачное объявление в газете:
«Молодой агроном, рассчитывая на возможную женитьбу, ищет знакомства с дамой — владелицей трактора. Пришлите в ответ фотографию трактора!»
— Что ты имеешь в виду? — раздраженно спросил Ян.
— Мне кажется, ты похож на этого агронома.
Но Ян не понял.
— Не мели чепуху, надевай плащ и пойдем дадим объявление о помолвке! — воскликнул он.
— О нет, дорогой Ян, мне страшно идти за тебя. В один прекрасный день ты, возможно, встретишь другую с тремя комнатами и кухней, и тогда я останусь с носом.
Ух как Ян рассердился. Он сказал, что если я так глупа, отвергая любовь благородного человека, то сама буду виновата, если останусь старой девой, а он не станет мне больше докучать.
Он и не стал мне докучать. Целых два дня. Все эти два дня я судорожно размышляла. Он сказал «старая дева»! Я начала осторожно привыкать к этой мысли. Можно завести себе маленького мопса и несколько канареек, совершенно не обязательно иметь при себе Яна. Да, чем больше я думала о Яне, тем сильнее склонялась к мопсу. Мне было двадцать два года, и с девятнадцати лет я постоянно встречалась с Яном. Да, так легко влипнуть в беду со скороспелым замужеством! А я не желала влипнуть в беду с замужеством, которое не считала надежным. Ах, откуда знать, какое замужество надежно?
Не завести ли какую-нибудь «волшебную лозу»[3], чтобы испытывать всех своих поклонников? (У меня, разумеется, был всего один, но все-таки…) Если бы такая «волшебная лоза» опустилась внезапно на чью-то голову, то можно было бы сразу уверенно сказать: «Это он!» Кто знает, быть может, где-то в мире есть кто-то совсем другой, не такой, как Ян, который только и делает, что ждет, когда моя «волшебная лоза» укажет на него, Единственного и Настоящего. Я иногда сомневаюсь, что Ян и есть тот самый Единственный и Настоящий! Правда, Ева утверждала, что мужчины существуют лишь для того, чтобы закалять нас, и с этой точки зрения Ян, возможно, настоящая находка. Ян действительно был чрезвычайно склонен к тому, чтобы меня закалять или, скажем, изменить. Он постоянно пытался сделать меня другой, не такой, какая я на самом деле. Мне не следовало быть слишком веселой, потому что тогда Ян считал меня примитивной, мне не следовало быть слишком серьезной, потому что за маленькими выпуклыми девичьими лобиками не должно скрываться слишком много «мыслей и обрывков мыслей». Но мне следовало интересоваться всем на свете, чтобы он мог обсуждать со мной ту или иную проблему. Он должен говорить со мной о работе. Разумеется, о своей работе. Не о моей же! Стоило мне хоть когда-нибудь случайно попытаться рассказать ему о моей увлекательной жизни стенографистки в адвокатской конторе, как он сразу впадал в рассеянность, и разговор кончался тем, что я, вздохнув, говорила:
— All right! Поговорим лучше о твоих эскизах. Как ты представлял себе северный фасад народной школы в Пюттокре?
Об этом я размышляла все два дня, пока Ян не давал о себе знать. Но было еще одно: мне, как я уже говорила, исполнилось двадцать два года, и все-таки до сих пор я ходила, держась за Тетушкину юбку. Я никогда и не пыталась стать самостоятельной. Жизнь была полна практических мелочей, о которых я и понятия не имела. Нужно было подавать декларацию о доходах, и вешать платья в специальных мешках, предохраняющих от моли, и смотреть в оба, не жилистый ли кусок мяса покупаешь, и внимательно следить, не истекает ли срок страховки, и знать, как вести себя, чтобы денег на еду хватило на целый месяц. Все это делала для меня Тетушка. Я была не в состоянии выполнить все сама. Мне надо было этому научиться. Я не могла прямо из Тетушкиных объятий перекочевать в объятия Яна теперь, когда я наконец получила возможность стоять на собственных ногах.
В самом мягком тоне я попыталась объяснить это Яну, когда мы встретились вновь.
— Похоже, ты не хочешь меня больше знать! — бесконечно оскорбленный, сказал он.
Нет, это было не так. Частенько внушала я себе, что влюблена в Яна. Во всяком случае частенько думала, что он и есть тот самый Единственный и Настоящий. Но мне хотелось удостовериться в этом. Мне нужно было немного времени.
— Дай мне год! — попросила я Яна.
— Делай как хочешь, — мрачно ответил он. — Но за год многое может случиться!
Я допускаю, что в этих словах таилась угроза, но для моих ушей они прозвучали как обещание чего-то светлого в будущем.
После того как Ян ушел, я долго стояла у открытого окна, задумчиво глядя на пунктир редких звезд в ночном летнем небе за рядами домов на улице Каптенсгатан.
— Многое может случиться за год, — в ожидании чего-то светлого в будущем сказала я себе. А потом пошла и позвонила Еве.
— Хочешь один год делить со мной холостяцкое хозяйство? — спросила я.
— Что делить? — переспросила Ева.
Я повторила свое предложение. В трубке наступила полная тишина.
— Ты слышишь меня? — нетерпеливо спросила я. — Почему ты не отвечаешь?
— Я упаковываю вещи, — сказала Ева.
 Да, Ева, что можно сказать о Еве? Она блондинка, и очень любит поговорить, и довольно остроумна. И все это плюс известная склонность к капризам и переменчивость ее настроений сливаются в своего рода весенний апрельский шарм, перед которым не в силах устоять многие несчастные юнцы.
— С любовью я определенно покончила… временно, — часто говорила она.
Ева то и дело влюблялась, но любовь эта быстро кончалась. А объекты ее любви так быстро менялись, что от одного вида этого кружилась голова. Пока я встречалась со своим старым Яном, храня ему верность, Ева уже назавтра после новой встречи не знала, к кому питает вечную любовь.
Да, Ева, что можно сказать о Еве? Она блондинка, и очень любит поговорить, и довольно остроумна. И все это плюс известная склонность к капризам и переменчивость ее настроений сливаются в своего рода весенний апрельский шарм, перед которым не в силах устоять многие несчастные юнцы.
— С любовью я определенно покончила… временно, — часто говорила она.
Ева то и дело влюблялась, но любовь эта быстро кончалась. А объекты ее любви так быстро менялись, что от одного вида этого кружилась голова. Пока я встречалась со своим старым Яном, храня ему верность, Ева уже назавтра после новой встречи не знала, к кому питает вечную любовь.
 Каждой женщине необходимо когда-нибудь устроить собственный дом — не важно при этом, замужем она или нет. Живущее в ее душе стремление подрубать полотенца, скупать маленькие грубые огнеупорные формы для печенья, украшать настенные полки кружевными оборками должно быть, вне всякого сомнения, удовлетворено независимо от ее гражданского состояния. Как это часто бывает, девушка, стремясь окутать себя всей этой мишурой, легко может внушить себе, что влюблена в какого-нибудь парня, который может принести ей только несчастье. В любого парня, который даст ей возможность удовлетворить свою жажду обустройства и покупки мебели и одновременно назовет ее женой, что, разумеется, не менее важно.
По вечерам, подшивая с Евой занавески, я излагала свои взгляды.
— Желание обустроить дом и удостоиться звания жены погубило многих девушек! — уверенно заявила я. — Да, да, и это, возможно, не так уж странно.
— Да, — согласилась Ева, — не так уж странно сделаться вдруг, к примеру, фру[8] Юханссон! А бедняге Юханссону, должно быть, станет не очень весело, когда до него дойдет, что в каком порядке приобретала его жена. Сначала полотенца, потом кофейный сервиз, потом довольно долго совсем ничего и только потом уж Юханссон!
Нам было несказанно жалко этого незнакомого господина Юханссона, и мы были очень довольны своими великолепными взглядами и тем, что нам нет необходимости принуждать мужчин к браку, на самом деле стремясь воплотить потаенную мечту о тюлевых занавесках в крапинку. Кроме того, мы сохранили чудесную, никем не нарушаемую свободу пришивать воланы к занавескам. Мы делали это чрезвычайно основательно, и выходило нарядно. Шили метр за метром. Да, и не только это! Мы переоборудовали всю двухкомнатную квартиру, да так, что у Тетушки, увидь она это, обозначилась бы строгая морщинка у рта. Ян, мой милый, правда немного ожесточившийся, Ян помогал мне. Ему, наверное, было не слишком весело вечер за вечером клеить обои или, сидя на четвереньках, покрывать лаком пол, постоянно думая о том, что, не будь я так упряма, сюда переехал бы он, а не Ева. Он считал меня ужасной дурочкой и постоянно говорил мне об этом, энергично обрабатывая малярной кистью мрачные Тетушкины стены. И хотя он вообще-то хорошо относился к Еве, он, конечно, не мог слишком радужно воспринимать ее переезд в мою двухкомнатную квартиру.
— Через год ты съедешь отсюда, заруби себе это на носу! — уверял он ее.
— За год многое может случиться! — отвечала ему Ева.
Когда я вновь услышала эту фразу, во мне что-то дрогнуло в тайном ожидании, хотя я никоим образом не могла тогда предвидеть свое будущее.
Но я быстро отбросила все мысли о том, что может случиться, и сосредоточилась на том, чтобы как можно уютнее разместить старый Тетушкин диван времен Карла XIV Юхана[9] и расставить книги на новой полке, сделанной Яном. Мои дорогие старые книги!
— Не читай так много, Кати! — частенько говаривала мне Ева. — Лучше живи!
Но ее призывы были тщетны. Я как была книжным червем, так им и останусь. Жизнь, описываемая в книгах, была для меня более реальной, чем сама реальная жизнь. Сколько себя помню, я собирала книги и теперь с чувством тихой внутренней радости перенесла их в новое хранилище.
Июньские вечера были долгими и светлыми, и мы работали допоздна. Но все-таки не уставали, — должно быть, потому, что нам было так весело! Нам так долго было весело! Каждый день, когда часы били пять, мы с Евой поднимали усталые головы над пишущими машинками, бросали блокноты со стенограммами в ящик, накидывали курточки, бросались в сутолоку движения на улице Кунгсгатан[10] и как можно быстрее мчались домой, в наше гнездышко. У нас едва оставалось время для еды. Мы запустили все остальные дела.
Стояла пора белых ночей, благословенных белых ночей! Расчет доброго Господа Бога, когда Он создавал стокгольмские белые ночи, состоял, конечно, в том, чтобы молодые мужчины и женщины, крепко обнявшись, медленно прогуливались летней ночной порой под сенью дубов Юргордена[11], мечтательно странствовали вдоль тихих синих вод. А мы? Что делали мы? Мы шили занавески! По вечерам к восьми часам приходил Ян, поначалу немного угрюмый, чуть ершистый, но потом мало-помалу его захватывал архитекторский энтузиазм — переделать две маленькие мрачные каморки в мансарде во что-то светлое и просторное, в квартиру, где можно дышать. Часов в двенадцать ночи мы пили чай и обсуждали итоги дня, а потом Ян шел домой, к своей вдове на Кунгсхольмен. И, слыша, как звуки его шагов постепенно затихают на лестнице, я всякий раз испытывала угрызения совести, но недолго.
В конце концов все было готово, и в один прекрасный вечер мы пригласили Яна отметить окончание ремонта. Я обнаружила, что готовить еду вообще-то не так уж трудно, если только пунктуально следовать указаниям поваренной книги. А у Евы были врожденные кулинарные способности.
— Самое лучшее у Евы — ее котлетки! — заявил Ян, положив себе на тарелку целую гору котлеток.
Он не сказал, что самое лучшее — мои тушеные сморчки, но я-то сама считала, что они фантастически хороши. И настроение у нас тоже было хорошее. Даже Ян расслабился и хохотал так, что стекла звенели. В самый разгар веселья в дверь позвонили. Я открыла. Предо мной стоял абсолютно незнакомый молодой человек с веселыми голубыми глазами, держа в руках лютню. Он быстренько вторгся в наше общество и сказал:
— Какой тут шум, смех и болтовня, дорогие друзья! И почему меня никогда не бывает там, где царит веселье?! И почему меня не приглашают к столу?
— Мы думали, вы уже поели, — сказала я.
— А кроме того, мы думали, что от тушеных сморчков у вас начнутся колики, — сказала Ева. — А между прочим, кто вы такой, собственно говоря?
— Альберт конечно, — весело сообщил голубоглазый. — Уже несколько недель я ваш ближайший сосед!
— Приятно! — сказала Ева.
— Я довольно долго сидел и слушал, как вы веселитесь, — продолжал Альберт. — Могу вас уверить, вас замечательно слышно со всех сторон! Но потом какой-то коварный негодник так понизил голос, что я не все мог разобрать, а в таком случае теряется смысл происходящего. И я подумал, что лучше мне прийти сюда.
— Совершенно правильно, — подтвердила Ева.
Но тут пробудился к жизни Ян. Смерив пришельца с ног до головы бодрящим, как открытая могила, взглядом, он было начал:
— По какому праву…
— Минутку, Ян, — предупреждающе сказала я. — Это мой дом, и я охотно приглашаю Альберта отведать тушеных сморчков.
— Во имя святого соседства, — подтвердила Ева и поставила на стол чистую тарелку.
— Да, спасибо, раз вы так настаиваете… — поблагодарил Альберт.
Отставив лютню в сторону, он без всяких церемоний сел за стол. Веселый, ничуть не смущающийся, шумный, он совершенно не обращал внимания на то, что Ян был поначалу немного мрачен.
Альберт рассказал, что снял комнату у пожилой супружеской пары, жившей рядом с нами. Он артист и недавно вернулся из длительных гастролей по провинции. Мы вспомнили, что видели в газетах его фотографии. Он сказал, что играл Отца[12].
Ян заметил, что если несчастная провинциальная публика узрела Альберта в роли Отца, то скука в провинции стала от этого еще более удручающей. Но Альберт только расхохотался и взял еще одну котлетку.
Все это время лютня стояла в углу, словно мрачная Угроза нашему веселью.
— Думаешь, он будет петь? — боязливо прошептала я Яну.
— Не представляю, как тебе удастся ему помешать, — прошептал мне в ответ Ян.
Вообще-то звуки лютни — чудесны… только потому, что, когда она замолкнет, наступает благословенно прекрасная тишина. Но большая часть поющих под лютню обычно как можно дальше отодвигает этот сладостный момент. И у меня всегда становится тоскливо на душе, когда огромные сильные парни, по виду профессиональные боксеры, встают в позу и возвещают: «Я девушка, что бродит в лохмотьях вокруг…» — а затем до бесконечности: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, хопп-сан-са…»
Но Ева, видимо почувствовав к Альберту известный интерес и зная, как лучше польстить мужчине, пока мы с Яном ставили на стол кофейные чашки, явно улучила момент, чтобы подстрекнуть его спеть что-нибудь. Потому что Альберт, внезапно поднявшись, с наигранным смущением сказал:
— Кое-кто просил меня спеть!
— Кто этот идиот?.. — спросил Ян.
Но Альберт не позволил сбить себя с толку! А Ева сидела рядом с ним с горящими глазами, и в конце концов он и в самом деле перешел к песне: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, ХОПП-сан-са…» — но тут мы с Яном вышли на кухню и поставили кипятить воду для кофе. А Ян поцеловал меня и сказал, что если бы я не была такая глупенькая и непонятливая маленькая дурочка, то мы могли бы быть уже женаты и иметь свой дом без всяких там певцов с лютней и все было бы хорошо.
И как раз в этот момент я почувствовала, что по-настоящему влюблена в Яна. И он держал меня в своих объятиях, пока кофе не сбежал, а я подумала, что, возможно, поступила неправильно. В комнате Альберт по-прежнему «ходил за пивом», а я сказала Яну, что об этом усердном хождении следовало бы, вероятно, доложить в Общество трезвости.
Но если не считать пения под лютню, Альберт был совершенно нормален и по-настоящему мил и приятен. И даже Ян стал в конце концов привыкать к нему. Мы завели граммофон и танцевали, пока не стало совсем светло. Потом сели в машину и покатили в Юргорден и мерзли, сидя там на скамейке на террасе Русендальского дворца[13], пока солнце не выползло из тумана за Йердетом[14], а маленькая певица малиновка совсем рядом не рассыпала первую трель наступающего дня.
Каждой женщине необходимо когда-нибудь устроить собственный дом — не важно при этом, замужем она или нет. Живущее в ее душе стремление подрубать полотенца, скупать маленькие грубые огнеупорные формы для печенья, украшать настенные полки кружевными оборками должно быть, вне всякого сомнения, удовлетворено независимо от ее гражданского состояния. Как это часто бывает, девушка, стремясь окутать себя всей этой мишурой, легко может внушить себе, что влюблена в какого-нибудь парня, который может принести ей только несчастье. В любого парня, который даст ей возможность удовлетворить свою жажду обустройства и покупки мебели и одновременно назовет ее женой, что, разумеется, не менее важно.
По вечерам, подшивая с Евой занавески, я излагала свои взгляды.
— Желание обустроить дом и удостоиться звания жены погубило многих девушек! — уверенно заявила я. — Да, да, и это, возможно, не так уж странно.
— Да, — согласилась Ева, — не так уж странно сделаться вдруг, к примеру, фру[8] Юханссон! А бедняге Юханссону, должно быть, станет не очень весело, когда до него дойдет, что в каком порядке приобретала его жена. Сначала полотенца, потом кофейный сервиз, потом довольно долго совсем ничего и только потом уж Юханссон!
Нам было несказанно жалко этого незнакомого господина Юханссона, и мы были очень довольны своими великолепными взглядами и тем, что нам нет необходимости принуждать мужчин к браку, на самом деле стремясь воплотить потаенную мечту о тюлевых занавесках в крапинку. Кроме того, мы сохранили чудесную, никем не нарушаемую свободу пришивать воланы к занавескам. Мы делали это чрезвычайно основательно, и выходило нарядно. Шили метр за метром. Да, и не только это! Мы переоборудовали всю двухкомнатную квартиру, да так, что у Тетушки, увидь она это, обозначилась бы строгая морщинка у рта. Ян, мой милый, правда немного ожесточившийся, Ян помогал мне. Ему, наверное, было не слишком весело вечер за вечером клеить обои или, сидя на четвереньках, покрывать лаком пол, постоянно думая о том, что, не будь я так упряма, сюда переехал бы он, а не Ева. Он считал меня ужасной дурочкой и постоянно говорил мне об этом, энергично обрабатывая малярной кистью мрачные Тетушкины стены. И хотя он вообще-то хорошо относился к Еве, он, конечно, не мог слишком радужно воспринимать ее переезд в мою двухкомнатную квартиру.
— Через год ты съедешь отсюда, заруби себе это на носу! — уверял он ее.
— За год многое может случиться! — отвечала ему Ева.
Когда я вновь услышала эту фразу, во мне что-то дрогнуло в тайном ожидании, хотя я никоим образом не могла тогда предвидеть свое будущее.
Но я быстро отбросила все мысли о том, что может случиться, и сосредоточилась на том, чтобы как можно уютнее разместить старый Тетушкин диван времен Карла XIV Юхана[9] и расставить книги на новой полке, сделанной Яном. Мои дорогие старые книги!
— Не читай так много, Кати! — частенько говаривала мне Ева. — Лучше живи!
Но ее призывы были тщетны. Я как была книжным червем, так им и останусь. Жизнь, описываемая в книгах, была для меня более реальной, чем сама реальная жизнь. Сколько себя помню, я собирала книги и теперь с чувством тихой внутренней радости перенесла их в новое хранилище.
Июньские вечера были долгими и светлыми, и мы работали допоздна. Но все-таки не уставали, — должно быть, потому, что нам было так весело! Нам так долго было весело! Каждый день, когда часы били пять, мы с Евой поднимали усталые головы над пишущими машинками, бросали блокноты со стенограммами в ящик, накидывали курточки, бросались в сутолоку движения на улице Кунгсгатан[10] и как можно быстрее мчались домой, в наше гнездышко. У нас едва оставалось время для еды. Мы запустили все остальные дела.
Стояла пора белых ночей, благословенных белых ночей! Расчет доброго Господа Бога, когда Он создавал стокгольмские белые ночи, состоял, конечно, в том, чтобы молодые мужчины и женщины, крепко обнявшись, медленно прогуливались летней ночной порой под сенью дубов Юргордена[11], мечтательно странствовали вдоль тихих синих вод. А мы? Что делали мы? Мы шили занавески! По вечерам к восьми часам приходил Ян, поначалу немного угрюмый, чуть ершистый, но потом мало-помалу его захватывал архитекторский энтузиазм — переделать две маленькие мрачные каморки в мансарде во что-то светлое и просторное, в квартиру, где можно дышать. Часов в двенадцать ночи мы пили чай и обсуждали итоги дня, а потом Ян шел домой, к своей вдове на Кунгсхольмен. И, слыша, как звуки его шагов постепенно затихают на лестнице, я всякий раз испытывала угрызения совести, но недолго.
В конце концов все было готово, и в один прекрасный вечер мы пригласили Яна отметить окончание ремонта. Я обнаружила, что готовить еду вообще-то не так уж трудно, если только пунктуально следовать указаниям поваренной книги. А у Евы были врожденные кулинарные способности.
— Самое лучшее у Евы — ее котлетки! — заявил Ян, положив себе на тарелку целую гору котлеток.
Он не сказал, что самое лучшее — мои тушеные сморчки, но я-то сама считала, что они фантастически хороши. И настроение у нас тоже было хорошее. Даже Ян расслабился и хохотал так, что стекла звенели. В самый разгар веселья в дверь позвонили. Я открыла. Предо мной стоял абсолютно незнакомый молодой человек с веселыми голубыми глазами, держа в руках лютню. Он быстренько вторгся в наше общество и сказал:
— Какой тут шум, смех и болтовня, дорогие друзья! И почему меня никогда не бывает там, где царит веселье?! И почему меня не приглашают к столу?
— Мы думали, вы уже поели, — сказала я.
— А кроме того, мы думали, что от тушеных сморчков у вас начнутся колики, — сказала Ева. — А между прочим, кто вы такой, собственно говоря?
— Альберт конечно, — весело сообщил голубоглазый. — Уже несколько недель я ваш ближайший сосед!
— Приятно! — сказала Ева.
— Я довольно долго сидел и слушал, как вы веселитесь, — продолжал Альберт. — Могу вас уверить, вас замечательно слышно со всех сторон! Но потом какой-то коварный негодник так понизил голос, что я не все мог разобрать, а в таком случае теряется смысл происходящего. И я подумал, что лучше мне прийти сюда.
— Совершенно правильно, — подтвердила Ева.
Но тут пробудился к жизни Ян. Смерив пришельца с ног до головы бодрящим, как открытая могила, взглядом, он было начал:
— По какому праву…
— Минутку, Ян, — предупреждающе сказала я. — Это мой дом, и я охотно приглашаю Альберта отведать тушеных сморчков.
— Во имя святого соседства, — подтвердила Ева и поставила на стол чистую тарелку.
— Да, спасибо, раз вы так настаиваете… — поблагодарил Альберт.
Отставив лютню в сторону, он без всяких церемоний сел за стол. Веселый, ничуть не смущающийся, шумный, он совершенно не обращал внимания на то, что Ян был поначалу немного мрачен.
Альберт рассказал, что снял комнату у пожилой супружеской пары, жившей рядом с нами. Он артист и недавно вернулся из длительных гастролей по провинции. Мы вспомнили, что видели в газетах его фотографии. Он сказал, что играл Отца[12].
Ян заметил, что если несчастная провинциальная публика узрела Альберта в роли Отца, то скука в провинции стала от этого еще более удручающей. Но Альберт только расхохотался и взял еще одну котлетку.
Все это время лютня стояла в углу, словно мрачная Угроза нашему веселью.
— Думаешь, он будет петь? — боязливо прошептала я Яну.
— Не представляю, как тебе удастся ему помешать, — прошептал мне в ответ Ян.
Вообще-то звуки лютни — чудесны… только потому, что, когда она замолкнет, наступает благословенно прекрасная тишина. Но большая часть поющих под лютню обычно как можно дальше отодвигает этот сладостный момент. И у меня всегда становится тоскливо на душе, когда огромные сильные парни, по виду профессиональные боксеры, встают в позу и возвещают: «Я девушка, что бродит в лохмотьях вокруг…» — а затем до бесконечности: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, хопп-сан-са…»
Но Ева, видимо почувствовав к Альберту известный интерес и зная, как лучше польстить мужчине, пока мы с Яном ставили на стол кофейные чашки, явно улучила момент, чтобы подстрекнуть его спеть что-нибудь. Потому что Альберт, внезапно поднявшись, с наигранным смущением сказал:
— Кое-кто просил меня спеть!
— Кто этот идиот?.. — спросил Ян.
Но Альберт не позволил сбить себя с толку! А Ева сидела рядом с ним с горящими глазами, и в конце концов он и в самом деле перешел к песне: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, ХОПП-сан-са…» — но тут мы с Яном вышли на кухню и поставили кипятить воду для кофе. А Ян поцеловал меня и сказал, что если бы я не была такая глупенькая и непонятливая маленькая дурочка, то мы могли бы быть уже женаты и иметь свой дом без всяких там певцов с лютней и все было бы хорошо.
И как раз в этот момент я почувствовала, что по-настоящему влюблена в Яна. И он держал меня в своих объятиях, пока кофе не сбежал, а я подумала, что, возможно, поступила неправильно. В комнате Альберт по-прежнему «ходил за пивом», а я сказала Яну, что об этом усердном хождении следовало бы, вероятно, доложить в Общество трезвости.
Но если не считать пения под лютню, Альберт был совершенно нормален и по-настоящему мил и приятен. И даже Ян стал в конце концов привыкать к нему. Мы завели граммофон и танцевали, пока не стало совсем светло. Потом сели в машину и покатили в Юргорден и мерзли, сидя там на скамейке на террасе Русендальского дворца[13], пока солнце не выползло из тумана за Йердетом[14], а маленькая певица малиновка совсем рядом не рассыпала первую трель наступающего дня.
 Кто сказал, что в конторе должно быть скучно? В нашей конторе настолько весело, что это почти опасно для жизни! Во всяком случае, Барбру, сидя за пишущей машинкой, однажды хохотала так, что свалилась со стула и сломала ребро.
Когда мы — Ева и Барбру, Агнета и я — хохочем как сумасшедшие, выходит из своей комнаты Сова-Халва и смотрит на нас. Сова-Халва — это фрёкен Фредрикссон, кассирша. Ей абсолютно не трудно быть серьезной. Думаю, она и на свет родилась с серьезным жизненным мировоззрением и с двумя глубокими морщинами на лбу. А у Агнеты с Барбру и у нас с Евой взгляд на жизнь более радостный и светлый. По-видимому, так считает и Сова-Халва, когда говорит, что никогда в жизни не встречала четырех таких хохотушек. Морщины на ее лбу всякий раз обозначаются резче, когда ей надо пройти мимо «Моря рабов», где сидим мы — каждая за своей машинкой. «Море рабов», — возможно, слова эти звучат как что-то невероятно огромное и пустынное, но это абсолютная ошибка. Это — совершенно обычная комната, где наши четыре письменных стола стоят, плотно прижавшись друг к другу посреди комнаты. Кроме них остается место только для четырех пишущих машинок и для нас. «Квартет, Которому Тесно»[15] — это мы и есть! Каждая из нас — секретарша своего адвоката.
— Работать в адвокатской конторе по-настоящему приятно, только если откажешься от старозаветного представления о том, что адвокаты тоже люди, — говорит Ева.
Они вовсе не люди. Они рабочие механизмы и требуют, чтобы их секретарши тоже превратились точно в такие же механизмы.
Как сказала Ева, когда ей пришлось однажды работать после двух часов ночи:
— Если в России крепостное право было отменено уже в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, то весьма странно, что в Швеции его отмена двигается так чертовски медленно.
Но в целом мы любим и нашу работу, и наших адвокатов. Хотя больше всего мы любим их, когда они находятся в суде, или на встречах, или уходят на долгие ленчи. Потому что у них, в отличие от нас, совершенно не развито чувство юмора. Я имею в виду — они не считают, будто смеяться надо весь рабочий день напролет. Вообще-то иногда мы думаем точно так же. Когда, например, перед тобой целый стенографический блокнот, полный писем и прошений, которые надо расшифровать до семнадцати часов, сделав девяносто девять заверенных копий, то смеешься гораздо меньше. И когда при этом еще непрерывно, как пожарная сирена, гудят телефоны. Пишешь, пишешь и пишешь так, что раскаляются клавиши машинки, и всякий раз, когда звонит телефон, потихоньку проклинаешь Александера Грейама Белла[16] и жестоко отвечаешь, что, мол, нет, у адвоката раньше следующей недели времени не будет.
Но вообще-то, как правило, с клиентами мы чрезвычайно любезны. Ведь среди них часто встречаются люди, придавленные горем. Горем, которое они с благодарностью переваливают на наши плечи, если адвокатов нет на месте. Агнета специализируется на утешении несчастных плачущих женщин с серыми лицами, которые приходят к нам рассказать о своем разводе.
Но есть и веселые клиенты, крупные бизнесмены, вид у них приветливый, и они говорят тебе, что фрёкен прекрасна как роза, и удивляются, почему мы раньше не встречались, и спрашивают, не могли бы мы вместе перекусить в каком-нибудь уютном местечке. Но мы отвечаем в таком случае, что нет — не могли бы. И правильно делаем.
Случалось, что и сами адвокаты делали такие предложения, то есть однажды его сделал адвокат Евы, а больше никто из тех милых и корректных типов личностей, на которых работаем мы — остальные. Адвокат Евы в один прекрасный день вдруг превратился из рабочей машины в человека и пустился во все тяжкие по образцу: «Шеф заводит флирт с очаровательной секретаршей». Это был, по всей вероятности, как считает Ева, случайный гормональный всплеск. Знал бы он, как мы веселились назавтра в комнате для ленча! Мы сидели там со своим радостным мировоззрением и бутербродами с ветчиной, а Ева передразнивала своего адвоката, рассказывая, что он говорил и делал.
— Он начал — довольно осторожно — уже с самого утра, — сказала Ева. — Он заметил, что у фрёкен миленькие ножки. И тут же после ленча зажег сигарету и, меланхолично выпустив несколько облачков дыма, сказал: «Как, должно быть, чудесно, когда рядом с тобой женщина, которая действительно тебя понимает…» И намекнул, что в этом плане с его женой не так-то легко…
Вечером для Евы нашлась сверхурочная работа, а через некоторое время он спросил, не пойти ли им в какое-нибудь уютное местечко поужинать?
— На свете нет никого наивнее мужчин, — изрекла Ева, закончив свой рассказ. — Подумать только, выложить все это в один день! Вместо того чтобы растянуть на некоторое время! Как они не понимают!
— Не понимают… чего? — спросила я.
— А того, что man merkt die Absicht und wird verstimmt[17] в высшей степени, — объяснила Ева.
Кто сказал, что в конторе должно быть скучно? В нашей конторе настолько весело, что это почти опасно для жизни! Во всяком случае, Барбру, сидя за пишущей машинкой, однажды хохотала так, что свалилась со стула и сломала ребро.
Когда мы — Ева и Барбру, Агнета и я — хохочем как сумасшедшие, выходит из своей комнаты Сова-Халва и смотрит на нас. Сова-Халва — это фрёкен Фредрикссон, кассирша. Ей абсолютно не трудно быть серьезной. Думаю, она и на свет родилась с серьезным жизненным мировоззрением и с двумя глубокими морщинами на лбу. А у Агнеты с Барбру и у нас с Евой взгляд на жизнь более радостный и светлый. По-видимому, так считает и Сова-Халва, когда говорит, что никогда в жизни не встречала четырех таких хохотушек. Морщины на ее лбу всякий раз обозначаются резче, когда ей надо пройти мимо «Моря рабов», где сидим мы — каждая за своей машинкой. «Море рабов», — возможно, слова эти звучат как что-то невероятно огромное и пустынное, но это абсолютная ошибка. Это — совершенно обычная комната, где наши четыре письменных стола стоят, плотно прижавшись друг к другу посреди комнаты. Кроме них остается место только для четырех пишущих машинок и для нас. «Квартет, Которому Тесно»[15] — это мы и есть! Каждая из нас — секретарша своего адвоката.
— Работать в адвокатской конторе по-настоящему приятно, только если откажешься от старозаветного представления о том, что адвокаты тоже люди, — говорит Ева.
Они вовсе не люди. Они рабочие механизмы и требуют, чтобы их секретарши тоже превратились точно в такие же механизмы.
Как сказала Ева, когда ей пришлось однажды работать после двух часов ночи:
— Если в России крепостное право было отменено уже в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, то весьма странно, что в Швеции его отмена двигается так чертовски медленно.
Но в целом мы любим и нашу работу, и наших адвокатов. Хотя больше всего мы любим их, когда они находятся в суде, или на встречах, или уходят на долгие ленчи. Потому что у них, в отличие от нас, совершенно не развито чувство юмора. Я имею в виду — они не считают, будто смеяться надо весь рабочий день напролет. Вообще-то иногда мы думаем точно так же. Когда, например, перед тобой целый стенографический блокнот, полный писем и прошений, которые надо расшифровать до семнадцати часов, сделав девяносто девять заверенных копий, то смеешься гораздо меньше. И когда при этом еще непрерывно, как пожарная сирена, гудят телефоны. Пишешь, пишешь и пишешь так, что раскаляются клавиши машинки, и всякий раз, когда звонит телефон, потихоньку проклинаешь Александера Грейама Белла[16] и жестоко отвечаешь, что, мол, нет, у адвоката раньше следующей недели времени не будет.
Но вообще-то, как правило, с клиентами мы чрезвычайно любезны. Ведь среди них часто встречаются люди, придавленные горем. Горем, которое они с благодарностью переваливают на наши плечи, если адвокатов нет на месте. Агнета специализируется на утешении несчастных плачущих женщин с серыми лицами, которые приходят к нам рассказать о своем разводе.
Но есть и веселые клиенты, крупные бизнесмены, вид у них приветливый, и они говорят тебе, что фрёкен прекрасна как роза, и удивляются, почему мы раньше не встречались, и спрашивают, не могли бы мы вместе перекусить в каком-нибудь уютном местечке. Но мы отвечаем в таком случае, что нет — не могли бы. И правильно делаем.
Случалось, что и сами адвокаты делали такие предложения, то есть однажды его сделал адвокат Евы, а больше никто из тех милых и корректных типов личностей, на которых работаем мы — остальные. Адвокат Евы в один прекрасный день вдруг превратился из рабочей машины в человека и пустился во все тяжкие по образцу: «Шеф заводит флирт с очаровательной секретаршей». Это был, по всей вероятности, как считает Ева, случайный гормональный всплеск. Знал бы он, как мы веселились назавтра в комнате для ленча! Мы сидели там со своим радостным мировоззрением и бутербродами с ветчиной, а Ева передразнивала своего адвоката, рассказывая, что он говорил и делал.
— Он начал — довольно осторожно — уже с самого утра, — сказала Ева. — Он заметил, что у фрёкен миленькие ножки. И тут же после ленча зажег сигарету и, меланхолично выпустив несколько облачков дыма, сказал: «Как, должно быть, чудесно, когда рядом с тобой женщина, которая действительно тебя понимает…» И намекнул, что в этом плане с его женой не так-то легко…
Вечером для Евы нашлась сверхурочная работа, а через некоторое время он спросил, не пойти ли им в какое-нибудь уютное местечко поужинать?
— На свете нет никого наивнее мужчин, — изрекла Ева, закончив свой рассказ. — Подумать только, выложить все это в один день! Вместо того чтобы растянуть на некоторое время! Как они не понимают!
— Не понимают… чего? — спросила я.
— А того, что man merkt die Absicht und wird verstimmt[17] в высшей степени, — объяснила Ева.
 Между тем лето и впрямь вступило в свои права. Совершенно холодный июнь сменился необычайно теплым июлем, и все разъехались в отпуска. Все, кроме Евы и меня. Оба наши адвоката собирались в сентябре на Мальорку[19], и мы, как волы в одной общей упряжке, должны были корпеть над бумагами. Только в сентябре нам светит долгожданный отпуск нашей мечты. Да, мы решили, что это будет отпуск нашей мечты. Единственное, что мы еще не решили: как проведем свободные золотые деньки?
О, эти жалкие три недели с золотой каемочкой! Собственно говоря, в кошмарном ожидании отпуска есть что-то завораживающее! Взволнованные этим ожиданием, мы все — «маленькие человеки»[20], которые сидят в конторе, и мечтают, и жаждут, и строят планы, и экономят, и фантазируют, веря, что все их мечты осуществятся, стоит лишь пойти в отпуск. Мы храбро пробираемся сквозь глубокие снежные заносы, преодолеваем простуды и эпидемии гриппа и вообще страдаем, не жалуясь. Ха, только бы нам дождаться отпуска! Это ужасно! И вероятно, следовало бы специально учредить должность психиатра, который занимался бы теми, кто возвращается после неудавшегося отпуска. Ведь если отпуск оказывается неудачным, как сможет бедное дитя человеческое осмелиться пойти навстречу новой зиме?[21] Поверьте мне, тут необходимы успокоительные пилюли!
Мы с Евой что ни день строили новые планы. То мы собирались выбраться на западное побережье — на западном побережье, утверждал Ян, в сентябре бывает чудесно… то поехать на велосипедах на Эланд[22]. А порой, охваченные манией величия, решали отправиться в какую-нибудь туристическую поездку в Италию. Но это была совсем не сложная математическая задача высчитать, что эта страна — за пределами наших возможностей. Хотя строить планы было весело, да, очень весело!
У Яна отпуск был в июле, и он отправился в Стрёмстад[23], откуда присылал мне открытки с видами местных красот и со множеством восторженных восклицаний о солнце, и о соленых волнах, и о прекрасных наядах. Полагаю, что строки о прекрасных наядах были задуманы как легкое напоминание о том, что я не должна быть слишком уверена в своей неотразимости. Но я относилась и к наядам, и к отъезду Яна так спокойно, что Ева, огорченно качая головой, говорила:
— Если это любовь, то я питаю истинную страсть к моему старому велосипеду!
Но что делать, если Стокгольм прекрасен даже без Яна?! Стокгольм летом, о, как я люблю все это! Сидеть на ступеньках лестницы Концертного зала[24] во время перерывов на ленч и загорать! Пить кофе по вечерам в парке Берцелиуса[25] и слушать музыку, доносящуюся из ресторана Берна![26] Отправиться в какой-нибудь кинотеатр, где идет хороший старый фильм, который мечтаешь посмотреть снова, и выйти после сеанса в сладостный мрак! И не мерзнуть в легком платьице!.. Разве все это не удивительно прекрасно?
Повсюду на открытых площадях стоят большие горшки с цветами, да весь город цветет, и люди тоже, духовный климат становится словно бы чуть мягче и нежнее, чем обычно. Повсюду на улицах слышится иностранная речь, вызывающая любопытство, и ты видишь своеобразнейших людей со всех уголков земного шара… И внезапно тебя охватывает приятное чувство, что ты живешь в столице мира, в столице, к счастью, не большой, а маленькой-премаленькой, цветущей и очаровательной; озаренная солнечным светом, она плывет по голубым водам.
А кроме того, это было первое лето, когда мы вели хозяйство самостоятельно. И хотя в обычных случаях приготовление пищи не слишком популярный вид летнего спорта, для нас оно все еще имело огромное очарование новизны. В особенности для Евы, которой до того приходилось питаться в маленьких дешевых кафе, и она с большим рвением принялась устраивать кулинарные оргии. Она смешивала салаты, и мариновала сельдь, и жарила рыбу так, что приятно было садиться за стол.
Однажды она приготовила гуляш, и благодаря этому гуляшу мне довелось совершить один из самых замечательных акробатических номеров современности.
Была суббота, августовская суббота. Я пошла в торговый центр Эстермальма сделать кое-какие покупки к воскресенью[27]. Проходя мимо рынка, я купила букетик желтых ноготков и, нагруженная бумажными пакетами и цветами, счастливая шла домой, купаясь в солнечных лучах.
Я знала, что Ева придет раньше меня. Она накроет на стол и подогреет гуляш, приготовленный накануне.
Как чудесно возвращаться домой, вдруг поняла я, поднимаясь, запыхавшись, по лестнице.
На верхней ступеньке четвертого этажа сидела Ева.
— Ты что, скупила весь торговый центр? — спросила она. — За то время, что ты пропадала, можно было совершить туристическую поездку.
— У тебя потрясающий esprit d’escalier[28], — сказала я. — Но почему ты так мрачно сидишь здесь, вместо того чтобы заниматься домашними делами?
— Я сбежала вниз — опустить письмо — и забыла взять с собой ключ!
— Как можно быть такой небрежной? — строго спросила я. — Гуляш стоит в кухне на плите?
— Да, на плите, — ответила Ева.
— Повезло нам, что в доме есть все-таки один аккуратный человек, — сказала я.
Только тот, кто уже когда-то сжег гуляш так, что ужасный чад вызвал возмущение среди домашних хозяек в дальнем Васастане, только тот знает, что гуляш терпеть не может, когда его одного надолго оставляют на плите.
Поставив все пакеты на площадку, я начала рыться в сумке в поисках своего ключа. Но, как ни странно, его там не было. Там лежали только ключ от ящика письменного стола в конторе, ключ от дверей дома, ключ от моего велосипеда, ключ от чердака и еще совершенно неизвестно откуда взявшийся отвратительный маленький ключик, которого я никогда прежде не видела, и зеркальце, и расческа, и пудреница, и губная помада, и карманный дневник, и книжка почтового сберегательного банка[29]. А также два носовых платка, кошелек, авторучка, несколько фотографий и старых писем, а еще ключ от туалета, который долго искали, когда он необъяснимым образом исчез из милейшей семьи на острове Юстеро[30], где я гостила однажды июльским воскресным днем.
— Как уже сказано, — заметила Ева, — повезло нам, что в доме все-таки есть один аккуратный человек!
Она задумчиво осмотрела ключи, которые я разложила рядком на лестничной площадке.
— Думаю, умнее всего предупредить криминальную полицию, — сказала она. — Скажи мне только одно, где ты в квартире держишь лом?
Мы перепробовали по очереди все ключи подряд в тайной надежде, что один из них подойдет. Но после последней отчаянной попытки с ключом от туалета нам пришлось признать тот горький факт, что мы заперты снаружи. И что гуляш заперт наедине с самим собой, в обществе неумолимого газового пламени.
Ева выглянула в лестничное окно.
— Окно в твою комнату открыто, — сказала она. — Все, что от тебя требуется, — это пробалансировать вдоль водосточного желоба и влезть в квартиру.
Она произнесла эти слова так легко, словно предлагала совершить прогулку по Страндвеген[31]. Я тоже выглянула из окошка, и меня всю затрясло. Ева была, несомненно, права. Очевидно, следовало, если не закружится голова и не грохнешься вниз, пробалансировать по водосточному желобу прямо к моему окну. Но наши окна открываются наружу, и я не могла представить себе, как можно пройти мимо открытой створки и влезть в комнату. Я спросила Еву, как это сделать.
— Очень просто, — сказала она, — ты только чуточку подогнешь ногу и протиснешься мимо створки.
— Замечательно, — согласилась я. — Я только чуточку подогну ногу и очнусь уже на погребальных носилках в морге Саббатсберга[32]. Спасибо тебе, но никакие ноги здесь не согнутся, по крайней мере мои.
Мы немного постояли молча, тоскливо глядя на окно.
— Этим путем гуляш выйдет в свет, — сказала в конце концов Ева.
Мы были голодны, и можно было бы найти более веселое развлечение в субботу после полудня, чем сидеть на старой лестнице. Кто-то должен был пожертвовать собой, это было очевидно.
— Бросим жребий, — решила Ева, — орел или решка!
И мы бросили монетку. Во избежание недоразумений… Мы бросили жребий не для того, чтобы узнать, кто должен пожертвовать собой, а только для того, чтобы узнать, должна ли я это сделать или нет. Потому что у Евы начинает кружиться голова, стоит ей только забраться на кухонный стол.
Через минуту я уже вылезла на крышу и начала послеобеденную прогулку на высоте четырех этажей над уровнем улицы. Меня сопровождал тревожный взгляд Евы.
Я шла, обратившись лицом к крыше, а спиной — к ужасающему Ничто. Ничто, кроме узкой хрупкой кромки жести, не отделяло меня от лучшего мира. Сначала ноги казались мне удивительно вялыми, но постепенно я чуточку расхрабрилась. «Ведь все идет хорошо», — подумала я и бросила взгляд вниз. Ой, этого мне ни в коем случае не следовало делать! В дикой панике прижалась я к крыше и тихонько постояла, пока Каптенсгатан немного не успокоилась. Но в конце концов мне все равно пришлось продолжить путь.
Когда я прошла почти полдороги, Альберт высунул голову из своего окна. Думаю, ему хотелось посмотреть на открывавшийся оттуда вид. Да, вид, который открылся, разумеется, ужаснул его! Он побледнел так, словно увидел, как по крыше пронеслась дикая охота, и в горле его как-то странно забулькало.
— Куда… куда ты? — закричал он, беспомощно размахивая руками.
— Мне надо домой, посмотреть, не кончилась ли моя страховка! — закричала я в ответ.
Он только застонал, но я утешила его:
— Тебе вовсе незачем бояться. Потому что я сама боюсь!
Правда, как я боялась! И когда мне в конце пути пришлось согнуть ногу, чтобы обогнуть открытую наружу створку, я услышала жалобные стоны Евы. Она, конечно, боялась — да, она тоже! Как раз когда я проходила мимо, пуговица от платья зацепилась за створку окна, и я стала отрывать ее, смертельно боясь, что мне не высвободиться! Но мне все-таки удалось вырваться. Да, сверх всяких ожиданий удалось! И только потому, что в последнюю минуту я сумела крепко уцепиться за крючок окна и благодаря этому избежала возможности, с шумом и грохотом свалившись вниз, стать маленьким ангелом.
Минутой позже я уже была в квартире, возле гуляша. Самое время! Я с любовью слегка полила его водой, а потом пошла и открыла Альберту и Еве, стучавшим в дверь.
— Цирк Шумана[33] никогда не слышал о тебе? — спросил Альберт.
Должна признаться, нет, не слышал! Цирк Шумана не имел ни малейшего представления о том, что одна из лучших воздушных акробаток прозябает в безвестности на улице Каптенсгатан. Альберт, вытянув руку, показал, что обкусал два ногтя исключительно на нервной почве. Я восприняла это как знак истинной дружбы. Ева накрывала на стол, все время непрерывно горько плача. Ее нервы обычно сдают потом, когда уже все в порядке.
Успокоившись, она позвонила Яну.
— Приходи сейчас же и съешь гуляш! — сказала она. — Мне так жаль тебя! Ты чуть не стал вдовцом, еще даже не женившись!
Ян тут же явился, и мы все вчетвером сели за стол, где на фоне голубой скатерти весело светились желтые ноготки.
— Как это так? — спросила я Яна. — Неужели нельзя получить медаль Карнеги, если с опасностью для жизни спасаешь гуляш? Ну хотя бы маленькую-премаленькую?
Но Ян так не думал.
Когда мы перешли к кофе и сигаретам, я сунула руку в карман платья проверить, нет ли там спичек. Спичек не было. Но было кое-чтодругое. Моя рука наткнулась на плоский маленький ключик! Так хорошо знакомый ключик от квартиры!
Я так рада, что не наткнулась на него, пока ползла по водосточному желобу. Думаю, тогда я непременно свалилась бы вниз.
Между тем лето и впрямь вступило в свои права. Совершенно холодный июнь сменился необычайно теплым июлем, и все разъехались в отпуска. Все, кроме Евы и меня. Оба наши адвоката собирались в сентябре на Мальорку[19], и мы, как волы в одной общей упряжке, должны были корпеть над бумагами. Только в сентябре нам светит долгожданный отпуск нашей мечты. Да, мы решили, что это будет отпуск нашей мечты. Единственное, что мы еще не решили: как проведем свободные золотые деньки?
О, эти жалкие три недели с золотой каемочкой! Собственно говоря, в кошмарном ожидании отпуска есть что-то завораживающее! Взволнованные этим ожиданием, мы все — «маленькие человеки»[20], которые сидят в конторе, и мечтают, и жаждут, и строят планы, и экономят, и фантазируют, веря, что все их мечты осуществятся, стоит лишь пойти в отпуск. Мы храбро пробираемся сквозь глубокие снежные заносы, преодолеваем простуды и эпидемии гриппа и вообще страдаем, не жалуясь. Ха, только бы нам дождаться отпуска! Это ужасно! И вероятно, следовало бы специально учредить должность психиатра, который занимался бы теми, кто возвращается после неудавшегося отпуска. Ведь если отпуск оказывается неудачным, как сможет бедное дитя человеческое осмелиться пойти навстречу новой зиме?[21] Поверьте мне, тут необходимы успокоительные пилюли!
Мы с Евой что ни день строили новые планы. То мы собирались выбраться на западное побережье — на западном побережье, утверждал Ян, в сентябре бывает чудесно… то поехать на велосипедах на Эланд[22]. А порой, охваченные манией величия, решали отправиться в какую-нибудь туристическую поездку в Италию. Но это была совсем не сложная математическая задача высчитать, что эта страна — за пределами наших возможностей. Хотя строить планы было весело, да, очень весело!
У Яна отпуск был в июле, и он отправился в Стрёмстад[23], откуда присылал мне открытки с видами местных красот и со множеством восторженных восклицаний о солнце, и о соленых волнах, и о прекрасных наядах. Полагаю, что строки о прекрасных наядах были задуманы как легкое напоминание о том, что я не должна быть слишком уверена в своей неотразимости. Но я относилась и к наядам, и к отъезду Яна так спокойно, что Ева, огорченно качая головой, говорила:
— Если это любовь, то я питаю истинную страсть к моему старому велосипеду!
Но что делать, если Стокгольм прекрасен даже без Яна?! Стокгольм летом, о, как я люблю все это! Сидеть на ступеньках лестницы Концертного зала[24] во время перерывов на ленч и загорать! Пить кофе по вечерам в парке Берцелиуса[25] и слушать музыку, доносящуюся из ресторана Берна![26] Отправиться в какой-нибудь кинотеатр, где идет хороший старый фильм, который мечтаешь посмотреть снова, и выйти после сеанса в сладостный мрак! И не мерзнуть в легком платьице!.. Разве все это не удивительно прекрасно?
Повсюду на открытых площадях стоят большие горшки с цветами, да весь город цветет, и люди тоже, духовный климат становится словно бы чуть мягче и нежнее, чем обычно. Повсюду на улицах слышится иностранная речь, вызывающая любопытство, и ты видишь своеобразнейших людей со всех уголков земного шара… И внезапно тебя охватывает приятное чувство, что ты живешь в столице мира, в столице, к счастью, не большой, а маленькой-премаленькой, цветущей и очаровательной; озаренная солнечным светом, она плывет по голубым водам.
А кроме того, это было первое лето, когда мы вели хозяйство самостоятельно. И хотя в обычных случаях приготовление пищи не слишком популярный вид летнего спорта, для нас оно все еще имело огромное очарование новизны. В особенности для Евы, которой до того приходилось питаться в маленьких дешевых кафе, и она с большим рвением принялась устраивать кулинарные оргии. Она смешивала салаты, и мариновала сельдь, и жарила рыбу так, что приятно было садиться за стол.
Однажды она приготовила гуляш, и благодаря этому гуляшу мне довелось совершить один из самых замечательных акробатических номеров современности.
Была суббота, августовская суббота. Я пошла в торговый центр Эстермальма сделать кое-какие покупки к воскресенью[27]. Проходя мимо рынка, я купила букетик желтых ноготков и, нагруженная бумажными пакетами и цветами, счастливая шла домой, купаясь в солнечных лучах.
Я знала, что Ева придет раньше меня. Она накроет на стол и подогреет гуляш, приготовленный накануне.
Как чудесно возвращаться домой, вдруг поняла я, поднимаясь, запыхавшись, по лестнице.
На верхней ступеньке четвертого этажа сидела Ева.
— Ты что, скупила весь торговый центр? — спросила она. — За то время, что ты пропадала, можно было совершить туристическую поездку.
— У тебя потрясающий esprit d’escalier[28], — сказала я. — Но почему ты так мрачно сидишь здесь, вместо того чтобы заниматься домашними делами?
— Я сбежала вниз — опустить письмо — и забыла взять с собой ключ!
— Как можно быть такой небрежной? — строго спросила я. — Гуляш стоит в кухне на плите?
— Да, на плите, — ответила Ева.
— Повезло нам, что в доме есть все-таки один аккуратный человек, — сказала я.
Только тот, кто уже когда-то сжег гуляш так, что ужасный чад вызвал возмущение среди домашних хозяек в дальнем Васастане, только тот знает, что гуляш терпеть не может, когда его одного надолго оставляют на плите.
Поставив все пакеты на площадку, я начала рыться в сумке в поисках своего ключа. Но, как ни странно, его там не было. Там лежали только ключ от ящика письменного стола в конторе, ключ от дверей дома, ключ от моего велосипеда, ключ от чердака и еще совершенно неизвестно откуда взявшийся отвратительный маленький ключик, которого я никогда прежде не видела, и зеркальце, и расческа, и пудреница, и губная помада, и карманный дневник, и книжка почтового сберегательного банка[29]. А также два носовых платка, кошелек, авторучка, несколько фотографий и старых писем, а еще ключ от туалета, который долго искали, когда он необъяснимым образом исчез из милейшей семьи на острове Юстеро[30], где я гостила однажды июльским воскресным днем.
— Как уже сказано, — заметила Ева, — повезло нам, что в доме все-таки есть один аккуратный человек!
Она задумчиво осмотрела ключи, которые я разложила рядком на лестничной площадке.
— Думаю, умнее всего предупредить криминальную полицию, — сказала она. — Скажи мне только одно, где ты в квартире держишь лом?
Мы перепробовали по очереди все ключи подряд в тайной надежде, что один из них подойдет. Но после последней отчаянной попытки с ключом от туалета нам пришлось признать тот горький факт, что мы заперты снаружи. И что гуляш заперт наедине с самим собой, в обществе неумолимого газового пламени.
Ева выглянула в лестничное окно.
— Окно в твою комнату открыто, — сказала она. — Все, что от тебя требуется, — это пробалансировать вдоль водосточного желоба и влезть в квартиру.
Она произнесла эти слова так легко, словно предлагала совершить прогулку по Страндвеген[31]. Я тоже выглянула из окошка, и меня всю затрясло. Ева была, несомненно, права. Очевидно, следовало, если не закружится голова и не грохнешься вниз, пробалансировать по водосточному желобу прямо к моему окну. Но наши окна открываются наружу, и я не могла представить себе, как можно пройти мимо открытой створки и влезть в комнату. Я спросила Еву, как это сделать.
— Очень просто, — сказала она, — ты только чуточку подогнешь ногу и протиснешься мимо створки.
— Замечательно, — согласилась я. — Я только чуточку подогну ногу и очнусь уже на погребальных носилках в морге Саббатсберга[32]. Спасибо тебе, но никакие ноги здесь не согнутся, по крайней мере мои.
Мы немного постояли молча, тоскливо глядя на окно.
— Этим путем гуляш выйдет в свет, — сказала в конце концов Ева.
Мы были голодны, и можно было бы найти более веселое развлечение в субботу после полудня, чем сидеть на старой лестнице. Кто-то должен был пожертвовать собой, это было очевидно.
— Бросим жребий, — решила Ева, — орел или решка!
И мы бросили монетку. Во избежание недоразумений… Мы бросили жребий не для того, чтобы узнать, кто должен пожертвовать собой, а только для того, чтобы узнать, должна ли я это сделать или нет. Потому что у Евы начинает кружиться голова, стоит ей только забраться на кухонный стол.
Через минуту я уже вылезла на крышу и начала послеобеденную прогулку на высоте четырех этажей над уровнем улицы. Меня сопровождал тревожный взгляд Евы.
Я шла, обратившись лицом к крыше, а спиной — к ужасающему Ничто. Ничто, кроме узкой хрупкой кромки жести, не отделяло меня от лучшего мира. Сначала ноги казались мне удивительно вялыми, но постепенно я чуточку расхрабрилась. «Ведь все идет хорошо», — подумала я и бросила взгляд вниз. Ой, этого мне ни в коем случае не следовало делать! В дикой панике прижалась я к крыше и тихонько постояла, пока Каптенсгатан немного не успокоилась. Но в конце концов мне все равно пришлось продолжить путь.
Когда я прошла почти полдороги, Альберт высунул голову из своего окна. Думаю, ему хотелось посмотреть на открывавшийся оттуда вид. Да, вид, который открылся, разумеется, ужаснул его! Он побледнел так, словно увидел, как по крыше пронеслась дикая охота, и в горле его как-то странно забулькало.
— Куда… куда ты? — закричал он, беспомощно размахивая руками.
— Мне надо домой, посмотреть, не кончилась ли моя страховка! — закричала я в ответ.
Он только застонал, но я утешила его:
— Тебе вовсе незачем бояться. Потому что я сама боюсь!
Правда, как я боялась! И когда мне в конце пути пришлось согнуть ногу, чтобы обогнуть открытую наружу створку, я услышала жалобные стоны Евы. Она, конечно, боялась — да, она тоже! Как раз когда я проходила мимо, пуговица от платья зацепилась за створку окна, и я стала отрывать ее, смертельно боясь, что мне не высвободиться! Но мне все-таки удалось вырваться. Да, сверх всяких ожиданий удалось! И только потому, что в последнюю минуту я сумела крепко уцепиться за крючок окна и благодаря этому избежала возможности, с шумом и грохотом свалившись вниз, стать маленьким ангелом.
Минутой позже я уже была в квартире, возле гуляша. Самое время! Я с любовью слегка полила его водой, а потом пошла и открыла Альберту и Еве, стучавшим в дверь.
— Цирк Шумана[33] никогда не слышал о тебе? — спросил Альберт.
Должна признаться, нет, не слышал! Цирк Шумана не имел ни малейшего представления о том, что одна из лучших воздушных акробаток прозябает в безвестности на улице Каптенсгатан. Альберт, вытянув руку, показал, что обкусал два ногтя исключительно на нервной почве. Я восприняла это как знак истинной дружбы. Ева накрывала на стол, все время непрерывно горько плача. Ее нервы обычно сдают потом, когда уже все в порядке.
Успокоившись, она позвонила Яну.
— Приходи сейчас же и съешь гуляш! — сказала она. — Мне так жаль тебя! Ты чуть не стал вдовцом, еще даже не женившись!
Ян тут же явился, и мы все вчетвером сели за стол, где на фоне голубой скатерти весело светились желтые ноготки.
— Как это так? — спросила я Яна. — Неужели нельзя получить медаль Карнеги, если с опасностью для жизни спасаешь гуляш? Ну хотя бы маленькую-премаленькую?
Но Ян так не думал.
Когда мы перешли к кофе и сигаретам, я сунула руку в карман платья проверить, нет ли там спичек. Спичек не было. Но было кое-чтодругое. Моя рука наткнулась на плоский маленький ключик! Так хорошо знакомый ключик от квартиры!
Я так рада, что не наткнулась на него, пока ползла по водосточному желобу. Думаю, тогда я непременно свалилась бы вниз.
 «За год многое может случиться!» — сказал Ян, и я все усердней ждала, когда же наконец все начнется. Идти по водосточному желобу, спасая запертый в квартире гуляш, я вовсе не считала «событием», так же как и то, что Ева выскочила на ходу из автобуса, упала, оцарапав лицо о землю, и потом долго не осмеливалась показываться на людях.
— Разве это не событие? — горько вопрошала Ева. — Чего тебе, собственно говоря, надо? Может, ты признала бы «событием» ужасное кораблекрушение?
Она недовольно смотрелась в зеркало. Вся ее левая щека представляла собой один сплошной большой синяк. Ева считала, что в ближайшее время внешние контакты ей совершенно противопоказаны. Естественно, ей необходимо было ходить в контору, но все остальное время она большей частью сидела дома, к великому горю и досаде толпы энергичных молодых воздыхателей, которые звонили ей, приглашая провести с ними вечер. Она вообще отказывалась встречаться с людьми.
Единственный, кого она, несмотря на все попытки, не смогла удержать на расстоянии, был Альберт. У него появилась привычка бродить по нашей квартире, словно он огромный добрый сенбернар. Как только Альберт освобождался от своих фильмов, он располагался у нас, явно собираясь делать это и в дальнейшем, даже если бы Ева вся превратилась в один сплошной синяк.
Он принес с собой несколько алых роз и спел своим красивым баритоном: «Red roses for a blue lady»[34].
Ева, ворча, поставила цветы в вазу и прекратила борьбу. Яну тоже нельзя было отказать от дома, и поэтому мы все четверо вели некоторое время тихую домашнюю жизнь, пока синяк Евы не прошел.
Оба они — и Ян, и Альберт — были страстными футбольными болельщиками. Они болтали об «Общешведской футбольной команде», делали на нее ставки и были увлечены так, что нам с Евой это жутко надоело. Однажды они получили восемь крон пятьдесят эре за одну ставку, сочли это выдающимся, единственным в своем роде подвигом и не переставали им хвастаться.
— Восемь крон пятьдесят эре, — высокомерно заявила Ева, — есть из-за чего поднимать такой шум! Думаю, это вам, мальчики, не по зубам. Поставим и мы с Кати, тогда вы увидите, что из этого получится!
И мы поставили, едва отзвучали залпы надменного хохота. Мы ничегошеньки не знали ни об одной из команд. Но полагались на женскую интуицию.
— Команда «Мальмё Ф. Ф.»[35], — сказала я. — Звучит честно и приятно. Эти мальчуганы из Сконе[36], ясное дело, выиграют. Поставь им крестик, Ева!
— Глупышка! — сказал Ян. — Если ты думаешь, что они выиграют, поставь им в этом случае два крестика.
И тогда мы с Евой поставили по два крестика всем, про кого мы думали, что они выиграют. И нам посчастливилось. Мы угадали двенадцать раз. Понадобилась целая неделя, прежде чем Ян и Альберт нас простили.
— В ставках должны быть своего рода порядок и система, — поучительно сказала Ева.
Это было уже потом, когда мы немного успокоились. Вначале в угаре успеха мы только бегали кругами и кричали. Мы получили примерно три тысячи крон за наши двенадцать правильных ставок. Явно кроме нас было еще много тех, кто делал ставки по разумной системе.
— О! — сказала Ева. — С тремя тысячами крон можно многое сделать! Их можно положить в банк. Или начать грандиозную светскую жизнь, часто посещать рестораны. Или поехать в Италию!
— Да, — сказала я. — С тремя тысячами крон можно поехать в Италию.
— Да, но… ты в самом деле думаешь, что?.. — заколебавшись, спросила Ева.
— Ева, — ответила я, — согласно статистике, в этом году в Италию ездили шестьдесят семь тысяч шведов. И то, что достаточно хорошо для шестидесяти семи тысяч шведов, пожалуй, хорошо и для меня.
— Ну ладно, — согласилась Ева, — позвони в Центральное статистическое бюро или тому, кто там теперь этим занимается, и скажи, чтобы изменили цифру на шестьдесят семь тысяч ноль-ноль два.
Затем, обхватив друг друга за талию, мы, обезумев от радости, исполнили воинственный танец. Отпуск мечты — теперь он станет реальностью! Италия — небесная, солнечная Италия!
Многое может случиться за год! А путешествие в Италию было «событием», да, несомненно!
— Надо начинать учить итальянский, — сказала Ева. — Самые необходимые фразы, например: «Удивительно, какой у вас пламенный взгляд, синьор!» Или что-нибудь в этом роде!
«За год многое может случиться!» — сказал Ян, и я все усердней ждала, когда же наконец все начнется. Идти по водосточному желобу, спасая запертый в квартире гуляш, я вовсе не считала «событием», так же как и то, что Ева выскочила на ходу из автобуса, упала, оцарапав лицо о землю, и потом долго не осмеливалась показываться на людях.
— Разве это не событие? — горько вопрошала Ева. — Чего тебе, собственно говоря, надо? Может, ты признала бы «событием» ужасное кораблекрушение?
Она недовольно смотрелась в зеркало. Вся ее левая щека представляла собой один сплошной большой синяк. Ева считала, что в ближайшее время внешние контакты ей совершенно противопоказаны. Естественно, ей необходимо было ходить в контору, но все остальное время она большей частью сидела дома, к великому горю и досаде толпы энергичных молодых воздыхателей, которые звонили ей, приглашая провести с ними вечер. Она вообще отказывалась встречаться с людьми.
Единственный, кого она, несмотря на все попытки, не смогла удержать на расстоянии, был Альберт. У него появилась привычка бродить по нашей квартире, словно он огромный добрый сенбернар. Как только Альберт освобождался от своих фильмов, он располагался у нас, явно собираясь делать это и в дальнейшем, даже если бы Ева вся превратилась в один сплошной синяк.
Он принес с собой несколько алых роз и спел своим красивым баритоном: «Red roses for a blue lady»[34].
Ева, ворча, поставила цветы в вазу и прекратила борьбу. Яну тоже нельзя было отказать от дома, и поэтому мы все четверо вели некоторое время тихую домашнюю жизнь, пока синяк Евы не прошел.
Оба они — и Ян, и Альберт — были страстными футбольными болельщиками. Они болтали об «Общешведской футбольной команде», делали на нее ставки и были увлечены так, что нам с Евой это жутко надоело. Однажды они получили восемь крон пятьдесят эре за одну ставку, сочли это выдающимся, единственным в своем роде подвигом и не переставали им хвастаться.
— Восемь крон пятьдесят эре, — высокомерно заявила Ева, — есть из-за чего поднимать такой шум! Думаю, это вам, мальчики, не по зубам. Поставим и мы с Кати, тогда вы увидите, что из этого получится!
И мы поставили, едва отзвучали залпы надменного хохота. Мы ничегошеньки не знали ни об одной из команд. Но полагались на женскую интуицию.
— Команда «Мальмё Ф. Ф.»[35], — сказала я. — Звучит честно и приятно. Эти мальчуганы из Сконе[36], ясное дело, выиграют. Поставь им крестик, Ева!
— Глупышка! — сказал Ян. — Если ты думаешь, что они выиграют, поставь им в этом случае два крестика.
И тогда мы с Евой поставили по два крестика всем, про кого мы думали, что они выиграют. И нам посчастливилось. Мы угадали двенадцать раз. Понадобилась целая неделя, прежде чем Ян и Альберт нас простили.
— В ставках должны быть своего рода порядок и система, — поучительно сказала Ева.
Это было уже потом, когда мы немного успокоились. Вначале в угаре успеха мы только бегали кругами и кричали. Мы получили примерно три тысячи крон за наши двенадцать правильных ставок. Явно кроме нас было еще много тех, кто делал ставки по разумной системе.
— О! — сказала Ева. — С тремя тысячами крон можно многое сделать! Их можно положить в банк. Или начать грандиозную светскую жизнь, часто посещать рестораны. Или поехать в Италию!
— Да, — сказала я. — С тремя тысячами крон можно поехать в Италию.
— Да, но… ты в самом деле думаешь, что?.. — заколебавшись, спросила Ева.
— Ева, — ответила я, — согласно статистике, в этом году в Италию ездили шестьдесят семь тысяч шведов. И то, что достаточно хорошо для шестидесяти семи тысяч шведов, пожалуй, хорошо и для меня.
— Ну ладно, — согласилась Ева, — позвони в Центральное статистическое бюро или тому, кто там теперь этим занимается, и скажи, чтобы изменили цифру на шестьдесят семь тысяч ноль-ноль два.
Затем, обхватив друг друга за талию, мы, обезумев от радости, исполнили воинственный танец. Отпуск мечты — теперь он станет реальностью! Италия — небесная, солнечная Италия!
Многое может случиться за год! А путешествие в Италию было «событием», да, несомненно!
— Надо начинать учить итальянский, — сказала Ева. — Самые необходимые фразы, например: «Удивительно, какой у вас пламенный взгляд, синьор!» Или что-нибудь в этом роде!
 Ева упрямо настаивала на том, чтобы мы учили итальянский.
— Дорогая Кати! — со строгим видом говорила она. — Если собираешься ехать в чужую страну, необходимо хотя бы немного знать язык.
— Начнем зубрить грамматику? — спросила я. — Что-нибудь вроде: «Я любила бы…» — и в этом же роде?
— Не будь дурочкой, — сказала Ева. — Я имею в виду только то, что нам надо выучить самые употребительные фразы. Так мы получим гораздо большую пользу от поездки. Коренное население просто теряет голову от восторга, когда говорят на его собственном прекрасном родном языке. Хотя бы немного!
— Охотно! — согласилась я.
Ева немного торопилась, так что покупку необходимых учебников я взяла на себя. По дороге домой я завернула в магазин старой книги и приобрела несколько итальянских разговорников и словарей.
Прошло несколько дней, прежде чем у нас появилось время для занятий, но однажды в воскресенье, еще до полудня, когда шел дождь, Ева сочла, что торжественный миг настал. Мы как раз только что выпили утренний кофе и сидели в одних пижамах на диване в комнате Евы.
— А теперь посмотрим, — сказала Ева, жадно хватая верхнюю книгу из купленной стопки. Это была старая честная книга Кунце «Полиглот». — «Новый легко усваиваемый метод — сразу же начать говорить по-итальянски без учителя. Содержит все необходимые для повседневных нужд слова и обороты речи», — прочитала она. — Но это же великолепно, как раз то, что нам нужно!
Довольная, она откусила кусочек венской булочки и стала листать книгу.
— Посмотрим! — снова сказала она.
Некоторое время Ева молчала, но глаза ее медленно расширялись.
— Mi arrichi i baffi — дерни меня за усы, — прочитала она.
— Превосходно! — сказала я. — Мы не можем ехать в Италию, не овладев этим оборотом речи — таким емким искренним выражением чувств.
— Может, это выражение в стиле нашего «Поцелуй Карлссона»?[37] — спросила Ева. — В таком случае его, вероятно, можно употреблять.
— Читай дальше, — потребовала я.
И она так и сделала:
— «К вашим услугам, синьор, будьте так любезны подняться со мной наверх!»
— Думаю, это выражение нам лучше не учить, — сказала я. — Если мы начнем приглашать итальянских синьоров подняться с нами наверх, это повлечет сплошные недоразумения.
— Ты думаешь? — протянула Ева. — Во всяком случае, мне кажется, это лучше, чем предложить им спуститься с нами вниз, что могло бы означать «покатиться по наклонной плоскости» и так далее. Ну ты знаешь!
— Пусть господин Кунце нас извинит, но думаю, мы совершенно проигнорируем это крайне необходимое выражение, — ответила я, — тогда ты наверняка найдешь что-нибудь получше.
Ева перевернула страницу.
— Что скажешь об этом? — спросила она. — «Мне хочется приобрести пару сапог — это очень хорошие сапоги!»
— Звучит неплохо, — ответила я. — Мы поедем в Италию и купим там по паре сапог, которые нам, видимо, необходимы!
— Но они стоят денег! — воскликнула Ева.
— Сколько? — спросила я.
— Не знаю. Но скажи только: «Пожалуйста, счет!» — и сразу узнаешь, — уверила меня Ева.
— Ни одного дурного слова о господине Кунце, — заявила я, — он наверняка человек чести, но не кажется ли тебе, что его слова и обороты речи, пожалуй, чуточку опередили свое время? Перейдем лучше к этой книге!
Я схватила следующую книгу из стопки — это был разговорник, напечатанный в 1934 году.
— Что ни говори, — заметила Ева, — а разговорники интересны. Более или менее намеренно они многое разоблачают в той стране, о которой идет речь.
— В самом деле? — спросила я, испуганно глядя в разговорник. — Тогда нам лучше остерегаться Италии. Послушай-ка: «Этот человек украл у меня часы». «Я не могу найти свой железнодорожный вагон». «Здесь нет ночного горшка». «Ночью меня жутко мучили блохи…» В самом деле, какая опасная страна!
— Да уж! Взять хотя бы «Нет ночного горшка»! — возмущенно произнесла Ева. — И туда едут добровольно!
— Да, Ева, — продолжала я. — А население Италии производит впечатление людей грубых и навязчивых. Послушай-ка, что значится в рубрике «Чаевые»: «Если вы такой бессовестный, вы вообще ничего не получите… Если вы не оставите меня в покое, я вызову полицию!»
— Становится страшно, — резюмировала Ева.
— Все эти итальянские мужчины и назойливы, и плутоваты, уж поверь мне, — сказала я и продолжила чтение: — «Этот человек без всякого повода оскорбил меня — он только притворяется глухим».
— Почему он притворяется глухим? — со свойственной ей любознательностью спросила Ева. — Почему, во имя неба?
— Этого в разговорнике нет, — ответила я. — Очевидно, это часть какого-то коварного и ужасного плана. В решающий момент наверняка выяснится, что он, этот остолоп, слышит как нельзя лучше.
— Все это настораживает, — сказала Ева, наливая по рюмочке ликера. — Предлагаю прекратить занятия итальянским, а не то мы наберемся такого страху, что побоимся ехать.
— О нет! — сказала я. — Ты послала меня купить книги, и теперь уж я позабочусь о том, чтобы ты все-таки выучила итальянский и смогла обходиться без посторонней помощи в чужой стране. Как ты сама сказала: только самые необходимые фразы!
— Например? — спросила Ева.
— Например, вот эта, — ответила я, предварительно заглянув в книгу. — «Могу я попросить у вас понюшку табака?»
— Да, да, — глухо сказала Ева. — Ужасно, если бы мне пришлось блуждать по Венеции обезумевшей из-за отсутствия нюхательного табака. И все только из-за того, что я не знаю, как он называется по-итальянски.
— Такого случиться не должно, — решила я. — Ты совершенно спокойно подойдешь к пожилому синьору на пьяцце[38], трогательно посмотришь на него и совершенно непринужденно скажешь: «Mi favorirebbe ипа presa?» — «Могу я попросить понюшку табака?»
Ева кивнула:
— Это разумная просьба, на которую нельзя не откликнуться.
— Да, а туземцы совершенно обалдеют от восторга, если с ними станут разговаривать на их собственном прекрасном родном языке, ведь ты так сказала, верно? Старикашка сбагрит тебе целую табакерку нюхательного табака, уж поверь мне!
Глаза Евы засверкали от восторга.
— Я начинаю думать, — сказала она, — что мы здорово повеселимся в Италии. Но одно меня удивляет: что за люди составляют эти разговорники?
Я не ответила. Потому что нашла в книжке кое-что очень интересное: список «наиболее распространенных болезней». Начинался он очень многообещающе — алкогольным отравлением и кончался совершенно логично почечной коликой. Опасная страна эта Италия! Сразу видишь, до чего в Италии доводит неудержимая страсть к пьянству.
Я углубилась в названия болезней. Болезнь может быть либо «ereditaria», то есть наследственная, либо «di corso lento» — вялотекущая, либо «uncurabile» — неизлечимая, объяснял словарь-разговорник. Я тотчас же принялась зубрить все эти слова и выражения.
Но Ева сочла такое усердие преувеличенным.
— К чему это? — спросила она.
— К чему? — переспросила я. — Ты ведь сама сказала, что мы должны учить итальянский. А если в Италии я заболею, то, думаю, смогу сказать врачу на звучном итальянском: я подозреваю, что у меня вялотекущая почечная колика.
— Дерни меня за усы и поцелуй Карлссона, — сказала Ева, швырнув разговорник на пол.
Ева упрямо настаивала на том, чтобы мы учили итальянский.
— Дорогая Кати! — со строгим видом говорила она. — Если собираешься ехать в чужую страну, необходимо хотя бы немного знать язык.
— Начнем зубрить грамматику? — спросила я. — Что-нибудь вроде: «Я любила бы…» — и в этом же роде?
— Не будь дурочкой, — сказала Ева. — Я имею в виду только то, что нам надо выучить самые употребительные фразы. Так мы получим гораздо большую пользу от поездки. Коренное население просто теряет голову от восторга, когда говорят на его собственном прекрасном родном языке. Хотя бы немного!
— Охотно! — согласилась я.
Ева немного торопилась, так что покупку необходимых учебников я взяла на себя. По дороге домой я завернула в магазин старой книги и приобрела несколько итальянских разговорников и словарей.
Прошло несколько дней, прежде чем у нас появилось время для занятий, но однажды в воскресенье, еще до полудня, когда шел дождь, Ева сочла, что торжественный миг настал. Мы как раз только что выпили утренний кофе и сидели в одних пижамах на диване в комнате Евы.
— А теперь посмотрим, — сказала Ева, жадно хватая верхнюю книгу из купленной стопки. Это была старая честная книга Кунце «Полиглот». — «Новый легко усваиваемый метод — сразу же начать говорить по-итальянски без учителя. Содержит все необходимые для повседневных нужд слова и обороты речи», — прочитала она. — Но это же великолепно, как раз то, что нам нужно!
Довольная, она откусила кусочек венской булочки и стала листать книгу.
— Посмотрим! — снова сказала она.
Некоторое время Ева молчала, но глаза ее медленно расширялись.
— Mi arrichi i baffi — дерни меня за усы, — прочитала она.
— Превосходно! — сказала я. — Мы не можем ехать в Италию, не овладев этим оборотом речи — таким емким искренним выражением чувств.
— Может, это выражение в стиле нашего «Поцелуй Карлссона»?[37] — спросила Ева. — В таком случае его, вероятно, можно употреблять.
— Читай дальше, — потребовала я.
И она так и сделала:
— «К вашим услугам, синьор, будьте так любезны подняться со мной наверх!»
— Думаю, это выражение нам лучше не учить, — сказала я. — Если мы начнем приглашать итальянских синьоров подняться с нами наверх, это повлечет сплошные недоразумения.
— Ты думаешь? — протянула Ева. — Во всяком случае, мне кажется, это лучше, чем предложить им спуститься с нами вниз, что могло бы означать «покатиться по наклонной плоскости» и так далее. Ну ты знаешь!
— Пусть господин Кунце нас извинит, но думаю, мы совершенно проигнорируем это крайне необходимое выражение, — ответила я, — тогда ты наверняка найдешь что-нибудь получше.
Ева перевернула страницу.
— Что скажешь об этом? — спросила она. — «Мне хочется приобрести пару сапог — это очень хорошие сапоги!»
— Звучит неплохо, — ответила я. — Мы поедем в Италию и купим там по паре сапог, которые нам, видимо, необходимы!
— Но они стоят денег! — воскликнула Ева.
— Сколько? — спросила я.
— Не знаю. Но скажи только: «Пожалуйста, счет!» — и сразу узнаешь, — уверила меня Ева.
— Ни одного дурного слова о господине Кунце, — заявила я, — он наверняка человек чести, но не кажется ли тебе, что его слова и обороты речи, пожалуй, чуточку опередили свое время? Перейдем лучше к этой книге!
Я схватила следующую книгу из стопки — это был разговорник, напечатанный в 1934 году.
— Что ни говори, — заметила Ева, — а разговорники интересны. Более или менее намеренно они многое разоблачают в той стране, о которой идет речь.
— В самом деле? — спросила я, испуганно глядя в разговорник. — Тогда нам лучше остерегаться Италии. Послушай-ка: «Этот человек украл у меня часы». «Я не могу найти свой железнодорожный вагон». «Здесь нет ночного горшка». «Ночью меня жутко мучили блохи…» В самом деле, какая опасная страна!
— Да уж! Взять хотя бы «Нет ночного горшка»! — возмущенно произнесла Ева. — И туда едут добровольно!
— Да, Ева, — продолжала я. — А население Италии производит впечатление людей грубых и навязчивых. Послушай-ка, что значится в рубрике «Чаевые»: «Если вы такой бессовестный, вы вообще ничего не получите… Если вы не оставите меня в покое, я вызову полицию!»
— Становится страшно, — резюмировала Ева.
— Все эти итальянские мужчины и назойливы, и плутоваты, уж поверь мне, — сказала я и продолжила чтение: — «Этот человек без всякого повода оскорбил меня — он только притворяется глухим».
— Почему он притворяется глухим? — со свойственной ей любознательностью спросила Ева. — Почему, во имя неба?
— Этого в разговорнике нет, — ответила я. — Очевидно, это часть какого-то коварного и ужасного плана. В решающий момент наверняка выяснится, что он, этот остолоп, слышит как нельзя лучше.
— Все это настораживает, — сказала Ева, наливая по рюмочке ликера. — Предлагаю прекратить занятия итальянским, а не то мы наберемся такого страху, что побоимся ехать.
— О нет! — сказала я. — Ты послала меня купить книги, и теперь уж я позабочусь о том, чтобы ты все-таки выучила итальянский и смогла обходиться без посторонней помощи в чужой стране. Как ты сама сказала: только самые необходимые фразы!
— Например? — спросила Ева.
— Например, вот эта, — ответила я, предварительно заглянув в книгу. — «Могу я попросить у вас понюшку табака?»
— Да, да, — глухо сказала Ева. — Ужасно, если бы мне пришлось блуждать по Венеции обезумевшей из-за отсутствия нюхательного табака. И все только из-за того, что я не знаю, как он называется по-итальянски.
— Такого случиться не должно, — решила я. — Ты совершенно спокойно подойдешь к пожилому синьору на пьяцце[38], трогательно посмотришь на него и совершенно непринужденно скажешь: «Mi favorirebbe ипа presa?» — «Могу я попросить понюшку табака?»
Ева кивнула:
— Это разумная просьба, на которую нельзя не откликнуться.
— Да, а туземцы совершенно обалдеют от восторга, если с ними станут разговаривать на их собственном прекрасном родном языке, ведь ты так сказала, верно? Старикашка сбагрит тебе целую табакерку нюхательного табака, уж поверь мне!
Глаза Евы засверкали от восторга.
— Я начинаю думать, — сказала она, — что мы здорово повеселимся в Италии. Но одно меня удивляет: что за люди составляют эти разговорники?
Я не ответила. Потому что нашла в книжке кое-что очень интересное: список «наиболее распространенных болезней». Начинался он очень многообещающе — алкогольным отравлением и кончался совершенно логично почечной коликой. Опасная страна эта Италия! Сразу видишь, до чего в Италии доводит неудержимая страсть к пьянству.
Я углубилась в названия болезней. Болезнь может быть либо «ereditaria», то есть наследственная, либо «di corso lento» — вялотекущая, либо «uncurabile» — неизлечимая, объяснял словарь-разговорник. Я тотчас же принялась зубрить все эти слова и выражения.
Но Ева сочла такое усердие преувеличенным.
— К чему это? — спросила она.
— К чему? — переспросила я. — Ты ведь сама сказала, что мы должны учить итальянский. А если в Италии я заболею, то, думаю, смогу сказать врачу на звучном итальянском: я подозреваю, что у меня вялотекущая почечная колика.
— Дерни меня за усы и поцелуй Карлссона, — сказала Ева, швырнув разговорник на пол.
 Два Рыцаря Печального Образа[39] стояли на перроне. Это были Ян и Альберт. При скудном освещении оба казались бледно-серыми и немного обиженными судьбой.
— Они производят такое же бодрое и смешное впечатление, как главные герои современного романа, — сочувственно сказала я.
— В то время как мы, напротив, кипим и прыгаем от радости, словно герои эпохи Ренессанса[40], — сказала Ева.
Ян с упреком смотрел на окно нашего купе.
— Послушай-ка, Кати! — сказал он. — Надеюсь, ты не слишком будешь прыгать от радости. Шведских девушек, которые, стоит им выехать за границу, срываются с тормозов, и без тебя хватает!
— И я, конечно, тоже сорвусь, — сказала я. — Все мои тормоза отпадут, как остатки кожи, которая шелушится после скарлатины.
Но в этот миг поезд тронулся, и если Ян и высказывал еще какие-то предостережения, то я, во всяком случае, не расслышала. Он исчез из поля зрения, и я его больше не видела. Некоторое время я по-прежнему стояла у окна, погрузившись в размышления. Почему-то я почувствовала, что Ян исчез не только из поля моего зрения, но и из моей жизни вообще. Я не хотела этого, но тут уж ничего не поделаешь! Я не могла избавиться от ощущения, будто оставляю нечто безвозвратно прошедшее. Это немного испугало и опечалило меня.
— Прости меня, Ян, — прошептала я, прижавшись лицом к стеклу.
Ведь если даже иногда его предупреждения надоедали мне и я чувствовала себя чуточку оскорбленной его недостаточным вниманием к моему внутреннему «я», все же он был всегда так добр ко мне! И я дружила с ним целых три года. Мне вовсе не нравилось это новое ощущение, словно он ускользает от меня.
Но Ева не оставила мне ни минуты для подобных размышлений. Ведь мы были на пути к солнечной Италии, и радость Евы, ее восхищение были слышны всему поезду. Еще долго после того, как мы влезли на полки в спальном вагоне, она хихикала, и болтала, и журчала, и ворковала, так что пассажиры соседнего купе, которые явно не были людьми эпохи Ренессанса, в конце концов стали стучать в стенку, чтобы заставить ее замолчать.
Два Рыцаря Печального Образа[39] стояли на перроне. Это были Ян и Альберт. При скудном освещении оба казались бледно-серыми и немного обиженными судьбой.
— Они производят такое же бодрое и смешное впечатление, как главные герои современного романа, — сочувственно сказала я.
— В то время как мы, напротив, кипим и прыгаем от радости, словно герои эпохи Ренессанса[40], — сказала Ева.
Ян с упреком смотрел на окно нашего купе.
— Послушай-ка, Кати! — сказал он. — Надеюсь, ты не слишком будешь прыгать от радости. Шведских девушек, которые, стоит им выехать за границу, срываются с тормозов, и без тебя хватает!
— И я, конечно, тоже сорвусь, — сказала я. — Все мои тормоза отпадут, как остатки кожи, которая шелушится после скарлатины.
Но в этот миг поезд тронулся, и если Ян и высказывал еще какие-то предостережения, то я, во всяком случае, не расслышала. Он исчез из поля зрения, и я его больше не видела. Некоторое время я по-прежнему стояла у окна, погрузившись в размышления. Почему-то я почувствовала, что Ян исчез не только из поля моего зрения, но и из моей жизни вообще. Я не хотела этого, но тут уж ничего не поделаешь! Я не могла избавиться от ощущения, будто оставляю нечто безвозвратно прошедшее. Это немного испугало и опечалило меня.
— Прости меня, Ян, — прошептала я, прижавшись лицом к стеклу.
Ведь если даже иногда его предупреждения надоедали мне и я чувствовала себя чуточку оскорбленной его недостаточным вниманием к моему внутреннему «я», все же он был всегда так добр ко мне! И я дружила с ним целых три года. Мне вовсе не нравилось это новое ощущение, словно он ускользает от меня.
Но Ева не оставила мне ни минуты для подобных размышлений. Ведь мы были на пути к солнечной Италии, и радость Евы, ее восхищение были слышны всему поезду. Еще долго после того, как мы влезли на полки в спальном вагоне, она хихикала, и болтала, и журчала, и ворковала, так что пассажиры соседнего купе, которые явно не были людьми эпохи Ренессанса, в конце концов стали стучать в стенку, чтобы заставить ее замолчать.
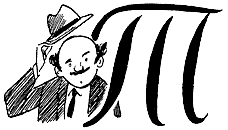 Туристические поездки имеют свои прелести, и нас действительно предупреждали об этом осмотрительные люди (то есть Ян и Альберт), прежде чем мы уехали из дома.
— Туристические поездки… — презрительно фыркнув, сказал Альберт. — Да, если жутко хочется тащиться через сотни церквей с толпой жирных теток в цветастых летних платьях, то лучше туристических поездок ничего не найти.
— А что плохого в цветастых летних платьях? — спросила Ева. — И вообще, с таким маленьким опытом путешествий, как у меня, гид необходим. Я совершенно растеряюсь, если придется пересаживаться из одного поезда в другой.
— Как, ты ведь не раз ездила в Омоль и обратно. И сама техника этого тебе известна, — напомнила я.
Альберт рассказал, что однажды в ранней юности ездил с туристической группой во Францию. Когда он вернулся домой, его товарищи, хитро подмигивая, спросили:
— Ну, что за девочки в Париже?
— Не имею ни малейшего представления, — ответил Альберт. — Но преподавательницы подготовительных классов народной школы в Маркарюде очаровательны.
Альберт уверял, что этим о туристических поездках все сказано.
— У вас не будет никакого контакта с итальянским народом, — предупредил он.
— Ха! — воскликнула я. — Ты не знаешь нас с Евой! Итальянский народ не успеет опомниться, как мы с ним подружимся.
Нет, у нас с Евой не было предвзятого мнения о туристических поездках, и мы с самыми радужными надеждами явились на Центральный вокзал, где у турникета при входе на перрон римского экспресса был назначен сбор группы. Первый, кого мы увидели, был господин Густафссон. Он тоже увидел нас. Солнечное сияние, озарявшее его в кабачке Драхмана, совершенно исчезло с чела этого туриста. Остались лишь красные следы от укусов комаров, которые при нашем приближении стали еще краснее. Господин Густафссон упорно смотрел в сторону. Рядом с ним стояла дама приятной, но весьма решительной внешности.
— Его жена, если не ошибаюсь, — сказала Ева.
— Ты так думаешь? — спросила я.
— Мой дорогой Ватсон![49] Только жена может показать, что она управляет мужем, подняв брови всего на полсантиметра.
Но где же молодые широкоплечие мужчины, с которыми мы собирались мечтать под озаренным лунной венецианским небом? Здесь, во всяком случае, их не было! Здесь был, насколько нам удалось разглядеть, всего лишь один мужчина, да и тот гид. О нем в самом деле можно было сказать: «Он был силен, за его спиной стояли женщины!» И не только за его спиной, но и вокруг него, со всех четырех сторон, стояли женщины! Как изюмины в скудном пудинге, торчала то тут, то там одинокая мужская голова, но ни одна из них не была такой, чтобы непосредственно навести на мысль о ночных прогулках под луной в небе Венеции.
— Всегда переизбыток женщин! — вздохнула Ева.
— Ты что, не одобряешь свой пол? — спросила я.
— Да нет, конечно одобряю, — сказала Ева. — Но эти мужчины стали такие капризными и избалованными, что просто непереносимо! Я-то уж знаю, знаю. У самого никудышного парня, если его окружает дюжина женщин, которые непрерывно перед ним рисуются, рано или поздно случается приступ мании королевского величия.
С нашей стороны, во всяком случае, никакой готовности не будет. В этом мы с Евой были едины. С этим твердым намерением мы и вошли в зарезервированный для нас вагон вместе с будущими спутниками. Все втихомолку разглядывали друг друга. На пароме между Корсёром и Нюборгом[50] мы ели ленч, и была всеобщая презентация. Все ходили и пожимали друг другу руки. Разумеется, и господин Густафссон подошел к нам вместе со своей женой и протянул нам свою маленькую, пухлую, как булочка, руку.
— Густафссон! — натянуто сказал он.
— Мы начинаем вам верить! — ответила Ева.
По вопросу о туристических поездках можно сказать то же самое, что Сторм Петерсен[51] сказал об искусстве играть на контрабасе: «Самое трудное — транспортировка». Длинные железнодорожные перегоны, прежде чем прибудешь на место, могут несколько изнурить, когда сидишь взаперти несколько суток в одном и том же вагоне и все время видишь вокруг себя одни и те же лица. Вначале туристы как бы застегнуты на все пуговицы и настороженны. Вежливы друг с другом, но не более того. Прежде чем начать выдавать какие-то сердечные тайны, все хотят удостовериться в том, что имеют дело с порядочными людьми. Но когда позади остается изрядная часть Германии, лед начинает трогаться. Все входят и выходят из купе, и болтают, и рассказывают, потому что уже знают: спутники у них — великолепнейшие люди. Все едят завтрак, ленч и обед вместе в вагоне-ресторане, и делятся бутылкой вина, и неожиданно узнают, что у них множество общих знакомых. Вытаскивают фотографии детей и фотографии виллы и летнего домика, чтобы каждый мог видеть: ты не первый встречный и имеешь солидный доход. И образуются мелкие кружки, компании, Которые сохраняются на протяжении всего маршрута.
Мы с Евой решили не примыкать слишком тесно к какой-нибудь компании. Мы хотели по приезде в Италию передвигаться совершенно самостоятельно. Мы были сами юными в этом обществе, состоявшем, вообще-то, либо из супружеских пар средних лет, либо средних же лет одиноких женщин. Во всей этой толпе, кроме гида, был еще один холостяк, это адъюнкт[52] Мальмин, очень нарядный и совершенно сухой по натуре господин лет сорока. Он называл нас с Евой «девчушки», но все же был очень любезен и обещал дать нам небольшое представление о культуре Италии, если у него, конечно, найдется для этого время.
Нельзя судить о людях по первому впечатлению. Когда мы с Евой обходили наших спутников, знакомясь с ними, тo, конечно, сначала решили, что это скопище старых болванов, в обществе которых нам нечего ждать удовольствия. И мы было подумали, уж не прав ли Альберт в вопросе о туристических поездках?! Но мало-помалу мы пришли к выводу, что большинство из наших «болванов» были по-настоящему человечны, приятны и просто занимательны. Даже господин Густафссон оказался милашкой. Он часто заходил в наше купе и рассказывал о своем «шефе». Господин Густафссон был главным бухгалтером в большой фирме, торговавшей луковицами цветов и семенами, а шеф этой фирмы отравлял жизнь господина Густафссона.
— И человек, который едва знает, как выглядит луковица тюльпана, является и вмешивается во все дела! — восклицал господин Густафссон, с тоской глядя нам в глаза и взывая к сочувствию.
И мы с Евой, содрогаясь от ужаса, говорили, что это просто безобразие, когда люди вмешиваются в чужие дела, не имея ни малейшего представления о луковицах тюльпанов. Господин Густафссон счел нас необычайно понятливыми для своего возраста и объявил свое мнение всему остальному обществу. Вообще многим казалось, что мы понятливы. Так думала и фру Берг. Она тоже приходила в наше купе и изливала душу. Фру Берг была весьма состоятельная дама, она владела большими домами в Стокгольме и ехала в Италию, только чтобы хоть чем-то заняться. У нее были черные, как вороново крыло, крашеные волосы, и когда-то она, должно быть, была красива. Но это было давным-давно. Теперь это была раздражительная старуха, которая жаловалась на высокие налоги и вероломных мужчин. Мужчины в ее жизни — это была постоянная тема разговора, и она перечисляла их Еве и мне так, словно речь шла о кабинете министров страны, годах правления и прочем.
— Какая поразительная откровенность! — сказала я, когда однажды фру Берг покинула наше купе.
— Какая поразительная память! — воскликнула Ева.
Но одна из наших спутниц была милее всех остальных, вместе взятых. Это была фрёкен Стрёмберг, Фрида Стрёмберг, ехавшая в свое первое заграничное путешествие. Она явилась прямо от кухонной плиты в пансионате, где была поварихой, и с бьющимся от волнения сердцем села в поезд, который должен был увезти ее в чудесный мир. Фрёкен Стрёмберг и в самом деле думала, что мир чудесен! В первый день она сидела, как маленький испуганный воробушек, не смея вымолвить ни слова. Но все достопримечательности, которые она видела из окна купе, приводили ее в такой безумный восторг, что она больше не могла молчать.
— Милые вы мои люди, как это чудесно! — закричала фрёкен Стрёмберг, когда мы миновали мост над Кильским каналом[53].
Она разражалась столь же ликующими восклицаниями даже тогда, когда никто другой не видел ничего поразительного или бросающегося в глаза. Фрёкен Стрёмберг была чрезвычайно начитанна. Она действительно кое-что знала об Италии, в отличие от большинства из нас. И у нее была детская способность радоваться увиденному.
— Подумать только, мы увидим Уффици![54] Милые вы мои люди! Как это будет чудесно, — сказала Фрида, и ее светло-голубые глаза засияли так, что большое лицо поварихи стало по-настоящему прекрасным!
Мы оставили Германию позади и выехали в зеленую нарядную Швейцарию. В Сен-Готардеком туннеле[55] у меня начало так стучать в ушах, что я, к сожалению, не смогла расслышать, что господин Густафссон собирался сказать своему шефу, как только представится подходящий случай. Но то, что он разберется с ним всерьез, мне, во всяком случае, стало ясно.
Но вот поезд подошел к Кьяссо, итальянской пограничной станции, и мы с Евой принялись изучать народную жизнь через окно купе. На перроне стояли двое парней и разговаривали между собой на языке знаков. Они делали удивительные жесты, тыкали пальцами и были необычайно подвижны.
— Посмотри, вот бедняги — глухонемые! — сказала я.
Честное слово, я думала, что они глухонемые. Но тут Ева расхохоталась и открыла окно, и я услышала их журчащие голоса. Не были они глухонемыми!
— Ты уже в Италии, моя девочка! — сообщила Ева.
Туристические поездки имеют свои прелести, и нас действительно предупреждали об этом осмотрительные люди (то есть Ян и Альберт), прежде чем мы уехали из дома.
— Туристические поездки… — презрительно фыркнув, сказал Альберт. — Да, если жутко хочется тащиться через сотни церквей с толпой жирных теток в цветастых летних платьях, то лучше туристических поездок ничего не найти.
— А что плохого в цветастых летних платьях? — спросила Ева. — И вообще, с таким маленьким опытом путешествий, как у меня, гид необходим. Я совершенно растеряюсь, если придется пересаживаться из одного поезда в другой.
— Как, ты ведь не раз ездила в Омоль и обратно. И сама техника этого тебе известна, — напомнила я.
Альберт рассказал, что однажды в ранней юности ездил с туристической группой во Францию. Когда он вернулся домой, его товарищи, хитро подмигивая, спросили:
— Ну, что за девочки в Париже?
— Не имею ни малейшего представления, — ответил Альберт. — Но преподавательницы подготовительных классов народной школы в Маркарюде очаровательны.
Альберт уверял, что этим о туристических поездках все сказано.
— У вас не будет никакого контакта с итальянским народом, — предупредил он.
— Ха! — воскликнула я. — Ты не знаешь нас с Евой! Итальянский народ не успеет опомниться, как мы с ним подружимся.
Нет, у нас с Евой не было предвзятого мнения о туристических поездках, и мы с самыми радужными надеждами явились на Центральный вокзал, где у турникета при входе на перрон римского экспресса был назначен сбор группы. Первый, кого мы увидели, был господин Густафссон. Он тоже увидел нас. Солнечное сияние, озарявшее его в кабачке Драхмана, совершенно исчезло с чела этого туриста. Остались лишь красные следы от укусов комаров, которые при нашем приближении стали еще краснее. Господин Густафссон упорно смотрел в сторону. Рядом с ним стояла дама приятной, но весьма решительной внешности.
— Его жена, если не ошибаюсь, — сказала Ева.
— Ты так думаешь? — спросила я.
— Мой дорогой Ватсон![49] Только жена может показать, что она управляет мужем, подняв брови всего на полсантиметра.
Но где же молодые широкоплечие мужчины, с которыми мы собирались мечтать под озаренным лунной венецианским небом? Здесь, во всяком случае, их не было! Здесь был, насколько нам удалось разглядеть, всего лишь один мужчина, да и тот гид. О нем в самом деле можно было сказать: «Он был силен, за его спиной стояли женщины!» И не только за его спиной, но и вокруг него, со всех четырех сторон, стояли женщины! Как изюмины в скудном пудинге, торчала то тут, то там одинокая мужская голова, но ни одна из них не была такой, чтобы непосредственно навести на мысль о ночных прогулках под луной в небе Венеции.
— Всегда переизбыток женщин! — вздохнула Ева.
— Ты что, не одобряешь свой пол? — спросила я.
— Да нет, конечно одобряю, — сказала Ева. — Но эти мужчины стали такие капризными и избалованными, что просто непереносимо! Я-то уж знаю, знаю. У самого никудышного парня, если его окружает дюжина женщин, которые непрерывно перед ним рисуются, рано или поздно случается приступ мании королевского величия.
С нашей стороны, во всяком случае, никакой готовности не будет. В этом мы с Евой были едины. С этим твердым намерением мы и вошли в зарезервированный для нас вагон вместе с будущими спутниками. Все втихомолку разглядывали друг друга. На пароме между Корсёром и Нюборгом[50] мы ели ленч, и была всеобщая презентация. Все ходили и пожимали друг другу руки. Разумеется, и господин Густафссон подошел к нам вместе со своей женой и протянул нам свою маленькую, пухлую, как булочка, руку.
— Густафссон! — натянуто сказал он.
— Мы начинаем вам верить! — ответила Ева.
По вопросу о туристических поездках можно сказать то же самое, что Сторм Петерсен[51] сказал об искусстве играть на контрабасе: «Самое трудное — транспортировка». Длинные железнодорожные перегоны, прежде чем прибудешь на место, могут несколько изнурить, когда сидишь взаперти несколько суток в одном и том же вагоне и все время видишь вокруг себя одни и те же лица. Вначале туристы как бы застегнуты на все пуговицы и настороженны. Вежливы друг с другом, но не более того. Прежде чем начать выдавать какие-то сердечные тайны, все хотят удостовериться в том, что имеют дело с порядочными людьми. Но когда позади остается изрядная часть Германии, лед начинает трогаться. Все входят и выходят из купе, и болтают, и рассказывают, потому что уже знают: спутники у них — великолепнейшие люди. Все едят завтрак, ленч и обед вместе в вагоне-ресторане, и делятся бутылкой вина, и неожиданно узнают, что у них множество общих знакомых. Вытаскивают фотографии детей и фотографии виллы и летнего домика, чтобы каждый мог видеть: ты не первый встречный и имеешь солидный доход. И образуются мелкие кружки, компании, Которые сохраняются на протяжении всего маршрута.
Мы с Евой решили не примыкать слишком тесно к какой-нибудь компании. Мы хотели по приезде в Италию передвигаться совершенно самостоятельно. Мы были сами юными в этом обществе, состоявшем, вообще-то, либо из супружеских пар средних лет, либо средних же лет одиноких женщин. Во всей этой толпе, кроме гида, был еще один холостяк, это адъюнкт[52] Мальмин, очень нарядный и совершенно сухой по натуре господин лет сорока. Он называл нас с Евой «девчушки», но все же был очень любезен и обещал дать нам небольшое представление о культуре Италии, если у него, конечно, найдется для этого время.
Нельзя судить о людях по первому впечатлению. Когда мы с Евой обходили наших спутников, знакомясь с ними, тo, конечно, сначала решили, что это скопище старых болванов, в обществе которых нам нечего ждать удовольствия. И мы было подумали, уж не прав ли Альберт в вопросе о туристических поездках?! Но мало-помалу мы пришли к выводу, что большинство из наших «болванов» были по-настоящему человечны, приятны и просто занимательны. Даже господин Густафссон оказался милашкой. Он часто заходил в наше купе и рассказывал о своем «шефе». Господин Густафссон был главным бухгалтером в большой фирме, торговавшей луковицами цветов и семенами, а шеф этой фирмы отравлял жизнь господина Густафссона.
— И человек, который едва знает, как выглядит луковица тюльпана, является и вмешивается во все дела! — восклицал господин Густафссон, с тоской глядя нам в глаза и взывая к сочувствию.
И мы с Евой, содрогаясь от ужаса, говорили, что это просто безобразие, когда люди вмешиваются в чужие дела, не имея ни малейшего представления о луковицах тюльпанов. Господин Густафссон счел нас необычайно понятливыми для своего возраста и объявил свое мнение всему остальному обществу. Вообще многим казалось, что мы понятливы. Так думала и фру Берг. Она тоже приходила в наше купе и изливала душу. Фру Берг была весьма состоятельная дама, она владела большими домами в Стокгольме и ехала в Италию, только чтобы хоть чем-то заняться. У нее были черные, как вороново крыло, крашеные волосы, и когда-то она, должно быть, была красива. Но это было давным-давно. Теперь это была раздражительная старуха, которая жаловалась на высокие налоги и вероломных мужчин. Мужчины в ее жизни — это была постоянная тема разговора, и она перечисляла их Еве и мне так, словно речь шла о кабинете министров страны, годах правления и прочем.
— Какая поразительная откровенность! — сказала я, когда однажды фру Берг покинула наше купе.
— Какая поразительная память! — воскликнула Ева.
Но одна из наших спутниц была милее всех остальных, вместе взятых. Это была фрёкен Стрёмберг, Фрида Стрёмберг, ехавшая в свое первое заграничное путешествие. Она явилась прямо от кухонной плиты в пансионате, где была поварихой, и с бьющимся от волнения сердцем села в поезд, который должен был увезти ее в чудесный мир. Фрёкен Стрёмберг и в самом деле думала, что мир чудесен! В первый день она сидела, как маленький испуганный воробушек, не смея вымолвить ни слова. Но все достопримечательности, которые она видела из окна купе, приводили ее в такой безумный восторг, что она больше не могла молчать.
— Милые вы мои люди, как это чудесно! — закричала фрёкен Стрёмберг, когда мы миновали мост над Кильским каналом[53].
Она разражалась столь же ликующими восклицаниями даже тогда, когда никто другой не видел ничего поразительного или бросающегося в глаза. Фрёкен Стрёмберг была чрезвычайно начитанна. Она действительно кое-что знала об Италии, в отличие от большинства из нас. И у нее была детская способность радоваться увиденному.
— Подумать только, мы увидим Уффици![54] Милые вы мои люди! Как это будет чудесно, — сказала Фрида, и ее светло-голубые глаза засияли так, что большое лицо поварихи стало по-настоящему прекрасным!
Мы оставили Германию позади и выехали в зеленую нарядную Швейцарию. В Сен-Готардеком туннеле[55] у меня начало так стучать в ушах, что я, к сожалению, не смогла расслышать, что господин Густафссон собирался сказать своему шефу, как только представится подходящий случай. Но то, что он разберется с ним всерьез, мне, во всяком случае, стало ясно.
Но вот поезд подошел к Кьяссо, итальянской пограничной станции, и мы с Евой принялись изучать народную жизнь через окно купе. На перроне стояли двое парней и разговаривали между собой на языке знаков. Они делали удивительные жесты, тыкали пальцами и были необычайно подвижны.
— Посмотри, вот бедняги — глухонемые! — сказала я.
Честное слово, я думала, что они глухонемые. Но тут Ева расхохоталась и открыла окно, и я услышала их журчащие голоса. Не были они глухонемыми!
— Ты уже в Италии, моя девочка! — сообщила Ева.
 О! Какое удивительное чувство — проснуться в чужом городе, в чужой стране! Проснуться в Италии! Конечно, всего лишь в Милане, но… тем не менее! Ну конечно, сам по себе Милан, вероятно, не «всего лишь»[56], но город этот не вопиет тающим от восторга голосом на каждой улице и в каждом переулке: «Италия!» Он почти такой же, как любой большой город.
— Но по сравнению с Омолем Милан, безусловно, имеет свои преимущества и свое очарование, — сказала Ева, когда мы вышли утром из отеля и увидели, как мельтешат перед глазами машины, и ощутили всеми фибрами души чужую атмосферу.
После Копенгагена мы практически нигде не побывали, только ехали на поезде, и, когда поздним вечером прибыли на гигантский Центральный вокзал Милана, тотчас направились прямо в отель и стремглав бросились в постель. Поэтому наш первый трепетный контакт с новой и незнакомой нам страной состоялся утром.
На свете, вероятно, немного впечатлений, сравнимых с чувством, испытываемым ранним утром на залитой солнцем улице, о которой ничего не знаешь, в городе, о котором ничего не знаешь, в толпе людей, о которых ничего не знаешь. В тебе бурлит радость открытия, ведь за ближайшим углом может случиться все, что угодно. С замиранием сердца ожидаешь чего-то, как в детстве, когда ты читала о сказочном принце: «И отправился он бродить по белу свету». Ах, мне всегда так нравилось, когда принц отправлялся бродить по белу свету, потому что тогда-то и начинались приключения, там можно было найти в траве золотое яблоко, а галоши счастья только и ждали, чтобы их надели на ноги[57].
Мы с Евой быстро пустились в путь по солнечной улице, уверенные, что найдем на дороге много золотых яблок. Нашли мы не совсем золотые яблоки, но персики уж точно!.. Огромные сочные персики, которые продавались почти даром. Маленький старичок во фруктовой лавке был первым итальянцем, с которым мы заговорили, и он чуть не сбился с ног, показывая нам дорогу к Пьяцца-дель-Дуомо[58]. Мы поблагодарили его и пошли в ту сторону, куда он показал. Персиковый сок стекал у нас по подбородкам и пальцам.
Не успели мы сделать и нескольких шагов, как я схватила Еву за руку. Мы как вкопанные остановились в восторге перед потрясающим зрелищем. Нет, это был не Миланский собор! Это был полицейский — весь в белом! Он стоял посреди необычайно оживленного движения на большущей шляпной коробке с черно-белыми полосами и гигантским красным сердцем! Постамент этот был точно как коробка для шляп! Ах, как это было прелестно! Вскоре мы обнаружили, что в городе все полицейские — регулировщики движения стоят точно так же и что коробки для шляп — это реклама известного сорта кофе.
Мы с Евой обещали самим себе, что глаза наши будут открыты для хороших идей, которые мы привезем потом домой в Швецию. И вот она — первая! Немедленно поставить всю шведскую полицию на коробки для шляп! Немедленно, говорю я! Но на коробке обязательно должно быть и гигантское красное сердце! А затем начнем обсуждать вопрос и о более безопасном движении у Тегельбаккена[59] и на площади Стуреплан[60].
— Красное сердце и любезные люди — это как предварительная реклама, — довольно сказала Ева.
Мы еще не пили кофе и поэтому завернули в небольшую мясную лавку и сели за столик. Это была в самом деле мясная лавка, потому что на прилавке лежали зернистая колбаса салями, красная говядина для жаркого и розовая телятина. Был там и хлеб. А в углу находился бар, где несколько мужчин как раз осушали первые дневные бокалы Campari Bitter[61]. И совсем рядом стояла пара столиков, там мы с Евой выпили кофе с чудесной выпечкой.
— Вот новая идея, — сказала Ева. — Так же уютно должно быть и в мясной лавке на улице Каптенсгатан!
— Удивительно, когда все так перемешано и все вверх дном, — сказала я. — Тогда чувствуешь себя хорошо!
Чувствуешь себя хорошо — вот именно! Я уже начинаю бояться: со мной что-то неладно. Куда бы я ни поехала, я чувствую себя как рыба в воде! Нахожу все восхитительным и не могу делать критические и колкие замечания. Думаю, как хорошо, как чудесно! И хотя теперь я заранее решила не терять голову от Италии и итальянцев — и все же через час была побеждена. С Евой, кажется, случилось то же самое.
— Думаешь, мы слишком добры и глупы? — тревожно спросила я ее, когда мы вышли из мясной.
Как раз когда мы опасались своей предполагаемой глупости, кое-что произошло. Появился юноша, который нес клетку из реек, битком набитую домашней птицей. У некоторых головки свисали между рейками. Сначала я не очень обратила на это внимание, считая, что куры, конечно, дохлые. Но одна из них вдруг слабо закудахтала и пошевелила гребешком.
Выяснилось совершенно точно, что мы с Евой вовсе не добры и не глупы. Мы злые, как шершни, вот мы какие! Если нас, конечно, рассердить!
Мы кинулись на юношу с клеткой (невысокого хилого беднягу с кротких лицом) и, дико жестикулируя, попытались заставить его понять, что мучить птиц нельзя, так набивая клету живыми курами.
— Давай сюда «Полиглота» Кунце! — закричала мне Ева. — И посмотри, нет ли у него примерно такой фразы: «Немедленно выпусти кур из клетки, хулиган, а не то я вызову полицию!».
Я усердно рылась в разговорнике, но смогла найти в спешке лишь такую: «Если хочешь хорошенько выучить язык, нужно использовать любую возможность говорить на нем». Но ведь это мы и делали. Показав на кур, мы закричали: «Troppo, troppo!»[62] — в надежде, что итальянец поймет: для такой маленькой клетки там слишком много кур! Однако лицо его было угрюмо и выражало полное непонимание.
— Fa finta di essere sordo! Он только притворяется глухим! — сердито закричала я.
Теперь понятно, почему эта фраза есть в разговорнике! В Италии, разумеется, полным-полно таких глухих тетерь, которые слышат, только когда им это надо!
В конце концов мы сдались. Через несколько минут предстояла встреча в соборе с остальной группой, так что на защиту животных времени не было.
Мы искали собор, но он не показывался, и пришлось взять такси.
Не знаю, что подумал о нас шофер. Возможно, он счел, что нам позарез нужно в собор — застать священника и спешно получить последнее причастие. Во всяком случае, такси прогромыхало за поворот и помчалось со скоростью пожарной машины у нас в Швеции, примерно с такими же отвратительными сигналами и примерно с таким же шумом. Мы с Евой, бледные от страха, судорожно вцепились друг в друга. Ведь нашей жизни грозила опасность. Мы хотели выйти из машины. Я лихорадочно искала в разговорнике подходящую фразу, начинающуюся со слова «остановитесь…». И действительно, я тотчас обнаружила то, что надо: «Fermate! Voglio scendere!» — «Остановитесь, я хочу выйти!» Между тем автомобиль так трясло, что я заблудилась среди напечатанных мелким шрифтом строчек. И когда шофер в следующий момент против своей воли вынужден был остановиться из-за образовавшейся пробки, я нетерпеливо сказала:
— Perché si ferma? Почему вы останавливаетесь здесь?
Да, шофер, конечно, тоже думал, что это совершенно не нужно, потому что в следующую секунду он снова рванул вперед, пробиваясь сквозь строй телег, велосипедов, автомобилей и пешеходов. Мы закрыли глаза и не осмелились их открыть до тех пор, пока такси, резко затормозив, не остановилось перед кафедральным собором. У шофера был довольный вид, как будто он думал: «Успели!»
Мы с Евой, шатаясь, вышли, чувствуя себя вполне созревшими для последнего причастия.
Но когда мы вошли всобор, нас осенили мир и покой. Стояла такая тишина! Мне понравилась маленькая набожная старушка, преклонившая колени перед образом Девы Марии. В мягком свете восковых свечей ее морщинистое лицо сияло от восторга. Мне понравились дети, поспешно вбегавшие в церковь и с серьезным лицом крестившиеся пред изображением Мадонны[63], прежде чем броситься к новым играм. Фрёкен Стрёмберг бродила, словно в садах Эдема[64]. Мне она тоже понравилась. Однако адъюнкт Мальмин мне не понравился. Он был из тех, кто хочет знать все: когда заложен фундамент, какова высота башни… все нужно было ему знать и все записать! Я сказала ему, что, если он собирается изучать Италию так детально, ему придется остаться здесь до конца жизни. Однако он проигнорировал мой выпад и продолжал мучить гида:
— Вы говорите, ренессансный фасад был завершен в девятнадцатом веке?
Не понимаю, как люди могут придавать такое значение фасадам! Может, мне надоело, что Ян столь часто и подолгу говорил о фасадах! Ах, я так устала от этих лекций! Совсем как один тугоухий старик. Когда пастор спросил его, как ему понравилась проповедь, он ответил: «Я плохо слышу, а понимаю еще меньше, но меня это не беспокоит».
Но не таков был господин Мальмин. Его это чрезвычайно беспокоило. Он не собирался возвращаться домой в Швецию, не узнав, что высота башни составляет сто восемь метров, и продолжал бомбардировать гида вопросами. Мы с Евой неодобрительно смотрели на него.
— Может, он был милым ребенком? — шепнула я Еве, честно пытаясь найти что-нибудь хорошее и в господине Мальмине.
— Наверняка, — ответила Ева. — Он был из тех детей, что будят маму в воскресенье в пять утра и спрашивают: «Мама, а Бог женат? И как сделать круглую жестяную банку?»
Моя добрая Тетушка прислала мне довольно много долларов, и они жгли мне карман. Поэтому я сочла, что мы с Евой можем позволить себе развлекаться самостоятельно в этот наш первый день в Италии. Мы попрощались со своими спутниками. Но до этого я отвела господина Мальмина в боковой неф[65] и сказала, что, насколько я слышала, высота башни собора благодаря поднятию грунта теперь составляет сто девять метров и я от всей души советую ему влезть наверх и проверить это.
Затем мы с Евой вышли к голубям на Пьяцца-дель-Дуомо. Не успели мы покинуть собор, как какой-то господин с фотоаппаратом накинулся на нас, безостановочно болтая и жестикулируя. Мы поняли, что он хочет нас сфотографировать.
— Ничего удивительного, ведь мы так прекрасны! — сказала Ева, принимая красивую позу. — Он наверняка из какого-нибудь иллюстрированного журнала!
— Девушки с обложки — да, благодарю, — произнесла я, вставая так же, как эти девушки. Я точно представила себе, как фотограф задумал обложку: наша своеобразная, чуть меланхоличная северная красота, вокруг белые трепещущие крылья голубей, на заднем плане собор — каменный гимн вечному стремлению человеческого духа в высшие сферы. О, эта фотография заставит людей останавливаться, испытывая сладостную боль.
Боже мой, как нас только не сфотографировали! Этот человек был честолюбив! Он снимал нас вблизи и издалека; и Еву одну, и меня одну; и Еву в профиль, и меня в фас; и Еву с голубями у ног, и Еву с голубем, сидящим на ее вытянутой руке, и меня с голубиным пометом на платье. Да, потому что не все голуби сидели на земле, многие еще и летали…
В конце концов все было готово!
— Шесть тысяч лир! — сказал человек с фотоаппаратом.
Мы в восторге посмотрели друг на друга. Мы знали, что фотомоделям хорошо платят, но такая сумма была во всяком случае лучше, чем мы ожидали. Шесть тысяч лир — неплохая прибавка к нашей кассе, рассчитанной на путешествие!
Понадобилось довольно много времени, прежде чем мы поняли: это мы должны заплатить фотографу шесть тысяч лир! Столько, оказывается, стоит снимок своеобразной северной красоты, увековеченной на Пьяцца-дель-Дуомо в Милане! Но это был наш первый день в Италии, так что мы даже не сообразили, что можно поторговаться. Я медленно вытащила шесть больших «кусков обоев» (как Ева упорно называла итальянские банкноты) и с печальным видом протянула их фотографу.
— Должно быть, он придворный фотограф! — утешая меня, сказала Ева.
— В таком случае это безумно дешево! — ответила я.
По-видимому, придворный фотограф никогда в жизни не встречал таких жутких идиоток, как мы! Его охватило чувство сострадания к нашей дурости, и он побежал следом за нами. Он хочет сделать побольше снимков!
— Gratis, gratis![66] — повторял он.
— Что скажешь? — спросила Ева. — Разрешим мы ему нас фотографировать?
— Почему нет? — устало спросила я. — Меня еще не фотографировали с северо-западной стороны.
Мы получили фотографии — около пятидесяти — в отеле на следующий день. Наша северная красота на всех фотографиях предстала настолько своеобразной, насколько можно было пожелать! Как я себе и представляла — смотришь на фотографию и испытываешь чувство сладостной боли.
— Теперь нам хватит рождественских открыток на всю оставшуюся жизнь! — сказала Ева.
О! Какое удивительное чувство — проснуться в чужом городе, в чужой стране! Проснуться в Италии! Конечно, всего лишь в Милане, но… тем не менее! Ну конечно, сам по себе Милан, вероятно, не «всего лишь»[56], но город этот не вопиет тающим от восторга голосом на каждой улице и в каждом переулке: «Италия!» Он почти такой же, как любой большой город.
— Но по сравнению с Омолем Милан, безусловно, имеет свои преимущества и свое очарование, — сказала Ева, когда мы вышли утром из отеля и увидели, как мельтешат перед глазами машины, и ощутили всеми фибрами души чужую атмосферу.
После Копенгагена мы практически нигде не побывали, только ехали на поезде, и, когда поздним вечером прибыли на гигантский Центральный вокзал Милана, тотчас направились прямо в отель и стремглав бросились в постель. Поэтому наш первый трепетный контакт с новой и незнакомой нам страной состоялся утром.
На свете, вероятно, немного впечатлений, сравнимых с чувством, испытываемым ранним утром на залитой солнцем улице, о которой ничего не знаешь, в городе, о котором ничего не знаешь, в толпе людей, о которых ничего не знаешь. В тебе бурлит радость открытия, ведь за ближайшим углом может случиться все, что угодно. С замиранием сердца ожидаешь чего-то, как в детстве, когда ты читала о сказочном принце: «И отправился он бродить по белу свету». Ах, мне всегда так нравилось, когда принц отправлялся бродить по белу свету, потому что тогда-то и начинались приключения, там можно было найти в траве золотое яблоко, а галоши счастья только и ждали, чтобы их надели на ноги[57].
Мы с Евой быстро пустились в путь по солнечной улице, уверенные, что найдем на дороге много золотых яблок. Нашли мы не совсем золотые яблоки, но персики уж точно!.. Огромные сочные персики, которые продавались почти даром. Маленький старичок во фруктовой лавке был первым итальянцем, с которым мы заговорили, и он чуть не сбился с ног, показывая нам дорогу к Пьяцца-дель-Дуомо[58]. Мы поблагодарили его и пошли в ту сторону, куда он показал. Персиковый сок стекал у нас по подбородкам и пальцам.
Не успели мы сделать и нескольких шагов, как я схватила Еву за руку. Мы как вкопанные остановились в восторге перед потрясающим зрелищем. Нет, это был не Миланский собор! Это был полицейский — весь в белом! Он стоял посреди необычайно оживленного движения на большущей шляпной коробке с черно-белыми полосами и гигантским красным сердцем! Постамент этот был точно как коробка для шляп! Ах, как это было прелестно! Вскоре мы обнаружили, что в городе все полицейские — регулировщики движения стоят точно так же и что коробки для шляп — это реклама известного сорта кофе.
Мы с Евой обещали самим себе, что глаза наши будут открыты для хороших идей, которые мы привезем потом домой в Швецию. И вот она — первая! Немедленно поставить всю шведскую полицию на коробки для шляп! Немедленно, говорю я! Но на коробке обязательно должно быть и гигантское красное сердце! А затем начнем обсуждать вопрос и о более безопасном движении у Тегельбаккена[59] и на площади Стуреплан[60].
— Красное сердце и любезные люди — это как предварительная реклама, — довольно сказала Ева.
Мы еще не пили кофе и поэтому завернули в небольшую мясную лавку и сели за столик. Это была в самом деле мясная лавка, потому что на прилавке лежали зернистая колбаса салями, красная говядина для жаркого и розовая телятина. Был там и хлеб. А в углу находился бар, где несколько мужчин как раз осушали первые дневные бокалы Campari Bitter[61]. И совсем рядом стояла пара столиков, там мы с Евой выпили кофе с чудесной выпечкой.
— Вот новая идея, — сказала Ева. — Так же уютно должно быть и в мясной лавке на улице Каптенсгатан!
— Удивительно, когда все так перемешано и все вверх дном, — сказала я. — Тогда чувствуешь себя хорошо!
Чувствуешь себя хорошо — вот именно! Я уже начинаю бояться: со мной что-то неладно. Куда бы я ни поехала, я чувствую себя как рыба в воде! Нахожу все восхитительным и не могу делать критические и колкие замечания. Думаю, как хорошо, как чудесно! И хотя теперь я заранее решила не терять голову от Италии и итальянцев — и все же через час была побеждена. С Евой, кажется, случилось то же самое.
— Думаешь, мы слишком добры и глупы? — тревожно спросила я ее, когда мы вышли из мясной.
Как раз когда мы опасались своей предполагаемой глупости, кое-что произошло. Появился юноша, который нес клетку из реек, битком набитую домашней птицей. У некоторых головки свисали между рейками. Сначала я не очень обратила на это внимание, считая, что куры, конечно, дохлые. Но одна из них вдруг слабо закудахтала и пошевелила гребешком.
Выяснилось совершенно точно, что мы с Евой вовсе не добры и не глупы. Мы злые, как шершни, вот мы какие! Если нас, конечно, рассердить!
Мы кинулись на юношу с клеткой (невысокого хилого беднягу с кротких лицом) и, дико жестикулируя, попытались заставить его понять, что мучить птиц нельзя, так набивая клету живыми курами.
— Давай сюда «Полиглота» Кунце! — закричала мне Ева. — И посмотри, нет ли у него примерно такой фразы: «Немедленно выпусти кур из клетки, хулиган, а не то я вызову полицию!».
Я усердно рылась в разговорнике, но смогла найти в спешке лишь такую: «Если хочешь хорошенько выучить язык, нужно использовать любую возможность говорить на нем». Но ведь это мы и делали. Показав на кур, мы закричали: «Troppo, troppo!»[62] — в надежде, что итальянец поймет: для такой маленькой клетки там слишком много кур! Однако лицо его было угрюмо и выражало полное непонимание.
— Fa finta di essere sordo! Он только притворяется глухим! — сердито закричала я.
Теперь понятно, почему эта фраза есть в разговорнике! В Италии, разумеется, полным-полно таких глухих тетерь, которые слышат, только когда им это надо!
В конце концов мы сдались. Через несколько минут предстояла встреча в соборе с остальной группой, так что на защиту животных времени не было.
Мы искали собор, но он не показывался, и пришлось взять такси.
Не знаю, что подумал о нас шофер. Возможно, он счел, что нам позарез нужно в собор — застать священника и спешно получить последнее причастие. Во всяком случае, такси прогромыхало за поворот и помчалось со скоростью пожарной машины у нас в Швеции, примерно с такими же отвратительными сигналами и примерно с таким же шумом. Мы с Евой, бледные от страха, судорожно вцепились друг в друга. Ведь нашей жизни грозила опасность. Мы хотели выйти из машины. Я лихорадочно искала в разговорнике подходящую фразу, начинающуюся со слова «остановитесь…». И действительно, я тотчас обнаружила то, что надо: «Fermate! Voglio scendere!» — «Остановитесь, я хочу выйти!» Между тем автомобиль так трясло, что я заблудилась среди напечатанных мелким шрифтом строчек. И когда шофер в следующий момент против своей воли вынужден был остановиться из-за образовавшейся пробки, я нетерпеливо сказала:
— Perché si ferma? Почему вы останавливаетесь здесь?
Да, шофер, конечно, тоже думал, что это совершенно не нужно, потому что в следующую секунду он снова рванул вперед, пробиваясь сквозь строй телег, велосипедов, автомобилей и пешеходов. Мы закрыли глаза и не осмелились их открыть до тех пор, пока такси, резко затормозив, не остановилось перед кафедральным собором. У шофера был довольный вид, как будто он думал: «Успели!»
Мы с Евой, шатаясь, вышли, чувствуя себя вполне созревшими для последнего причастия.
Но когда мы вошли всобор, нас осенили мир и покой. Стояла такая тишина! Мне понравилась маленькая набожная старушка, преклонившая колени перед образом Девы Марии. В мягком свете восковых свечей ее морщинистое лицо сияло от восторга. Мне понравились дети, поспешно вбегавшие в церковь и с серьезным лицом крестившиеся пред изображением Мадонны[63], прежде чем броситься к новым играм. Фрёкен Стрёмберг бродила, словно в садах Эдема[64]. Мне она тоже понравилась. Однако адъюнкт Мальмин мне не понравился. Он был из тех, кто хочет знать все: когда заложен фундамент, какова высота башни… все нужно было ему знать и все записать! Я сказала ему, что, если он собирается изучать Италию так детально, ему придется остаться здесь до конца жизни. Однако он проигнорировал мой выпад и продолжал мучить гида:
— Вы говорите, ренессансный фасад был завершен в девятнадцатом веке?
Не понимаю, как люди могут придавать такое значение фасадам! Может, мне надоело, что Ян столь часто и подолгу говорил о фасадах! Ах, я так устала от этих лекций! Совсем как один тугоухий старик. Когда пастор спросил его, как ему понравилась проповедь, он ответил: «Я плохо слышу, а понимаю еще меньше, но меня это не беспокоит».
Но не таков был господин Мальмин. Его это чрезвычайно беспокоило. Он не собирался возвращаться домой в Швецию, не узнав, что высота башни составляет сто восемь метров, и продолжал бомбардировать гида вопросами. Мы с Евой неодобрительно смотрели на него.
— Может, он был милым ребенком? — шепнула я Еве, честно пытаясь найти что-нибудь хорошее и в господине Мальмине.
— Наверняка, — ответила Ева. — Он был из тех детей, что будят маму в воскресенье в пять утра и спрашивают: «Мама, а Бог женат? И как сделать круглую жестяную банку?»
Моя добрая Тетушка прислала мне довольно много долларов, и они жгли мне карман. Поэтому я сочла, что мы с Евой можем позволить себе развлекаться самостоятельно в этот наш первый день в Италии. Мы попрощались со своими спутниками. Но до этого я отвела господина Мальмина в боковой неф[65] и сказала, что, насколько я слышала, высота башни собора благодаря поднятию грунта теперь составляет сто девять метров и я от всей души советую ему влезть наверх и проверить это.
Затем мы с Евой вышли к голубям на Пьяцца-дель-Дуомо. Не успели мы покинуть собор, как какой-то господин с фотоаппаратом накинулся на нас, безостановочно болтая и жестикулируя. Мы поняли, что он хочет нас сфотографировать.
— Ничего удивительного, ведь мы так прекрасны! — сказала Ева, принимая красивую позу. — Он наверняка из какого-нибудь иллюстрированного журнала!
— Девушки с обложки — да, благодарю, — произнесла я, вставая так же, как эти девушки. Я точно представила себе, как фотограф задумал обложку: наша своеобразная, чуть меланхоличная северная красота, вокруг белые трепещущие крылья голубей, на заднем плане собор — каменный гимн вечному стремлению человеческого духа в высшие сферы. О, эта фотография заставит людей останавливаться, испытывая сладостную боль.
Боже мой, как нас только не сфотографировали! Этот человек был честолюбив! Он снимал нас вблизи и издалека; и Еву одну, и меня одну; и Еву в профиль, и меня в фас; и Еву с голубями у ног, и Еву с голубем, сидящим на ее вытянутой руке, и меня с голубиным пометом на платье. Да, потому что не все голуби сидели на земле, многие еще и летали…
В конце концов все было готово!
— Шесть тысяч лир! — сказал человек с фотоаппаратом.
Мы в восторге посмотрели друг на друга. Мы знали, что фотомоделям хорошо платят, но такая сумма была во всяком случае лучше, чем мы ожидали. Шесть тысяч лир — неплохая прибавка к нашей кассе, рассчитанной на путешествие!
Понадобилось довольно много времени, прежде чем мы поняли: это мы должны заплатить фотографу шесть тысяч лир! Столько, оказывается, стоит снимок своеобразной северной красоты, увековеченной на Пьяцца-дель-Дуомо в Милане! Но это был наш первый день в Италии, так что мы даже не сообразили, что можно поторговаться. Я медленно вытащила шесть больших «кусков обоев» (как Ева упорно называла итальянские банкноты) и с печальным видом протянула их фотографу.
— Должно быть, он придворный фотограф! — утешая меня, сказала Ева.
— В таком случае это безумно дешево! — ответила я.
По-видимому, придворный фотограф никогда в жизни не встречал таких жутких идиоток, как мы! Его охватило чувство сострадания к нашей дурости, и он побежал следом за нами. Он хочет сделать побольше снимков!
— Gratis, gratis![66] — повторял он.
— Что скажешь? — спросила Ева. — Разрешим мы ему нас фотографировать?
— Почему нет? — устало спросила я. — Меня еще не фотографировали с северо-западной стороны.
Мы получили фотографии — около пятидесяти — в отеле на следующий день. Наша северная красота на всех фотографиях предстала настолько своеобразной, насколько можно было пожелать! Как я себе и представляла — смотришь на фотографию и испытываешь чувство сладостной боли.
— Теперь нам хватит рождественских открыток на всю оставшуюся жизнь! — сказала Ева.
 От всего этого фотографирования у нас разыгрался жуткий аппетит, и мы решили подыскать уютный ресторанчик, чтобы позавтракать. Тому, кто недавно выложил шесть тысяч лир за фотографии, не стоит мелочиться, решили мы и выбрали самое шикарное место, какое только могли найти, — ресторан «Джаннино».
Там у входа в зал стояла женщина в белом халате и пекла небольшие пиццы. У них в Италии все вверх тормашками, и пиццы пекут прямо в зале, на глазах у посетителей. А за стеклом в сверкающей кухне можно видеть весь кухонный персонал в самом разгаре работы. Там не было никакого обмана в приготовлении мяса, поджаренного с луком и картофелем. Все продукты были выставлены на обозрение в сыром виде в различных стеклянных витринах, так что котлету можно было видеть в ее первозданном, естественном состоянии, а в больших аквариумах плавали рыбы, которых подадут на ленч. Естественно, что гигиена здесь абсолютно гарантирована.
Я всегда слышала: чтобы уметь обращаться с палочками для еды и поглощать ласточкины гнезда[67], не роняя ни кусочка, надо быть китайцем. И что только итальянец может есть спагетти, не запутываясь в них и не вываливая половину за воротник. Поэтому я радовалась, что наконец-то научусь есть спагетти самым изысканным и элегантным способом. Пустые разговоры! Нет никакого изысканного и элегантного способа есть спагетти! Это просто невозможно! Пусть итальянцы говорят что угодно, правда заключается в том, что макаронины свисают у них, как окладистая борода. Сев за столик, мы с Евой стали удивленно оглядываться вокруг. Публика была элегантная, все, казалось, были изящно и хорошо одеты, но ой-ой-ой сколько пятен от томатного соуса пестрело на верхних рубашках и платьях из натурального шелка, когда спагетти, извиваясь, попадали людям в рот. Мы с Евой испугались и заказали себе вместо спагетти valdostana di vitello[68]. Это блюдо по крайней мере ведет себя спокойно, и ты знаешь, где оно находится в данный момент, чего о спагетти как раз сказать нельзя.
За столиком напротив нас сидел какой-то господин. Мы окрестили его Чезаре Борджа[69], потому что он был и красив, и порочен на вид, и мы по-настоящему заинтересовались им, пока не увидели, как у него из уголка рта свисает полметра спагетти. И тогда он частично утратил для нас свою демоническую притягательность.
Но после того как мы поглотили valdostana вместе с первой бутылкой кьянти[70], у нас стало так весело и так тепло на душе, что нам очень захотелось заключить пакт дружбы со всем итальянским народом, пусть даже сквозь завесу из макарон.
Бросив прощальный взгляд на Чезаре Борджа, мы покинули «Джаннино». Остаток послеполуденного времени мы посвятили window shopping[71] на элегантных торговых улицах города. Ведь мы приехали в землю обетованную натурального шелка; и сердца наши таяли при виде чудесных тканей всех цветов в витринах. Seta pura, «Натуральный шелк», — эту манящую вывеску мы видели повсюду! Мы бормотали эти магические слова так, что это звучало как клятва. «Полиглот» Кунце ни словом не упомянул о seta pura, и все же следует знать, что среди «необходимых слов и оборотов речи» нет ничего более необходимого, чем это. Еще раз пересчитав Тетушкины доллары, я тотчас учредила небольшой «seta pura фонд» во внутреннем кармане жакета. Время от времени я засовывала туда руку и ощупывала банкноты, и это приносило мне такое ощущение счастья, словно я уже ощущала, как сверкающий шелк переливается под моими пальцами.
Вечером мы отправились в Галерею, потому что именно туда ходят в Милане. Галерея — вовсе не обычная улица, это аркада[72], соединяющая Пьяцца-дель-Дуомо с Пьяцца делла Скала[73]. Идешь под высоким стеклянным сводом по гладчайшему полу, а в Галерее полным-полно ресторанов и кафе на тротуарах, магазинов и людей, прежде всего людей, и прежде всего вечером, и прежде всего там, где должны идти мы с Евой!
— Ну не странно ли это? — говорю я Еве. — Если я нахожусь за границей и шагу не могу ступить без того, чтобы мне не отдавили ноги, я называю это интересной и бурной народной жизнью! Но если я дома, я говорю — и это истинная правда, — что на улице проклятая толкотня!
Некоторое время мы раздумывали об этом своеобразном феномене, позволяя толпам народа медленно увлекать нас за собой и прислушиваясь к возбуждающим звукам музыки, доносящимся из разных музыкальных капелл.
— Разница в том, — наконец разумно ответила Ева, — что когда мы, несчастные домоседы с Севера, сталкиваемся с такой толпой дома, то это означает: либо играют княжескую свадьбу, либо все стремятся на футбольный матч, либо кого-то тяжело ранили и его увозит «скорая помощь».
— Либо в дождливый день в пять утра надо ехать на автобусе, — добавила я.
— Именно, — поддержала меня Ева, — надо протиснуться вперед, чтобы попасть на этот автобус или увидеть мельком того несчастного, которого должны увезти.
— Того несчастного? — переспросила я. — Ты имеешь в виду того, за кем должна приехать «скорая помощь»?
— Да, а ты что думала? — спросила Ева. — Что я имею в виду князя и княжескую свадьбу?
Ева, вероятно, была права. В Швеции толкотня — неестественное состояние, которое только создает неприятности. Один человек на один квадратный километр — вот что должно быть у нас дома. И еще человек, который сидит один-одинешенек и размышляет о жизни, а при случае не чаще раза в месяц выходит из дома и выкрикивает в берестяной рожок ругательства в адрес своего ближайшего соседа!
Но итальянцы должны толкаться. В их городах, на их улицах и площадях должна быть сутолока.
— А мы с тобой иногда являемся сюда и вмешиваемся в их сутолоку и избавляемся от своей лапландской болезни[74], — сказала Ева и потянула меня за собой в кафе Биффи[75] на тротуаре, где мы, сев за столик, заказали caffe espresso.
— Если это не поможет против лапландской болезни, то ничто не поможет, — сказала я и подула на чересчур крепкий кофе. — Послушай, как все гудит вокруг нас, и подумай, как мы далеко от нашей меланхолической родины.
— Да, иногда в самом деле приятно слышать вокруг себя иностранную речь, — сказала Ева.
Тут сквозь шум прорезался женский голос, произнесший на шведском языке:
— Ой, как у меня устали ноги!
Ева посмотрела на меня.
— Иностранную речь, — спокойно повторила она. — Включая благородный сконский диалект[76].
Мы не смогли обнаружить ту, у которой устали ноги, она исчезла в толпе.
— Ships that pass in the night![77] — растроганно пробормотала я.
Но Ева сказала, что жители Сконе охотней всего сидят в своих домах вокруг горы Ромелеклинт. И так далеко на юг от своей проселочной дороги, как Галерея в Милане, они не забираются.
Мы выпили еще caffe espresso, мягко и спокойно вглядываясь в кипение народной жизни.
— Предположи, что итальянец в результате несчастного случая лишился обеих рук, — сказала Ева. — Знаешь, к чему бы это привело?
— Он оказался бы совершенно беспомощен, если бы речь зашла о том, чтобы помериться силой или о перетягивании каната, — сказала я. Мне не очень хотелось выдвигать такие печальные предположения в этот сладостный вечер.
— Дурочка! — сказала Ева. — Это привело бы к заиканию и другим существенным дефектам речи. Как он мог бы говорить, если бы у него не было рук и пальцев, чтобы жестикулировать?
Нам, конечно, не раз приходилось слышать, что южане жестикулируют, но я даже не предполагала, что так безумно. Двое молодых людей что-то обсуждали неподалеку от нашего столика. Они размахивали руками самым отчаянным образом — иногда от плеча, иногда от локтя, а иногда кистью, и я надеюсь, что они выражались достаточно утонченно. Пальцы их трепетали в воздухе, как мелкие пичужки. Зрелище было просто чарующим!
От всего этого фотографирования у нас разыгрался жуткий аппетит, и мы решили подыскать уютный ресторанчик, чтобы позавтракать. Тому, кто недавно выложил шесть тысяч лир за фотографии, не стоит мелочиться, решили мы и выбрали самое шикарное место, какое только могли найти, — ресторан «Джаннино».
Там у входа в зал стояла женщина в белом халате и пекла небольшие пиццы. У них в Италии все вверх тормашками, и пиццы пекут прямо в зале, на глазах у посетителей. А за стеклом в сверкающей кухне можно видеть весь кухонный персонал в самом разгаре работы. Там не было никакого обмана в приготовлении мяса, поджаренного с луком и картофелем. Все продукты были выставлены на обозрение в сыром виде в различных стеклянных витринах, так что котлету можно было видеть в ее первозданном, естественном состоянии, а в больших аквариумах плавали рыбы, которых подадут на ленч. Естественно, что гигиена здесь абсолютно гарантирована.
Я всегда слышала: чтобы уметь обращаться с палочками для еды и поглощать ласточкины гнезда[67], не роняя ни кусочка, надо быть китайцем. И что только итальянец может есть спагетти, не запутываясь в них и не вываливая половину за воротник. Поэтому я радовалась, что наконец-то научусь есть спагетти самым изысканным и элегантным способом. Пустые разговоры! Нет никакого изысканного и элегантного способа есть спагетти! Это просто невозможно! Пусть итальянцы говорят что угодно, правда заключается в том, что макаронины свисают у них, как окладистая борода. Сев за столик, мы с Евой стали удивленно оглядываться вокруг. Публика была элегантная, все, казалось, были изящно и хорошо одеты, но ой-ой-ой сколько пятен от томатного соуса пестрело на верхних рубашках и платьях из натурального шелка, когда спагетти, извиваясь, попадали людям в рот. Мы с Евой испугались и заказали себе вместо спагетти valdostana di vitello[68]. Это блюдо по крайней мере ведет себя спокойно, и ты знаешь, где оно находится в данный момент, чего о спагетти как раз сказать нельзя.
За столиком напротив нас сидел какой-то господин. Мы окрестили его Чезаре Борджа[69], потому что он был и красив, и порочен на вид, и мы по-настоящему заинтересовались им, пока не увидели, как у него из уголка рта свисает полметра спагетти. И тогда он частично утратил для нас свою демоническую притягательность.
Но после того как мы поглотили valdostana вместе с первой бутылкой кьянти[70], у нас стало так весело и так тепло на душе, что нам очень захотелось заключить пакт дружбы со всем итальянским народом, пусть даже сквозь завесу из макарон.
Бросив прощальный взгляд на Чезаре Борджа, мы покинули «Джаннино». Остаток послеполуденного времени мы посвятили window shopping[71] на элегантных торговых улицах города. Ведь мы приехали в землю обетованную натурального шелка; и сердца наши таяли при виде чудесных тканей всех цветов в витринах. Seta pura, «Натуральный шелк», — эту манящую вывеску мы видели повсюду! Мы бормотали эти магические слова так, что это звучало как клятва. «Полиглот» Кунце ни словом не упомянул о seta pura, и все же следует знать, что среди «необходимых слов и оборотов речи» нет ничего более необходимого, чем это. Еще раз пересчитав Тетушкины доллары, я тотчас учредила небольшой «seta pura фонд» во внутреннем кармане жакета. Время от времени я засовывала туда руку и ощупывала банкноты, и это приносило мне такое ощущение счастья, словно я уже ощущала, как сверкающий шелк переливается под моими пальцами.
Вечером мы отправились в Галерею, потому что именно туда ходят в Милане. Галерея — вовсе не обычная улица, это аркада[72], соединяющая Пьяцца-дель-Дуомо с Пьяцца делла Скала[73]. Идешь под высоким стеклянным сводом по гладчайшему полу, а в Галерее полным-полно ресторанов и кафе на тротуарах, магазинов и людей, прежде всего людей, и прежде всего вечером, и прежде всего там, где должны идти мы с Евой!
— Ну не странно ли это? — говорю я Еве. — Если я нахожусь за границей и шагу не могу ступить без того, чтобы мне не отдавили ноги, я называю это интересной и бурной народной жизнью! Но если я дома, я говорю — и это истинная правда, — что на улице проклятая толкотня!
Некоторое время мы раздумывали об этом своеобразном феномене, позволяя толпам народа медленно увлекать нас за собой и прислушиваясь к возбуждающим звукам музыки, доносящимся из разных музыкальных капелл.
— Разница в том, — наконец разумно ответила Ева, — что когда мы, несчастные домоседы с Севера, сталкиваемся с такой толпой дома, то это означает: либо играют княжескую свадьбу, либо все стремятся на футбольный матч, либо кого-то тяжело ранили и его увозит «скорая помощь».
— Либо в дождливый день в пять утра надо ехать на автобусе, — добавила я.
— Именно, — поддержала меня Ева, — надо протиснуться вперед, чтобы попасть на этот автобус или увидеть мельком того несчастного, которого должны увезти.
— Того несчастного? — переспросила я. — Ты имеешь в виду того, за кем должна приехать «скорая помощь»?
— Да, а ты что думала? — спросила Ева. — Что я имею в виду князя и княжескую свадьбу?
Ева, вероятно, была права. В Швеции толкотня — неестественное состояние, которое только создает неприятности. Один человек на один квадратный километр — вот что должно быть у нас дома. И еще человек, который сидит один-одинешенек и размышляет о жизни, а при случае не чаще раза в месяц выходит из дома и выкрикивает в берестяной рожок ругательства в адрес своего ближайшего соседа!
Но итальянцы должны толкаться. В их городах, на их улицах и площадях должна быть сутолока.
— А мы с тобой иногда являемся сюда и вмешиваемся в их сутолоку и избавляемся от своей лапландской болезни[74], — сказала Ева и потянула меня за собой в кафе Биффи[75] на тротуаре, где мы, сев за столик, заказали caffe espresso.
— Если это не поможет против лапландской болезни, то ничто не поможет, — сказала я и подула на чересчур крепкий кофе. — Послушай, как все гудит вокруг нас, и подумай, как мы далеко от нашей меланхолической родины.
— Да, иногда в самом деле приятно слышать вокруг себя иностранную речь, — сказала Ева.
Тут сквозь шум прорезался женский голос, произнесший на шведском языке:
— Ой, как у меня устали ноги!
Ева посмотрела на меня.
— Иностранную речь, — спокойно повторила она. — Включая благородный сконский диалект[76].
Мы не смогли обнаружить ту, у которой устали ноги, она исчезла в толпе.
— Ships that pass in the night![77] — растроганно пробормотала я.
Но Ева сказала, что жители Сконе охотней всего сидят в своих домах вокруг горы Ромелеклинт. И так далеко на юг от своей проселочной дороги, как Галерея в Милане, они не забираются.
Мы выпили еще caffe espresso, мягко и спокойно вглядываясь в кипение народной жизни.
— Предположи, что итальянец в результате несчастного случая лишился обеих рук, — сказала Ева. — Знаешь, к чему бы это привело?
— Он оказался бы совершенно беспомощен, если бы речь зашла о том, чтобы помериться силой или о перетягивании каната, — сказала я. Мне не очень хотелось выдвигать такие печальные предположения в этот сладостный вечер.
— Дурочка! — сказала Ева. — Это привело бы к заиканию и другим существенным дефектам речи. Как он мог бы говорить, если бы у него не было рук и пальцев, чтобы жестикулировать?
Нам, конечно, не раз приходилось слышать, что южане жестикулируют, но я даже не предполагала, что так безумно. Двое молодых людей что-то обсуждали неподалеку от нашего столика. Они размахивали руками самым отчаянным образом — иногда от плеча, иногда от локтя, а иногда кистью, и я надеюсь, что они выражались достаточно утонченно. Пальцы их трепетали в воздухе, как мелкие пичужки. Зрелище было просто чарующим!
 У меня не было особых иллюзий относительно Венеции. «Банальный город, где играют свадьбы; несколько грязных каналов и кое-где по углам немного золоченой мозаики», — легкомысленно думала я, не желая обмануться.
Это я и сказала Еве, войдя в поезд в Милане.
— Посмотрим, — заключила Ева.
У меня не было особых иллюзий относительно Венеции. «Банальный город, где играют свадьбы; несколько грязных каналов и кое-где по углам немного золоченой мозаики», — легкомысленно думала я, не желая обмануться.
Это я и сказала Еве, войдя в поезд в Милане.
— Посмотрим, — заключила Ева.
 Адриатическое море, разбивавшее свои теплые могучие волны о берег Лидо, окатило мой большой палец, которым я пыталась начертить имя Леннарта на песке. Когда волны отхлынули, имя исчезло, словно его там никогда и не было. Леннарт тоже исчез, точь-в-точь как если бы его никогда не существовало. Осталась лишь ноющая боль в сердце.
Ева лежала рядом со мной на песке и пыталась образумить меня. Она отказывалась принимать эту историю с Леннартом всерьез.
— Не внушай себе, что влюблена, — сказала она. — Ты просто жертва окружающей среды. Ты оказалась слишком слаба для Венеции.
— Я влюблена в Леннарта, — упрямо повторяла я. — И не только из-за Венеции. Я влюбилась бы в него где угодно.
— Но только не в Сундбюберге[100] воскресным ноябрьским днем, когда льет дождь, — заявила Ева. — Нет, виновата Венеция, и только! Здесь про каждого можно сказать, что он спятил! Например, Вагнер[101], и Мюссе[102], и лорд Байрон[103]. Ведь они, сидя здесь, только и делали, что стонали от любовных мук!
Я печально кивнула. И Вагнер, и Мюссе, и Байрон, и я — мы кое-что знали о любви, да!.. Ева же ничего о ней не знала. До сих пор и я не ведала ничего о ней.
— Ева, — в отчаянии сказала я, — я никогда больше не увижу его, он даже не знает, в каком отеле мы живем. Никогда!
— Никогда! — словно эхо, повторила Ева.
С ума сойти! Есть ли хоть несколько слов в человеческом языке, вмещающих большую тоску и покорность, чем это «Никогда!»?
Мои глаза печально скользили по яростным волнам Адриатики и длинному песчаному берегу, где лорд Байрон когда-то мчался на коне. Но это было давно. Единственный, кто мчался сейчас, был господин Густафссон. Правда, не на коне! Он занимался гимнастическими упражнениями после купания. Другие туристы из нашей группы разбрелись по берегу кто куда. И мы могли беспрепятственно обсуждать мое горе.
Ева кормила меня виноградом, чтобы утешить, а я меланхолично выплевывала косточки, сея их вокруг себя и горюя. В конце концов Ева разозлилась.
— Вагнер, Мюссе, Байрон — и ты! — сказала она. — Когда влюбленный Вагнер сидел в Венеции, он сочинил оперу «Тристан и Изольда»[104]. Мюссе извлек из своих любовных мук дивные элегии, а Байрон написал поэму «Дон Жуан»! А ты, что делаешь ты? Скулишь и выплевываешь виноградные косточки прямо мне в волосы!
— Я напишу, да, я тоже, — сказала я и поднялась с песка. — Напишу Яну! Он разгуливает там дома и думает, что все как прежде. Это несправедливо!
— А ты не хочешь подождать несколько дней, чтобы одуматься? — предложила Ева.
— Тут нечего думать, — ответила я и целеустремленно направилась в отель.
Писать было трудно, и я все время испытывала неприятное ощущение, будто и Вагнер, и Мюссе, и Байрон заглядывают в письмо через мое плечо. Но я пыталась, как могла, объяснить Яну: теперь я уверена в том, что давно подозревала, — никогда в жизни мы не смогли бы быть вместе и, если бы попытались, стали бы несчастны. Я написала, что здесь, в Венеции, глупость прозвенела мне колокольчиками и я безвозвратно, без надежды на спасение погибла. «Спрячь память обо мне в ящик бюро и забудь меня!» И, очень расстроенная, лизнув конверт, заклеила его и спустилась с ним к портье.
— Да, да, знаю, это жалкое письмо, и вы написали бы его гораздо лучше, — нетерпеливо заявила я Вагнеру, Мюссе и Байрону и отправилась на поиски Евы. Она появилась, подхватив под руку с одной стороны господина Мальмина, а с другой — господина Густафссона. Вся туристическая группа собиралась в Венецию — осмотреть Дворец дожей, и разбитое сердце не было достаточно веской причиной, чтобы освободить меня от обязанности ехать вместе со всеми.
Я пробралась поближе к Фриде Стрёмберг; в печали очень хочется держать ее за руку! Она из тех, на кого можно опереться на этой земле.
— Фрида, — шепнула я ей, — ты когда-нибудь влюблялась?
— Да, один раз, — ответила она с готовностью, как будто я спросила ее: «Который час?»
— А он, он любил тебя?
— Вовсе нет, — ответила Фрида. — Это был наш школьный учитель, на десять лет моложе меня, к тому же еще и помолвлен.
— Ах, Фрида, разве ты не была тогда несчастна? — участливо спросила я.
— Несчастна? — переспросила Фрида. — Да я никогда в своей жизни не была так счастлива! Милые вы мои люди, как это было чудесно!
Я недоверчиво посмотрела на нее. Что чудесного в безответной любви?
— Отгадай, что он мне однажды сказал? — оживленно продолжала Фрида. — «Фрёкен Стрёмберг, у вас воистину красивый голос!» Понимаешь, он руководил у нас церковным хором. А я тоже пела в хоре! Иногда соло. Вот тогда он и сказал это, когда мы репетировали. И все слышали его слова. Это было, как раз когда мы стояли перед школой и прощались. Я потом всю ночь не спала!
Мне не довелось услышать других сердечных тайн Фриды, потому что мы уже приплыли и надо было сойти на берег.
— Да, да, у каждого свои воспоминания, — сказала Фрида и посмотрела на меня своими лучистыми глазами. — И должна сказать тебе, Кати, одно: чудесно быть влюбленной. И любят тебя или нет, это совершенно не важно!
Адриатическое море, разбивавшее свои теплые могучие волны о берег Лидо, окатило мой большой палец, которым я пыталась начертить имя Леннарта на песке. Когда волны отхлынули, имя исчезло, словно его там никогда и не было. Леннарт тоже исчез, точь-в-точь как если бы его никогда не существовало. Осталась лишь ноющая боль в сердце.
Ева лежала рядом со мной на песке и пыталась образумить меня. Она отказывалась принимать эту историю с Леннартом всерьез.
— Не внушай себе, что влюблена, — сказала она. — Ты просто жертва окружающей среды. Ты оказалась слишком слаба для Венеции.
— Я влюблена в Леннарта, — упрямо повторяла я. — И не только из-за Венеции. Я влюбилась бы в него где угодно.
— Но только не в Сундбюберге[100] воскресным ноябрьским днем, когда льет дождь, — заявила Ева. — Нет, виновата Венеция, и только! Здесь про каждого можно сказать, что он спятил! Например, Вагнер[101], и Мюссе[102], и лорд Байрон[103]. Ведь они, сидя здесь, только и делали, что стонали от любовных мук!
Я печально кивнула. И Вагнер, и Мюссе, и Байрон, и я — мы кое-что знали о любви, да!.. Ева же ничего о ней не знала. До сих пор и я не ведала ничего о ней.
— Ева, — в отчаянии сказала я, — я никогда больше не увижу его, он даже не знает, в каком отеле мы живем. Никогда!
— Никогда! — словно эхо, повторила Ева.
С ума сойти! Есть ли хоть несколько слов в человеческом языке, вмещающих большую тоску и покорность, чем это «Никогда!»?
Мои глаза печально скользили по яростным волнам Адриатики и длинному песчаному берегу, где лорд Байрон когда-то мчался на коне. Но это было давно. Единственный, кто мчался сейчас, был господин Густафссон. Правда, не на коне! Он занимался гимнастическими упражнениями после купания. Другие туристы из нашей группы разбрелись по берегу кто куда. И мы могли беспрепятственно обсуждать мое горе.
Ева кормила меня виноградом, чтобы утешить, а я меланхолично выплевывала косточки, сея их вокруг себя и горюя. В конце концов Ева разозлилась.
— Вагнер, Мюссе, Байрон — и ты! — сказала она. — Когда влюбленный Вагнер сидел в Венеции, он сочинил оперу «Тристан и Изольда»[104]. Мюссе извлек из своих любовных мук дивные элегии, а Байрон написал поэму «Дон Жуан»! А ты, что делаешь ты? Скулишь и выплевываешь виноградные косточки прямо мне в волосы!
— Я напишу, да, я тоже, — сказала я и поднялась с песка. — Напишу Яну! Он разгуливает там дома и думает, что все как прежде. Это несправедливо!
— А ты не хочешь подождать несколько дней, чтобы одуматься? — предложила Ева.
— Тут нечего думать, — ответила я и целеустремленно направилась в отель.
Писать было трудно, и я все время испытывала неприятное ощущение, будто и Вагнер, и Мюссе, и Байрон заглядывают в письмо через мое плечо. Но я пыталась, как могла, объяснить Яну: теперь я уверена в том, что давно подозревала, — никогда в жизни мы не смогли бы быть вместе и, если бы попытались, стали бы несчастны. Я написала, что здесь, в Венеции, глупость прозвенела мне колокольчиками и я безвозвратно, без надежды на спасение погибла. «Спрячь память обо мне в ящик бюро и забудь меня!» И, очень расстроенная, лизнув конверт, заклеила его и спустилась с ним к портье.
— Да, да, знаю, это жалкое письмо, и вы написали бы его гораздо лучше, — нетерпеливо заявила я Вагнеру, Мюссе и Байрону и отправилась на поиски Евы. Она появилась, подхватив под руку с одной стороны господина Мальмина, а с другой — господина Густафссона. Вся туристическая группа собиралась в Венецию — осмотреть Дворец дожей, и разбитое сердце не было достаточно веской причиной, чтобы освободить меня от обязанности ехать вместе со всеми.
Я пробралась поближе к Фриде Стрёмберг; в печали очень хочется держать ее за руку! Она из тех, на кого можно опереться на этой земле.
— Фрида, — шепнула я ей, — ты когда-нибудь влюблялась?
— Да, один раз, — ответила она с готовностью, как будто я спросила ее: «Который час?»
— А он, он любил тебя?
— Вовсе нет, — ответила Фрида. — Это был наш школьный учитель, на десять лет моложе меня, к тому же еще и помолвлен.
— Ах, Фрида, разве ты не была тогда несчастна? — участливо спросила я.
— Несчастна? — переспросила Фрида. — Да я никогда в своей жизни не была так счастлива! Милые вы мои люди, как это было чудесно!
Я недоверчиво посмотрела на нее. Что чудесного в безответной любви?
— Отгадай, что он мне однажды сказал? — оживленно продолжала Фрида. — «Фрёкен Стрёмберг, у вас воистину красивый голос!» Понимаешь, он руководил у нас церковным хором. А я тоже пела в хоре! Иногда соло. Вот тогда он и сказал это, когда мы репетировали. И все слышали его слова. Это было, как раз когда мы стояли перед школой и прощались. Я потом всю ночь не спала!
Мне не довелось услышать других сердечных тайн Фриды, потому что мы уже приплыли и надо было сойти на берег.
— Да, да, у каждого свои воспоминания, — сказала Фрида и посмотрела на меня своими лучистыми глазами. — И должна сказать тебе, Кати, одно: чудесно быть влюбленной. И любят тебя или нет, это совершенно не важно!

 Много испытаний выпало на долю Флоренции с тех пор, как этруски[126] пришли из Фьезоле[127], а теперь к этому добавились еще шведские туристические группы! Самое худшее всегда приходит последним.
Будь я истой флорентийкой, думаю, я бы ненавидела всех этих обезумевших женщин, которые врываются в магазины, и вырываются оттуда, и задают вопросы, и торгуются, и считают, и покупают, и теребят шелковые ткани своими мерзкими алчными руками. Будь я истой флорентийкой и обладай я хоть каплей того чувства красоты, которое во все времена отличало жителей этого города, я сочла бы безвкусной всю эту преувеличенную лихорадочную погоню за seta pura и другими мирскими вещами. Будь я истой флорентийкой, я указала бы на чудесный розово-бело-черный фасад собора Santa Maria del Fiores[128] и сказала бы: «Разве вы не видите, что он сияет прекраснее, чем любой натуральный шелк!» И привела бы всех этих женщин к Кампаниле[129] и к «Вратам Рая» Джотто[130]. Я поводила бы их среди сокровищ искусства Галереи Уффици и сказала бы:
— Купайте души в море красоты, женщины!
Однако я, к счастью, не флорентийка и не несу никакой ответственности за всех этих безумных женщин, что, жужжа, как шершни, то влетают в лавки и магазины, то вылетают оттуда… А мы с Евой — во главе!
Естественно, мы были в Галерее Уффици. Мы наслаждались прекрасным. Там был портрет очень юной фрёкен Медичи[131], завоевавший мое сердце, и портрет милой нежной мадонны в темно-зеленом плаще.
Мы долго стояли перед Баптистерием[132], поражаясь невиданной роскоши «Врат Рая». Мы впали в восторг, осматривая собор Santa Maria del Fiores. Разумеется, мы купали души в море красоты!
Но, но, но… Когда женщины, жужжа, как шершни, влетали в лавки и магазины и вылетали оттуда, мы с Евой были во главе!
— «Врата Рая», — сказала Ева, рванув дверь магазина, в котором был самый большой выбор шелковых тканей. Я тоже была в угаре приобретательства. Наконец-то мой «seta pura фонд» выйдет на белый свет из внутреннего кармана жакета и превратится в плотный черный шелк. Ева купила шелк телесного цвета.
Когда мы снова вышли на улицу, разгоряченные, с пылающими щеками, нам стало чуточку стыдно нашего безумия.
Но там, на улице, ведущей к Ponte Vecchio[133], было так много очаровательных мелких лавочек. Нас тянуло туда словно магнитом. Ева, пожалуй, была права, сказав: это, мол, все равно что пустить свиней в огород, где растут трюфели[134]… Женский инстинкт и в чужом городе обнаружит Нужную Улицу! Вообще-то, пусть никто не подходит ко мне и не произносит ни единого дурного слова о тех, кто заглядывает в витрины. Я благодарю своего Создателя, что во Флоренции я не все время провела в Галерее Уффици. Иногда нужно постоять и перед витринами!
Мы с Евой так и сделали. Мы стояли перед ювелирным магазином, а в витрине лежало кольцо, самое прекрасное, какое мне только доводилось видеть.
— Ева! — заорала я. — Видала, какое кольцо! Ну то, с бирюзой! Ой, какое кольцо!
И тут за спиной я услышала голос:
— Кричи громче, Кати! Может, на окраине города еще кто-нибудь тебя не слышит!
Я обернулась — это был Леннарт! О боже, Леннарт! Чуть насмешливо улыбающийся и все такой же загорелый.
В моей душе что-то оборвалось. Мне хотелось броситься ему на шею и заплакать, бормоча о том, как мне было худо, и как мне его не хватало, и что я не в силах была выдержать разлуку с ним!.. Но ведь такое позволить себе нельзя! Поэтому я сказала:
— Ты опять здесь? Все бегаешь за нами! Просто ужас!
Ева пронзительно и глупо хихикнула, но я одним взглядом заставила ее замолчать.
— Да, я здесь, — признался Леннарт. — Но ты, пожалуй, скоро снова затеряешься в толпе.
Я рассказала, как искала его на Пьяццетте в Венеции, и он чуть насмешливо улыбнулся.
— Я тоже искал тебя, — сказал Леннарт.
— Правда? — с надеждой спросила я.
— Ну да, я даже заглядывал в газеты, в рубрику «Потерянные вещи».
— Правда? — спросила я с еще большей надеждой.
Он подхватил Еву и меня под руки, и мы медленно пошли по улице. Ева поинтересовалась, сколько еще времени он останется во Флоренции и куда собирается ехать потом? Я молча благословила ее, я была так благодарна ей за то, что мне не надо самой задавать Леннарту эти вопросы. Да, он поедет дальше завтра утром! Точно еще не знает куда, а позднее, очевидно, в Рим.
Я почувствовала, что меня снова охватывает глубокое отчаяние. Мне дано встретить его на такой краткий миг, а потом он снова исчезнет. Это было выше моих сил! О, пусть небо сжалится над такими, как я! Несчастная любовь в семь раз хуже зубной боли!
— Возможно, мы и в Риме увидимся, — как можно равнодушнее сказала я. — Мы тоже едем туда!
— Ничего нельзя знать заранее! — ответил Леннарт.
Я чуть не вскрикнула. Он сказал: «Ничего нельзя знать заранее!» Разве он не понимает, что я должна встретиться с ним! Я должна убедить его, что он не сможет жить без меня! Конечно, мне это не удастся, но я все же могла бы, по крайней мере, получить пристойный шанс попытаться это сделать. Несправедливо, что различия наших маршрутов помешает мне в этом и сделает меня несчастной на всю оставшуюся жизнь. Нельзя же, в самом деле, требовать от девушки, чтобы ей удалось завоевать сердце мужчины, если ей дается на это время от времени по пять минут.
Но Леннарт шел рядом со мной, улыбался, ничего не подозревая ни о моей беде, ни о моем отчаянии. Я еще отчаяннее ломала голову, как сделать, чтобы снова увидеть его. Мимоходом упомянула я название отеля, в котором мы будем жить в Риме. Пять раз упомянула я как бы мимоходом название нашего отеля в Риме. Но не похоже, чтобы Леннарт принял его во внимание и запомнил.
Ева — добрая душа, всегда готовая помочь, делала все, что в ее силах.
— Ты имеешь представление, где находится этот отель? — поинтересовалась она.
— Ни малейшего, — ответил Леннарт, по-видимому чрезвычайно этим довольный. — Какой восхитительный Старый мост! — продолжал он, остановившись посреди Ponte Vecchio. — Действительно, поразительно красивый Старый мост! — повторил он, глядя с огромным интересом в желто-илистые воды Арно[135].
«О, какое же ты чудовище! — молча сетовала я. — „Восхитительный Старый мост“! Вот на таком восхитительном старом мосту во Флоренции Данте впервые встретил Беатриче Портинари[136]. Знаешь ли ты об этом? Думаешь, он шел и улыбался и смотрел на мост?»
Нет, для Леннарта я не Беатриче Портинари, это очевидно, и я заставляла себя осознать сей факт. Самое лучшее — сразу же покончить со всеми надеждами и посмотреть правде в глаза! Пусть уезжает! «Я преодолею свою роковую любовь, — решила я. — Надо немного подождать, и мне, вероятно, удастся, если я его больше не увижу!»
— Знаете, что мы сделаем? — спросил Леннарт. — Мы втиснемся в мой маленький автомобиль и поедем во Фьезоле посмотреть, как садится солнце.
Я первая издала восхищенный вопль в ответ на это предложение. Я сказала себе, что если мне нужно преодолеть свою роковую любовь, то это можно с тем же успехом сделать во Фьезоле и в обществе обожаемого субъекта.
Но, пожалуй, это умозаключение было ошибочным. Если речь идет о том, чтобы преодолеть несчастную любовь, то Фьезоле для этого наверняка одно из наименее подходящих мест в мире.
Сердце всегда немного щемит, когда видишь нечто более прекрасное, чем все его описания. Но стоять рядом с тем, кого ты любишь, и видеть, как заходит солнце над Флоренцией и долиной реки Арно, — это приводит к помутнению рассудка, и ты готов тут же расплакаться. И видишь, что даже и не стоит пытаться преодолеть там свою любовь!
В Италии красивее всего сумерки. И здесь, в Тоскане, тоже. Пожалуй, здесь, в Тоскане, — больше всего! Классический ландшафт с затянутыми серебристой дымкой холмами и нескончаемые аллеи тополей, взывающих к тебе и беседующих с тобой всей своей тишиной, и покоем, и безмерностью. Здесь ничто не изменилось! Так же молчаливо спускались сумерки, когда Фра Анджелико[137] писал своих мадонн, над Флоренцией так же сверкали вечерние звезды. Вероятно, такая же чуть фиалковая синева окрашивала воздух в те далекие времена, когда один из блистательных дней Лоренцо Magnifico завершился однажды в старинном Палаццо Медичи[138] на вершине холма.
Быть может, именно в сумерках Лоренцо Медичи почувствовал, что умирает, быть может, он бросил через окно последний взгляд на свой любимый город. О, надеюсь, такой же мягкий сумеречный свет озарил его усталые глаза, а вечерняя звезда горела так же ясно, как и теперь! Быть может, то был отблеск нескольких свечей, зажженных внизу во Флоренции, быть может, он видел их и горевал, потому что вскоре умрет для этого города внизу и для живущих в нем людей. А быть может, он, Magnifico, ужасно устал и жаждал долгого покоя…
Даже Ева молчала, когда мы стояли там. Из францисканского монастыря[139] на вершине холма доносился тонкий тихий звон колоколов, чтобы заставить преисполниться все вокруг еще большей грустью, а меня еще сильнее почувствовать собственную потерянность. Мы побрели по крутой тропинке наверх, где нас встретил бедный маленький монах, выглядевший словно маленький бедный человечек Божий.
Он пригласил нас войти в цветущий монастырский сад и заверил, что говорит по-шведски.
— Пожалуйста… красивые цветы… спускайтесь вниз… — весьма энергично сказал он.
Затем мы вернулись на Пьяццу, которая в период античности была форумом Фьезоле. Там мы уселись в небольшом уличном кафе и подкрепились чашкой кофе.
По правде говоря, я нуждалась в чем-то подкрепляющем.
Я ощущала беспросветную печаль, а жизнь представлялась мне столь прекрасной и столь грустной, что лучше было умереть и избавиться от всего на свете… Как чудесно и покойно было бы умереть и не думать больше ни о Леннарте, ни о вечерних звездах и вообще ни о чем! Ева и Леннарт весело болтали, я же хранила полное молчание. Горло у меня болело, я не могла выдавить ни единого слова, в глазах стояли слезы, готовые вот-вот сорваться с ресниц, если я только не удержу их. Иногда Леннарт спокойно и чуть равнодушно поглядывал на меня, и я улыбалась бледной улыбкой. Но вдруг он сказал куда-то в пространство:
— А ведь у Кати по-настоящему прелестные ушки!
Он сказал это невзначай, примерно так, как если бы констатировал, что кофе вполне сносный.
Только: «А ведь у Кати по-настоящему прелестные ушки!»
Но этого было достаточно. Сначала я подумала было, не подбросить ли мне кофейные чашки в воздух, чтобы дать выход забурлившей во мне радости? У меня прелестные ушки… о, если бы я могла снять их и подарить ему на память как маленький сувенир! У меня прелестные ушки — спасибо, спасибо Тебе, дорогой Боже, за это и за то, что жизнь так чудесна! И за то, что Ты сотворил столько вечерних звезд и много другого прекрасного! И хотя Ты так спешил, Ты все-таки нашел время сотворить для меня пару прелестных ушек, спасибо Тебе за это, дорогой, дорогой Боже!
Подумать только, как чудесно жить на свете! Я едва усидела на стуле! И если бы умела махать своими прелестными ушками, то сделала бы это! Боль в горле, мешавшая мне разговаривать, совершенно исчезла! Я начала так болтать, что испугалась за себя! Мой порыв заразил Еву и Леннарта, и мы болтали и шумели до тех пор, пока на лицах сидевших вокруг нас людей не появилось задумчивое выражение.
— Следует считаться с этими чопорными южанами, — заметил в конце концов Леннарт. — Они не привыкли к нашей буйной северной жизнерадостности.
Много испытаний выпало на долю Флоренции с тех пор, как этруски[126] пришли из Фьезоле[127], а теперь к этому добавились еще шведские туристические группы! Самое худшее всегда приходит последним.
Будь я истой флорентийкой, думаю, я бы ненавидела всех этих обезумевших женщин, которые врываются в магазины, и вырываются оттуда, и задают вопросы, и торгуются, и считают, и покупают, и теребят шелковые ткани своими мерзкими алчными руками. Будь я истой флорентийкой и обладай я хоть каплей того чувства красоты, которое во все времена отличало жителей этого города, я сочла бы безвкусной всю эту преувеличенную лихорадочную погоню за seta pura и другими мирскими вещами. Будь я истой флорентийкой, я указала бы на чудесный розово-бело-черный фасад собора Santa Maria del Fiores[128] и сказала бы: «Разве вы не видите, что он сияет прекраснее, чем любой натуральный шелк!» И привела бы всех этих женщин к Кампаниле[129] и к «Вратам Рая» Джотто[130]. Я поводила бы их среди сокровищ искусства Галереи Уффици и сказала бы:
— Купайте души в море красоты, женщины!
Однако я, к счастью, не флорентийка и не несу никакой ответственности за всех этих безумных женщин, что, жужжа, как шершни, то влетают в лавки и магазины, то вылетают оттуда… А мы с Евой — во главе!
Естественно, мы были в Галерее Уффици. Мы наслаждались прекрасным. Там был портрет очень юной фрёкен Медичи[131], завоевавший мое сердце, и портрет милой нежной мадонны в темно-зеленом плаще.
Мы долго стояли перед Баптистерием[132], поражаясь невиданной роскоши «Врат Рая». Мы впали в восторг, осматривая собор Santa Maria del Fiores. Разумеется, мы купали души в море красоты!
Но, но, но… Когда женщины, жужжа, как шершни, влетали в лавки и магазины и вылетали оттуда, мы с Евой были во главе!
— «Врата Рая», — сказала Ева, рванув дверь магазина, в котором был самый большой выбор шелковых тканей. Я тоже была в угаре приобретательства. Наконец-то мой «seta pura фонд» выйдет на белый свет из внутреннего кармана жакета и превратится в плотный черный шелк. Ева купила шелк телесного цвета.
Когда мы снова вышли на улицу, разгоряченные, с пылающими щеками, нам стало чуточку стыдно нашего безумия.
Но там, на улице, ведущей к Ponte Vecchio[133], было так много очаровательных мелких лавочек. Нас тянуло туда словно магнитом. Ева, пожалуй, была права, сказав: это, мол, все равно что пустить свиней в огород, где растут трюфели[134]… Женский инстинкт и в чужом городе обнаружит Нужную Улицу! Вообще-то, пусть никто не подходит ко мне и не произносит ни единого дурного слова о тех, кто заглядывает в витрины. Я благодарю своего Создателя, что во Флоренции я не все время провела в Галерее Уффици. Иногда нужно постоять и перед витринами!
Мы с Евой так и сделали. Мы стояли перед ювелирным магазином, а в витрине лежало кольцо, самое прекрасное, какое мне только доводилось видеть.
— Ева! — заорала я. — Видала, какое кольцо! Ну то, с бирюзой! Ой, какое кольцо!
И тут за спиной я услышала голос:
— Кричи громче, Кати! Может, на окраине города еще кто-нибудь тебя не слышит!
Я обернулась — это был Леннарт! О боже, Леннарт! Чуть насмешливо улыбающийся и все такой же загорелый.
В моей душе что-то оборвалось. Мне хотелось броситься ему на шею и заплакать, бормоча о том, как мне было худо, и как мне его не хватало, и что я не в силах была выдержать разлуку с ним!.. Но ведь такое позволить себе нельзя! Поэтому я сказала:
— Ты опять здесь? Все бегаешь за нами! Просто ужас!
Ева пронзительно и глупо хихикнула, но я одним взглядом заставила ее замолчать.
— Да, я здесь, — признался Леннарт. — Но ты, пожалуй, скоро снова затеряешься в толпе.
Я рассказала, как искала его на Пьяццетте в Венеции, и он чуть насмешливо улыбнулся.
— Я тоже искал тебя, — сказал Леннарт.
— Правда? — с надеждой спросила я.
— Ну да, я даже заглядывал в газеты, в рубрику «Потерянные вещи».
— Правда? — спросила я с еще большей надеждой.
Он подхватил Еву и меня под руки, и мы медленно пошли по улице. Ева поинтересовалась, сколько еще времени он останется во Флоренции и куда собирается ехать потом? Я молча благословила ее, я была так благодарна ей за то, что мне не надо самой задавать Леннарту эти вопросы. Да, он поедет дальше завтра утром! Точно еще не знает куда, а позднее, очевидно, в Рим.
Я почувствовала, что меня снова охватывает глубокое отчаяние. Мне дано встретить его на такой краткий миг, а потом он снова исчезнет. Это было выше моих сил! О, пусть небо сжалится над такими, как я! Несчастная любовь в семь раз хуже зубной боли!
— Возможно, мы и в Риме увидимся, — как можно равнодушнее сказала я. — Мы тоже едем туда!
— Ничего нельзя знать заранее! — ответил Леннарт.
Я чуть не вскрикнула. Он сказал: «Ничего нельзя знать заранее!» Разве он не понимает, что я должна встретиться с ним! Я должна убедить его, что он не сможет жить без меня! Конечно, мне это не удастся, но я все же могла бы, по крайней мере, получить пристойный шанс попытаться это сделать. Несправедливо, что различия наших маршрутов помешает мне в этом и сделает меня несчастной на всю оставшуюся жизнь. Нельзя же, в самом деле, требовать от девушки, чтобы ей удалось завоевать сердце мужчины, если ей дается на это время от времени по пять минут.
Но Леннарт шел рядом со мной, улыбался, ничего не подозревая ни о моей беде, ни о моем отчаянии. Я еще отчаяннее ломала голову, как сделать, чтобы снова увидеть его. Мимоходом упомянула я название отеля, в котором мы будем жить в Риме. Пять раз упомянула я как бы мимоходом название нашего отеля в Риме. Но не похоже, чтобы Леннарт принял его во внимание и запомнил.
Ева — добрая душа, всегда готовая помочь, делала все, что в ее силах.
— Ты имеешь представление, где находится этот отель? — поинтересовалась она.
— Ни малейшего, — ответил Леннарт, по-видимому чрезвычайно этим довольный. — Какой восхитительный Старый мост! — продолжал он, остановившись посреди Ponte Vecchio. — Действительно, поразительно красивый Старый мост! — повторил он, глядя с огромным интересом в желто-илистые воды Арно[135].
«О, какое же ты чудовище! — молча сетовала я. — „Восхитительный Старый мост“! Вот на таком восхитительном старом мосту во Флоренции Данте впервые встретил Беатриче Портинари[136]. Знаешь ли ты об этом? Думаешь, он шел и улыбался и смотрел на мост?»
Нет, для Леннарта я не Беатриче Портинари, это очевидно, и я заставляла себя осознать сей факт. Самое лучшее — сразу же покончить со всеми надеждами и посмотреть правде в глаза! Пусть уезжает! «Я преодолею свою роковую любовь, — решила я. — Надо немного подождать, и мне, вероятно, удастся, если я его больше не увижу!»
— Знаете, что мы сделаем? — спросил Леннарт. — Мы втиснемся в мой маленький автомобиль и поедем во Фьезоле посмотреть, как садится солнце.
Я первая издала восхищенный вопль в ответ на это предложение. Я сказала себе, что если мне нужно преодолеть свою роковую любовь, то это можно с тем же успехом сделать во Фьезоле и в обществе обожаемого субъекта.
Но, пожалуй, это умозаключение было ошибочным. Если речь идет о том, чтобы преодолеть несчастную любовь, то Фьезоле для этого наверняка одно из наименее подходящих мест в мире.
Сердце всегда немного щемит, когда видишь нечто более прекрасное, чем все его описания. Но стоять рядом с тем, кого ты любишь, и видеть, как заходит солнце над Флоренцией и долиной реки Арно, — это приводит к помутнению рассудка, и ты готов тут же расплакаться. И видишь, что даже и не стоит пытаться преодолеть там свою любовь!
В Италии красивее всего сумерки. И здесь, в Тоскане, тоже. Пожалуй, здесь, в Тоскане, — больше всего! Классический ландшафт с затянутыми серебристой дымкой холмами и нескончаемые аллеи тополей, взывающих к тебе и беседующих с тобой всей своей тишиной, и покоем, и безмерностью. Здесь ничто не изменилось! Так же молчаливо спускались сумерки, когда Фра Анджелико[137] писал своих мадонн, над Флоренцией так же сверкали вечерние звезды. Вероятно, такая же чуть фиалковая синева окрашивала воздух в те далекие времена, когда один из блистательных дней Лоренцо Magnifico завершился однажды в старинном Палаццо Медичи[138] на вершине холма.
Быть может, именно в сумерках Лоренцо Медичи почувствовал, что умирает, быть может, он бросил через окно последний взгляд на свой любимый город. О, надеюсь, такой же мягкий сумеречный свет озарил его усталые глаза, а вечерняя звезда горела так же ясно, как и теперь! Быть может, то был отблеск нескольких свечей, зажженных внизу во Флоренции, быть может, он видел их и горевал, потому что вскоре умрет для этого города внизу и для живущих в нем людей. А быть может, он, Magnifico, ужасно устал и жаждал долгого покоя…
Даже Ева молчала, когда мы стояли там. Из францисканского монастыря[139] на вершине холма доносился тонкий тихий звон колоколов, чтобы заставить преисполниться все вокруг еще большей грустью, а меня еще сильнее почувствовать собственную потерянность. Мы побрели по крутой тропинке наверх, где нас встретил бедный маленький монах, выглядевший словно маленький бедный человечек Божий.
Он пригласил нас войти в цветущий монастырский сад и заверил, что говорит по-шведски.
— Пожалуйста… красивые цветы… спускайтесь вниз… — весьма энергично сказал он.
Затем мы вернулись на Пьяццу, которая в период античности была форумом Фьезоле. Там мы уселись в небольшом уличном кафе и подкрепились чашкой кофе.
По правде говоря, я нуждалась в чем-то подкрепляющем.
Я ощущала беспросветную печаль, а жизнь представлялась мне столь прекрасной и столь грустной, что лучше было умереть и избавиться от всего на свете… Как чудесно и покойно было бы умереть и не думать больше ни о Леннарте, ни о вечерних звездах и вообще ни о чем! Ева и Леннарт весело болтали, я же хранила полное молчание. Горло у меня болело, я не могла выдавить ни единого слова, в глазах стояли слезы, готовые вот-вот сорваться с ресниц, если я только не удержу их. Иногда Леннарт спокойно и чуть равнодушно поглядывал на меня, и я улыбалась бледной улыбкой. Но вдруг он сказал куда-то в пространство:
— А ведь у Кати по-настоящему прелестные ушки!
Он сказал это невзначай, примерно так, как если бы констатировал, что кофе вполне сносный.
Только: «А ведь у Кати по-настоящему прелестные ушки!»
Но этого было достаточно. Сначала я подумала было, не подбросить ли мне кофейные чашки в воздух, чтобы дать выход забурлившей во мне радости? У меня прелестные ушки… о, если бы я могла снять их и подарить ему на память как маленький сувенир! У меня прелестные ушки — спасибо, спасибо Тебе, дорогой Боже, за это и за то, что жизнь так чудесна! И за то, что Ты сотворил столько вечерних звезд и много другого прекрасного! И хотя Ты так спешил, Ты все-таки нашел время сотворить для меня пару прелестных ушек, спасибо Тебе за это, дорогой, дорогой Боже!
Подумать только, как чудесно жить на свете! Я едва усидела на стуле! И если бы умела махать своими прелестными ушками, то сделала бы это! Боль в горле, мешавшая мне разговаривать, совершенно исчезла! Я начала так болтать, что испугалась за себя! Мой порыв заразил Еву и Леннарта, и мы болтали и шумели до тех пор, пока на лицах сидевших вокруг нас людей не появилось задумчивое выражение.
— Следует считаться с этими чопорными южанами, — заметил в конце концов Леннарт. — Они не привыкли к нашей буйной северной жизнерадостности.
 — Bira, uva, panino! Bira, uva, panino![143]
Протяжные крики торговцев слились в громогласный хор, когда поезд остановился на какой-то станции. Но продавали они не только пиво, виноград, хлебцы и булочки. Можно было купить еще и вино, большие оплетенные бутылки кьянти, ликеры, cioccolata[144], и cigarette[145], и маленькие подушечки, на которых можно было спать, когда устанешь. Торговать итальянец учится наверняка уже в колыбели. У туриста легко создается впечатление, что все итальянцы стоят, выстроившись в ряд, протягивая дешевые бусы, кораллы, черепаховые шкатулочки, открытки, шелковые шарфы и birra, uve, panini, и хотят бесконечно продавать, продавать и продавать!
Мы с Евой охотно купили и birra, и uve, и panini и закончили покупки, как раз когда поезд тронулся в путь. Молча жуя бутерброды с салями, смотрели мы на холмистый ландшафт, где белые волы мирно тянули за собой круг среди серебристо-серых оливковых деревьев и где паслись большие овечьи стада. Все словно на картинках из Библии! Небольшие белые игрушечные селения дремали, озаренные солнцем. Вдали синели Апеннины.
Мы ехали в Рим. В Рим, куда ведут все дороги[146].
Собственно говоря, не следовало ли и нам с посохом пилигрима в руке идти к этому городу по одной из этих белых дорог?
Нет, это так же точно, как то, что все дороги ведут в Рим! Все мы — пилигримы из Стокгольма, из Аскерсунда, из Вернаму[147], выехавшие оттуда, чтобы увидеть Вечный город[148], ехали, забронировав места в вагоне, и сидели развалившись на мягких подушках! Это было, что ни говори, на редкость удобное паломничество.
Но в поезде были и вагоны третьего класса, ой-ой-ой! Пожалуй, никогда по-настоящему не узнаешь, что такое перенаселение, пока не увидишь битком набитое итальянцами купе третьего класса. Когда я говорю «битком набитое», то я и имею в виду битком набитое. Я вовсе не хочу сказать, что там народу — ровно по числу сидячих мест. Вовсе нет! Но если я говорю, что там на каждом месте, предназначенном для одного человека, сидят двое, а проходы так забиты, что выгибаются спины, а те, кому не хватает места, свешиваются из двери вагона, то это дает лишь слабое представление о том, как выглядит битком набитый итальянский вагон третьего класса. В Швеции это ни за что бы добром не кончилось, даже в неделю вежливости[149]. Люди начали бы злобно наступать друг другу на мозоли и осыпать друг друга взаимными угрозами. Но итальянцы, похоже, в самом деле и более гибки, и легче прессуются.
Мы ехали в Рим! Держа по бутерброду с салями в каждой руке! В самый разгар трапезы адъюнкт Мальмин сунул голову в наше купе и спросил, нельзя ли ему войти. Ему разрешили. Мы попытались даже заставить его съесть бутерброд, но он, содрогаясь, отклонил его. Это был элегантный, застегнутый на все пуговицы господин, а вовсе не тот тип, что станет чавкать публично, поглощая бутерброд! Однако, казалось, он с некоторым удовольствием смотрел, как смертельно голодная Ева вонзала зубы в ломтики колбасы.
Господин Мальмин был холостяк и философ. И одно, пожалуй, вытекало из другого. Он пребывал у ног Шопенгауэра[150] и теоретически почерпнул у своего кумира кое-что и о женщинах. Уже на ранней стадии знакомства Мальмин обратил наше с Евой внимание на то, что практически все крупные философы к женскому полу относились отрицательно и прекрасно могли обойтись без всего, что носит имя «женщина».
— Да, а мы очень даже прекрасно можем обойтись без этих старцев философов, так что мы квиты! — сказала Ева.
Думаю, господин Мальмин воспринимал Еву как прямой вызов Шопенгауэру. Он производил впечатление человека чем-то обеспокоенного, и это с каждым днем становилось все более и более заметно. А откуда бы ни доносился громкий смех Евы, можно было быть уверенным, что поблизости найдешь и господина Мальмина. Внешне он сохранял свое огромное чувство превосходства, но иногда можно было случайно наткнуться на него, когда он украдкой смотрел на Еву глазами голодного ребенка. Ева ничего не замечала, во всяком случае тут она не притворялась. Она смеялась все так же беззаботно и обращалась с адъюнктом так же неуважительно, как с самого начала. А сейчас она, размахивая своим бутербродом с салями, спрашивала Мальмина, не думал ли он когда-нибудь посвататься к Фриде Стрёмберг?
— Нет, избави меня Бог! — испуганно ответил Мальмин.
— Глупо! — заявила Ева. — Фрида такая милая! И к тому же прекрасно готовит! Я уверена, что Шопенгауэр ничего не имел бы против. Но возможно, куда труднее было бы уговорить Фриду.
Господин Мальмин поднялся и ушел. Он не желал больше слышать о Фриде Стрёмберг. Но Ева, видимо, заронила в его душу семя сомнения, хотя, возможно, не в том направлении, в каком бы этого хотелось ему. Некоторое время спустя, когда я, стоя одна в проходе, смотрела на Апеннины, он подошел ко мне и стал говорить о Еве. Выражался он весьма туманно и неопределенно, но хотел совершенно точно знать, не занята ли уже Ева где-то на стороне.
— Не более чем обычно, — правдиво ответила я.
— «Не более чем обычно» — что это значит? — удивился господин Мальмин.
— Ха! — воскликнула я. — Пожалуй, пять-шесть кандидатов в резерве, а с одним или с двумя она чуточку — слегка — помолвлена. Но занята?.. Нет, этого утверждать нельзя!
Господин Мальмин испуганно смотрел на Апеннины. Мне было так жаль его! Мне вовсе не хотелось его огорчать. Я только собиралась деликатно разъяснить ему девиз Евы: «Один мужчина — это не мужчина!»
— Только не падайте духом! — сказала я ему в утешение и похлопала его по плечу. — Вы, господин Мальмин, можете, пожалуй, встать в очередь!
Но в ответ господин Мальмин заявил, что я совершенно не поняла его. Он задал мне вопрос исключительно из любознательности, а вовсе не по какой-то другой причине.
Да, да, ведь господин Мальмин спрашивал так часто, и так много, и так долго из чистой любознательности, и можно было ожидать чего угодно… Но на этот раз им наверняка двигала не только любознательность. Я, сама поверженная несчастной любовью, узнавала ее симптомы. Я решила произнести речь и предупредить Еву, а также попросить ее быть впредь чуточку более осторожной и не улыбаться все время, пуская в ход свои ямочки на щеках.
— Господин Мальмин такой милый человек и блестящий знаток, ну да, конечно же, — сказала я ей. — Он не заслуживает того, чтобы стать твоей игрушкой!
— Хо-хо! Ничего себе игрушка!
— Да! Не будь такой высокомерной! — воскликнула я.
— Да, но что я такого сделала? — Ева сердито вытаращила на меня глаза. — Ты что, утверждаешь, будто я поощряла Мальмина?
Нет, во имя справедливости, этого я, разумеется утверждать не могла. Она ничего не делала, кроме того, что была самой собой, то есть веселой и привлекательной. Я попыталась объяснить ей, что такой серьезный и сдержанный человек, как Мальмин, при встрече с таким жизнерадостным существом, как Ева, неизбежно становится беспомощной жертвой и… Короче говоря, она могла бы быть хоть немного осторожней, завершила я свой умный пассаж. Правда, я не знала, как эта осторожность должна выглядеть на практике.
— Вот как, нельзя даже и повеселиться! — негодующе изрекла Ева. — Ну ладно, пускай! В следующий раз, когда Мальмин заржет и зальется своим мелким смешком в моем присутствии, я скажу: «Э, нет, господин Мальмин, сейчас мы будем думать о смерти!»
Результатом моего предупреждения стало то, что когда господин Мальмин в следующий раз зашел в наше купе, Ева, смертельно серьезная, сидела в углу и прятала свои ямочки на щеках, сжимая губы и втягивая щеки так, что это могло кого угодно навсегда лишить радости жизни. Господин Мальмин робко посмотрел на нее и спросил, как она поживает и здорова ли?
— Да, я здорова, — ответила Ева. — Я думаю о смерти и очень хорошо поживаю!
Господин Мальмин покачал головой и отправился восвояси.
— Думаешь, помогло? — с надеждой спросила Ева.
— Не притворяйся дурочкой! Нечего делать вид, будто не понимаешь, что я имею в виду!
Я напомнила ей, что Мальмин не единственная жертва ее ямочек на щеках. Во Флоренции был еще один бедняга — румяный портье нашего отеля, который, вероятно, сейчас сидит и плачет из-за нее.
— Ну, это же совсем другое дело! — воскликнула Ева. — Все портье в отелях любят меня!
В этом она права. Таинственная притягательность Евы для портье — тема, которая должна быть исследована в докторских диссертациях каким-нибудь ученым, интересующимся феноменом сверхъестественного. Стоит какому-нибудь портье увидеть Еву, как он роняет все, что держит в руках, отталкивает в сторону магараджу из Майсура[151] или другого незначительного гостя, которого обслуживает, и спешит с глубокими поклонами к Еве, чтобы передать ей ключи от княжеских покоев. Меня он не видит в упор. Я стою с улыбкой, с каждой минутой все более смиренной, и чувствую себя Урией Типом[152]. Я робко бормочу, нет ли для меня писем, и тогда портье окидывает меня неодобрительным взглядом и говорит, что нет, ничего нет.
Зато меня любят горничные отелей, а я люблю этих горничных. Особенно в Италии! Мы смеемся и киваем друг другу, а я смущенно болтаю, смешивая слова всех известных мне языков. Но горничные все равно понимают, что я имею в виду: я считаю Италию самой красивой страной на свете, а итальянцев исключительно любезными, талантливыми и приятными… Еще я думаю, что сегодня прекрасная погода, а завтра, вероятно, будет такая же прекрасная и что я хочу получить мое выглаженное платье subito, то есть сию же минуту.
— Subito, — повторяют они, и глаза их дружески сияют.
— Subito, — говорят они и кивают в знак согласия.
Ну да, конечно, платье будет выглажено сию же минуту.
Затем они исчезают вместе с платьем, а три часа спустя я, облаченная в розовые шелковые брючки, буквально лезу на венецианскую хрустальную люстру, чтобы утихомирить свои разбушевавшиеся нервы. Через пять минут мне надо идти обедать, но даже если розовые шелковые брючки мне к лицу, они еще не воспринимаются как вечерний туалет, по крайней мере в лучших ресторанах.
Но я все равно люблю горничных отелей, это точно! Даже если, говоря subito, мы имеем в виду совершенно разные вещи!
Ева по-прежнему желает думать о смерти в своем углу, а я тогда устраиваюсь поудобней в своем и думаю о Леннарте. Этот последний вечер во Флоренции вселил в меня абсолютную уверенность — спасения для меня нет. Я обречена вечно любить Леннарта Сундмана. А кроме того, у меня появилась надежда! Надежда жалкая и маленькая, но она упрямая и не желавшая умирать. Я питала ее мелкими, но значительными деталями, по крайней мере я внушала себе самой, что они значительные.
Леннарт так нежно взглянул на меня, обнаружив в холле отеля во Флоренции, — это первое! Он возил меня в своем автомобильчике ночью по городу — это второе. Мы часами ездили по темным дорогам Тосканы, и я болтала столько всяких глупостей о самой себе, а он слушал! О, как удивительно он слушал! Зачем ему было носиться ночью по всей Тоскане, если бы он совершенно мной не интересовался? Он обещал отыскать нас в отеле в Риме — это третье! «Нас», а не «меня»! Ой, в этом-то и была вся загвоздка! Никакой уверенности, что он явится ради меня! На самом деле он не сказал ровно ничего, что прямо свидетельствовало бы об этом. Единственное, что он сказал: Ева, мол, милая и веселая! О милая и веселая Ева, не отбирай у меня моего единственного маленького агнца[153], ведь у тебя целое стадо баранов!
— Bira, uva, panino! Bira, uva, panino![143]
Протяжные крики торговцев слились в громогласный хор, когда поезд остановился на какой-то станции. Но продавали они не только пиво, виноград, хлебцы и булочки. Можно было купить еще и вино, большие оплетенные бутылки кьянти, ликеры, cioccolata[144], и cigarette[145], и маленькие подушечки, на которых можно было спать, когда устанешь. Торговать итальянец учится наверняка уже в колыбели. У туриста легко создается впечатление, что все итальянцы стоят, выстроившись в ряд, протягивая дешевые бусы, кораллы, черепаховые шкатулочки, открытки, шелковые шарфы и birra, uve, panini, и хотят бесконечно продавать, продавать и продавать!
Мы с Евой охотно купили и birra, и uve, и panini и закончили покупки, как раз когда поезд тронулся в путь. Молча жуя бутерброды с салями, смотрели мы на холмистый ландшафт, где белые волы мирно тянули за собой круг среди серебристо-серых оливковых деревьев и где паслись большие овечьи стада. Все словно на картинках из Библии! Небольшие белые игрушечные селения дремали, озаренные солнцем. Вдали синели Апеннины.
Мы ехали в Рим. В Рим, куда ведут все дороги[146].
Собственно говоря, не следовало ли и нам с посохом пилигрима в руке идти к этому городу по одной из этих белых дорог?
Нет, это так же точно, как то, что все дороги ведут в Рим! Все мы — пилигримы из Стокгольма, из Аскерсунда, из Вернаму[147], выехавшие оттуда, чтобы увидеть Вечный город[148], ехали, забронировав места в вагоне, и сидели развалившись на мягких подушках! Это было, что ни говори, на редкость удобное паломничество.
Но в поезде были и вагоны третьего класса, ой-ой-ой! Пожалуй, никогда по-настоящему не узнаешь, что такое перенаселение, пока не увидишь битком набитое итальянцами купе третьего класса. Когда я говорю «битком набитое», то я и имею в виду битком набитое. Я вовсе не хочу сказать, что там народу — ровно по числу сидячих мест. Вовсе нет! Но если я говорю, что там на каждом месте, предназначенном для одного человека, сидят двое, а проходы так забиты, что выгибаются спины, а те, кому не хватает места, свешиваются из двери вагона, то это дает лишь слабое представление о том, как выглядит битком набитый итальянский вагон третьего класса. В Швеции это ни за что бы добром не кончилось, даже в неделю вежливости[149]. Люди начали бы злобно наступать друг другу на мозоли и осыпать друг друга взаимными угрозами. Но итальянцы, похоже, в самом деле и более гибки, и легче прессуются.
Мы ехали в Рим! Держа по бутерброду с салями в каждой руке! В самый разгар трапезы адъюнкт Мальмин сунул голову в наше купе и спросил, нельзя ли ему войти. Ему разрешили. Мы попытались даже заставить его съесть бутерброд, но он, содрогаясь, отклонил его. Это был элегантный, застегнутый на все пуговицы господин, а вовсе не тот тип, что станет чавкать публично, поглощая бутерброд! Однако, казалось, он с некоторым удовольствием смотрел, как смертельно голодная Ева вонзала зубы в ломтики колбасы.
Господин Мальмин был холостяк и философ. И одно, пожалуй, вытекало из другого. Он пребывал у ног Шопенгауэра[150] и теоретически почерпнул у своего кумира кое-что и о женщинах. Уже на ранней стадии знакомства Мальмин обратил наше с Евой внимание на то, что практически все крупные философы к женскому полу относились отрицательно и прекрасно могли обойтись без всего, что носит имя «женщина».
— Да, а мы очень даже прекрасно можем обойтись без этих старцев философов, так что мы квиты! — сказала Ева.
Думаю, господин Мальмин воспринимал Еву как прямой вызов Шопенгауэру. Он производил впечатление человека чем-то обеспокоенного, и это с каждым днем становилось все более и более заметно. А откуда бы ни доносился громкий смех Евы, можно было быть уверенным, что поблизости найдешь и господина Мальмина. Внешне он сохранял свое огромное чувство превосходства, но иногда можно было случайно наткнуться на него, когда он украдкой смотрел на Еву глазами голодного ребенка. Ева ничего не замечала, во всяком случае тут она не притворялась. Она смеялась все так же беззаботно и обращалась с адъюнктом так же неуважительно, как с самого начала. А сейчас она, размахивая своим бутербродом с салями, спрашивала Мальмина, не думал ли он когда-нибудь посвататься к Фриде Стрёмберг?
— Нет, избави меня Бог! — испуганно ответил Мальмин.
— Глупо! — заявила Ева. — Фрида такая милая! И к тому же прекрасно готовит! Я уверена, что Шопенгауэр ничего не имел бы против. Но возможно, куда труднее было бы уговорить Фриду.
Господин Мальмин поднялся и ушел. Он не желал больше слышать о Фриде Стрёмберг. Но Ева, видимо, заронила в его душу семя сомнения, хотя, возможно, не в том направлении, в каком бы этого хотелось ему. Некоторое время спустя, когда я, стоя одна в проходе, смотрела на Апеннины, он подошел ко мне и стал говорить о Еве. Выражался он весьма туманно и неопределенно, но хотел совершенно точно знать, не занята ли уже Ева где-то на стороне.
— Не более чем обычно, — правдиво ответила я.
— «Не более чем обычно» — что это значит? — удивился господин Мальмин.
— Ха! — воскликнула я. — Пожалуй, пять-шесть кандидатов в резерве, а с одним или с двумя она чуточку — слегка — помолвлена. Но занята?.. Нет, этого утверждать нельзя!
Господин Мальмин испуганно смотрел на Апеннины. Мне было так жаль его! Мне вовсе не хотелось его огорчать. Я только собиралась деликатно разъяснить ему девиз Евы: «Один мужчина — это не мужчина!»
— Только не падайте духом! — сказала я ему в утешение и похлопала его по плечу. — Вы, господин Мальмин, можете, пожалуй, встать в очередь!
Но в ответ господин Мальмин заявил, что я совершенно не поняла его. Он задал мне вопрос исключительно из любознательности, а вовсе не по какой-то другой причине.
Да, да, ведь господин Мальмин спрашивал так часто, и так много, и так долго из чистой любознательности, и можно было ожидать чего угодно… Но на этот раз им наверняка двигала не только любознательность. Я, сама поверженная несчастной любовью, узнавала ее симптомы. Я решила произнести речь и предупредить Еву, а также попросить ее быть впредь чуточку более осторожной и не улыбаться все время, пуская в ход свои ямочки на щеках.
— Господин Мальмин такой милый человек и блестящий знаток, ну да, конечно же, — сказала я ей. — Он не заслуживает того, чтобы стать твоей игрушкой!
— Хо-хо! Ничего себе игрушка!
— Да! Не будь такой высокомерной! — воскликнула я.
— Да, но что я такого сделала? — Ева сердито вытаращила на меня глаза. — Ты что, утверждаешь, будто я поощряла Мальмина?
Нет, во имя справедливости, этого я, разумеется утверждать не могла. Она ничего не делала, кроме того, что была самой собой, то есть веселой и привлекательной. Я попыталась объяснить ей, что такой серьезный и сдержанный человек, как Мальмин, при встрече с таким жизнерадостным существом, как Ева, неизбежно становится беспомощной жертвой и… Короче говоря, она могла бы быть хоть немного осторожней, завершила я свой умный пассаж. Правда, я не знала, как эта осторожность должна выглядеть на практике.
— Вот как, нельзя даже и повеселиться! — негодующе изрекла Ева. — Ну ладно, пускай! В следующий раз, когда Мальмин заржет и зальется своим мелким смешком в моем присутствии, я скажу: «Э, нет, господин Мальмин, сейчас мы будем думать о смерти!»
Результатом моего предупреждения стало то, что когда господин Мальмин в следующий раз зашел в наше купе, Ева, смертельно серьезная, сидела в углу и прятала свои ямочки на щеках, сжимая губы и втягивая щеки так, что это могло кого угодно навсегда лишить радости жизни. Господин Мальмин робко посмотрел на нее и спросил, как она поживает и здорова ли?
— Да, я здорова, — ответила Ева. — Я думаю о смерти и очень хорошо поживаю!
Господин Мальмин покачал головой и отправился восвояси.
— Думаешь, помогло? — с надеждой спросила Ева.
— Не притворяйся дурочкой! Нечего делать вид, будто не понимаешь, что я имею в виду!
Я напомнила ей, что Мальмин не единственная жертва ее ямочек на щеках. Во Флоренции был еще один бедняга — румяный портье нашего отеля, который, вероятно, сейчас сидит и плачет из-за нее.
— Ну, это же совсем другое дело! — воскликнула Ева. — Все портье в отелях любят меня!
В этом она права. Таинственная притягательность Евы для портье — тема, которая должна быть исследована в докторских диссертациях каким-нибудь ученым, интересующимся феноменом сверхъестественного. Стоит какому-нибудь портье увидеть Еву, как он роняет все, что держит в руках, отталкивает в сторону магараджу из Майсура[151] или другого незначительного гостя, которого обслуживает, и спешит с глубокими поклонами к Еве, чтобы передать ей ключи от княжеских покоев. Меня он не видит в упор. Я стою с улыбкой, с каждой минутой все более смиренной, и чувствую себя Урией Типом[152]. Я робко бормочу, нет ли для меня писем, и тогда портье окидывает меня неодобрительным взглядом и говорит, что нет, ничего нет.
Зато меня любят горничные отелей, а я люблю этих горничных. Особенно в Италии! Мы смеемся и киваем друг другу, а я смущенно болтаю, смешивая слова всех известных мне языков. Но горничные все равно понимают, что я имею в виду: я считаю Италию самой красивой страной на свете, а итальянцев исключительно любезными, талантливыми и приятными… Еще я думаю, что сегодня прекрасная погода, а завтра, вероятно, будет такая же прекрасная и что я хочу получить мое выглаженное платье subito, то есть сию же минуту.
— Subito, — повторяют они, и глаза их дружески сияют.
— Subito, — говорят они и кивают в знак согласия.
Ну да, конечно, платье будет выглажено сию же минуту.
Затем они исчезают вместе с платьем, а три часа спустя я, облаченная в розовые шелковые брючки, буквально лезу на венецианскую хрустальную люстру, чтобы утихомирить свои разбушевавшиеся нервы. Через пять минут мне надо идти обедать, но даже если розовые шелковые брючки мне к лицу, они еще не воспринимаются как вечерний туалет, по крайней мере в лучших ресторанах.
Но я все равно люблю горничных отелей, это точно! Даже если, говоря subito, мы имеем в виду совершенно разные вещи!
Ева по-прежнему желает думать о смерти в своем углу, а я тогда устраиваюсь поудобней в своем и думаю о Леннарте. Этот последний вечер во Флоренции вселил в меня абсолютную уверенность — спасения для меня нет. Я обречена вечно любить Леннарта Сундмана. А кроме того, у меня появилась надежда! Надежда жалкая и маленькая, но она упрямая и не желавшая умирать. Я питала ее мелкими, но значительными деталями, по крайней мере я внушала себе самой, что они значительные.
Леннарт так нежно взглянул на меня, обнаружив в холле отеля во Флоренции, — это первое! Он возил меня в своем автомобильчике ночью по городу — это второе. Мы часами ездили по темным дорогам Тосканы, и я болтала столько всяких глупостей о самой себе, а он слушал! О, как удивительно он слушал! Зачем ему было носиться ночью по всей Тоскане, если бы он совершенно мной не интересовался? Он обещал отыскать нас в отеле в Риме — это третье! «Нас», а не «меня»! Ой, в этом-то и была вся загвоздка! Никакой уверенности, что он явится ради меня! На самом деле он не сказал ровно ничего, что прямо свидетельствовало бы об этом. Единственное, что он сказал: Ева, мол, милая и веселая! О милая и веселая Ева, не отбирай у меня моего единственного маленького агнца[153], ведь у тебя целое стадо баранов!
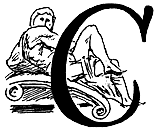 Солнце пылало над римским Форумом, и воздух трепетал от жары. На камнях, оставшихся от ростры[157] Цезаря[158], сидели мы с Евой, благоговейно рассматривая окружавший нас выветрившийся мрамор. Ева, конечно, по-прежнему думала о смерти, потому что вдруг сказала:
— Послушай, Кати, я сижу здесь и думаю об одном. Представь себе, как вообще-то мало людей осталось в живых. Большинство ведь уже давным-давно умерло!
— Да, нас всего-то несколько и осталось, — сказала я, внезапно почувствовав такую благодарность за то, что принадлежу к тем, кто еще может видеть розы вокруг храма Весты[159] и ощущать лицом солнечное тепло, глядя вверх на мраморную капитель[160] Диоскуров[161].
Ах, как они были мертвы — все эти, властители мира, некогда жившие здесь и решавшие судьбы всего человечества! Зато господин Мальмин, и фру Берг, и господин Густафссон, и все мы прочие, мы были живы! Мы бродили тут на солнцепеке на абсолютно живых ногах, и наши живые голоса наполняли воздух бездумной болтовней. Собственно говоря, мы не принадлежали к этому миру. Он не для живых!
Нельзя было Фриде Стрёмберг расхаживать тут в пестром, с крупными цветами, летнем платье. Я хотела видеть здесь фигуры в белых тогах[162], и они должны были странствовать среди позолоченных гигантских статуй, памятников и великолепных мраморных дворцов, сверкающих золотом и лазуритом[163], а не среди разрушенных столбов колоннады и выветрившихся каменных развалин. Прочь отсюда и господин Мальмин! Я хотела бы слышать, как Цезарь со своей ростры обращает речи к римлянам. Я хотела бы видеть, как лицо Юния Брута[164] искажается ненавистью в тот миг, когда он поднимает кинжал на своего господина и друга!
Я хочу, чтобы сегодняшний день был не обычный сентябрьский день две тысячи лет спустя, а чтобы мы перенеслись в мартовские иды 44 года до нашей эры[165]. Исчезните отсюда, господин Густафссон, и явись, Марк Антоний[166], самый безрассудный из римлян! Явись и произнеси свое знаменитое надгробное слово о Цезаре и предай его тело очищающей власти огня! Я люблю тебя за твое рыцарство, и великодушие, и самоотверженность, и за твое безрассудство! Ты пожертвовал державой ради женщины, которую любил, и умер за свою любовь[167]. За это я люблю тебя! Явись сюда, Октавиан![168] У тебя строго сжатые губы, и мне не нравится, что ты носишь длинные зимние кальсоны. Это не подобает мужу, который войдет в историю под именем императора Августа! Но, во всяком случае, явись сюда. Исчезните, фру Берг и фру Густафссон, и явись сюда, Фульвия[169], жестокая кровожадная Фульвия! Нет, вообще-то оставайся в Царстве мертвых, Фульвия! Там твое место! От такой дьявольской злобы, как твоя, увяли бы розы на Форуме! Ты плевала на мертвое лицо Цицерона[170] и жестоко расправилась с его языком, время от времени вещавшим тебе правду. Ты повелела выставить его голову на столбе здесь, на Форуме, а руку его, написавшую столько сочинений на латинском языке, ты повелела прибить гвоздями…[171] Оставайся в Царстве мертвых, Фульвия! Если бы ты хоть один-единственный раз выказала самую малость женской доброты и милосердия! Теперь ты можешь каяться, но уже слишком поздно!
Кто сказал, что надо быть хорошим, пока еще не поздно? Ни Марк ли Аврелий[172], чью покрытую патиной[173] статую я видела недавно на вершине Капитолийского холма? «Живи не так, словно тебе предстоит прожить еще тысячу лет. Смерть витает над тобой. Пока ты еще жив, пока ты еще можешь, будь добрым!»
О небо! Я вдруг почувствовала, как коротко время и для меня! Мы живем всего одну-единственную краткую минуту — это я с ужасающей отчетливостью поняла здесь, на Форуме! И поняла еще одно! Что ни говори о господине Мальмине, о фру Берг и о супругах Густафссон, да и о других тоже, — у них, во всяком случае, есть одна чрезвычайно примечательная особенность: они мои современники! Они делят со мной эту маленькую краткую минуту жизни. И если я хочу быть доброй, то надо начинать с моих современников! Они — единственные, кто мне доступен. Единственные, для кого я могу что-нибудь сделать! О, времени у меня в обрез! Господин Мальмин, господин Мальмин, мой милый, добрый современник, я несусь к вам на всех парусах и хочу быть доброй! Я похлопываю его по спине, чтобы обратить на себя внимание.
— Послушайте, послушайте, дорогой, дорогой господин Мальмин!
Но дорогой господин Мальмин наверняка никогда не читал Марка Аврелия и не понимает, что значит для него, господина Мальмина, делить краткую минуту жизни со мной! Нетерпеливо сбросив мою руку со своего плеча, он возобновляет беседу с гидом.
— Здесь в самом деле чувствуешь, как шелестят и шумят страницы истории! — глубокомысленно изрекает он.
Тут я становлюсь такой ехидной по отношению к моему милому маленькому современнику!
— Да, ведь у вас, господин Мальмин, неприятности из-за шума в ушах еще с тех пор, как мы проезжали Сен-Готардский туннель, — говорю я и удаляюсь, потому что не желаю, чтобы меня так принимали, когда я, исполненная доброты, приношусь на всех парусах!
Мне необходима другая жертва для моей доброты, чуточку более восприимчивая. Я оглядываюсь вокруг в поисках ее. Возле храма Весты сидит фру Берг, словно несколько увядшая весталка более поздней эпохи, и покоит свои уставшие ноги. Она смотрит прямо перед собой совершенно пустыми глазами. Она вконец измучена жарой, и у нее уже не осталось сил для Римского форума. Я внимательно наблюдаю за ней, чтобы понять, не чувствует ли и она, как шелестят и шумят страницы истории! О нет, фру Берг уже бывала в Риме и прежде, и для ее особы с шелестом и шумом страниц истории уже покончено. Фру Берг вовсе не считает, что ей вообще надо выказывать какое-то восхищение в Италии, будь то восхищение красотой Венеции, или сокровищами искусства Флоренции, или достопримечательностями Рима, ведь она уже видела все это, и мы — все остальные — должны эта себе раз и навсегда усвоить. Она считает нас глупыми, когда мы всплескиваем руками и восклицаем «Ах!» и «Ох!». К тому же она вообще раскаивается в том, что поехала вместе с нами в это путешествие. Она не раз внушала нам, что ей следовало бы остаться дома и заняться своим недвижимым имуществом в Стокгольме.
Я осторожно сажусь рядом с ней. Она кажется такой озабоченной. Возможно, она и есть та самая душа в беде, которую я могу утешить, одна из моих современниц, к которой я могу быть доброй!
— Смотри, как отекли на жаре мои ноги! — говорит фру Берг и кладет их на угловой камень древнего храма. Я даю ей высказать все жалобы, я выслушиваю их, и я так добра! Вскоре она уже переходит на свою излюбленную тему — недвижимость, которая не приносит достаточного дохода, а содержание которой стоит таких больших денег… Ведь здесь, на Форуме, она видит ужасающие последствия плохого содержания домов. А эта безумная налоговая политика! О, она просто приводит фру Берг в ярость! Я пытаюсь развернуть перед нею широкую историческую перспективу. Ничто не ново под солнцем, и менее всего — жалобы на налоги. Разве не сюда, на Форум, ворвалась некогда толпа разъяренных римлянок и стала протестовать против законов Марка Аврелия? Что он имел в виду, обложив их такими непомерными налогами? Он, видно, хочет выгнать их на улицу, чтобы там собрать налоги?
— Именно так и надо жаловаться, — призываю я фру Берг. — Никаких мелких сетований и стонов в тишине, а громкие неистовые протесты перед министерством, чтобы министр финансов подпрыгнул до потолка, — такова схема действий!
Фру Берг явно оскорблена. Она, конечно, не понимает, что я всего лишь пытаюсь быть доброй и навести ее на более радостные мысли. Она, конечно же, не понимает, что я всего лишь пытаюсь изо всех сил пробудить ее энтузиазм, ее волю к жизни, которая так коротка, ее интерес к солнцу, к цветам и к столь богатой историческими воспоминаниями земле, на которой мы сидим. Но она сопротивляется! Она не желает радоваться! В конце концов она все-таки вынуждена чуть угрюмо признать, что Римский форум «жутко очаровательный».
Юлий Цезарь, Марк Антоний, Август, вы слышали? Высокочтимые тени, думаю, вам лучше всего вернуться в ваше великое молчаливое небытие, предоставив Форум одной лишь фру Берг! Раз уж она полагает, что он такой жутко очаровательный!
Солнце пылало над римским Форумом, и воздух трепетал от жары. На камнях, оставшихся от ростры[157] Цезаря[158], сидели мы с Евой, благоговейно рассматривая окружавший нас выветрившийся мрамор. Ева, конечно, по-прежнему думала о смерти, потому что вдруг сказала:
— Послушай, Кати, я сижу здесь и думаю об одном. Представь себе, как вообще-то мало людей осталось в живых. Большинство ведь уже давным-давно умерло!
— Да, нас всего-то несколько и осталось, — сказала я, внезапно почувствовав такую благодарность за то, что принадлежу к тем, кто еще может видеть розы вокруг храма Весты[159] и ощущать лицом солнечное тепло, глядя вверх на мраморную капитель[160] Диоскуров[161].
Ах, как они были мертвы — все эти, властители мира, некогда жившие здесь и решавшие судьбы всего человечества! Зато господин Мальмин, и фру Берг, и господин Густафссон, и все мы прочие, мы были живы! Мы бродили тут на солнцепеке на абсолютно живых ногах, и наши живые голоса наполняли воздух бездумной болтовней. Собственно говоря, мы не принадлежали к этому миру. Он не для живых!
Нельзя было Фриде Стрёмберг расхаживать тут в пестром, с крупными цветами, летнем платье. Я хотела видеть здесь фигуры в белых тогах[162], и они должны были странствовать среди позолоченных гигантских статуй, памятников и великолепных мраморных дворцов, сверкающих золотом и лазуритом[163], а не среди разрушенных столбов колоннады и выветрившихся каменных развалин. Прочь отсюда и господин Мальмин! Я хотела бы слышать, как Цезарь со своей ростры обращает речи к римлянам. Я хотела бы видеть, как лицо Юния Брута[164] искажается ненавистью в тот миг, когда он поднимает кинжал на своего господина и друга!
Я хочу, чтобы сегодняшний день был не обычный сентябрьский день две тысячи лет спустя, а чтобы мы перенеслись в мартовские иды 44 года до нашей эры[165]. Исчезните отсюда, господин Густафссон, и явись, Марк Антоний[166], самый безрассудный из римлян! Явись и произнеси свое знаменитое надгробное слово о Цезаре и предай его тело очищающей власти огня! Я люблю тебя за твое рыцарство, и великодушие, и самоотверженность, и за твое безрассудство! Ты пожертвовал державой ради женщины, которую любил, и умер за свою любовь[167]. За это я люблю тебя! Явись сюда, Октавиан![168] У тебя строго сжатые губы, и мне не нравится, что ты носишь длинные зимние кальсоны. Это не подобает мужу, который войдет в историю под именем императора Августа! Но, во всяком случае, явись сюда. Исчезните, фру Берг и фру Густафссон, и явись сюда, Фульвия[169], жестокая кровожадная Фульвия! Нет, вообще-то оставайся в Царстве мертвых, Фульвия! Там твое место! От такой дьявольской злобы, как твоя, увяли бы розы на Форуме! Ты плевала на мертвое лицо Цицерона[170] и жестоко расправилась с его языком, время от времени вещавшим тебе правду. Ты повелела выставить его голову на столбе здесь, на Форуме, а руку его, написавшую столько сочинений на латинском языке, ты повелела прибить гвоздями…[171] Оставайся в Царстве мертвых, Фульвия! Если бы ты хоть один-единственный раз выказала самую малость женской доброты и милосердия! Теперь ты можешь каяться, но уже слишком поздно!
Кто сказал, что надо быть хорошим, пока еще не поздно? Ни Марк ли Аврелий[172], чью покрытую патиной[173] статую я видела недавно на вершине Капитолийского холма? «Живи не так, словно тебе предстоит прожить еще тысячу лет. Смерть витает над тобой. Пока ты еще жив, пока ты еще можешь, будь добрым!»
О небо! Я вдруг почувствовала, как коротко время и для меня! Мы живем всего одну-единственную краткую минуту — это я с ужасающей отчетливостью поняла здесь, на Форуме! И поняла еще одно! Что ни говори о господине Мальмине, о фру Берг и о супругах Густафссон, да и о других тоже, — у них, во всяком случае, есть одна чрезвычайно примечательная особенность: они мои современники! Они делят со мной эту маленькую краткую минуту жизни. И если я хочу быть доброй, то надо начинать с моих современников! Они — единственные, кто мне доступен. Единственные, для кого я могу что-нибудь сделать! О, времени у меня в обрез! Господин Мальмин, господин Мальмин, мой милый, добрый современник, я несусь к вам на всех парусах и хочу быть доброй! Я похлопываю его по спине, чтобы обратить на себя внимание.
— Послушайте, послушайте, дорогой, дорогой господин Мальмин!
Но дорогой господин Мальмин наверняка никогда не читал Марка Аврелия и не понимает, что значит для него, господина Мальмина, делить краткую минуту жизни со мной! Нетерпеливо сбросив мою руку со своего плеча, он возобновляет беседу с гидом.
— Здесь в самом деле чувствуешь, как шелестят и шумят страницы истории! — глубокомысленно изрекает он.
Тут я становлюсь такой ехидной по отношению к моему милому маленькому современнику!
— Да, ведь у вас, господин Мальмин, неприятности из-за шума в ушах еще с тех пор, как мы проезжали Сен-Готардский туннель, — говорю я и удаляюсь, потому что не желаю, чтобы меня так принимали, когда я, исполненная доброты, приношусь на всех парусах!
Мне необходима другая жертва для моей доброты, чуточку более восприимчивая. Я оглядываюсь вокруг в поисках ее. Возле храма Весты сидит фру Берг, словно несколько увядшая весталка более поздней эпохи, и покоит свои уставшие ноги. Она смотрит прямо перед собой совершенно пустыми глазами. Она вконец измучена жарой, и у нее уже не осталось сил для Римского форума. Я внимательно наблюдаю за ней, чтобы понять, не чувствует ли и она, как шелестят и шумят страницы истории! О нет, фру Берг уже бывала в Риме и прежде, и для ее особы с шелестом и шумом страниц истории уже покончено. Фру Берг вовсе не считает, что ей вообще надо выказывать какое-то восхищение в Италии, будь то восхищение красотой Венеции, или сокровищами искусства Флоренции, или достопримечательностями Рима, ведь она уже видела все это, и мы — все остальные — должны эта себе раз и навсегда усвоить. Она считает нас глупыми, когда мы всплескиваем руками и восклицаем «Ах!» и «Ох!». К тому же она вообще раскаивается в том, что поехала вместе с нами в это путешествие. Она не раз внушала нам, что ей следовало бы остаться дома и заняться своим недвижимым имуществом в Стокгольме.
Я осторожно сажусь рядом с ней. Она кажется такой озабоченной. Возможно, она и есть та самая душа в беде, которую я могу утешить, одна из моих современниц, к которой я могу быть доброй!
— Смотри, как отекли на жаре мои ноги! — говорит фру Берг и кладет их на угловой камень древнего храма. Я даю ей высказать все жалобы, я выслушиваю их, и я так добра! Вскоре она уже переходит на свою излюбленную тему — недвижимость, которая не приносит достаточного дохода, а содержание которой стоит таких больших денег… Ведь здесь, на Форуме, она видит ужасающие последствия плохого содержания домов. А эта безумная налоговая политика! О, она просто приводит фру Берг в ярость! Я пытаюсь развернуть перед нею широкую историческую перспективу. Ничто не ново под солнцем, и менее всего — жалобы на налоги. Разве не сюда, на Форум, ворвалась некогда толпа разъяренных римлянок и стала протестовать против законов Марка Аврелия? Что он имел в виду, обложив их такими непомерными налогами? Он, видно, хочет выгнать их на улицу, чтобы там собрать налоги?
— Именно так и надо жаловаться, — призываю я фру Берг. — Никаких мелких сетований и стонов в тишине, а громкие неистовые протесты перед министерством, чтобы министр финансов подпрыгнул до потолка, — такова схема действий!
Фру Берг явно оскорблена. Она, конечно, не понимает, что я всего лишь пытаюсь быть доброй и навести ее на более радостные мысли. Она, конечно же, не понимает, что я всего лишь пытаюсь изо всех сил пробудить ее энтузиазм, ее волю к жизни, которая так коротка, ее интерес к солнцу, к цветам и к столь богатой историческими воспоминаниями земле, на которой мы сидим. Но она сопротивляется! Она не желает радоваться! В конце концов она все-таки вынуждена чуть угрюмо признать, что Римский форум «жутко очаровательный».
Юлий Цезарь, Марк Антоний, Август, вы слышали? Высокочтимые тени, думаю, вам лучше всего вернуться в ваше великое молчаливое небытие, предоставив Форум одной лишь фру Берг! Раз уж она полагает, что он такой жутко очаровательный!
 Почему Леннарт так и не позвонил? Ведь он обещал! Он сказал, что даст знать о себе, как только приедет в Рим. Я так радовалась в первый день в Риме, была так уверена, что телефон скоро зазвонит, и когда я подниму трубку, то это будет Леннарт, и я услышу его теплый глуховатый голос. Однако телефон так и не зазвонил. Вернее, он звонил, но это был господин Густафссон, желавший знать, не хотим ли мы поехать на такси на «блошиный рынок»[182] с ним и его женой. Или господин Мальмин, обративший наше внимание на то, что в катакомбах может быть довольно прохладно и надо захватить с собой куртки. В конце концов я начала испытывать перед телефоном настоящий страх — и когда он молчал, и когда звонил. Может, Леннарт не хочет звонить? Может, вместо звонка он думает написать письмецо, наскоро набросанное письмецо: «Встретимся в кафе „Ульпия“». Я беспрерывно мучила портье вопросами: нет ли мне письма?
Письмо мне, конечно, все же было. От Яна. Он так мило написал: он надеется, что у меня теперь есть тот, кто сделает меня счастливее, чем мог бы он. И что, несмотря ни на что, я с теплотой буду вспоминать о том времени, которое мы проводили вместе. Я не должна расстраиваться из-за него, писал Ян, еще придут, вероятно, новые весны! Наверняка так оно и будет, а я наверняка иногда буду с теплотой вспоминать о Яне. Но я совершенно ясно чувствовала, что ничто не бывает так мертво, как любовь, которую недавно похоронил.
Ах, время бежало так быстро, а Леннарт все не давал о себе знать. С тяжелым сердцем, утратив всякую надежду, я бродила по Риму, осматривала собор Святого Петра[183] и термы Каракаллы, Рим христианский и Рим античный — все, что только успевала. Я слонялась по Via Veneto[184], разглядывая элегантных, пьющих чай римлянок, я смешивалась с толпой на Pincio — словом, делала все, что требуется от туриста в Риме. Но я переживала пребывание в Вечном городе не всем сердцем, как следовало бы. Потому что думала о Леннарте. Я думала о нем в соборе Святого Петра, на Форуме и в Колизее, я думала о нем наверху на Pincio, и на Via Veneto, и в темной глубине катакомб. В особенности в темной глубине катакомб. Catacombi di San Sebastiano — Beveto Coca Cola! «Катакомбы Сан Себастьяно — пейте кока-колу!»[185] — было написано на двух плакатах у входа в катакомбы. Ничего тут не поделаешь! Ты вздрагиваешь при виде призрака Сан Себастьяно[186] и других мучеников, сидящих внизу во мраке и кутящих с бутылками кока-колы в руках. Эта реклама кока-колы, так непочтительно торчавшая повсюду, в самом деле могла подействовать на нервы кому угодно. Еве она тоже не понравилась. Покачав головой, она сказала:
— Держу пари, что когда я умру и явлюсь к небесным вратам, то и там будет висеть плакат: «Вход в небесное обиталище — пейте кока-колу!».
Затем мы спустились вниз в катакомбы, и господин Мальмин освещал нам восковой свечой путь в длинных узких проходах, где мрак, как тяжкий груз, давил на грудь. И я подумала, что, будь я мученицей за веру, пусть бы меня лучше разорвали львы, чем сидеть здесь взаперти в подземелье — без воздуха, без солнца и без света.
После этого господин Мальмин пригласил нас в маленькую тратторию совсем рядом с Аппиевой дорогой[187]. Мы пили молодое белое вино и безумно радовались, что мы не мученики.
Однако я все время думала о Леннарте. Может, именно в тот момент, когда я сидела здесь, этот мерзкий телефон в номере гостиницы просто содрогался от звона! Да, от таких мыслей появляются морщины на лбу! И мысли эти тебя не отпускают! Пока я рассеянно прислушивалась к болтовне Мальмина и Евы, мой мозг продолжал работать, а маленькие светлые эльфы — проблески мыслей — повторяли мне примерно вот что: «Он говорил, что даст о себе знать. Кто знает, может, он звонил, когда нас не было?! Может, он сделал слабую попытку сдержать свое обещание, а потом плюнул на все». Ведь мужчины вообще часто так поступают, бросая на ходу что-то вроде «Нам надо встретиться!», и, может быть, даже в ту минуту думают именно так, а через час об этом забывают. Моя жалкая маленькая надежда была подобна пламени свечи, которая уже едва мерцает и вот-вот погаснет.
Это был наш последний день в Риме. И было бы хорошо заставить надежду угаснуть совсем и начертать над ее могилой: «Здесь покоится единственная великая любовь Кати!»
Последний обед в Риме был в отеле, где мы остановились. Настроение было веселое и оживленное, и наконец мы зашли так далеко, что после многодневного совместного времяпровождения все стали обращаться друг к другу запросто, по именам, — словом, выпили на брудершафт[188].
— Виктор, — представился господин Мальмин. — Хотя мои друзья называют меня Викке.
Но Ева решила называть его Виктором.
— Викке! — сказала она. — Мне никогда этого не выговорить! И мало кому так подходит имя Виктор, а не Викке. Виктор звучит так по-настоящему!
Затем вся группа отправилась к фонтану di Trevi[189] — бросить монетки в воду. А иначе ведь нельзя быть уверенным в том, что когда-нибудь снова увидишь Вечный город. Я тоже бросила монетку. Но, откровенно говоря, мне было безразлично, вернусь я сюда или нет. Рим был для меня городом утраченных надежд.
И должно быть, станет им в еще большей степени.
Виктор, наш новоявленный брат, захотел увидеть Рим by night[190] и спросил нас с Евой, не пожелаем ли мы сопровождать его. Естественно, обратился он вообще-то к Еве, — видно, не знал, как избавиться от меня. Не успев даже подумать, я ответила: «Да!» Но Ева не ответила «да». Она устала, у нее болит голова, и ей хочется прилечь. У Виктора был совершенно убитый вид, когда он это услышал. Перспектива увидеть Рим by night наедине со мной ни в коем случае не опьянила его и не привела в восторг, — это было заметно. Я поспешила заверить Мальмина, что при таких обстоятельствах я, естественно, не могу оставить Еву одну. Но Ева решительно отказалась от моего общества, заявив, что ей никто не нужен и ничто не нужно, кроме ее головной боли. Она настаивала на том, чтобы мы с Виктором ушли.
— Поразвлекайтесь хорошенько! — сказала она.
И поскольку Виктор не желал быть совсем неучтивым, он заверил нас, что ему будет очень приятно прогуляться со мной. Я бросила оскорбленный взгляд на Еву за то, что она так поступила со мной. И мы с Виктором ушли.
Мы направились к Библиотеке[191]. Мы выпили по бокалу aqua di Trevi[192] и послушали, как широкогрудый певец поет «Санта-Лючия», одно из самых действенных средств, придуманных итальянцами, чтобы мучить иностранцев. Когда слышишь эту песню первые пятнадцать — двадцать раз, это еще куда ни шло, но раз за разом становится все хуже, и, когда черноволосые мальчишки в сотый раз нудят «Санта-Лючия…», хочется стать бешеной собакой и всех перекусать.
Виктор был в тот вечер необыкновенно общителен. Он рассказывал о своем печальном и одиноком детстве и был по-настоящему человечен. Быть может, не совсем так я представляла себе Рим by night, но слушала заинтересованно, а он надолго и прочно углубился в свою тему. Мало-помалу мы решили отправиться в другое место. В кафе «Ульпия», где, должно быть, так уютно!
Да, в «Ульпии», должно быть, так уютно! Я все еще вижу пред собой эту картину! Лестница, ведущая вниз в сумрачный погребок. Я спускаюсь вниз. Следом за мной Виктор Мальмин. Музыка. Люди за столиками. И в самом конце, в углу, — белокурая голова… и смех, который я узнаю, — смех Евы. Ева… и не одна она… Прямо против нее сидит Леннарт и тоже смеется так, что зубы сверкают на его загорелом лице.
Боже, помоги мне уйти отсюда, прежде чем они заметят меня!
Я отчаянно хватаю Виктора за борт пиджака.
— Нам… нам надо уйти! — заикаюсь я.
— Уйти? — переспрашивает Виктор. — Почему?
Вдруг он тоже замечает тех двоих в углу!..
— Ах, так, значит, это и есть головная боль, — с горечью произнес он, когда мы вышли на улицу.
Я не ответила. Я была так безумно несчастна, что не могла говорить. Трудно сказать, что мне было больнее — предательство Евы или уверенность в том, что Леннарт навсегда утрачен для меня. В любви и на войне все средства хороши — это знаешь отлично, — но то, что Ева… думать об этом было просто невыносимо. Да и вообще, как я могла хоть на один-единственный миг поверить, что Леннарт обратит на меня внимание, когда рядом Ева. Ева с ее ямочками на щеках, с ее веселым юмором и во всем блеске!..
Я стояла на улице и чувствовала себя совершенно одинокой. Одинокой и покинутой и никому не нужной, с солеными слезами горечи на глазах. Рядом со мной стоял Виктор Мальмин, насвистывая «Санта-Лючия», чтобы скрыть свою неуверенность. Кто знает, быть может, он был в таком же отчаянии, как я, и так же одинок? Мы стояли на улице — двое несчастных отвергнутых, — а там, в погребке, сидели Ева и Леннарт, такие радостные и уверенные в себе. И вероятно, так же — друг в друге!
— Виктор, — сказала я, как утопающий, хватаясь за его руку, — пойдем и потанцуем где-нибудь!
Сев в такси, мы поехали наверх к Pincio. И мы танцевали. В ротонде[193] под звездным небом и в окружении высоких кудрявых деревьев. Никогда еще более мрачная пара не танцевала под звездами. Мы не разговаривали. Мы только танцевали, крепко держа друг друга за руки. Но между танцами мы садились за столик, и тогда Виктор говорил чуть тихо, чуть односложно и без тени обычного превосходства.
— Да, ведь было одиноко, — говорил он. — Совсем одиноко, но думалось, быть может, Ева… но ведь ясно, что разница в возрасте слишком велика. Да и у нее ведь столько других… А этот подозрительный тип, что сидел с ней в «Ульпии», — кто он?..
— Извини, но на самом деле он вовсе не подозрительный тип, — живо ответила я, не потерпевшая бы никаких нападок на Леннарта. — Он такой… да, ну это все равно, какой он…
Виктор, задумчиво взглянув на меня, смолчал. И мы снова начали танцевать.
Было уже поздно, когда мы поехали в отель. Наши дрожки катились по ночным улицам, казавшимся такими пустынными, когда смолк веселый дневной шум. Копыта лошадей стучали о мощенную камнем мостовую, и далеко разносилось эхо. Я прислонилась усталой головой к плечу Виктора. Оно оказалось таким же шероховатым и честным, как сам Виктор.
— Не переживай, Кати, — сказал он у двери нашего с Евой номера. — Со временем вырастут розы! По крайней мере для некоторых!
Почему Леннарт так и не позвонил? Ведь он обещал! Он сказал, что даст знать о себе, как только приедет в Рим. Я так радовалась в первый день в Риме, была так уверена, что телефон скоро зазвонит, и когда я подниму трубку, то это будет Леннарт, и я услышу его теплый глуховатый голос. Однако телефон так и не зазвонил. Вернее, он звонил, но это был господин Густафссон, желавший знать, не хотим ли мы поехать на такси на «блошиный рынок»[182] с ним и его женой. Или господин Мальмин, обративший наше внимание на то, что в катакомбах может быть довольно прохладно и надо захватить с собой куртки. В конце концов я начала испытывать перед телефоном настоящий страх — и когда он молчал, и когда звонил. Может, Леннарт не хочет звонить? Может, вместо звонка он думает написать письмецо, наскоро набросанное письмецо: «Встретимся в кафе „Ульпия“». Я беспрерывно мучила портье вопросами: нет ли мне письма?
Письмо мне, конечно, все же было. От Яна. Он так мило написал: он надеется, что у меня теперь есть тот, кто сделает меня счастливее, чем мог бы он. И что, несмотря ни на что, я с теплотой буду вспоминать о том времени, которое мы проводили вместе. Я не должна расстраиваться из-за него, писал Ян, еще придут, вероятно, новые весны! Наверняка так оно и будет, а я наверняка иногда буду с теплотой вспоминать о Яне. Но я совершенно ясно чувствовала, что ничто не бывает так мертво, как любовь, которую недавно похоронил.
Ах, время бежало так быстро, а Леннарт все не давал о себе знать. С тяжелым сердцем, утратив всякую надежду, я бродила по Риму, осматривала собор Святого Петра[183] и термы Каракаллы, Рим христианский и Рим античный — все, что только успевала. Я слонялась по Via Veneto[184], разглядывая элегантных, пьющих чай римлянок, я смешивалась с толпой на Pincio — словом, делала все, что требуется от туриста в Риме. Но я переживала пребывание в Вечном городе не всем сердцем, как следовало бы. Потому что думала о Леннарте. Я думала о нем в соборе Святого Петра, на Форуме и в Колизее, я думала о нем наверху на Pincio, и на Via Veneto, и в темной глубине катакомб. В особенности в темной глубине катакомб. Catacombi di San Sebastiano — Beveto Coca Cola! «Катакомбы Сан Себастьяно — пейте кока-колу!»[185] — было написано на двух плакатах у входа в катакомбы. Ничего тут не поделаешь! Ты вздрагиваешь при виде призрака Сан Себастьяно[186] и других мучеников, сидящих внизу во мраке и кутящих с бутылками кока-колы в руках. Эта реклама кока-колы, так непочтительно торчавшая повсюду, в самом деле могла подействовать на нервы кому угодно. Еве она тоже не понравилась. Покачав головой, она сказала:
— Держу пари, что когда я умру и явлюсь к небесным вратам, то и там будет висеть плакат: «Вход в небесное обиталище — пейте кока-колу!».
Затем мы спустились вниз в катакомбы, и господин Мальмин освещал нам восковой свечой путь в длинных узких проходах, где мрак, как тяжкий груз, давил на грудь. И я подумала, что, будь я мученицей за веру, пусть бы меня лучше разорвали львы, чем сидеть здесь взаперти в подземелье — без воздуха, без солнца и без света.
После этого господин Мальмин пригласил нас в маленькую тратторию совсем рядом с Аппиевой дорогой[187]. Мы пили молодое белое вино и безумно радовались, что мы не мученики.
Однако я все время думала о Леннарте. Может, именно в тот момент, когда я сидела здесь, этот мерзкий телефон в номере гостиницы просто содрогался от звона! Да, от таких мыслей появляются морщины на лбу! И мысли эти тебя не отпускают! Пока я рассеянно прислушивалась к болтовне Мальмина и Евы, мой мозг продолжал работать, а маленькие светлые эльфы — проблески мыслей — повторяли мне примерно вот что: «Он говорил, что даст о себе знать. Кто знает, может, он звонил, когда нас не было?! Может, он сделал слабую попытку сдержать свое обещание, а потом плюнул на все». Ведь мужчины вообще часто так поступают, бросая на ходу что-то вроде «Нам надо встретиться!», и, может быть, даже в ту минуту думают именно так, а через час об этом забывают. Моя жалкая маленькая надежда была подобна пламени свечи, которая уже едва мерцает и вот-вот погаснет.
Это был наш последний день в Риме. И было бы хорошо заставить надежду угаснуть совсем и начертать над ее могилой: «Здесь покоится единственная великая любовь Кати!»
Последний обед в Риме был в отеле, где мы остановились. Настроение было веселое и оживленное, и наконец мы зашли так далеко, что после многодневного совместного времяпровождения все стали обращаться друг к другу запросто, по именам, — словом, выпили на брудершафт[188].
— Виктор, — представился господин Мальмин. — Хотя мои друзья называют меня Викке.
Но Ева решила называть его Виктором.
— Викке! — сказала она. — Мне никогда этого не выговорить! И мало кому так подходит имя Виктор, а не Викке. Виктор звучит так по-настоящему!
Затем вся группа отправилась к фонтану di Trevi[189] — бросить монетки в воду. А иначе ведь нельзя быть уверенным в том, что когда-нибудь снова увидишь Вечный город. Я тоже бросила монетку. Но, откровенно говоря, мне было безразлично, вернусь я сюда или нет. Рим был для меня городом утраченных надежд.
И должно быть, станет им в еще большей степени.
Виктор, наш новоявленный брат, захотел увидеть Рим by night[190] и спросил нас с Евой, не пожелаем ли мы сопровождать его. Естественно, обратился он вообще-то к Еве, — видно, не знал, как избавиться от меня. Не успев даже подумать, я ответила: «Да!» Но Ева не ответила «да». Она устала, у нее болит голова, и ей хочется прилечь. У Виктора был совершенно убитый вид, когда он это услышал. Перспектива увидеть Рим by night наедине со мной ни в коем случае не опьянила его и не привела в восторг, — это было заметно. Я поспешила заверить Мальмина, что при таких обстоятельствах я, естественно, не могу оставить Еву одну. Но Ева решительно отказалась от моего общества, заявив, что ей никто не нужен и ничто не нужно, кроме ее головной боли. Она настаивала на том, чтобы мы с Виктором ушли.
— Поразвлекайтесь хорошенько! — сказала она.
И поскольку Виктор не желал быть совсем неучтивым, он заверил нас, что ему будет очень приятно прогуляться со мной. Я бросила оскорбленный взгляд на Еву за то, что она так поступила со мной. И мы с Виктором ушли.
Мы направились к Библиотеке[191]. Мы выпили по бокалу aqua di Trevi[192] и послушали, как широкогрудый певец поет «Санта-Лючия», одно из самых действенных средств, придуманных итальянцами, чтобы мучить иностранцев. Когда слышишь эту песню первые пятнадцать — двадцать раз, это еще куда ни шло, но раз за разом становится все хуже, и, когда черноволосые мальчишки в сотый раз нудят «Санта-Лючия…», хочется стать бешеной собакой и всех перекусать.
Виктор был в тот вечер необыкновенно общителен. Он рассказывал о своем печальном и одиноком детстве и был по-настоящему человечен. Быть может, не совсем так я представляла себе Рим by night, но слушала заинтересованно, а он надолго и прочно углубился в свою тему. Мало-помалу мы решили отправиться в другое место. В кафе «Ульпия», где, должно быть, так уютно!
Да, в «Ульпии», должно быть, так уютно! Я все еще вижу пред собой эту картину! Лестница, ведущая вниз в сумрачный погребок. Я спускаюсь вниз. Следом за мной Виктор Мальмин. Музыка. Люди за столиками. И в самом конце, в углу, — белокурая голова… и смех, который я узнаю, — смех Евы. Ева… и не одна она… Прямо против нее сидит Леннарт и тоже смеется так, что зубы сверкают на его загорелом лице.
Боже, помоги мне уйти отсюда, прежде чем они заметят меня!
Я отчаянно хватаю Виктора за борт пиджака.
— Нам… нам надо уйти! — заикаюсь я.
— Уйти? — переспрашивает Виктор. — Почему?
Вдруг он тоже замечает тех двоих в углу!..
— Ах, так, значит, это и есть головная боль, — с горечью произнес он, когда мы вышли на улицу.
Я не ответила. Я была так безумно несчастна, что не могла говорить. Трудно сказать, что мне было больнее — предательство Евы или уверенность в том, что Леннарт навсегда утрачен для меня. В любви и на войне все средства хороши — это знаешь отлично, — но то, что Ева… думать об этом было просто невыносимо. Да и вообще, как я могла хоть на один-единственный миг поверить, что Леннарт обратит на меня внимание, когда рядом Ева. Ева с ее ямочками на щеках, с ее веселым юмором и во всем блеске!..
Я стояла на улице и чувствовала себя совершенно одинокой. Одинокой и покинутой и никому не нужной, с солеными слезами горечи на глазах. Рядом со мной стоял Виктор Мальмин, насвистывая «Санта-Лючия», чтобы скрыть свою неуверенность. Кто знает, быть может, он был в таком же отчаянии, как я, и так же одинок? Мы стояли на улице — двое несчастных отвергнутых, — а там, в погребке, сидели Ева и Леннарт, такие радостные и уверенные в себе. И вероятно, так же — друг в друге!
— Виктор, — сказала я, как утопающий, хватаясь за его руку, — пойдем и потанцуем где-нибудь!
Сев в такси, мы поехали наверх к Pincio. И мы танцевали. В ротонде[193] под звездным небом и в окружении высоких кудрявых деревьев. Никогда еще более мрачная пара не танцевала под звездами. Мы не разговаривали. Мы только танцевали, крепко держа друг друга за руки. Но между танцами мы садились за столик, и тогда Виктор говорил чуть тихо, чуть односложно и без тени обычного превосходства.
— Да, ведь было одиноко, — говорил он. — Совсем одиноко, но думалось, быть может, Ева… но ведь ясно, что разница в возрасте слишком велика. Да и у нее ведь столько других… А этот подозрительный тип, что сидел с ней в «Ульпии», — кто он?..
— Извини, но на самом деле он вовсе не подозрительный тип, — живо ответила я, не потерпевшая бы никаких нападок на Леннарта. — Он такой… да, ну это все равно, какой он…
Виктор, задумчиво взглянув на меня, смолчал. И мы снова начали танцевать.
Было уже поздно, когда мы поехали в отель. Наши дрожки катились по ночным улицам, казавшимся такими пустынными, когда смолк веселый дневной шум. Копыта лошадей стучали о мощенную камнем мостовую, и далеко разносилось эхо. Я прислонилась усталой головой к плечу Виктора. Оно оказалось таким же шероховатым и честным, как сам Виктор.
— Не переживай, Кати, — сказал он у двери нашего с Евой номера. — Со временем вырастут розы! По крайней мере для некоторых!
 — Я кое о чем должна с тобой поговорить, — сказала мне на следующее утро Ева. — Но ты не узнаешь ничего, пока мы не приедем в Сорренто![194] Готовься!
Я молча кивнула. Вот как, значит, в Сорренто я получу милостивую поддержку! Мы будем там сегодня вечером, а уж столько-то времени я смогу потерпеть. Никакого сюрприза я не ожидала, я слишком хорошо знала, что она собирается мне сказать, но интересно посмотреть, как она думает это сказать и как объяснить то, что она так подло обманывала меня. Я испытующе глянула на нее. Она стояла наклонившись возле балконной двери и расчесывала щеткой свои белокурые волосы. Они спадали ей на лицо, словно золотая грива. Она весело насвистывала. Неужели ее ни капельки не мучит, что она причинит мне страшную боль? Неужели она так искренне радуется, что ей удалось отбить у меня Леннарта, и она уже больше ни на что не обращает внимания? Кажется, так и есть!
Я начала укладывать свои платья и туалетные принадлежности. На сердце у меня было тяжело, а руки двигались неохотно, и поэтому все шло очень медленно. Казалось, будто у меня никогда не было более тяжелой работы. Я очень мало спала этой ночью, я устала, и каждое движение стоило мне огромного напряжения. В конце концов Ева заметила: что-то неладно!
— Что с тобой? — спросила она. — Ты расстроена?
«Ты расстроена?» — спросил ястреб куропатку. Расстроена ли я? Нужно было совсем другое слово, чтобы определить мое состояние. Слово, которого нет в словаре, что-то ужасное и душераздирающее. Я не ответила Еве. Но она вдруг оказалась совсем рядом со мной, нежно поцеловала в щеку и спросила:
— Бедное дитя, неужели тебе было так скучно вчера вечером с Виктором?
— А ты, как у тебя с головной болью? — не смогла я удержаться от вопроса.
Она таинственно засмеялась.
— Боль совершенно прошла, — сказала она.
Затем быстро отобрала у меня платье, которое я собиралась положить в сумку, и сказала:
— Давай я упакую, это будет быстрее!
Через несколько минут она уложила вещи в сумку. Все так быстро — у нее все в руках спорилось. И она все время пела во весь голос: «Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day!»[195]
Увы, разделить ее мнение было некому. Я стояла совсем вялая, опустив руки, и ждала, когда она закончит.
Потом мы взяли сумки и спустились вниз в холл, где уже все собрались. Ева, игриво толкнув меня в бок, сказала:
— Через несколько часов мы увидим Неаполь, а потом умрем, разве это не чудесно?
«Да, это было бы чудесно», — призналась я самой себе. По крайней мере если можно было бы перепрыгнуть через Неаполь и поскорее умереть.
— Я кое о чем должна с тобой поговорить, — сказала мне на следующее утро Ева. — Но ты не узнаешь ничего, пока мы не приедем в Сорренто![194] Готовься!
Я молча кивнула. Вот как, значит, в Сорренто я получу милостивую поддержку! Мы будем там сегодня вечером, а уж столько-то времени я смогу потерпеть. Никакого сюрприза я не ожидала, я слишком хорошо знала, что она собирается мне сказать, но интересно посмотреть, как она думает это сказать и как объяснить то, что она так подло обманывала меня. Я испытующе глянула на нее. Она стояла наклонившись возле балконной двери и расчесывала щеткой свои белокурые волосы. Они спадали ей на лицо, словно золотая грива. Она весело насвистывала. Неужели ее ни капельки не мучит, что она причинит мне страшную боль? Неужели она так искренне радуется, что ей удалось отбить у меня Леннарта, и она уже больше ни на что не обращает внимания? Кажется, так и есть!
Я начала укладывать свои платья и туалетные принадлежности. На сердце у меня было тяжело, а руки двигались неохотно, и поэтому все шло очень медленно. Казалось, будто у меня никогда не было более тяжелой работы. Я очень мало спала этой ночью, я устала, и каждое движение стоило мне огромного напряжения. В конце концов Ева заметила: что-то неладно!
— Что с тобой? — спросила она. — Ты расстроена?
«Ты расстроена?» — спросил ястреб куропатку. Расстроена ли я? Нужно было совсем другое слово, чтобы определить мое состояние. Слово, которого нет в словаре, что-то ужасное и душераздирающее. Я не ответила Еве. Но она вдруг оказалась совсем рядом со мной, нежно поцеловала в щеку и спросила:
— Бедное дитя, неужели тебе было так скучно вчера вечером с Виктором?
— А ты, как у тебя с головной болью? — не смогла я удержаться от вопроса.
Она таинственно засмеялась.
— Боль совершенно прошла, — сказала она.
Затем быстро отобрала у меня платье, которое я собиралась положить в сумку, и сказала:
— Давай я упакую, это будет быстрее!
Через несколько минут она уложила вещи в сумку. Все так быстро — у нее все в руках спорилось. И она все время пела во весь голос: «Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day!»[195]
Увы, разделить ее мнение было некому. Я стояла совсем вялая, опустив руки, и ждала, когда она закончит.
Потом мы взяли сумки и спустились вниз в холл, где уже все собрались. Ева, игриво толкнув меня в бок, сказала:
— Через несколько часов мы увидим Неаполь, а потом умрем, разве это не чудесно?
«Да, это было бы чудесно», — призналась я самой себе. По крайней мере если можно было бы перепрыгнуть через Неаполь и поскорее умереть.
 Раннее утро на берегу Средиземного моря.
— Мне нравится твой затылок, — сказал Леннарт. — Он такой детский!
Я лежала на животе на причале, освещенная утренним солнцем, а Леннарт лежал рядом со мной. Только мы двое, больше никого. Высоко наверху, в отеле, все, наверное, еще спали. Ева, разумеется, бодрствовала. Сидя на террасе, она пила кофе, деликатно оставив нас с Леннартом вдвоем.
— Но как только Виктор Мальмин проснется, я спущусь к вам, — пригрозила она, перед тем как я в одном купальнике ринулась по крутой скалистой тропке вниз к причалу. — Даю тебе один час наедине с Леннартом. На большее не рассчитывай. Я приехала сюда купаться, пусть даже рядом со мной находится пара влюбленных!
Но сейчас, этим ранним утром на берегу Средиземного моря, я была наедине с Леннартом и осторожно покусывала свою руку, еще покрытую каплями соленой воды, чтобы убедиться: это не сон! Леннарту нравится мой затылок. Ужасно, что он разбирает меня по косточкам! Сначала ушки, а теперь затылок… Если я буду жива и здорова, я, может быть, смогу довести его до того, чтобы понравиться ему целиком. Но видимо, это произойдет поэтапно.
Некоторое время я лежала молча, непрерывно и очень сильно ощущая и Леннарта рядом, и солнечное тепло, и запах соленой воды, и исключительное преимущество того, что у меня детский затылок! Наверное, такой затылок редкость, раз он понравился Леннарту.
— Ты не удивилась, когда я вынырнул и здесь, в Сорренто? — спросил Леннарт. — О чем ты подумала, когда увидела меня вчера вечером?
Не могла же я сказать ему, что чуть не упала в обморок от восторга, хотя, вероятно, именно это он и желал услышать. Я только ответила:
— Что думают в таких случаях… «Мир тесен» или что-нибудь в этом роде.
— Как тебе не стыдно, Кати! — возмутился Леннарт. — И это благодарность за то, что я совершенно изменил свой план путешествия?
Сердце мое забилось. Неужели он и вправду взял на себя труд приехать сюда только ради меня?
— Зачем ты это сделал? Зачем изменил свой план путешествия? — с надеждой спросила я.
— Ева уговорила меня, — ответил он. — Мы были в погребке «Ульпия», как ты, вероятно, слышала. Но ты посвятила себя в это время некоему Мальмину.
Ах вот что! Его уговорила Ева! Интересно, больших ли трудов ей это стоило? Похоже, Леннарт отгадал мои мысли, потому что сказал:
— Вообще-то очень уж долго уговаривать меня не пришлось! Я подумал, что очень приятно было бы снова увидеть тебя. Ну и Везувий, конечно, тоже! Прежде всего Везувий!
— Спасибо, Леннарт! — поблагодарила я.
Затем мы снова помолчали. А я думала о необыкновенном явлении, имя которому — «Леннарт».
Как получилось, что я с первого взгляда так беспомощно влюбилась в него? Во-первых, в нем чувствовалась уверенность. Да, в нем были уверенность и дружелюбие, которые сразу бросались в глаза. В то же время он был чуточку надменным, немного насмешливым, и хотя рядом с ним я чувствовала себя маленькой-премаленькой, но тоже личностью.
Я сравнивала его с Яном. И Ян был надменным, но по-другому, словно он все время хотел тебя осадить, поставить на место. Он часто ругал меня и всегда хотел, чтобы я была другой, а не такой, какая я есть. Но все-таки иногда я могла обращаться с ним свысока, и он этому не противился. Я могла быть злой и отвратительной, не опасаясь никаких последствий. А ведь ничто так не опасно, как сознание, что ты можешь плохо с кем-то обращаться безнаказанно. С Леннартом это бы не прошло, я в этом убеждена. Никто не мог бы оседлать его. И ему никогда не надо было кого-то ругать. Он был спокоен и, само собой разумеется, дружелюбен и к себе требовал точно такого же отношения. Он был довольно скрытный, не очень распространялся о самом себе, но постоянно выказывал трогательный интерес ко всему, что рассказывала я, к самым мелочам. Поэтому я любила его. И еще мне нравились его глаза, и его рот, и его руки… Боже мой, теперь я тоже, кажется, начинаю разбирать его по косточкам.
Явилась Ева и прервала мои размышления.
— Виктор Мальмин проснулся, — угрюмо сказала она и нырнула в Средиземное море с головой.
— Хорошо, Кати, — сказал Леннарт, — тогда тебе лучше пойти и позаботиться о нем!
Раннее утро на берегу Средиземного моря.
— Мне нравится твой затылок, — сказал Леннарт. — Он такой детский!
Я лежала на животе на причале, освещенная утренним солнцем, а Леннарт лежал рядом со мной. Только мы двое, больше никого. Высоко наверху, в отеле, все, наверное, еще спали. Ева, разумеется, бодрствовала. Сидя на террасе, она пила кофе, деликатно оставив нас с Леннартом вдвоем.
— Но как только Виктор Мальмин проснется, я спущусь к вам, — пригрозила она, перед тем как я в одном купальнике ринулась по крутой скалистой тропке вниз к причалу. — Даю тебе один час наедине с Леннартом. На большее не рассчитывай. Я приехала сюда купаться, пусть даже рядом со мной находится пара влюбленных!
Но сейчас, этим ранним утром на берегу Средиземного моря, я была наедине с Леннартом и осторожно покусывала свою руку, еще покрытую каплями соленой воды, чтобы убедиться: это не сон! Леннарту нравится мой затылок. Ужасно, что он разбирает меня по косточкам! Сначала ушки, а теперь затылок… Если я буду жива и здорова, я, может быть, смогу довести его до того, чтобы понравиться ему целиком. Но видимо, это произойдет поэтапно.
Некоторое время я лежала молча, непрерывно и очень сильно ощущая и Леннарта рядом, и солнечное тепло, и запах соленой воды, и исключительное преимущество того, что у меня детский затылок! Наверное, такой затылок редкость, раз он понравился Леннарту.
— Ты не удивилась, когда я вынырнул и здесь, в Сорренто? — спросил Леннарт. — О чем ты подумала, когда увидела меня вчера вечером?
Не могла же я сказать ему, что чуть не упала в обморок от восторга, хотя, вероятно, именно это он и желал услышать. Я только ответила:
— Что думают в таких случаях… «Мир тесен» или что-нибудь в этом роде.
— Как тебе не стыдно, Кати! — возмутился Леннарт. — И это благодарность за то, что я совершенно изменил свой план путешествия?
Сердце мое забилось. Неужели он и вправду взял на себя труд приехать сюда только ради меня?
— Зачем ты это сделал? Зачем изменил свой план путешествия? — с надеждой спросила я.
— Ева уговорила меня, — ответил он. — Мы были в погребке «Ульпия», как ты, вероятно, слышала. Но ты посвятила себя в это время некоему Мальмину.
Ах вот что! Его уговорила Ева! Интересно, больших ли трудов ей это стоило? Похоже, Леннарт отгадал мои мысли, потому что сказал:
— Вообще-то очень уж долго уговаривать меня не пришлось! Я подумал, что очень приятно было бы снова увидеть тебя. Ну и Везувий, конечно, тоже! Прежде всего Везувий!
— Спасибо, Леннарт! — поблагодарила я.
Затем мы снова помолчали. А я думала о необыкновенном явлении, имя которому — «Леннарт».
Как получилось, что я с первого взгляда так беспомощно влюбилась в него? Во-первых, в нем чувствовалась уверенность. Да, в нем были уверенность и дружелюбие, которые сразу бросались в глаза. В то же время он был чуточку надменным, немного насмешливым, и хотя рядом с ним я чувствовала себя маленькой-премаленькой, но тоже личностью.
Я сравнивала его с Яном. И Ян был надменным, но по-другому, словно он все время хотел тебя осадить, поставить на место. Он часто ругал меня и всегда хотел, чтобы я была другой, а не такой, какая я есть. Но все-таки иногда я могла обращаться с ним свысока, и он этому не противился. Я могла быть злой и отвратительной, не опасаясь никаких последствий. А ведь ничто так не опасно, как сознание, что ты можешь плохо с кем-то обращаться безнаказанно. С Леннартом это бы не прошло, я в этом убеждена. Никто не мог бы оседлать его. И ему никогда не надо было кого-то ругать. Он был спокоен и, само собой разумеется, дружелюбен и к себе требовал точно такого же отношения. Он был довольно скрытный, не очень распространялся о самом себе, но постоянно выказывал трогательный интерес ко всему, что рассказывала я, к самым мелочам. Поэтому я любила его. И еще мне нравились его глаза, и его рот, и его руки… Боже мой, теперь я тоже, кажется, начинаю разбирать его по косточкам.
Явилась Ева и прервала мои размышления.
— Виктор Мальмин проснулся, — угрюмо сказала она и нырнула в Средиземное море с головой.
— Хорошо, Кати, — сказал Леннарт, — тогда тебе лучше пойти и позаботиться о нем!
 «Леннарт, мой любимый!
Я люблю тебя! Я должна воспользоваться случаем и сказать об этом, пока помню. Это мое первое письмо к тебе, и было бы так нехорошо, если бы я забыла сказать, что люблю тебя. Хочешь знать как? О, это не так-то легко точно определить! Любовь нельзя измерить и взвесить так, как измеряет и взвешивает в воскресенье свой богатый улов рыбак, хвастаясь им. Но одно, во всяком случае, могу тебе сказать: я удивлена тем, что столько любви умещается в груди одного-единственного человека. Тем более такого небольшого, как я.
Помнишь ли ты старого злющего императора Тиберия[201], который, сидя на Капри, управлял Римским государством, приказывая передавать свои указы с одной горной вершины на другую между Капри и Римом?
Точно так же хотела бы поступить и я. Я хотела бы встать на вершине высокой горы и передать свое пламенное послание: „Я люблю тебя!“ И оттуда оно пошло бы все дальше и дальше по всей земле. Его выкрикивали бы на Монблане[202] и на Гауришанкаре[203], на Килиманджаро[204] и в Скалистых горах[205] и на Фудзияме[206]: „Я люблю тебя!“ А сидеть всего-навсего здесь и чертить эти слова в письме — такое жалкое занятие. Письмо, которое бросят в прозаический почтовый ящик, поставят на нем штемпель и с нагоняющим тоску равнодушием передадут Королевскому почтовому ведомству! А я бы хотела по меньшей мере послать облаченного в пурпур герольда, который возвестил бы тебе под звуки труб: „Я люблю тебя!“
Понимаешь ли ты меня теперь или хочешь знать еще больше? Тогда послушай, и ты поймешь, как плохи мои дела.
Я думаю о тебе каждую минуту днем, и ты — в моих беспокойных снах ночью! Ложась спать вечером, я говорю подушке: „Леннарт!“ Проходя мимо коня пивовара, я шепчу ему в ухо: „Леннарт!“ Сидя за пишущей машинкой и печатая контракт, я все время думаю: „Леннарт, Леннарт, Леннарт!“
Разрешается ли любить кого-нибудь так сильно, или же это наказание, ниспосланное человеку? Уж не думаешь ли ты, что боги гневаются на меня и отнимут тебя у меня? О всевышние боги, не делайте этого, добрые, добрые боги, потому что вы даже не представляете себе, как трудно мне достался Леннарт! Он так сопротивлялся! У него такое вялое, старое сердце… Понадобилось целых три недели, прежде чем оно встрепенулось, а мне из-за Леннарта пришлось броситься в море!
Леннарт, я не знаю ни одной другой девушки, которая обручилась бы прямо в Средиземном море. А ты знаешь такую? Я так рада этому обручению! Если какому-нибудь журналисту придет в голову проинтервьюировать меня и задать вопрос: „Когда и где ваш жених просил вашей руки?“ — как надменно я отвечу: „Когда я плавала в Средиземном море!“ Согласись, что это неповторимо!
„Кати, я как раз собирался уговорить тебя выйти за меня замуж, но не знаю, с чего начать! У тебя есть какое-нибудь предложение?“
Это сказал ты. Я сохраню эти слова в памяти до конца своей жизни. Пожалуй, это не очень походило на объяснение в любви, но в моих ушах твои слова прозвучали прекрасней, чем „Песнь Песней“[207] и все прочие прославленные гимны любви, вместе взятые.
Я сижу и смотрю на мое колечко. У бирюзы сейчас тот же цвет, что у неба над Флоренцией в тот день, когда я впервые увидела это кольцо. Я смотрю на него, и дождливый Стокгольм исчезает. Я мысленно возвращаюсь в маленький ювелирный магазинчик у Ponte Vecchio, а ты стоишь за моей спиной и насмешливо говоришь: „Кричи громче, Кати!..“ А теперь я спрашиваю тебя, Леннарт Сундман: зачем ты потом пошел туда и купил именно это кольцо? Ты уже тогда знал, что я — та, кому ты хотел бы его подарить? Если ты ответишь „да!“, я никогда не прощу тебе! Я никогда не прощу тебе, что ты без всякой необходимости, не подарив мне ни единого слова надежды, заставил меня проехать всю Италию!
Ну погоди, ты будешь наказан за это! Я буду кормить тебя каждый день на обед отварной треской! Так я думаю. Да, да, я еще посмотрю, что я сделаю!
Сегодня в Стокгольме идет дождь. Он стучит в окно, на дворе осень! Справедливо ли, что ты все еще греешься на солнце в Италии? Конечно, несправедливо! Но я рада, что солнце светит тебе, мой любимый! Если бы я могла достать для тебя с неба солнце, луну и звезды, я бы это сделала! Нет ничего на свете, чего бы я не хотела сделать для тебя! Подумав хорошенько, я готова взять обратно свои слова об отварной треске. Как по-твоему, тогда ты будешь счастлив со мной?
Надо быть влюбленной вечно, так сказала я Еве вчера вечером. Знаешь, что она ответила? „Так думал и Оскар Уайльд[208]. Поэтому никогда не надо жениться и выходить замуж“.
Этот ужасный Уайльд! Не появляйся здесь и не пытайся испортить мое веселое настроение! Я надеюсь с Божьей помощью быть влюбленной, пока жива! Понимаю, что нельзя всегда испытывать такие чувства, какие я переживаю теперь, но кое-что из моих восторгов я хочу спасти и пронести через годы. Обещаю любить тебя, Леннарт, в беде и в радости, даже если это будет утомительно. Не обещаю быть твоей смиренной верноподданной, этого я не сумею! Но в какой-то степени милой и откровенной с тобой — обязуюсь! Достаточно тебе этого? Да, думаю, достаточно! К черту Оскара Уайльда! Я не боюсь!
Одна итальянская пословица гласит: „Мало говорит тот, кто сильно любит!“ А я сижу тут и болтаю без конца. Обещаю в дальнейшем писать только самое необходимое: „Я люблю тебя!“
Ева печет на кухне вафли. Я чувствую запах даже в комнате. Пора заканчивать письмо, потому что мне нужно сварить к вафлям кофе.
Почему тебя нет здесь именно сейчас? Возвращайся домой, мой любимый! Кати с улицы Каптенсгатан имеет честь пригласить Леннарта из Помпеи в субботу через восемь дней на простое блюдо из отварной трески!
А до тех пор будь осторожен! Если увидишь какой-нибудь вулкан, который начинает извергаться, обойди его подальше стороной — ради меня! У меня ведь на всем свете есть только ты!
Кати
P. S. Знаешь что? Я люблю тебя!»
«Леннарт, мой любимый!
Я люблю тебя! Я должна воспользоваться случаем и сказать об этом, пока помню. Это мое первое письмо к тебе, и было бы так нехорошо, если бы я забыла сказать, что люблю тебя. Хочешь знать как? О, это не так-то легко точно определить! Любовь нельзя измерить и взвесить так, как измеряет и взвешивает в воскресенье свой богатый улов рыбак, хвастаясь им. Но одно, во всяком случае, могу тебе сказать: я удивлена тем, что столько любви умещается в груди одного-единственного человека. Тем более такого небольшого, как я.
Помнишь ли ты старого злющего императора Тиберия[201], который, сидя на Капри, управлял Римским государством, приказывая передавать свои указы с одной горной вершины на другую между Капри и Римом?
Точно так же хотела бы поступить и я. Я хотела бы встать на вершине высокой горы и передать свое пламенное послание: „Я люблю тебя!“ И оттуда оно пошло бы все дальше и дальше по всей земле. Его выкрикивали бы на Монблане[202] и на Гауришанкаре[203], на Килиманджаро[204] и в Скалистых горах[205] и на Фудзияме[206]: „Я люблю тебя!“ А сидеть всего-навсего здесь и чертить эти слова в письме — такое жалкое занятие. Письмо, которое бросят в прозаический почтовый ящик, поставят на нем штемпель и с нагоняющим тоску равнодушием передадут Королевскому почтовому ведомству! А я бы хотела по меньшей мере послать облаченного в пурпур герольда, который возвестил бы тебе под звуки труб: „Я люблю тебя!“
Понимаешь ли ты меня теперь или хочешь знать еще больше? Тогда послушай, и ты поймешь, как плохи мои дела.
Я думаю о тебе каждую минуту днем, и ты — в моих беспокойных снах ночью! Ложась спать вечером, я говорю подушке: „Леннарт!“ Проходя мимо коня пивовара, я шепчу ему в ухо: „Леннарт!“ Сидя за пишущей машинкой и печатая контракт, я все время думаю: „Леннарт, Леннарт, Леннарт!“
Разрешается ли любить кого-нибудь так сильно, или же это наказание, ниспосланное человеку? Уж не думаешь ли ты, что боги гневаются на меня и отнимут тебя у меня? О всевышние боги, не делайте этого, добрые, добрые боги, потому что вы даже не представляете себе, как трудно мне достался Леннарт! Он так сопротивлялся! У него такое вялое, старое сердце… Понадобилось целых три недели, прежде чем оно встрепенулось, а мне из-за Леннарта пришлось броситься в море!
Леннарт, я не знаю ни одной другой девушки, которая обручилась бы прямо в Средиземном море. А ты знаешь такую? Я так рада этому обручению! Если какому-нибудь журналисту придет в голову проинтервьюировать меня и задать вопрос: „Когда и где ваш жених просил вашей руки?“ — как надменно я отвечу: „Когда я плавала в Средиземном море!“ Согласись, что это неповторимо!
„Кати, я как раз собирался уговорить тебя выйти за меня замуж, но не знаю, с чего начать! У тебя есть какое-нибудь предложение?“
Это сказал ты. Я сохраню эти слова в памяти до конца своей жизни. Пожалуй, это не очень походило на объяснение в любви, но в моих ушах твои слова прозвучали прекрасней, чем „Песнь Песней“[207] и все прочие прославленные гимны любви, вместе взятые.
Я сижу и смотрю на мое колечко. У бирюзы сейчас тот же цвет, что у неба над Флоренцией в тот день, когда я впервые увидела это кольцо. Я смотрю на него, и дождливый Стокгольм исчезает. Я мысленно возвращаюсь в маленький ювелирный магазинчик у Ponte Vecchio, а ты стоишь за моей спиной и насмешливо говоришь: „Кричи громче, Кати!..“ А теперь я спрашиваю тебя, Леннарт Сундман: зачем ты потом пошел туда и купил именно это кольцо? Ты уже тогда знал, что я — та, кому ты хотел бы его подарить? Если ты ответишь „да!“, я никогда не прощу тебе! Я никогда не прощу тебе, что ты без всякой необходимости, не подарив мне ни единого слова надежды, заставил меня проехать всю Италию!
Ну погоди, ты будешь наказан за это! Я буду кормить тебя каждый день на обед отварной треской! Так я думаю. Да, да, я еще посмотрю, что я сделаю!
Сегодня в Стокгольме идет дождь. Он стучит в окно, на дворе осень! Справедливо ли, что ты все еще греешься на солнце в Италии? Конечно, несправедливо! Но я рада, что солнце светит тебе, мой любимый! Если бы я могла достать для тебя с неба солнце, луну и звезды, я бы это сделала! Нет ничего на свете, чего бы я не хотела сделать для тебя! Подумав хорошенько, я готова взять обратно свои слова об отварной треске. Как по-твоему, тогда ты будешь счастлив со мной?
Надо быть влюбленной вечно, так сказала я Еве вчера вечером. Знаешь, что она ответила? „Так думал и Оскар Уайльд[208]. Поэтому никогда не надо жениться и выходить замуж“.
Этот ужасный Уайльд! Не появляйся здесь и не пытайся испортить мое веселое настроение! Я надеюсь с Божьей помощью быть влюбленной, пока жива! Понимаю, что нельзя всегда испытывать такие чувства, какие я переживаю теперь, но кое-что из моих восторгов я хочу спасти и пронести через годы. Обещаю любить тебя, Леннарт, в беде и в радости, даже если это будет утомительно. Не обещаю быть твоей смиренной верноподданной, этого я не сумею! Но в какой-то степени милой и откровенной с тобой — обязуюсь! Достаточно тебе этого? Да, думаю, достаточно! К черту Оскара Уайльда! Я не боюсь!
Одна итальянская пословица гласит: „Мало говорит тот, кто сильно любит!“ А я сижу тут и болтаю без конца. Обещаю в дальнейшем писать только самое необходимое: „Я люблю тебя!“
Ева печет на кухне вафли. Я чувствую запах даже в комнате. Пора заканчивать письмо, потому что мне нужно сварить к вафлям кофе.
Почему тебя нет здесь именно сейчас? Возвращайся домой, мой любимый! Кати с улицы Каптенсгатан имеет честь пригласить Леннарта из Помпеи в субботу через восемь дней на простое блюдо из отварной трески!
А до тех пор будь осторожен! Если увидишь какой-нибудь вулкан, который начинает извергаться, обойди его подальше стороной — ради меня! У меня ведь на всем свете есть только ты!
Кати
P. S. Знаешь что? Я люблю тебя!»