Единство и многообразие в Новом Завете
Исследование природы первоначального христианства
Пятое издание, исправленное и дополненное
Предисловие к русскому изданию
Я очень рад, что мою работу "Единство и многообразие в Новом Завете" издают по–русски. Со временем популярность ее как одного из основополагающих текстов в экуменических дискуссиях, похоже, еще более возросла; да я и сам стал выше ценить ее злободневность для современной теории и практики христианского единения. Хочется надеяться, что в России она поможет более ясно увидеть характер первохристанства, равно как и каноническую значимость Нового Завета, рассматриваемого как единство в многообразии.
Если бы мне предложили выделить один пункт, ставший с течением лет для меня более важным, я бы выделил характер того единства, которое представляет нам Новый Завет. Наиболее недвусмысленный библейский образ христианского единства — это образ тела, образ тела Христова, образ тела единого во Христе. Павел, разрабатывая эту тему (в частности, в 1 Кор 12), ясно указывает, что этот образ служит моделью единства в многообразии — единства, которое заключено в многообразии и зависит от него. Но последнее не представляет угрозы единству — напротив, оно ему присуще. Без многообразия не может быть единения во Христе.
С этим резко контрастируют наши разнообразные традиции, имеющие обыкновение впадать в соблазн, который Павел образно описывает в 1 Кор 12:17–19, — сведение всего церковного служения и церковной организации к одной или двум из них (традиций) — как если бы все тело было только глаз или только ухо! Глаз сам по себе, ухо само по себе — это еще не тело. Неудивительно поэтому, что Церковь Христова настолько парализована — ведь столько членов ее страдают функциональными расстройствами.
Если эта книга поможет понять важность
единства в
многообразии — важность как для изначального христианства, так и для церкви наших дней, — я буду доволен. Примите ее с моими самыми теплыми приветствиями ко всем российским читателям.
Джеймс Д. Данн
Предисловие
В 1969 г. я имел счастливую возможность принять участие в семинаре в Эдинбурге, который был посвящен обсуждению вопросов, поднятых Вальтером Бауэром (Walter Bauer) в книге
Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum (2–е изд., 1964, англ. пер.
Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, 1971). Летом 1970 г. я участвовал в другом семинаре, в Кембридже (Tyndale House), на тему "Многообразие и развитие новозаветного богословия". Эти семинары оказались для меня столь интересными, что в результате возник цикл из десяти лекций на тему "Единство и многообразие в Новом Завете"; она‑то и стала заключением первой части курса для студентов, изучавших Новый Завет в Ноттингемском университете в 1971–1972 гг. Через три года благодаря изменениям в программе появилась возможность выделить из уже слишком перегруженного курса вторую часть (третий, старший курс). Вот эти‑то лекции теперь и издаются со всей необходимой проработкой и документацией.
Книга преследует несколько целей. Во–первых, она стремится исследовать вопросы, поднятые Бауэром в отношении Нового Завета. Уместно ли говорить об "ортодоксии и ереси в
самый ранний период христианства"? Что такое "единство Нового Завета"? Насколько широко многообразие в рамках Нового Завета? Эти вопросы прояснены и уточнены во
Введении. Разумеется, на эту тему написано много книг, но все они либо слишком кратки и изложены популярно, либо слишком узкоспециальны. Назрела потребность в труде, который бы объединил различные аспекты достаточно проработанных исследований в рамках одной книги. Это я и попытался сделать на страницах своего труда. Смею надеяться, что в результате вопросы единства и многообразия Нового Завета получат более ясное освещение, а связанные с этой темой или вытекающие из нее вопросы станут предметом дальнейшего исследования и обсуждения. Я позволил себе завершить некоторые главы заметками, излагающими состояние вопроса на сегодняшний день, а в заключительной части (§ 76) обозначил некоторые выводы для уяснения вопроса об "авторитетности Нового Завета".
Во–вторых, книга стремится заполнить пробелы, которые слишком часто существуют между литературно–критическим изучением новозаветных документов, историко–общественным исследованием зарождения христианства и богословскими исследованиями верований и обычаев христиан I в. Лишь сведя воедино эти различные дисциплины, мы можем реально надеяться проникнуть в ситуации, которые породили новозаветные писания; только тогда можем мы хотя бы начать постигать сущность христианства I в. Никакое исследование, разумеется, не может адекватно отразить всю сложность исторической реальности. Но выбранная тема — единство и многообразие в Новом Завете — может оказаться и средством анализа, и фокусом синтеза, и даст нам возможность проникнуть в какие‑то глубины и объединить различные аспекты и подходы. Чтобы подчеркнуть взаимосвязь многих обсуждений, я принял весьма подробную систему перекрестных ссылок между главами.
В–третьих — и это вытекает из первых двух целей, — книга должна послужить своего рода серьезным введением к изучению Нового Завета и христианства I в. Во введениях в Новый Завет недостатка нет. Но когда студент усвоил определенную порцию "критики формы" — кто написал, что, когда, почему и где, экзегический метод и т. д., ему слишком часто ничего не остается, кроме как ограничить свои интересы и погрузиться в частные области и специализированные монографии и комментарии. А нужна книга, которая дает обзор всех областей и тем, выходящих за рамки обычного ряда вводных вопросов, которая подводит старшекурсника к конкретным проблемам, не требуя, чтобы он сразу погрузился в лабиринт дискуссий по частностям, и побуждает его самостоятельно искать суть первоначального христианства на более глубоком уровне знаний. Хотелось бы надеяться, что настоящий труд удовлетворит эту потребность и явится таким побудительным началом. Он посвящен профессору Моулу (Moule) — с глубочайшим уважением и сердечной теплотой; его труд
Birth of the New Testament (1962) был своего рода пионером в этой области.
Книга была написана в первую очередь для студентов последнего курса, уже завершивших двухгодичное изучение Нового Завета. Без сомнения, она может послужить и исходным материалом, учебником для некоторых программ на степень магистра. Кроме того, надеюсь, эта работа будет небесполезна и на высших ступенях образования; хотя вместе с тем подробности, которыми она оперирует, и вопросы, которые поднимает, не выходят за рамки уровня "просвещенного мирянина". Каждая глава сама по себе может стать отправной точкой для независимого изучения, хотя все главы связаны темой, объединяющей все содержание.
Я тешил себя мыслью, что материал можно будет представить в гораздо более популярной форме, наподобие книги Э. Кеземана (Ernst Käsemann.
Jesus Means Freedom; англ. пер., 1969). Но в отсутствие справочного аппарата и доказательств слишком легко пройти мимо спорных утверждений или отстранить их. По зрелом размышлении я предпочел держаться объема, который включает достаточно деталей, чтобы показать обоснованность моих собственных заключений и необходимое подкрепление со стороны моих ученых собратьев. Вместе с тем, поскольку книга охватывала такую большую область, невозможно было надеяться, что я смогу (будь то в тексте или в примечаниях) опровергнуть любое возражение или обсудить любое альтернативное толкование. Поэтому я попытался достичь не вполне приемлемого компромисса — ограничив примечания минимумом, но предложив достаточно разнообразную библиографию, которая позволит самим студентам самостоятельно справиться с альтернативами и сделать собственные выводы.
Поскольку книга в первую очередь предназначается студентам, я ограничил библиографию главным образом трудами на английском языке или переводами на английский. Исключения я сделал лишь для классических исследований и для некоторых выдающихся современных трудов. По той же причине я избегал употребления греческого языка как в тексте, так и в примечаниях. Хотя, изучая Новый Завет, без практического знания языка оригинала далеко не продвинешься, студент, не знающий греческого, вполне способен охватить исторические и богословские вопросы, рассмотренные далее.
Эта книга многим обязана замечаниям и советам других людей. Я хотел бы выразить здесь признательность членам первых семинаров в Эдинбурге и Кембридже и моим студентам, чьи вопросы и возражения на протяжении многих лет помогали уточнять вопросы и исключать слабые места. Особенно велика моя благодарность тем, кто пожертвовал драгоценным временем на отзыв о первом варианте книги в целом или ее частей: доктору Дэвису (Davies) и о. Холлу (Hall), моим коллегам по Ноттингему, профессору Моулу из Кембриджа, который любезно разрешил мне прочесть верстку его
Origin of Christology (1977), и особенно Роберту Моргану (Morgan) из Оксфорда и доктору Грэму Стентону (Stanton), профессору лондонского Кингз–колледжа. Но в первую очередь поддержка и внимание моей жены позволили мне выдержать очень напряженный ритм работы там, где более благоразумный человек, вероятно, взял бы более медленный темп. И наконец — но ничуть не в меньшей мере, — я благодарен моей младшей дочери Фионе за то, что в прошлое Рождество она изрезала — "на снежинки, папочка!" — всего лишь шесть страниц рукописи.
Джеймс Д. Данн
(1976)
Предисловие к третьему изданию
Взгляд в зеркало заднего вида
Новозаветным единством и многообразием я заинтересовался, как только стал изучать Новый Завет. Меня всегда интриговал характер материала, общего для первых трех Евангелий. В нем есть и единство, и многообразие. С одной стороны, единство: Иисус изображен очень похожим образом и часто с помощью одних и тех же слов. С другой стороны, три этих рассказа, безусловно, отличаются друг от друга как внутренней структурой, так и деталями содержания. Вскоре я понял, что не стоит закрывать глаза на очевидное и либо игнорировать многообразие, либо искусственно приводить тексты к одному знаменателю. Игнорировать или отрицать подобный характер писаний — значит отказываться принимать их такими, какие они есть. А это чревато утратой важного смысла: а именно что благовестие об Иисусе существует в разных формах, отвечая на разные ситуации. Настаивать на каком‑то одном "аутентичном" свидетельстве об Иисусе — значит препятствовать способности благовестия говорить по–разному с разными людьми и тем самым попросту затыкать ему рот
[1].
Кроме того, для меня оказались очень важны размышления о христианских истоках, в которые я погрузился, когда начал преподавать соответствующий университетский курс. При таких исследованиях неизбежно сталкиваешься с фактами, которые в свое время подтолкнули Фердинанда Христиана Баура к его знаменитой гипотезе: история раннего христианства как глобальный и длительный конфликт между петринистским христианством и паулинистским христианством
[2]. Павловы послания отражают конфликт между иудеохристианами и Павловой миссией к язычникам. Здесь также было много единства и многообразия: все они проповедовали благую весть об Иисусе Христе, но предъявляли к обращенным разные требования; их объединяло ветхозаветное наследие, но они по–разному понимали его значение для своего христианского ученичества.
Оба этих первоначальных фактора глубоко повлияли на мои исследования. В своей последней книге,
Jesus emembered[3], я подробно останавливаюсь на единстве и многообразии в преданиях об Иисусе, пытаясь понять, в чем причина такого характера синоптических Евангелий. Изучая Павла, я также уделял особое внимание отношениям и конфликту между иудеохристианами и язычниками. В работах по Павлову богословию я попытался отвести ему достойное место
[4], а также объяснить, как и почему христианство выкристаллизовалось из среды иудаизма второго храма
[5].
Тем не менее книга "Единство и многообразие в Новом Завете"
[6] была моей главной попыткой пролить свет на обозначенный в ее заглавии феномен, а также продумать его значение. На мой взгляд, ее рано сдавать в архив, и я с готовностью откликнулся на предложение
CM Press подготовить третье издание, как минимум доработав библиографические ссылки и написав новое предисловие.
Зачем нужно третье издание?
Работа над вторым изданием (1990 г.) проходила в условиях большой занятости, поэтому я внес лишь некоторое число уточнений и дополнений и в отдельных случаях изменил композицию. И сейчас другие дела не позволяют мне переработать книгу более обстоятельно. Мне кажется, в такой переработке и нет особой надобности. Скажем, в части I я максимально опираюсь на первоисточники. То есть я не считал своей основной задачей анализ научной литературы: это быстро сделало бы мою книгу устаревшей (рецензии быстро устаревают). Я хотел, чтобы первоисточники говорили сами за себя, чтобы читатели увидели богатство и разнообразие новозаветного материала. Здесь я использовал тот же подход, что и при работе с синоптическими Евангелиями: сначала описать различия, а затем осмыслить их значение. Поскольку текст не меняется, то не меняется и присущий ему характер единства и многообразия; соответственно такие описания могут с одинаковым успехом работать для разных поколений экзегетов. Конечно, если бы я писал книгу в наши дни, то что‑то сделал бы иначе: использовал бы другой язык, проставил ссылки на актуальные научные споры. Однако большая часть новозаветных текстуальных данных и примеров осталась бы прежней. Ибо анализ именно этих текстов обратил мое внимание на проблему единства и многообразия. Такое отношение у меня сохраняется и поныне. Одним словом, серьезная переделка книги потребовала бы массы сил, не принеся особой пользы
[7].
Что касается части I, лучшие работы по многим ее темам были написаны еще в середине XX в., вызвав дебаты, которые спустя несколько десятилетий поугасли. Это следующие темы: апостольская проповедь (Ч. Г. Додд), первоначальные вероисповедные формулы (О. Кульман, В. Крамер), роль традиции (А. Хантер), использование Ветхого Завета (Э. Эллис, В. Линдарс), служение (Э. Швейцер, У. Брокгауз), литургия (Г. Деллинг, К. Венгст), таинства (Дж. Бизли–Меррей, И. Иеремиас). Аналогичным образом вопросы о роли опыта в Новом Завете, поставленные активно развивающимися пятидесятническим и харизматическим движениями, во многом повисли в воздухе, не получив полного разъяснения. Конечно, последующие научные работы в данных областях углубили наше понимание многих проблем и четче расставили акценты, — я дал соответствующие ссылки в библиографии, — но старые классические исследования уже достаточно остро ставили проблему единства и многообразия (если даже не с большей остротой, чем нынешние). Скажем, моя собственная книга об устном характере преданий об Иисусе показывает, что наши прежние воззрения на роль традиции в первоначальных церквах грешили упрощенностью
[8], но мой базовый подход к единству и многообразию не изменился. Другой пример: в 1990–е годы получил активное развитие социологический подход к Новому Завету
[9], активно применявшийся, в частности, при экзегезе 1 Кор
[10], — однако вопрос о том, что объединяло такое социальное многообразие под вывеской "христианство", остается преимущественно богословским (или, если угодно, идеологическим). Ричард Хейз показал, что вопрос об использовании Ветхого Завета в Новом Завете включает проблему намеков и аллюзий
[11], — но это лишь усиливает вопрос о том, до какой степени Ветхий Завет был авторитетен и почему. Мне почти нечего добавить к тем пояснениям относительно части I, которые я сделал в предисловии ко второму изданию. И мне кажется, что эта часть более или менее удовлетворительно ставит вопрос о новозаветном единстве и многообразии.
Даже последняя глава части I ("Христос и христология"), где вопрос о том, когда Иисуса начали почитать и понимать как Б/бога, был заново поставлен в последние годы
[12], вправе сохранить прежний вид: сейчас я кое–где высказался бы осторожнее, но в целом эта глава достаточно адекватно рассказывает о способах/понятиях/титулах, с помощью которых осмыслялась и выражалась словами единая реальность Иисуса. Некоторые ученые по–прежнему недовольны упором, который я делаю на тот факт, что Новый Завет объединяет именно "единая реальность Иисуса": по их мнению, этого недостаточно. Еще в предисловии ко второму изданию я попытался отослать таких критиков к соображениям, высказанным в первом издании, но, очевидно, я их не убедил
[13]. Могу лишь повториться: хотя Христос — далеко не единственное, что объединяет новозаветные тексты, именно этот аспект обеспечивает в каждом случае христианскую специфику. Именно убеждение, что Иисус из Назарета, распятый и воскресший, продолжает определять наше (человеческое) отношение к Богу, принятие нас Богом и совместную жизнь для Бога, делает все в Новом Завете (и христианстве)
христианским; именно оно связывает религиозное, социальное и литературное многообразие Нового Завета в единое целое.
Недостающая глава
В Предисловии ко второму изданию я посетовал, что мне не пришло в голову включить в первое издание главу по этике. Сейчас, наверное, включать ее поздновато: нарушится формат книги. Обозначу лишь некоторые материалы и темы, которые могли бы войти в такую главу
[14].
Безусловно, объединяющим мотивом следует считать заповедь любви: согласно Евангелиям, Иисус сформулировал обязанность человека перед Богом в категориях "Шема" (Мк 12:28–31пар.), а обязанность перед другими людьми — в категориях заповеди любить ближнего как самого себя (Лев 19:18). Аналогичные места мы находим у Иакова (2:8) и Павла (Рим 13:9; Гал 5:14). Образец такой любви, выказанной самим Иисусом, был, очевидно, одним из объединяющих и очень важных факторов в церквах Нового Завета
[15]. Следует, однако, отметить и многообразие: Деяния Апостолов об этом не говорят, а Иоаннов корпус понимает любовь к ближнему как любовь к брату.
Роль (еврейского) закона, Торы, в этике — одна из главных причин новозаветного многообразия. И поныне ученые спорят о том, соблюдал ли Иисус закон (скорее всего да) и до какой степени. Надо полагать, что он в целом исполнял правила ритуальной чистоты, — иначе он не мог бы войти в храм
[16]. Согласно Мф 5:21–48, разъясняя ключевые заповеди, относящиеся к поведению, Иисус ориентировался на их глубинный смысл. Создается, однако, впечатление, что он также вполне мог отставлять в сторону второстепенное и в своих собственных поступках исходить из приоритета заповеди о любви
[17]. На многообразие, в котором выражается такой подход, указывает многое: Матфей и Марк по–разному изображают комментарий Иисуса на закон (ср. Мк 7:196 и Мф 5:17–20); Павлу пришлось преступить ясное учение Иисуса о разводе (1 Кор 7:10–16); Павел не считал себя связанным заповедью Иисуса о финансовой поддержке (1 Кор 9:14).
Проблема "Павел и закон", конечно, гораздо шире
[18]. Можно ли ее решить, дифференцируя заповеди об обрядах и этические заповеди? Так обычно поступали богословы Реформации, но большинство современных ученых не согласны. Как бы то ни было, в своей этике Павел постоянно основывается на Торе, — вспомним его обличения сексуальной распущенности
(porneia) и идолопоклонства. Однако важно отметить: наиболее прямая Павлова ссылка на этику Торы — резюме данной этики в заповеди о любви (Рим 13:8–10); единственный закон, которым Павел хотел руководствоваться в своей жизни, был "закон Христов" (Рим 6:2). К сожалению, не вполне ясно, как это сочеталось с его защитой "харизматической этики" (Гал 5:16–25). Однако и здесь при анализе единства и многообразия его этики необходимо гораздо полнее, чем обычно делают, учесть то, что "жизнь по Духу" апостол понимал как "исполнение справедливого требования Закона" (Рим 8:4)
[19].
Павловы рассуждения о "немощных" и "сильных" в вопросах спорных обычаев и поведения (Рим 14:1–15:6; 1 Кор 8–10) дают богатую пищу для размышлений о многообразии веры–и-обычая, которое могло существовать в рамках одной и той же церкви
[20]. То, что верность одному Господу находила выражение в довольно разном поведении, — красноречивая иллюстрация единства и многообразия (Рим 14:5–7). Не менее показателен абсолютный приоритет верности каждого своему Господу как единственной и достаточной связи единства (Рим 14:4,10–12). Павел рекомендует "сильным" ограничивать свою свободу ради "немощных" не потому, что "немощных" такая свобода огорчит, а чтобы не подтолкнуть "немощных" поступать вопреки своей совести (1 Кор 8:10); Павлово определение грешного поведения в Рим 14:23 имеет тот же смысл. Опять‑таки отметим, что Павел заботится о том, "ради кого умер Христос" (1 Кор 8:11; Рим 14:15), и за образец берет то, как Иисус отказался "угождать себе" (Рим 15:1–3). Что касается участия христиан в более широком обществе, Павловы советы чем‑то напоминают современную формулировку
don't ask, don't te (1 Кор 10:25–29)
[21], — еще одна иллюстрация того, каким разным могло быть подражание Христу (1 Кор 11:1).
Современные работы о политическом подтексте христианской вести
[22] высвечивают еще одну грань ситуации. Когда христиане исповедовали Христа Господом, была ли в этом политическая подоплека: необходимо более хранить верность Христу, чем императору? Судя по Деян 17:7 такие выводы некоторые вполне могли делать. Однако не будем забывать, что в течение I в. гонения на христианство со стороны римских чиновников были лишь спорадическими. Это означает, что на данном подтексте акцент часто не делался, или его вовсе не предполагали (напротив, Деян 18:13–16; 26:30–32; 28:30 сл.). Советы Павла в Рим 12:9–13:7 — быть хорошим гражданином, не поддаваться на провокации и платить налоги — выдают в апостоле человека, который хорошо знал, что членам маленьких домовых церквей в столице лучше не высовываться и не привлекать лишнего внимания
[23]. Тем не менее во всех этих маленьких конгрегациях первичной была именно верность Иисусу как Господу.
Домашние кодексы, характерные для второго поколения новозаветных посланий (особенно Кол 3:18–4:1; Еф 5:22–6:9; 1 Петр 2:18–3:7), ставят перед нами проблему в другом ракурсе: можно ли видеть в них признак растущего конформизма к социальному этосу и смягчение более радикальной этики ученичества, к которой призывал Иисус (Мк 3:31–35; Лк 14:26)? Конечно, утверждение традиционных и респектабельных обычаев (подчинение жен мужьям, а рабов — хозяевам) удивляет и не может не тревожить нашего современника. Однако ранние христиане, очевидно, считали более важным, чтобы в них не видели угрозу стабильности общества и общественным нормам, а потому не позиционировали себя как сторонники явной контркультуры. Отметим ключевой момент, исключительно важный для понимания объединяющего фактора в многообразии раннехристианской этики: в этих кодексах регулярно появляется фраза "в Господе" или ее эквивалент (Кол 3:18, 20, 22–24; 4:1). Поведение и человеческие взаимоотношения определяло живое общение с Господом Иисусом (2:6), — и это стало семенем, которое росло и росло до тех пор, пока не сломало прежние рамки. Тем не менее это минимальное ядро единства в многообразии было могучей формирующей силой в обществе
[24].
Часть II
То, что я написал о части II в предисловии ко второму изданию, в еще большей степени верно шестнадцать лет спустя. Главы XI‑XIV устарели в большей степени, чем мне бы хотелось. Надеюсь, однако, что они еще не отжили свой век: они документируют многообразие христианства I в. и различные течения в раннем христианстве. Иллюстрации того, каким стало русло этих течений во II в., как из первоначального истока сформировались различные и разнообразные реки, по–прежнему актуальны и ставят тот же самый вопрос: в какой момент многообразие становится излишним? В какой момент разнообразие преодолевает притяжение объединяющего ядра? Но тут необходимо сказать гораздо больше.
Что касается вопроса об иудеохристианстве, перечислю лишь проблемы, которые особенно остро обсуждались в последние два десятилетия:
• отказ широкого круга ученых от старого христианского представления об "иудаизме (второго храма)" как о неудавшейся религии (проникнутой формализмом и бесплодной);
• вопрос о том, до какой степени принадлежали иудаизму Иисус и Павел;
• вопрос о преемственности и разрыве между иудаизмом второго храма и первохристианством;
• вопрос о применимости к Павлову богословию старой антитезы между евангелием и законом;
• вопрос о том, в какой мере Павел считал христианство "Израилем" и т. д.
[25]
Попытки более глубоко вписать Иисуса в иудаизм
[26] и полемика вокруг "нового подхода к Павлу" (New Perspective on Paul)
[27] высвечивают чувства, которые затрагиваются такими дискуссиями. Вопрос о том, кто был главным "основателем" христианства, Иисус или Павел, сохраняет глубокую актуальность. Вопрос, поставленный в главе XI, необходимо не умалить, но подчеркнуть: была ли первоначальная форма христианства (в Иерусалиме) более верной гению и учению Иисуса, а иудеохристианство II‑IV вв. более аутентичным продолжателем первоначальной формы, чем то, что стало магистральным христианством? Аналогичным образом осознание того факта, что "расхождение путей" между христианством и иудаизмом заняло гораздо больше времени, чем раньше думали (следуя таким авторам, как Игнатий и Златоуст
[28]), служит полезным напоминанием: христианство оставалось иудеохристианством куда дольше, чем одно–два поколения. Если мы, находясь на позиции магистрального христианства, будем искать ответ в категориях развития, возникает вопрос: сколько ступеней развития должно произойти, прежде чем исторический Иисус (единый с Христом веры) перестает быть объединяющим началом?
Особенно наводит на размышления появление в наши дни "мессианских евреев" и "евреев за Иисуса" как серьезного фактора, осложняющего иудео–христианские отношения. Ибо исчезновение (еретического) иудеохристианства в IV (?) в. создало пропасть между (раввинистическим) иудаизмом и (магистральным) христианством, — пропасть, которую стремится преодолеть иудеохристианский диалог. Сейчас разрыв этот преодолевается, причем — к неудовольствию обеих сторон диалога — мессианские евреи, видимо, угрожают обеим позициям, поскольку смазывают четкое различие и разграничение между ними — во многом, как это и было с "иудеохристианством" в первых четыре века. Таким образом, вопрос о том, что такое иудеохристианство и до какой степени христианство должно себя понимать как иудеохристианство, встал с новой актуальностью и призывает к новой дискуссии.
Еще сильнее осложнилась ситуация с "эллинистическим христианством" (глава XII). В Предисловии ко второму изданию я уже отмечал, что прежние ученые, ставившие эту проблему в категориях гностицизма, находились под слишком сильным влиянием гипотезы о дохристианском гностицизме, которая в школе истории религии (начало XX в.) задавала тон анализу первохристианства. Я предложил говорить скорее о "синкретическом христианстве"
[29]. Я отчасти исходил из тех перемен, которые произошли в школе "истории религий". Если раньше упор делался на Павловы послания, на то, спорил ли Павел с гностиками (будь то в Коринфе или других городах) и воспринял ли Павел модифицированную форму гностицизма с целью обойти таких противников, то теперь основное внимание уделяют Евангелиям и характеру преданий, которые они содержат
[30]. Ученых, которые продолжают говорить о "дохристианском гностицизме", становится все меньше, а вопрос о разнородном влиянии на учение самого Иисуса (породившем в итоге многочисленные "христианства") в начале XXI в. стал одной из самых оживленных тем дискуссии
[31]. Даже при том, что гностицизм, очевидно, был феноменом II в.
[32], развивавшимся под влиянием христианства и в соперничестве с ним, остается актуальным вопрос: сколь синкретическими были традиции, стоявшие у истоков христианства?
В какой‑то мере эта проблема была затронута в § 62, "Гностицизирующий уклон Q?". Дальнейшие исследования в области Q показали наличие следующей возможности: поначалу многие помнили Иисуса как учителя мудрости, находясь в некотором противоречии (возможно, даже конфликте) с теми, кто рассматривал миссию Иисуса сквозь призму распятия и последующих событий (то есть воскресения); при этом Q могло появиться в одной такой общине (или общинах), которая не менее нескольких десятилетий существовала в Галилее; также возможно, что наиболее древняя часть Евангелия от Фомы и некоторых других евангелий, традиционно считающихся апокрифическими или еретическими, содержат материалы, которые "победители", впоследствии ставшие магистральным направлением, предпочли игнорировать, или замолчать, или отбросить, или попросту забыть
[33]. Конечно, это ставит проблему единства и многообразия в куда более остром ключе: не была ли объединяющая фигура Иисуса гибкой, как пластилин, и каждый не лепил ли из нее то, что хочет? Или, говоря более осторожно: не была ли миссия Иисуса более многогранной, чем можно подумать по каноническим Евангелиям, — причем более синкретической, чем "иудейской мессианской", и более открытой разному пониманию, чем думают Деяния Апостолов и Павел? Не было ли объединяющее предание об Иисусе на самом деле выборкой из учения Иисуса, выборкой, сделанной с определенной (и победившей!) точки зрения, выборкой, которая ставила своей целью монополизировать власть, которая сопутствовала имени и учению Иисуса? Такие вопросы я рассматривал еще в главе XII, и старые споры также хорошо их иллюстрируют. Однако их следует переосмыслить в категориях современных дебатов, иначе их актуальность будет все сильнее уменьшаться для нынешнего поколения ученых и студентов.
Первоначальная глава XIII ("Апокалиптическое христианство") также отражала споры постбультмановского поколения ученых, — это можно видеть из слов Эрнста Кеземана, чьи слова выведены в заголовок § 67 ("Апокалиптика — мать всего христианского богословия?")
[34]. Оговорки, которые я внес в Предисловие ко второму изданию, по–прежнему действительны. Факт остается фактом: во многих новозаветных текстах есть апокалиптический материал и апокалиптическая точка зрения, а значит, без их анализа не обойтись при любом анализе "характера первохристианства". Если мы не признаем и не оценим в должной мере этот аспект новозаветного многообразия, мы не сможем правильно понять характер новозаветного единства в его способности удерживать такое многообразие в своей орбите. Дискуссия, однако, продвинулась, и современным исследователям следует иметь в виду два момента.
Об одном из них говорил еще Кеземан, но нынешние работы по истории Q и Евангелию от Фомы придают ему больший вес. Это вопрос о том, сколь сильно сам Иисус находился под влиянием апокалиптической эсхатологии. Если на этот вопрос давать отрицательный ответ (как делают, например, Доминик Кроссан и Бертон Мэк
[35]) и если апокалиптическая точка зрения возобладала лишь в послепасхальный период, то разрыв между Иисусом и первыми христианами опять увеличивается настолько, что многообразие становится угрожающим. Напротив, если понимание Альбертом Швейцером Иисуса в категориях "последовательной эсхатологии" превратило метафорическую образность в буквальное описание (как пытается доказать с помощью достаточно сильных доводов Том Райт
[36]), то нужно ставить знак вопроса к раннехристианскому чаянию парусии Иисуса "на облаках небесных", и статус другого апокалиптического материала в НЗ становится более проблематичным. В таком случае дает ли новозаветное многообразие место буквальному пониманию апокалиптического языка?
С другой стороны, у нас есть антитеза, подчеркнутая Дж. Мартином: апокалиптический подход Павла предполагает разрушение всякой преемственности между Ветхим и Новым Заветом и отрицание всякого альтернативного подхода с позиции "священной истории"
[37]. Здесь опять возникает вопрос о том, может ли новозаветное многообразие удерживать в своих рамках одновременно апокалиптический подход и убежденность в преемственности между Израилем и христианством (Ветхим и Новым Заветом). Этот вопрос носит богословский характер: предполагают ли утверждения христианства о Христе (в частности, воплощение и воскресение) такой сильный подрыв всяких гипотез о развитии, что они становятся бесполезными, становятся тем самым искажением "евангельской истины", которое Мартин приписывает Павловым противникам в Галатии? Здесь заметна перекличка с вопросами, которые ставит глава XI: когда многообразие превращается в непреодолимые противоречия?
Название главы XIV ("Раннее католичество") устарело уже к моменту написания Предисловия ко второму изданию, и высказанные там оговорки и оценки по–прежнему верны. Хочу лишь подчеркнуть, что, каким бы ни был заголовок, без этой главы не обойтись (иначе обсуждение теряет взвешенность). Ибо часть II описывает "траектории", которые идут из I во II в. и далее. Главы XI — XIII рассматривают течения, которые по тем или иным причинам отклоняются от магистрального направления. Соответственно в главе XIV нельзя было не разобрать само магистральное направление. Понять, как "первохристианство" стало "ранней церковью" и что в этом процессе было утрачено и приобретено, исключительно важно для христианского самопонимания. И если главы XI — XIII отмечают важные элементы преемственности между первыми выражениями христианства и теми последующими выражениями, которые Большая церковь считала маргинальными или еретическими, то очень важно, что глава XIV ставит вопрос: насколько сама Большая церковь была верна своим
fans et origo. Я ни секунды не собираюсь оспаривать тот факт, что многообразие стало слишком многообразным и отошло от своего гравитационного центра, который есть Христос. Однако остаются проблемы: было ли единство, которое возобладало, того духа, который приветствовали Иисус и Павел? Не вытеснили ли институционализация и кредализация христианства на обочину нечто жизненно важное для христианской идентичности и благополучия? У меня недостаточно сведений о многогранности раннехристианской истории, чтобы настаивать на каком‑то определенном ответе на данный вопрос. Но я убежден, что задавать его надо и что характер христианского и новозаветного единства–в-многообразии нужно постоянно переосмыслять.
Заключения и выводы
Пять лет назад мне представилась возможность переработать содержание § 76 ("Сохраняет ли канон свое значение?").
[38] Эти дополнительные размышления я включил в это издание. Еще раз оговорюсь, что мои заключительные мысли ограничены каноном, как он возник и консолидировался в первые века. То есть я не рассматриваю такие вопросы, как "зачем нужен канон?" или "почему именно эти тексты, а не другие попали в канон?". И тогда, и теперь мне казалось важным скорее обдумать, что наличие канона (в данном случае новозаветного) означает для нашего христианства и для реализации христианского единства и многообразия. Возникновение канона не положило конец спорам о том, что есть и что не есть христианство. Этих споров более чем достаточно, чтобы поддерживать интеллектуальную (и институциональную) витальность христианства; еще более ее расширять значило бы отвлекать от верности одновременно единству и многообразию в Новом Завете и христианстве.
В заключение, однако, целесообразно остановиться на двух аспектах размышлений в главе XV. На первый из них я уже намекал: экуменическое значение новозаветного единства и многообразия. За пару последних десятилетий я все больше поражался тому, как Павлов образ Церкви как тела Христова усиливает многие из уроков, которые можно вывести из новозаветного единства и многообразия. Ибо, как прекрасно понимали уже политические философы Павловой эпохи, которым Павел, несомненно, был отчасти обязан своим образом общины как тела
[39], тело — уникальный вид единства: единства, которое состоит в том (и возможно только потому), что все члены тела — разные и имеют разную функцию. То есть это не единство одинаковости и не единство, которому различие угрожает, а единство, которое только и может функционировать как таковое благодаря различиям. Это единство, которое включает признание и реализацию каждым взаимозависимости. Это имеет значение для индивидуальной конгрегации (см. 1 Кор 12), для совместной деятельности нескольких церквей в одном месте (см. Рим 12) и для церкви вселенской (см. Еф 1,4). Общее для всех исповедание Иисуса Господом (или эквивалентное ему) оказывается достаточным для того, чтобы скреплять многообразие более разработанных исповеданий, для того, чтобы многообразие работало на совместное служение Господу. Требовать согласия с более разработанными исповеданиями или конкретными галахическими/традиционными обычаями — значит становиться на сторону фарисеев, которые критиковали Иисуса за трапезы с грешниками (Мк 2:16 сл.)
[40], или на сторону Петра, обличенного Павлом в том, что тот "не прямо поступает по истине Евангелия" (Гал 2:14)
[41]. Мы не оказываем чести уникальной христоцентричности, когда требуем большего единства и отказываемся признать многообразие, через которое может проявляться верность Христу
[42].
И еще один важный момент — герменевтическое значение проблемы единства и многообразия
[43]. В 1977 г. я не стал останавливаться на том очевидном моменте, что каждый текст можно толковать по–разному, — упомянул лишь о "каноне внутри канона" (§ 76.1). Этот новый ракурс отвлек бы внимание от главного: я говорил о многообразии, которое не есть просто вопрос различных прочтений индивидуальных текстов. Однако поиск подлинно связующего и интегрирующего единства в многообразии и через многообразие имеет точный аналог в герменевтическом постулате об объединяющей
Sache (субстанции) внутри
Sprache (словесные формулировки, используемые для передачи этой субстанции). Как только реальное чтение или слушание текста начинает рассматриваться как важное для смысла, который выносится из этого текста, становится невозможным говорить об однозначном, узком и единственном смысле текста. Однако отсюда не следует, что смысл текста бесконтрольно многообразен; ибо текст остается тем же, объединяющий элемент всегда присутствует в многообразии интерпретаций
[44].
Это стало яснее для меня в ходе изучения предания об Иисусе как устного предания. Из анализа устной культуры я вынес урок: невозможно говорить о
первоначальной версии какого‑либо рассказа, но лишь о многочисленных версиях; при этом суть рассказа обычно не меняется
[45]. Так обстоит дело и с преданием об Иисусе, как мы его находим у синоптиков: можно говорить о первоначальном, зарождающем импульсе (учении и действиях Иисуса), но не о первоначальной версии. Ибо Иисус мог произносить одно и то же учение (суть его) неоднократно, используя разные словесные формулировки и разные иллюстрации. Без сомнения, его действия (и слова) производили (несколько) разное впечатление на разных учеников. Соответственно воспоминания о том, что он сделал или сказал, неизбежно варьировались, и с самого начала не существовало какой‑то одной, первоначальной версии, от которой бы вели свое начало другие версии. Предпосылка, что у каждого учения и каждого события должна обязательно существовать одна первоначальная версия, реконструировать которую необходимо в ходе исследования жизни Иисуса, мягко говоря, ошибочна. Объединяющим фактором остается Иисус, сам Иисус, — но впечатление он производил разное, и это многообразие отразилось в синоптической традиции.
Одно из важных следствий этого состоит в том, что различия и расхождения в синоптической традиции необязательно означают, что одна из версий неверна. Такой вывод можно было бы сделать, если бы существовала единая первоначальная версия. Тогда можно было бы сказать, что аутентична только эта первоначальная версия. Соответственно неаутентичность можно было бы измерять степенью отхода от оригинала. Но если многообразие неотъемлемо от единства того впечатления, которое производил Иисус, то многообразие — один из важных аспектов аутентичности предания. Чтение/слышание (интерпретация) Матфеем Иисусова отношения к Торе как консервативного может быть не менее правильным, чем возникающая у Марка более радикальная картина. Тот факт, что одни воспринимали благовестие в более консервативном, а другие в более радикальном ключе (как видно и из Гал 2), причем благовестие не изменяло себе, не должен нас удивлять.
Эти общие герменевтические соображения уже были ясно заложены в моих выводах к главе II (§ 7). Ибо керигма в многообразии керигм эквивалентна
Sache в неадекватности
Sprache. Как объединяющий элемент (то есть сам Иисус) в конечном счете несводим к какой‑то точной формуле, так и Евангелие несводимо к какой‑то окончательной и универсальной формуле; соответственно и богословие (попытка говорить о Боге) несводимо к окончательной и единственно авторитетной формуле. Слово (с большой буквы) в словах всегда ускользает от нашего полного понимания; оно приходит к нам, но полностью понять мы его не можем. Мы можем начать процесс постижения, но он никогда для нас не завершается. Считать, что мы можем или
способны сделать его полностью постижимым, — значит впадать в многовековое заблуждение идолопоклонства. Как Бог невыразим в образе, непредставим, так глубинная реальность Бога остается для нас непостижимой. Нельзя превращать икону в идола, символ принимать за реальность, а слова путать со Словом. Полагать, будто мы способны раз и навсегда четко определить единство, а потому строго и четко контролировать или легитимировать многообразие, есть современный грех против Духа Святого.
Джеймс Д. Данн
Даремский университет
Июль 2005 г.
Предисловие ко второму изданию
Проблема с вводными учебниками состоит в том, что они быстро устаревают, особенно если пытаются дать обзор и синтез современной научной литературы, включая библиографические списки. Когда я работал над "Единством и многообразием", одной из моих основных задач как раз было создание такого учебника. Впрочем, то не была очередная попытка загруженного работой преподавателя изложить на бумаге свой курс по "Введению в Новый Завет": таких книг написано уже более чем предостаточно! Я ориентировался на студентов более продвинутого уровня — третьекурсников, или магистрантов, нацеленных на углубленное изучение новозаветного материала, или попросту людей, которые уже получили степень или проходили курс по Новому Завету, а сейчас хотят взглянуть на предмет в новом свете. Однако в течение тех двенадцати лет, что минули со времен первой публикации "Единства и многообразия", новозаветная наука быстро развивалась, а потому книга, естественно, устарела.
К счастью, новое (5–е) издание потребовалось выпустить незадолго до окончания работы над немецким переводом (выполняемым по заказу
Vandenhoeck & Ruprecht)
[46]. Это совпадение подстегнуло во мне приугасшее было желание внести в текст изменения. Издательство
SCM Press порекомендовало мне написать хотя бы новое предисловие, а также обновить библиографические списки. Но можно ли этим ограничиваться? У меня не было сомнений, что о серьезной переработке и речи быть не может, хотя бы потому что у меня не было на нее времени. Однако не имеет ли смысла внести в текст отдельные минимальные исправления (с сохранением прежней английской пагинации)? Иначе устаревший текст будет снова и снова приходить в противоречие с обновленной библиографией.
Вскоре мне представился занятный случай выхода из этой дилеммы: я попросил о помощи участников новозаветного аспирантского семинара в Даремском университете. Я нашел в них тепло и поддержку. На каждом из пятнадцати собраний семинара мы критически (очень критически!) разбирали одну из глав книги. Нам было интересно и (большей частью) даже весело. Меня подвергали самому настоящему допросу: то по поводу конкретных деталей, то по поводу использованных понятий и категорий, то по поводу устарелых взглядов, или упрощенных подходов, или пробелов в библиографии. Как правило, защищаться было приятно, причем часто я обнаруживал, к некоторому своему удивлению, что могу постоять за написанное, поскольку уже в первом издании учел похожие соображения. Обнаружилось также довольно много случаев, где изложение было недостаточно нюансированным или подробным, — но, для всех необходимых дополнений здесь просто нет места. Однако мне пришлось согласиться, что в ряде случаев текст действительно нельзя не исправить.
Итак, в какой же мере книгу требовалось переработать? Участники семинара неоднократно указывали: хотя обстоятельная переработка исключена, обновленными введением и библиографией не обойтись и какие‑то минимальные изменения необходимы. Я не мог не согласиться, а потому действительно внес в текст ряд коррективов. Далее в предисловии я сделаю соответствующие пояснения.
Перечитывая собственный текст, — до, во время и после каждого семинара, — я всякий раз замечал, сколь сильно изменилась научная проблематика. С момента публикации первого издания книги прошло всего семь лет, и во время своей инаугурационной лекции в Дареме я уже не мог не отметить три главных направления в новозаветных исследованиях, которые заявили о себе за это время
[47]. Данные направления отражают серьезные сдвиги в дисциплине, и на них можно наглядно видеть перемены в точке зрения и интересах
[48].
Когда я заканчивал работу над первым изданием, начинала зарождаться новая волна социологических исследований (особенно в трудах Герда Тайсена)
[49]. Уже в то время я был убежден в ее значимости и излишне оптимистично заявил в предисловии, что надеюсь и сам включить в "Единство и многообразие" социологический аспект. (Должен признаться, что важность этого аспекта я осознал, уже заканчивая работу над рукописью.) С тех пор волна социологического интереса набрала силу
[50], и, если бы я взялся обстоятельно перерабатывать "Единство и многообразие", мне пришлось бы переделать большую часть материала сильнее, чем я это сделал сейчас. Это особенно сказалось бы на части II, поскольку некоторые течения, рассматриваемые в ней, в социологическом плане многогранны. За неимением лучшего я просто расставил в нескольких местах указания относительно того, что при более широком (в том числе социологическом) подходе потребовалось бы вносить изменения.
Далее. "Единство и многообразие" было опубликовано в тот же год и тем же издательством, что и книга Эда Сандерса "Павел и палестинский иудаизм"
[51]. Работа Сандерса обозначила решающий сдвиг, переоценку взаимоотношений первохристиан с иудаизмом, частью которого они были. К такой переоценке привели, в частности, следующие факторы: ужас перед Холокостом, растущее осознание долгой истории христианского антисемитизма, находка кумранских рукописей, труды Джекоба Ньюзнера по раввинистическим традициям
[52] и возрождение интереса к так называемой межзаветной литературе иудейских псевдоэпиграфов
[53]. В результате исследователи смогли новыми глазами взглянуть на иудейство Иисуса и развернули то, что некоторые именуют "третьим поиском исторического Иисуса"
[54]. Кроме того, переоценка повлекла за собой жаркие дебаты о Павле и законе, в которых мне посчастливилось участвовать
[55]. Перечтя некоторые куски "Единства и многообразия", я осознал, сколь "досандерсовскими" были некоторые мои характеристики Иисуса и закона. Тут действительно пришлось внести изменения, пусть даже малые.
Третье из новых актуальных направлений связано с тем, что кратко можно назвать "литературной критикой"
[56]. Я признаю ее значимость для герменевтического поиска смысла в новозаветных текстах, но считаю, что включать ее в книгу гораздо менее необходимо, чем предыдущих два направления. Дело в том, что литературная критика старается освободить новозаветные тексты от узких и подчас банальных забот исторического исследования. Между тем в "Единстве и многообразии" я преследую именно исторические цели, как ясно видно из подзаголовка — И
сследование природы первоначального христианства. Хотя обычно историку не уйти от вопросов жанра и литературной формы, на сей раз, как ни странно, эти вопросы мало актуальны (основное исключение — глава "Апокалиптическое христианство"). Несмотря на то что жанровое многообразие — одна из важных составляющих новозаветного многообразия, в данной книге меня больше интересовали не столько те или иные конкретные документы, сколько то, какие общие темы, верования, обычаи и направления объединяют разные документы. Соответственно ввиду ограниченности места я вынужден предоставить другим ученым разработку этого аспекта единства и многообразия.
Если проблематика сильно изменилась и если обстоятельная переработка книги невозможна, стоит ли вообще браться за дело? Этот вопрос мы серьезно рассматривали на нашем семинаре. Ответ, однако, был твердым и однозначным: второе издание желательно, и работа над ним необходима. Основные причины состоят в следующем.
Начнем с чисто практического соображения: немецкое издание было почти готово. Было бы очень жаль, окажись оно всего лишь переводом устаревшей версии 1977 г. И даже если бы английские издатели сочли трудным вносить в текст изменения, с немецким изданием дело обстояло куда проще: текст еще не был набран в типографии. Между тем мне не хотелось, чтобы немецкое и английские издания сильно отличались друг от друга. Напрашивался выход: внести минимальные исправления там, где это необходимо и возможно, сохранив английскую пагинацию. Рассматривая каждую главу после обсуждения ее на семинаре, я с облегчением обнаружил, что даже в условиях подобных ограничений могу сделать все существенные и большинство желательных исправлений.
Второе. Первоначальная версия "Единства и многообразия" отчасти устарела, но далеко не в такой степени, чтобы вовсе утратить ценность. Вопросы и темы, рассмотренные в части I, а также течения, проанализированные в части II, сохраняют актуальность для любого исследования первохристианства. Сводить всю новозаветную науку к вышеуказанным трем направлениям значило бы оказать ей дурную услугу. Материал, который я рассматриваю в последующих главах, содержит много непреходящего, а потому дебаты последних двенадцати лет не умаляют его значимость. По–моему, я подал факты в достаточно компактном виде, так что в результате получилось одно из наиболее полезных введений в проблематику и множество отправных точек для дискуссии и дальнейшего изучения этих тем и направлений. Надеюсь, что книга поможет читателям взглянуть на Новый Завет и первохристианство в новом свете, поможет лучше его понять, — и, если даремские семинары хоть сколько‑нибудь показательны, даст свежий стимул для новозаветников самого разного профиля. И если с помощью минимальной переработки эту ценность удастся увеличить (убрав наиболее устаревшие куски и добавив современную библиографию), то книга сможет пригодиться еще одному поколению исследователей Нового Завета.
Третье. Превыше всего важность темы — единство в многообразии. Моей основной целью было не создать углубленное пособие по Новому Завету, а проанализировать историческую реальность христианства I в. и христианства новозаветных документов, исследовать историческое и богословское взаимодействие между их единством и многообразием. Еще до выхода в свет первого издания я восемь лет жил с этой проблемой: дискутировал, преподавал, думал, делал письменные заметки. И я все более и более убеждался:
в христианском единстве многообразие играло положительную роль[57]. В последующие двенадцать лет этот момент постепенно становился для меня все более и более важным: я все яснее и яснее сознавал, что христианское единство невозможно без многообразия, что без достаточного многообразия христианское единство будет (до ереси) узким и вытеснит некоторые формы жизни в Духе и некоторые выражения благодати Божьей во Христе; что без многообразия видов и функций христианское единство будет смехотворно однобоким и карикатурным, как тело, состоящее только из одного глаза или одного уха (1 Кор 12:17–20).
Одним из наиболее ободряющих последствий "Единства и многообразия" стало то, что меня начали звать на экуменические собрания и конференции, причем именно с целью разобраться и поразмыслить над тем, какое значение имеет новозаветное единство и многообразие для современных экуменических забот
[58]. Я с радостью откликался, ибо считал, что выводы главы XV имеют первостепенную значимость для каждого, кто всерьез воспринимает исторический характер христианства и ту его дефиницию, которую задает Новый Завет
[59]. Если исправленное издание глубже раскроет перед новозаветниками в частности и христианами вообще реальность и важность единства в многообразии (оба слова одинаково значимы!), мне почти наверняка захочется продолжать.
Четвертое. Новое издание дает мне возможность лучше разъяснить цели, объем и ограничения "Единства и многообразия". Скажем, читатели должны были понять, что в части I я стараюсь отыскать единство, задавая вопросы: что исторически служило объединению христианства? Что считалось частью его уникальной специфики? В этом смысле на ход моих мыслей оказала влияние вся последующая история христианства. Аналогичным образом обстоит дело с частью II: рассмотренные в ней течения и направления обрели наиболее развитую и характерную форму в посленовозаветный период и составляли для христиан II в. главные альтернативы. Соответственно обзор получился более глобальным и цельным, чем, казалось бы, можно было ожидать. Поэтому стало довольно проблематичным добавлять новые главы (я размышлял, не включить ли главу по этике
[60]) или перемещать акценты и образы с "единства и многообразия" на, скажем, полезную схему Бекера ("когерентность и случайность"), которая, впрочем, сводится к тому же
[61].
С другой стороны, пожалуй, мне следовало яснее сказать, что в "Единстве и многообразии" я работаю на двух уровнях. Один уровень — историческая реальность церквей, о которых идет речь в Новом Завете. Другой — сам Новый Завет. Разумеется, последний содержится в первом, и все же это разные вещи. Тот факт, что многообразие новозаветных документов уже многообразия ранних церквей, не должен давать нам повод закрывать глаза на многообразие самого Нового Завета. Однако не следует игнорировать и то обстоятельство, что более узкое многообразие новозаветных документов сдерживало и ограничивало более широкое многообразие.
Опять‑таки напомню: последующие главы носят ознакомительный и обобщающий характер. По любой из рассмотренных тем можно написать несколько монографий. В ходе даремского семинара мы часто приходили к выводу, что, хотя по ряду вопросов можно и нужно сказать больше, сделать это можно лишь за счет обширных дополнений. Данные и анализ, которые содержатся в книге, предоставляют лишь отправную точку для дискуссии, — именно то, что нужно умелому ведущему. Текст разбит на подразделы. Они облегчают работу с книгой в группах. Кое–где встречаются повторы. Они отражают попытку сделать каждую главу как можно более компактной и самодостаточной. Система перекрестных ссылок позволяет при необходимости вести более развернутое обсуждение отдельных моментов. В библиографические сноски я включил не только те труды, которые подтверждают мои тезисы, но и те, которые оспаривают их или придают дискуссии иную направленность. Хотелось бы надеяться, что если участники дебатов, взяв за отправную точку "Единство и многообразие", будут изучать как новозаветные тексты, так и предложенную библиографию, то придут к более полному и глубокому пониманию, чем то, которое можно было достичь в самом "Единстве и многообразии".
Поскольку я хотел дать толчок полемике, то сознательно старался острее формулировать вопросы и выводы. Работая над пересмотром книги, я не раз спрашивал себя, не стоит ли смягчить те или иные смелые или дискуссионные утверждения, а кое–где мне показалось, что в постановке проблемы я перегнул палку. Однако большей частью я придерживаюсь прежней линии: стимулировать обсуждение и оспаривать "более безопасные" позиции. Если отдельные перегибы будут платой за то, что у некоторых людей откроются глаза, я согласен. И если в конечном счете мы лучше станем понимать историческую реальность первохристианства и характер Нового Завета, то моя цель во многом будет достигнута.
Другие разъяснения я включил в сам текст, а также в примечания и новые введения к каждой главе.
Пятое. Пересмотренное издание дает мне возможность возразить на некоторую необоснованную критику. Рецензенты "Единства и многообразия" обвиняли меня в том, что я сужаю единство и расширяю многообразие
[62]. Я спрашиваю себя, достаточно ли внимательно они прочли §§ 75.1 и 76.5 и достаточно ли обдумали значение христологической центральности объединяющего ядра
[63]. Признаться, я также не знаю, насколько серьезно такие читатели осмыслили сам факт того разнообразия, которое всегда было, есть и будет христианством, — факт неудобный для людей, которым было бы спокойнее сознавать, что другие верят и действуют точно так же, как они.
Другое неожиданно частое обвинение с консервативной стороны состояло в том, что я якобы обнаружил в Новом Завете массу противоречий
[64]. Ничего подобного! Слово "противоречие" никогда не срывалось с моих уст (или с пишущей машинки). И это не случайно. Ибо речь шла вообще не об этом, и обвинители показывают лишь свое непонимание книги. Как достаточно ясно сказано в главе II, идея состоит в том, что абсолютно каждое выражение благовестия в Новом Завете исторически обусловлено и привязано к своему контексту. Видя такую картину в Новом Завете, мы должны только радоваться, ибо она укрепляет нашу уверенность в том, что Бог и поныне действует в различных и разнообразных ситуациях. Если мы не поймем, сколь различным и многообразным могло быть благовестие в ситуациях прошлого и настоящего, мы заточим его в узы менее содержательных форм и формулировок
[65].
Некоторые католические рецензенты обвинили меня в антикатолических предрассудках. К этому я вернусь в новом введении к главе XIV
[66].
И последнее. Возможно, стоит отметить, не в последнюю очередь для будущих рецензентов, что главный вопрос, который нужно задавать в связи с "Единством и многообразием", состоит не в том, все ли мои суждения правильны и заслуживают ли консенсуса. Это едва ли возможно, особенно, когда столь многие экзегетические решения приходилось принимать без обстоятельной аргументации. Независимо от того, прав ли я в некоторых (или даже многих) деталях, важен
факт, что единое и своеобразное ядро христианства с самого начала было сосредоточено на Иисусе Христе;
факт многообразия как чего‑то неизбежного в любой попытке придать этому объединяющему ядру конкретное выражение;
факт, что единство новозаветного христианства заключалось в этом многообразии.
В свете вышеизложенных соображений переработка книги для нового издания была ограничена следующими моментами:
1. Полностью пересмотрены библиографии к каждой главе.
2. Расширены и дополнены примечания с целью добавить к тексту отдельные оговорки и разъяснения, а также учесть важнейшие современные разработки, включая мои собственные труды, где те или иные мысли раскрыты более подробно.
3. Кое–где внесена правка (обычно небольшая) в сам текст: убраны отдельные неудачные выражения, исправлены случайные погрешности против гендерно–нейтрального языка, местами отмечены изменения в подходе или точке зрения. Важнейшие поправки такого рода включены в § 35.3а и главу XIII (главу, в которой я быстрее всего разочаровался). Было очень трудно вносить эти исправления, не меняя композицию и нумерацию параграфов, но, по–моему, с задачей удалось справиться без излишней неловкости.
4. Главы снабжены новыми предисловиями. Они вносят дополнительные разъяснения, а также указывают, где, будь это возможно, необходимо было бы взять более широкий ракурс (в частности, социологический). Эти предисловия приведены ниже.
Глава I. Поскольку это вводная глава, мне практически нечего добавить к сказанному. После выхода в свет "Единства и многообразия", дискуссии вокруг тезиса Бауэра продолжались
[67], и Хельмут Кёстер ставил очень острые вопросы
[68]. Однако глава I рассматривала данную проблему в своих собственных категориях (единство и многообразие); с учетом спектра, характера и исторической обусловленности новозаветных документов серьезные ученые не вправе обходить вопрос о единстве и многообразии. Повторюсь: в данной книге я не претендую на полный охват всего Нового Завета или всего христианства I в. Главы части I -череда "скважин", пробуренных сквозь разнообразные материалы и слои преданий, составляющих Новый Завет; часть II делает попытку сделать общий набросок основных христианских общин и аспектов, в которых имел место разрыв преемственности между I в. и ранним патристическим периодом.
Глава II ("Керигма или керигмы?"). В свете некоторых рецензий и ремарок, стоит напомнить читателям, что эта глава преследует достаточно узкую цель. Об этом было сказано уже в §§ 1, 3, 8. Я сознательно ограничился здесь поверхностным обзором новозаветного материала. Задача просто состояла в том, чтобы показать: проблема единства и многообразия не вычурная гипотеза скептиков
[69], а реальность, хорошо заметная даже беглому взгляду. Соответственно у меня не было необходимости обосновывать использование синоптических традиций как свидетельства об учении Иисуса, ибо в главе II нас интересует лишь тот факт, что определенные материалы представлены как учение Иисуса. Когда я говорю в § 3 о "керигме Иисуса", я просто имею в виду проповедь Иисуса в изложении синоптиков.
Глава III ("Первоначальные вероисповедные формулы"). После главы II естественный логический шаг — рассмотреть вероисповедные формулы. И не потому, что отклик веры на керигму по преимуществу рассудочен или сводим к каким‑то понятиям. Причина проста: словесное вероисповедание было одной из фундаментальных и заметных черт развивающегося и растущего христианства. Историк не может не спросить, обстояло ли так дело с самого начала и каким образом этот базовый инстинкт веры ("исповедовать устами") обрел выражение. В главе III я ограничиваюсь анализом вероисповедных формул, поскольку, повторюсь, христианство всегда считало важным выражать свою веру в кратких дефинициях. Отсюда не следует, что словесные исповедания не могут принимать более полную и обширную форму. К примеру, современные литературные исследования библейских текстов справедливо подчеркивают роль нарративного богословия; традиция исповедовать веру через рассказ существовала и в Ветхом Завете. Соответственно и сами Евангелия — в каком‑то смысле вероисповедные утверждения. И если рассказы о Страстях пересказывались частично или целиком во время раннехристианских богослужений, они скорее всего функционировали как вероисповедные (в категориях § 13). Опять‑таки узкий спектр дискуссии не означает, что только этот материал достоин обсуждения под соответствующим заголовком. Напротив, стараясь изложить материал компактнее, я хотел вызвать как можно более широкий спектр реакций и размышлений.
Глава IV ("Роль предания"). Один из тех случаев, где более обстоятельный социологический подход позволил бы прояснить неоднозначную историческую ситуацию, особенно отношение Иисуса к закону и галахе. Я вел обсуждение в несколько более упрощенных категориях; они ближе понятиям, используемым в самом Новом Завете, но недостаточно четко отражают социальные реалии данного периода. Что касается Иисусова подхода к традиции, то при более подробном анализе можно было бы констатировать: с одной стороны, его толкования Торы вполне укладывались в рамки галахических споров между фарисеями; с другой — его толкования и сами были своего рода традицией. Надеюсь, что из §§ 15 и 17–18 достаточно ясно: христианство не выступало против предания как такового; § 16 касается
иудейской традиции; основной тезис здесь состоит в том, что предание не было одной из особенностей, единых для всего первохристианства.
Глава V ("Использование Ветхого Завета"). Здесь мне не хватило тонкости в анализе отношения Иисуса к закону и экзегетических методов. Относительно первой из этих проблем: когда я работал над ней для первого издания, то находился под влиянием тогдашней научной традиции; традициям, однако, свойственно развиваться, — и сейчас я согласен с теми исследователями, кто в большей степени рассматривает Иисуса как
часть иудаизма его времени
[70]. Относительно второй проблемы: можно было бы гораздо подробнее обсудить понятия, а также подработать или переформулировать дефиниции. Однако задача главы состояла не в том, чтобы добиться максимально точной дефиниции, а в том, чтобы документировать многообразие экзегезы в иудаизме I в. и первохристианстве, а также поразмыслить о значении этого многообразия. Эту свою функцию глава выполняет по–прежнему, и в ней почти ничего не требуется менять.
Глава VI ("Концепции служения"). Здесь социологический анализ оказался особенно полезным
[71]. Поэтому было бы желательно в большей степени учесть соответствующие исследования. Особенно это помогло бы разобраться в проблеме авторитета и легитимации, а также прояснить категории "харизма" и "институционализация". Сейчас достаточно сказать, что о "харизме" я предпочитаю говорить больше в Павловом, а не в веберовском смысле слова. Дело в том, что если мы будем больше ориентироваться на Вебера, то можем утратить Павлову специфику и упустить из виду богословский характер понятия ("харизма" как выражение "благодати"). А это в свою очередь чревато ошибками в понимании Павловой "модели". Аналогичным образом вместо веберовского термина "рутинизация" я предпочитаю использовать термин "институцонализация". И не потому, что не вижу структуры (в том числе институциональной) в Павловых представлениях об общине: просто смысловая нагрузка слова "институционализация" достаточно самоочевидна, когда речь идет о процессах более поздних по сравнению с более спонтанными богослужением и организацией, характерными для ранних Павловых церквей
[72].
Работая над главой VI, я понимал, что упор на "служение" в чем‑то односторонен: без достаточного внимания остаются другие категории, скажем, община и организация
[73]. Как и повсюду в книге, я исходил из того, что в первые века нашей эры служение было одним из фундаментальных факторов в развитии христианского самоопределения и одним из ключевых в формировании кафолической традиции, — и что оно поныне занимает центральное место в экуменических дискуссиях
[74]. Конечно, эти и дальнейшие проблемы можно было бы поставить, ставя вопросы иначе. Однако достаточно очевидно, что старая и респектабельная категория "служения" способна ухватить одну их важнейших составляющих христианской истории, прошлой и нынешней. В качестве одной из главных "скважин" в первохристианстве, она по–прежнему выполняет такую важную задачу в рамках общей темы книги, которой едва ли можно пренебречь. Воспользовавшись свободным местом на последней странице, я также включил небольшой материал по женскому священству и служению.
Глава VII ("Типы богослужения"). Здесь передо мной стояли две главные задачи. Во–первых, надо было доработать раздел об Иисусе, отдав бо́льшую справедливость современной ему иудейской духовности. Во–вторых, пришлось внести поправки в анализ "гимнов Христу" (§ 35.3), особенно Флп 2:6–11: за прошедшие годы ученые еще яснее осознали, что дохристианский гностический миф об Искупителе — чистой воды мираж; кроме того, мои собственные разработки в области ранней христологии убедили меня, что гимн Флп 2:6–11 следует понимать в первую очередь в свете аллюзий на Адама.
Глава VIII ("Таинства"). Для меня было и остается очевидным, что в качестве отправной точки и фокуса здесь надо брать историческое значение двух (почти) универсальных христианских таинств, — даже несмотря на споры вокруг самого понятия "таинство". Меня, правда, могут упрекнуть в том, что я проецирую на Новый Завет более позднее христианское богословие. Не следовало ли мне, как и в главе III, отказаться ограничивать анализ теми категориями, которые задавали тон в позднейшей мысли, и просто порассуждать о ритуальном выражении первохристианской веры и духовности? Более того, если уж использовать поздние категории, то стоит ли ограничиваться крещением и вечерей Господней? Но я не жалею о принятом решении. Даже беглый взгляд на новозаветные тексты показывает, что крещение и вечеря Господня стабильно имеют в них гораздо большее значение, чем омовение ног, поцелуй мира или даже возложение рук. Более того, возможно, именно два этих ритуальных действия стали "таинствами", поскольку они вмещают более глубокий христологический смысл, чем остальные.
Кто‑то может сказать, что у меня слово "сакраменталист" приобрело уничижительный оттенок. На это я могу сказать, что придерживался словарного смысла: сакраменталист — "тот, кто придает большое значение таинствам". В подтексте: было бы преувеличением роли таинств полагать, будто, благодать передается только через них. Я по–прежнему уверен: служения Иисуса, Павла и Иоанна содержат решительный протест именно против такого сужения и ограничения божественной благодати.
Глава IX ("Дух и опыт"). Возможно, здесь надо было дать более полное определение "восторженности". Пожалуй, я слишком сильно исходил из, так сказать, "фоторобота" "восторженного" христианина, который нарисовал в своей старой книге. Однако последняя фраза первого абзаца § 43 была вполне достаточной отправной точкой, а остальная часть § 43 создавала пригодный начальный набросок. Тем, кто согласен с классическим определением "восторженности", данным Рональдом Ноксом
[75], будет несложно распознать ее характерные особенности. Добавлю, что для меня "восторженность" не есть нечто однозначно негативное. У нее есть и положительная сторона. По крайней мере я нахожу в ней целый спектр проявлений: от более желательных (высвобождение подавленных эмоций и обуздание глубинных мотиваций) до менее желательных (необузданная эмоциональность и высокомерный элитизм). Предпочтение мною "харизматического" связано как с моими прежними исследованиями в данной области
[76], так и с продолжающимся влиянием положительного и (для меня) определяющего Павлова словоупотребления. Как известно, с феноменологической точки зрения эти категории ("харизматическое" и "восторженное") пересекаются. Возможно, мне стоило четче оговорить различие, которое я провожу между ними. Однако я надеюсь, что замечаний в § 45.1 будет в общих чертах достаточно.
Глава Х ("Христос и христология"). Акценты в ней определяются вопросом, поставленным в конце главы II (§ 7.2), и регулярным выводом последующих глав (единство повсюду было христоцентрично). Таким образом, здесь я подвожу логический итог изысканиям в части I. В этом смысле глава преследует довольно узкую цель. Однако в преемственности между до–пасхальным и послепасхальным периодом есть и другие аспекты. Соответственно я ограничился констатацией
факта единства и многообразия и не стал выяснять,
почему развитие ранней христологии пошло именно этим путем. Последней теме была посвящена одна из моих последующих книг
[77]; здесь же я просто отмечаю наличие единства и многообразия в рамках самого объединяющего ядра. С учетом столь узко поставленной задачи, мне не потребовалось вносить в текст большое число изменений.
Глава XI ("Иудеохристианство"). В сравнении с тремя другими главами части II этот материал потребовал на удивление мало коррективов после нашего семинара. Надеюсь, § 53 достаточно ясно объясняет, что названия каждой из всех четырех глав в каком‑то смысле неудовлетворительны
[78]. То есть это не строгие дефиниции, а просто ярлыки, помогающие обозначить сферу исследований. Также эти ярлыки не описывают цельные движения с четкими границами. Здесь, как и ранее, я отталкивался от ситуации во II в. Как известно, во второй половине II в. на название "христианство" претендовали четыре направления. В какой мере обоснованными были притязания каждого из них? На семинаре мы оживленно обсуждали вопросы: "Почему эбиониты ошибались? И почему "развитие" можно считать правомерным?" Коротко говоря, мой приблизительный ответ таков: основная часть иудеохристианства в конечном итоге стала допускать многообразие, которое одновременно придерживалось христологического центра и отражало открытость самого Иисуса; "еретическое" иудеохристианство было обречено именно своей неспособностью признать и уважать это многообразие. В этой главе я не могу рассматривать запутанную проблему антисемитизма в Новом Завете, где дебаты со времен первого издания "Единства и многообразия" стали особенно жаркими
[79], но вернусь к ней в одной из последующих публикаций.
Глава XII ("Эллинистическое христианство"). Как сказано во введениях к главам XI и XII, цель главы XII — рассмотреть взаимосвязь между движением, зародившимся в Палестине, и более широкой эллинистической религией. Эта взаимосвязь была фантастически многосторонней, и, чтобы адекватно ее проанализировать даже для целей данной книги, потребуется целый ряд дополнительных исследований: как ранее христианство взаимодействовало со старыми греко–римскими религиями, магией и астрологией, религиозными философиями I в., материальными культами, не говоря уже об общих социальных структурах. Разумеется, для всего этого здесь нет места. Когда я работал над главой для первого издания, то во многом ориентировался на научный интерес к гностическим и протогностическим влияниям, которые столь занимали ученых на протяжении большей части XX в. Сейчас этот интерес идет на спад, но выкладки Хельмута Кёстера и всех, кого охватила "лихорадка Наг–Хаммади", оставляет пафос главы достаточно актуальным. Кроме того, гностицизм, в своих многочисленных формах, во II в. быстро стал главной угрозой (кафолическому) христианству. Соответственно по–прежнему важно спросить: был ли этот вызов предвосхищен еще в новозаветный период, и если да, то в какой степени? Вопрос тем более серьезный, что обе стороны последующих споров обосновывали свои позиции ссылками на новозаветные тексты.
С другой стороны, поскольку гностические движения II в. были ярким примером религиозного синкретизма, большинство вопросов, поставленных в главе XII, можно было бы переформулировать в категориях "синкретического христианства". Чтобы нести весть эллинистическому миру, христианству было не обойтись без какой‑то степени синкретизма. Развивая вывод, сделанный еще в главе II, можно сказать, что, если бы христиане не говорили на языке, который понимали их слушатели, их бы просто не поняли. Но насколько далеко заходила адаптация к этим конкретным и изменчивым контекстам? И насколько далеко она могла зайти, оставаясь приемлемой и не утрачивая "христианской" специфики? Поэтому, несмотря на все свои ограничения, попытка проследить несколько направлений в многообразии I в., которые демонстрируют проблему единства в синкретическом многообразии и которые не без оснований (пусть и задним числом) можно отнести к гностицизирующей траектории, сохраняет ценность и в пересмотренном издании.
Глава XIII ("Апокалиптическое христианство"). Из всех глав именно эта быстрее всего перестала меня удовлетворять после публикации. То определение "апокалиптики", которое я воспринял от прежних ученых и из которого исходил, быстро устарело после всплеска нового интереса к иудейской псевдоэпиграфике и после обстоятельных работ Джона Коллинза и Кристофера Роуленда. Я хорошо понимал, что именно здесь станет ясно, сколь удачна моя идея не перерабатывать издание целиком, а просто подлатать его в отдельных местах. Участники нашего семинара сошлись на том, что вопрос, в конечном счете, сводится к дефиниции. Понятие апокалиптики следует сузить. Кроме того, путаницу в понятиях апокалиптического и эсхатологического лучше всего прояснить, сказав, что глава XIII рассматривает прежде всего "апокалиптическую эсхатологию", — не просто (события) Конца (эсхатологию), но то, как они описаны (преимущественно) в апокалиптической литературе
[80]. Однако характеристики апокалипсиса и апокалиптической эсхатологии (§§ 66.2–3) по–прежнему работоспособны, поэтому мне потребовалось лишь уточнить вопрос дефиниции в § 66.1 и проследить, чтобы дефиниции использовались последовательно на протяжении всей главы. Кроме того, поскольку такую проблему ставили некоторые рецензенты, стоит повториться: "апокалиптическое христианство" не было каким‑то особым видом христианства. Оно было направлением, гранью или аспектом, в той или иной степени характерным для
всего первохристианства. Я всегда отмечал как раз этот момент: апокалиптическая эсхатология была столь важной частью I в. и новозаветного христианства, что ее нельзя игнорировать или умалять.
Глава XIV ("Раннее католичество"). Здесь основная проблема была в заглавии. Понятие "раннее католичество" (Early Catholicism) постепенно устаревает и все более воспринимается как уничижительное и отражающее лютеранскую субъективность
[81]. Это замечание одного лютеранского участника семинара согласуется с упреками, которые высказало в адрес первого издания "Единства и многообразия" несколько католических рецензентов: по их мнению, я не свободен от "антикатолических предрассудков"
[82]. Сейчас, перечтя главу, я вижу, что ее действительно можно понять в том смысле, что "раннее католичество было искажением подлинного христианства"
[83]. Однако это не входило в мои намерения. Я достаточно ясно подчеркнул, что некоторые черты раннего католичества присутствуют уже в Новом Завете, который я рассматриваю как нормативное определение "подлинного" христианства". Как я указываю в главе XIV, я согласен со старым тезисом Ф. Х. Баура хотя бы в том, что считаю возникавшее католичество синтезом нескольких направлений (и групп) в первохристианстве. Конечно, здесь у меня присутствует некая критическая тональность. Но это вовсе не критика католичества (или римского католичества) как такового. Скорее я хотел указать
на опасность такого католичества, которое недостаточно католично. Когда "католичество" заявляет о своей монополии и тем самым исключает другие элементы, которые
также являются законными наследниками первохристианства, оно становится сектантским (сколь бы много людей к нему ни принадлежало), а не подлинно католическим
[84]. Сейчас я не хочу сказать, что католическое отрицание гностицизма или эбионитства было неправильным. Я задаю другой вопрос: было ли католичество, которое включало антисемитизм и осуждало монтанистов и евхитов, достаточно католическим? Я понимаю, что здесь мы можем скатиться в игру слов. Как может Католическая церковь не включать всех христиан, коль скоро "католическая" значит "универсальная"? Остается, однако, опасность, что "католическая" станет названием какой‑то отдельной партии или группы, которая будет исключать остальных, также имеющих законное право зваться "христианами"
[85]. Проблема раннего католичества состоит именно в том, что большинство пытается установить границы: кого можно считать христианами, а кого нельзя.
Как же избежать уничижительного оттенка в словах "раннее католичество" (Early Catholicism)? Легкого ответа не существует
[86]. С термином "ранняя ортодоксия" мы попадем из огня да в полымя, ибо если "католичество" стало общим названием западного христианства, то "ортодоксия" — общее название восточного христианства. Кроме того, понятие "раннее католичество" хорошо тем, что образует связь с довольно важными дискуссиями, протекавшими в течение большей части XX в. В итоге я решил термина не менять, только использовать строчные буквы (early catholic/catholicism) вместо прописных (Early Catholic/Catholicism). Надеюсь, что это устранит путаницу между ранним католичеством и римским католичеством. Также надеюсь, что двусмысленность заглавия будет напоминать об исторической проблеме: как поддерживать полную меру законного многообразия в рамках признанных форм вселенской церкви.
Глава XV ("Авторитет Нового Завета"). Здесь важно понимать узкий характер дискуссии. Я не собирался ставить вопрос об уместности канона и о правильности включения или невключения в него тех или иных книг. Это увело бы нас слишком далеко от темы. Могу сказать, что моя позиция такова: я признаю уместность канона — дефиниции, мерила для христианства (конституциональные документы христианства); более того, я готов защищать каноничность всех или почти всех нынешних новозаветных текстов; я также считаю, что никакие другие тексты (за редчайшими исключениями) не должны быть каноническими. Однако в главе XV я хотел пойти на шаг дальше: признавая факт новозаветного канона и его состав, поразмыслить о его значении. Канон означает, говорил я, единство и многообразие. Он означает, что вселенская церковь в мудрости своей признала нормативный авторитет ряда текстов, которые действительно документируют то, что представляет подлинное католичество — единство в многообразии, единство через многообразие.
Но достаточно ли католичен новозаветный канон? Острый вопрос: разве не получилось так, что какие‑то группировки победили и отобрали именно эти документы в обоснование своего притязания на статус подлинных наследников апостолов? Разве канон действительно отражает все многообразие христианства I в.? Конечно, нет! Я уже отмечал, что в "Единстве и многообразии" я работаю на двух уровнях: один — историческое многообразие ранних церквей, другой — более ограниченное многообразие новозаветных текстов. Тут нужно подчеркнуть два момента. Во–первых, не будем забывать о мере новозаветного многообразия. Возьмем в качестве примера такие крупные фигуры, как Павел и Иоанн: если я прав, то они, разрабатывая вопрос о границах христианства, всегда настаивали на необходимости проводить черту между приемлемым и неприемлемым многообразием. Моя же позиция в связи с этим заключается в следующем: канон отражает ту широту приемлемого многообразия, которую признавали такие ведущие фигуры, как Петр, Павел и Иоанн (и в меньшей степени — Иаков). Поэтому канон отражает те установки, которые уже имели место в I в., — и в него включен не только ранний Павел, но и Иаков; не только Деяния Апостолов, но и Апокалипсис; не только синоптические Евангелия, но и Евангелие от Иоанна.
Но разве не Церковь сформулировала канон? Нельзя ли отсюда вывести, что нормой является не
Новый Завет как таковой, а раннее католичество?
[87] Ничуть! Говорить, что Церковь сформулировала канон — обманчивая полуправда. Более точно было бы сказать, что Церковь
признала канон. То есть раннее католичество признало, что есть определенные документы, которые имели авторитет в расширяющемся круге церквей, с тех пор как были переданы первым читателям. Именно тот факт, что Евангелия и Павловы послания уже считались более или менее "каноническими" с самого начала, с неизбежностью привел к их канонизации, когда стала важной идея закрытого канона
[88]. В большинстве случаев официальный акт канонизации (пожалуй, это даже слишком официальное описание происшедшего!) не придал новозаветным документам того авторитета, которым бы они уже ни обладали
[89]. Можно с полным основанием сказать, что основные новозаветные тексты сами себя избрали; новозаветный канон сам себя сформулировал! Это также означает, что раннее католичество не могло свободно решать, что́ именно ему включать или не включать (хотя, конечно, в некоторых случаях ставились интерпретирующие глоссы). Тексты были "избраны", канонизированы во всем своем многообразии и даже несмотря на все свое многообразие. Я без колебаний утверждаю: именно водительство Духа позволило католичеству признать каноничность ряда документов, столь ярко воплощающих жизненность и многообразие иудейского мессианского движения обновления в первых двух–трех поколениях его существования, — как вдохновение и источник аналогичного обновления в последующие века.
В экуменических дискуссиях, в которых мне довелось участвовать, я считал нужным подчеркивать еще один момент: канонический авторитет Нового Завета нужно заново утверждать. Возьмем, например, Монреальское заявление о "Писании, Предании и преданиях": да, оно сформулировано осторожно, но не получится ли так, что в результате канон будет деканонизирован
[90]? Если писание — всего лишь выражение Предания (Евангелия), если его можно понять лишь в рамках церковного предания/церковных преданий, существует реальная опасность того, что вдохновенный гений, который признал каноническими именно эти, а не другие документы, будет ниспровергнут и станет почти неэффективным. Вопрос о том, как можно и нужно эти тексты понимать, — вопрос отдельный. Я лишь хочу сказать, что, принимая Писание за критерий истины благовестил, мы должны оставлять за ним возможность критиковать церковное предание. Если этот принцип уйдет из практики, канон Писания станет мертвой буквой.
Если Новый Завет не выполняет критической функции не только в рамках предания, но и по отношению к остальной части предания, он перестает быть каноническим! Поэтому в переработанном издании "Единства и многообразия" я хочу напоследок еще раз призвать: пусть Церковь снова позволит канону быть каноном — силой и мерилом для того единства в многообразии, которое только и есть подлинное единство
[91].
И наконец, моей приятной обязанностью остается поблагодарить рецензентов, которые хвалили и/или критиковали первое издание книги, а также отдельных читателей, которые любезно писали письма, если находили тему книги полезной. Самую горячую благодарность, однако, я должен выразить участникам аспирантского новозаветного семинара в Даремском университете за огромную помощь в подготовке нового издания, особенно тем из них, кто вел собрания, посвященные отдельным главам: Дэвиду Каппу, Эллен Кристиансен, Брюсу Лонгнекеру, Николасу Тейлору, Рею Уитбеку, Джону Чоу, Джейн Эллисон, а также моему коллеге Стивену Бартону. Эллен Кристиансен также оказала неоценимую помощь в пересмотре библиографий. И последнее: задумайтесь на секунду, дорогой читатель, каково было автору, когда он обнаружил, что чаще всего из когда‑либо написанных им слов цитируют те, что были сказаны в конце Предисловия к первому изданию этой книги. Один рецензент даже написал, что "простой христианин" может, пожалуй, и пожалеть, "что Фиона Данн не истребила более шести страниц рукописи". Такова слава!
Джеймс Д. Данн
Даремский университет
Июль 1989 г.
Список сокращений
| AHGFFB |
Apostolic History and the Gospel: Biblical and Historical Essays Presented to F. F. Bruce, ed., W. W. Gasque and R. P. Martin, Paternoster 1970 |
| Arndt‑Gingrich |
W. F. Arndt and F. W. Gingrich, A Greek‑English Lexicon of the New Testament, et Chicago 1957 |
| BJRL |
Bulletin of the John Rylands Library |
| BNTE |
The Background of the New Testament and its Eschatology: Studies in Honour of C. H Dodd, ed., W. D. Davies and D. Daube, Cambridge University Press 1954 |
| BZ |
Biblische Zeitschrift |
| CBQ |
Catholic Biblical Quarterly |
| CINTI |
Current Issues in New Testament Interpretation, ed., W. Klassen and G. F. Snyder, SCM Press 1962 |
| CSNT |
Christ and Spirit in the New Testament: Studies in Honour of С F. D. Moule, ed., В. Lindars and S. S. Smalley, Cambridge University Press 1973 |
| ed. |
editor |
| EKK |
Evangelisch‑Katholischer Kommentar zum Neuen Testament |
| ENTT |
E. Käsemann, Essays on New Testament Themes, ET SCM Press 1964 |
| ET |
English translation |
| EvTh |
Evangelische Theologie |
| ExpT |
Expository Times |
| FRP |
The Future of our Religious Past: Essays in Honour of Rudolf Bultmann, ed., J. M. Robinson, SCM Press 1971 |
| HE |
Eusebius, Historia Ecclesiastica |
| Hennecke, Apocrypha |
E. Hennecke, New Testament Apocrupha, ed., W. Schneemelcher, ET ed., R. McL. Wilson, SCM Press, Vol. J 1973, Vol. II 1974 |
| HNT |
Handbuch zum Neuen Testament |
| HTR |
Harvard Theological Review |
| IDB |
The Interpreter's Dictionary of the Bible, Abington 1962, 4 vols. |
| IDBS |
IDB Supplementary Volume 1976 |
| JRL |
Journal of Biblical Literature |
| JCHT |
Jesus Christus in Historie und Theologie: Neutestamentliche Festschrift für H. Conzelmann, ed., G. Strecker, Tübingen 1975 |
| JSJ |
Journal for the Study of Judaism |
| JSNT |
Journal for the Study of the New Testament |
| JSOT |
Journal for the Study of the Old Testament |
| JThC |
Journal for Theology and Church |
| JTS |
Journal of Theological Studies |
| JuP |
Jesus und Paulus: Festschrift ßr W. G Kümmel, ed., Ε. Ε. Ellis and Ε. Grässer, Göttingen 1975 |
| KEK |
Kritisch‑exegetischer Kommentar über das Neue Testament |
| KuD |
Kerygma and Dogma |
| LXX |
Septuagint |
| LTK |
Lexikon für Theologie und Kirche |
| MBBR |
Mélanges Bibliques en hommage au R. P. Beda Rigaux, ed., A. Descamps and A. de Halleux, Cambloux 1970 |
| NEB |
New English Bible |
| NIDNTT |
The New International Dictionary of New Testament Theolo‑gy, Paternoster 1975f |
| NovTest |
Novum Testamentum |
| ns |
new series |
| NTD |
Das Neue Testament Deutsch |
| NTETWM |
New Testament Essays: Studies in Memory of T. W. Manson, ed., A. J. В. Higgins, Manchester University Press 1959 |
| NTK |
Neues Testament und Kirche: für R. Schnackenburg, ed., J. Gnilka, Freiburg 1974 |
| NTQT |
Ε. Käsemann, New Testament Questions of Today, ET SCM |
|
Press 1969 |
| NTS |
New Testament Studies |
| par. |
parallel |
| RB |
Revue Biblique |
| RGG3 |
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 31957ff. |
| SBL |
Society of Biblical Literature |
| SBLMS |
Society of Biblical Literature Monograph Series |
| SJT |
Scottish Journal of Theology |
| SLA |
Studies in Luke Acts, ed., L. E. Keck and J. L. Martyn, Abington 1966, and SPCK 1968 |
| SNT |
Supplement to Novum Testamentum |
| SNTSMS |
Society for New Testament Study Monograph Series |
| Strack‑Billerbeck |
H. L. Strack and P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 1920ff. |
| TDNT |
Theological Dictionary of the New Testament, ET of Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, ed., G. Kittel and G. Friedrich, 1933ff. |
| ThR |
Theologische Rundschau |
| TZ |
Theologische Zeitschrift |
| WUNT |
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament |
| ZKG |
Zeitschrift für Kirchengeschichte |
| ZKT |
Zeitschrift für Katholische Theologie |
| ZNW |
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft |
| ZTK |
Zeitschrift für Theologie und Kirche |
| КП |
Перевод Нового Завета под редакцией еп. Кассиана (Безобразова) |
| СП |
Синодальный перевод |
I. Введение
§ 1 применимо ли понятие "ортодоксия" к новозаветному периоду?
В истории христианства взаимосвязь между ортодоксией и ересью всегда была важна. Обычно считалось, что ортодоксия — это согласие с "верой апостольской". До XX в. каждая церковь, деноминация и секта обычно заявляла о своей
монополии на эту веру и отрицала ее наличие у других (которые соответственно игнорировались, осуждались или преследовались в качестве еретиков). Апостольский характер веры доказывают с помощью какой‑то одной линии интерпретации (редко признаваемой в качестве таковой); вера остальных объявляется неапостольской — ибо, согласно стандартной полемике, они что‑то добавили или убавили или иным способом исказили "веру". Критерии апостоличности бывают разными: апостольские писания, "Евангелие", тайные апостольские предания, развивающаяся церковная традиция, общие символы веры; или (в более институциональном варианте) апостольское преемство, церковный собор, папа; или (в более индивидуализированном варианте) непосредственная вдохновленность Духом, "внутренний свет".
Сразу возникает терминологическая проблема. Понятие "ортодоксия" предполагает, что между истиной и ошибкой можно провести четкую грань, что существует чистая и незамутненная вера, все отклонения от которой в большей или меньшей степени "еретичны". Упрощая, это можно представить в форме антитезы: "ортодоксия" — абсолютная истина Божия, открытая Церкви; "ересь" — любое отклонение от этой единственной, четко определенной веры. Но вот две проблемы.
(а) Во–первых,
богословская проблема,
проблема интерпретации. А именно:
чья ортодоксия? Факт остается фактом: в современном христианстве никакой единой ортодоксии не существует: понятие ортодоксии в восточном христианстве очень отличается от соответствующего понятия у большинства западных христиан; римско–католическая ортодоксия не идентична протестантской, причем ортодоксия пятидесятническая по–своему самобытна; ортодоксия "англокатоликов" — иная, чем у "евангеликов", причем обе не удовлетворяют "либералов" и "радикалов". Очевидно, что каждый понимает "ортодоксию" по–своему. Даже те, у кого критерий ортодоксии один и тот же, видят в интерпретации проблему. Скажем, большинство протестантов согласны, что Библии следует отводить центральную и фундаментальную роль в определении веры и жизни
(sola scriptum); однако фрагментация протестантства и протестантских сект показывает, что единой ортодоксии не возникло.
Отсюда возникает принципиальный вопрос:
существует ли вообще окончательное выражение христианской веры, однозначное по смыслу? Может ли оно существовать? Сводима ли истина к какой‑то окончательной и неизменной формуле/утверждению/образу поведения? Или субъективность нашего восприятия и ограничения нашей жизненной ситуации не позволяют достичь такой окончательности? Не существенно ли, что даже традиционное христианство считает: окончательное откровение истины было сделано в личности Иисуса из Назарета, а не в каком‑то утверждении? (Можно ли человека свести к формуле?)
[92] Эта проблема имеет колоссальное значение для христианства и богословия. Будем о ней помнить в последующих главах, а в конце книги вернемся к ней.
(б) Во–вторых,
историческая проблема (ей в значительной мере и посвящено данное исследование). А именно:
существовала ли вообще какая‑то ортодоксия? — единственная и четко определенная вера, отличавшая христианина от еретика? Традиционный христианский ответ был утвердительным. Согласно классическому представлению об ортодоксии, всегда существовала единая и чистая вера, восходящая к апостолам, причем Церковь сохранила учение Иисуса и апостолов неповрежденным. В борьбе с ересью, начиная с последних десятилетий II в., ортодоксия обычно рисовала такую картину: ересь — испорченная и боковая ветвь, отходящая от ствола истинной веры; сначала возникло чистое ортодоксальное учение, и лишь впоследствии появились волки и лжеучителя, которые смущали паству и искажали веру. Например, Евсевий с помощью цитат из Егезиппа пытается доказать: "безбожное заблуждение" стало проникать в Церковь лишь во II в., когда все апостолы умерли, — ранее же Церковь "пребывала чистой непорочной девой"
(Церковная история, III.32.7–8). Аналогичным образом Тертуллиан, один из самых первых и самых ревностных сторонников этого представления об ортодоксии и ереси, писал:
Как могли быть христиане прежде, чем найден был Христос? Как ереси могли существовать прежде истинного учения? На деле, конечно, истина предшествует своему изображению, подобие следует за вещью. Право, совершенно нелепо считать, что ересь существует прежде истинного учения, — хотя бы потому, что само это учение возвестило: ереси будут и нужно их остерегаться
(Против еретиков, 29).
Тот же автор обличает Маркиона: по его словам, Маркион был "отступником, прежде чем стал еретиком" (
Против Маркиона 1.1).
Таково было общепринятое представление об ортодоксии вплоть до XX в. Однако важное исследование Вальтера Бауэра "Ортодоксия и ересь в первоначальном христианстве"
[93] показало, что этот подход строится на зыбком историческом основании, а потому должен быть оставлен. Бауэр продемонстрировал, сколь пестрым явлением было христианство II в. Вначале не существовало никакой "чистой" формы христианства, которую можно было бы назвать "ортодоксией". Более того, не было и единого понятия ортодоксии, — лишь разные формы христианства соревновались за верность верующих. По–видимому, в некоторых местах (особенно в Египте и Восточной Сирии) именно то, что более поздние клирики объявили гетеродоксией, было первоначальной формой христианства, доминирующей силой в первые десятилетия укоренения христианства на этих территориях. Понятие ортодоксии стало выкристаллизовываться лишь в борьбе между разными точками зрения, и побеждавшая партия объявляла "ортодоксией" именно себя! Наша нынешняя точка зрения носит искаженный характер, поскольку мы слышим голос лишь одной из партий — Климента, Игнатия, Поликарпа, Иринея и т. д., — а от эбионитов, Маркиона, монтанистов и прочих до нас дошли лишь отголоски и цитаты.
Бауэр занимался в основном II в. Что можно сказать о I в.? Здесь миф о девственной Церкви соединялся с верой в первоначальный период христианства как время уникального (апостольского) вдохновения, причем послеапостольский период мыслился как отпад от первозданной чистоты. Это идеализированное представление о "каноническом" веке первохристианства, когда апостолы высказывались единодушно и авторитетно по всем принципиальным вопросам, подверг резкой критике еще в XIX столетии Фердинанд Христиан Баур (почти тезка Бауэра!). Если католическая ортодоксия постулировала первоначальную чистоту, (фактически) подчиняя Павла Петру; если протестантская ортодоксия делала Павла объединяющим центром первохристианства, Баур высказал гипотезу: между христианством Павла и христианством Петра существовал
конфликт (отраженный, в частности, в Послании к Галатам), и этот конфликт сформировал все развитие первохристианства. Пожалуй, Баур попытался втиснуть все течение раннехристианской истории в слишком узкое русло. Однако его теория о том, что внутри этого течения существовало несколько потоков и что воды были достаточно бурными и неспокойными, сохраняет актуальность. С тех пор мы поняли: течение христианства I в. было гораздо шире, чем думал Баур, внутри него было много потоков и встречных потоков, а берега местами размыты. В частности, две важные дисциплины, появившиеся в XX в., — история религии
(Religionsgeschichte) и история первохристианских традиций
(Traditionsgeschichte) — подтвердили, что антитеза между иудейским христианством (Петра) и эллинистическим христианством (Павла) была упрощенной; во многих случаях мы наблюдаем эллинистическое христианство до Павла, а также сталкиваемся с необходимостью провести грань между палестинским иудеохристианством и эллинистическим иудеохристианством (не превращая, разумеется, их в строгие категории). Иначе говоря,
Religionsgeschichte и
Traditionsgeschichte показали новозаветникам
историческую относительность христианства 7 е., а также
фрагментарный характер наших знаний о нем. Отныне невозможно считать христианство I в. четко определяемой сущностью, которую отделить от ее исторического контекста так же легко, как орех от скорлупы. Историческая реальность оказалась гораздо более многогранной, а наши представления о ней — гораздо менее ясными, чем мы думали
[94].
Очевидно, что традиционное представление о христианской ортодоксии I в. не могло не оказаться затронутым этими разработками. Это особенно ясно увидели Рудольф Бультман и его ученики. Например, сам Бультман в последней части своего фундаментального "Новозаветного богословия"
[95] привлекает внимание к большому многообразию богословских интересов и идей, характерному для первоначального периода, и отмечает, что на всем его протяжении отсутствовали "норма или авторитетный апелляционный суд в вопросах доктрины".
Вначале христианскую конгрегацию отличала от иудеев и язычников вера, а не ортодоксия (правильная доктрина). Последняя, вместе со своим коррелятом, ересью, вырастает из различий, которые развиваются внутри христианских конгрегации[96].
Ученики Бультмана продолжили дискуссию смелыми утверждениями. По мнению Герберта Брауна, "специфически христианский элемент, константа… в Новом Завете" — "самопонимание веры"
[97]. Эрнст Кеземан считает четвертое Евангелие не голосом ортодоксии, но выражением "наивного докетизма" — такого понимания Иисуса, которое впоследствии вылилось в ересь докетизма как таковую
[98]. Еще смелее он чуть раньше подошел к Третьему посланию Иоанна: автор ("пресвитер") не защитник ортодоксии от еретика Диотрефа, но Диотреф — "ортодоксальный" глава общины, которой адресовано письмо (пресвитер же — "христианский гностик"!). Диотреф действует как "монархический епископ", защищающийся от лжеучителя
[99]. А Гельмут Кёстер, распространяя метод Бауэра на анализ христианства I в., пишет:
Здесь мы имеем дело с религиозным движением, которое синкретично по виду и с самого начала отличается ярким многообразием. Мы не можем априорно утверждать, в чем состоит его индивидуальность[100].
Таким образом, все актуальнее становится вопрос:
существовала ли единая ортодоксия хотя бы в первохристианстве, в Новом Завете? И вообще,
насколько корректно использовать понятия ортодоксии и ереси? Можно ли говорить об "ортодоксии" в контексте христианства I в.? В 1954 г. Г. Э. У. Тернер попытался обосновать этот подход в своих Бамптонских лекциях ("Образец христианской истины")
[101]. Он отверг основную идею Бауэра и предложил в противовес такую картину христианства II в.: ортодоксия существовала, но была окружена некой "полутенью", в которой грань между ортодоксией и ересью смазывалась (pp. 81–94). В первоначальный период "ортодоксия была скорее вопросом инстинктивного чувства, чем фиксированных и поддающихся дефиниции доктринальных норм" (pp. 91). До письменного символа веры был
ex orandi, "относительно
полное и
фиксированное экспериментальное осмысление того, что значило быть христианином" (р. 28, курсив мой. —
Дж. Д.). Но удовлетворительно ли это? Отдает ли должное такой подход тому огромному спектру многообразия (и полемики) внутри первохристианства, в котором новозаветная наука все более убеждалась со времен Ф. Х. Баура? Противоположную крайность мы находим у Джона Шарло: "Нет ни одной богословской точки зрения… которая бы объединяла всех новозаветных авторов и все уровни традиции в Новом Завете"
[102]. Но чем она лучше? Неужели у первохристиан не было
вообще ничего общего?
При попытке осмыслить заново весь этот вопрос, пожалуй, имеет смысл избегать терминов "ортодоксия" и "ересь", по крайней мере в качестве базовых категорий: они оставляют открытыми слишком много вопросов, они слишком эмоциональны, ставят слишком жесткие рамки и закрывают новые области исследования, вместо того чтобы открывать их. Есть ли альтернатива? Можно использовать, например, метафору, предложенную Джеймсом Робинсоном. Он призывает новозаветников отказаться от прежних статических категорий и анализировать Новый Завет, а также другие материалы I‑II вв., в категориях "траекторий", направлений движения. Понятно, что эта метафора не идеальна, и Робинсон это прекрасно понимает
[103], — но у нее есть большой плюс: она показывает христианство как живой и динамичный процесс, всякий раз, в ответ на многообразные влияния и вызовы, развивающийся по–разному и в разных направлениях. Она несколько поможет нам далее в части II, но будет менее эффективна в части I, где мы будем разбирать, так сказать, поперечные сечения в новозаветном материале. Поэтому нам больше подойдут термины, отраженные в заглавии книги, — "единство" и "многообразие". Они не столь цветисты и эмоциональны и, думаю, способствуют большей гибкости в обсуждении.
Отсюда базовый вопрос:
существовала ли в первохристианстве какая‑то объединяющая линия, которая позволяла определить его как христианство? Если да, то сколь четкой она была? Была ли она широкой или узкой? Определялась ли она по–разному? Существовало ли
многообразие веры и обычаев? — многообразие
внутри единства, многообразие
вокруг объединяющего центра? Если да, то сколь широким был спектр многообразия? Где допустимое/приемлемое многообразие переходило в неприемлемые формы поведения и учения? Какое согласие существовало относительно того, где проходит граница между допустимым и недопустимым в разных вопросах? На протяжении всей дискуссии не будем забывать: проблема единства и многообразия относится не только к первохристианству как таковому, — она становится еще актуальнее, если мы примем во внимание взаимосвязь первохристианства с Иисусом. Существует ли единство между Иисусом и различными послепасхальными разработками? Можно ли сказать, что понимание Иисусом религии, его собственное религиозное поведение, а также его самопонимание еще сильнее расширяют многообразие христианства I в.? Одним словом, в чем состояли единство, объединяющий элемент, объединяющая сила в первохристианстве? И какая широта многообразия существовала в христианстве от начала?
В последующем исследовании я хочу не столько расставить точки над "i", сколько поставить вопросы; не столько дать полное описание единства и многообразия, сколько продемонстрировать его. В первую очередь мы спросим, какие характерные акценты отличали благовестие в изложении тех четырех фигур, чьи учения или писания формируют костяк Нового Завета, — а именно: Иисуса, Луки, Павла и Иоанна. Мы увидим, что, даже если брать самый поверхностный слой, широта многообразия получается довольно существенной, хотя в любом случае мы можем выявить объединяющее ядро в послепасхальной керигме (гл. II). Далее в части I мы попытаемся изучить более глубокие пласты новозаветных документов, — если можно так сказать, пробурив в них шурфы в разных местах. Изучая открывшиеся течения и слои, мы посмотрим, прослеживается ли всюду какой‑нибудь объединяющий элемент. Сначала мы займемся первохристианской проповедью и учением, устными и/или письменными формулировками, в которых христиане вербализировали свою веру или черпали вдохновение и авторитет для этой веры, — первоначальными вероисповедными формулами (гл. III), устными преданиями, унаследованными или созданными первохристианами (гл. IV), самим Ветхим Заветом (гл. V). Затем обратимся к первохристианской организации и богослужению, понятиям служения и общины (гл. VI), типам богослужения (гл. VII), ритуалам (гл. VIII). В конце части I мы проанализируем те два аспекта христианства первого поколения, общность и фундаментальность которых наиболее бросается в глаза: жизнь в Духе (гл. IX) и вера во Христа (гл. X). Даже и здесь многообразие будет немалым, — но ведь и единство тоже?
В части II у нас иная задача. Если ранее мы искали единство в многообразии, то теперь мы попытаемся очертить границы этого многообразия. Соответственно и действовать будем иначе. Мы попытаемся выявить и проследить основные потоки в русле христианства первого и второго поколений, чтобы понять: как христианство развивалось в I в., и как христиане I в. реагировали на события в христианстве и вокруг него. С поправками на вышесказанное наше исследование удобно разбить на разделы: иудеохристианство (гл. XI), эллинистическое христианство (гл. XII), апокалиптическое христианство (гл. XIII) и раннее католичество (гл. XIV). Это исследование единства и многообразия в Новом Завете неизбежно ставит множество вопросов о статусе самого Нового Завета в христианстве, а потому в Заключении мы поговорим о значении наших разработок для идеи новозаветного канона и его авторитета для современных христиан (гл. XV).
Часть первая.
Единство и многообразие?
II. Керигма или керигмы?
§ 2 Введение
В Новом Завете проповедь играет фундаментально важную роль. Общественное служение Иисуса регулярно описывается как проповедь. В Деяниях Апостолов именно проповедь всегда приводит к обращению. Посредством проповеди благовествовал Павел. Иоанн также связывает "слово" с "Духом" как воссоздающей силой Божьей. В Послании Иакова и Первом послании Петра проповедуемому слову приписывается духовное возрождение. Таким образом, евангельское провозвестие (или керигма, говоря современным научным языком) — одно из ключевых областей для исследования.
Проще говоря, перед нами стоит проблема: можно ли говорить о "новозаветной керигме"? Или скорее о новозаветных
керигмах? Существовало ли на заре христианства единое и нормативное выражение благовестия? Или было много разных выражений благовестия, ни одно из которых не могло претендовать на исключительность, ибо
все они были благовестием?
Прежде всего надо разобраться с
дефиницией. Слово "керигма" имеет два значения:
содержание проповеди и
акт проповеди (ср. Рим 16:25; 1 Кор 1:21 и 2:4, где оба значения возможны). В полемике о новозаветной керигме Ч. Г. Додд фокусировал внимание на керигме как
содержании, а Р. Бультман — на керигме как
проповеди[104].
В своей известной работе "Апостольская проповедь и ее развитие"
[105] Додд, опираясь на анализ речей в Деяниях и Павловых посланиях, наметил ядро первоначальной керигмы следующим образом:
Пророчества исполнились, и явление Христа ознаменовало начало нового Века.
Он родился от семени Давидова.
Он умер по Писаниям, чтобы избавить нас от нынешнего злого века.
Он был погребен.
Он воскрес в третий день, по Писаниям.
Он вознесен по правую руку Бога как Сын Божий и Господь живых и мертвых.
Он вновь придет как Судья и Спаситель людей (р. 17).
Додд называет это "достаточно четким и ясным наброском апостольской проповеди" (р. 31). Он понимает, что "в Новом Завете присутствует огромное разнообразие в интерпретациях, которым подвергается керигма", но в равной степени убежден: "Во всякой такой интерпретации существенные элементы первоначальной керигмы никогда не упускаются из виду… Новозаветные тексты, при всем своем многообразии, формируют единство в своем провозвестии единого Евангелия" (р. 74). Позиция Додда ясна: несмотря на многообразие, есть нечто, что он может назвать "керигмой", "единым Евангелием".
С другой стороны, так называемые керигматические богословы преимущественно фокусируют внимание на керигме как проповеди, на акте провозвестия в непосредственности настоящего, а не на рассказе о том, что возвещалось в прошлом. По мнению Бультмана, керигма —
это не просвещающее мировоззрение, полное избитых истин, не обычный исторический отчет, который, подобно репортажу, напоминает публике о важных, но прошлых событиях. Скорее… по своему характеру, это личное обращение, адресованное каждому индивидуально; оно ставит человека перед вопросом, делая проблематичным его самопонимание и требуя от него решения[106].
Поскольку Бультман опирается на использование слова "керигма" в Новом Завете, его позиция имеет прочное основание; ибо в некоторых из семи случаев употребления оно скорее всего относится к
акту проповеди (особенно Мф 12:41/Лк 11:32; 1 Кор 15:14), и ни разу нет точной ссылки на содержание. Поэтому сразу отметим важный момент:
в Новом Завете керигма, видимо, включает идею провозвестия в конкретное время и в конкретном месте. Одним словом, керигма всегда связана с конкретной ситуацией, — в некотором смысле даже обусловлена обстоятельствами, ее вызвавшими. Поэтому очень проблематично, что керигму можно просто абстрагировать от этих разных контекстов в качестве фиксированной формулы, которая без перемен и модификаций будет работать в любой ситуации. Отсюда вопрос: можно ли найти в Новом Завете абсолютную форму керигмы? Или она всегда будет в какой‑то мере относительной? И если да,
насколько относительной? Лежит ли в основе различных форм общий элемент, пусть даже по–разному понимаемый и выражаемый? Следует отметить, что Бультман, подобно Додду, говорит о "керигме" с определенным артиклем. Но насколько это правомерно? И керигма или керигмы? Одно благовестие или много благовестий?
Решая этот вопрос, очень легко не увидеть за деревьями леса. Поэтому лучше не спешить приступать к анализу конкретных текстов, а сосредоточиться на более широкой картине. В этой главе мы проведем как бы аэросъемку важнейших провозвестий в Новом Завете, вычленяя характерные черты каждой керигмы, а не пытаясь дать полностью взвешенный анализ целого. Конечно, полученные в результате такого метода результаты можно рассматривать лишь как первое приближение, но зато к концу главы мы более ясно увидим: многообразие новозаветных текстов — один из важнейших факторов в нашей оценке христианства I в.; оно было многогранно и многосторонне. После этого, установив, что у нас есть достаточные основания для исследования, мы перейдем к гораздо более тщательному и детальному анализу.
§ 3 Керигма Иисуса
Все три синоптических Евангелия
[107] кратко резюмируют суть общественного служения Иисуса как "проповедь евангелия Божия" (Мк 1:14), "проповедь евангелия Царства" (Мф 4:23; 9:35), "благовестие Царства Божьего" (Лк 4:43; 8:1; 16:16). Ключевое слово здесь — "Царство Божие", ибо и Марк далее определяет Иисусову проповедь в категориях "Царства Божьего": "Исполнились сроки, и близко Царство Божие; кайтесь и веруйте в Евангелие" (Мк 1:15). Это предложение вмещает в себя все главные черты Иисусовой керигмы.
3.1.
"Близко Царство Божие" (Мк 1:15; Мф 10:7; Лк 21:31). Здесь "Царство Божие" обозначает проявленное владычество Бога, чье вмешательство положит конец истории мира сего, как мы его знаем, и начало — суду над ним (Мф 10:15/Лк 10:12; Мф 24:37–44/Лк 17:26–36). Царство рядом, оно наступит еще при жизни современников Иисуса (Мк 9:1; 13:28–30; Мф 10:23). Вот почему "нищие" блаженны: они принадлежат грядущему Царству (Лк 6:20/Мф 5:3), когда Бог исправит всякую человеческую несправедливость (Лк 16:19–31; 18:7сл.; Мф 23:33). Это — благовестие "нищим" (Мф 11:5/Лк 7:22; Лк 4:18). Именно об этом Иисус учит молиться своих учеников: "Да придет Царство твое" (Мф 6:10/Лк 11:2).
Близость владычества Божьего в конце времен предельно заостряет вызов, заключенный в Иисусовой керигме. В свете грядущего Царства люди должны решать, причем решать срочно. Вот почему среди притч Иисуса (одной из самых характерных для него форм проповеди) мы находим ряд притч кризиса, где громко и ясно звучит нота предупреждения: особенно притча об отсутствующем домовладельце, к чьему возвращению слуги должны быть готовы (Мк 13:34–36; Лк 12:36–38; Мф 24:42, 45–51/Лк 12:42–46); притча о неожиданном приходе вора (Мф 24:43сл./Лк 12:39 сл.); притча о десяти девах (Мф 25:1–12). См. также Мк 13:14–20 (и ниже §§ 18.3, 67.2).
То, что эти ожидания не сбылись (по крайней мере очевидным образом), всегда было проблемой для христианского богословия (см. ниже §§ 7.2,50.3). Однако надо признать: идея близости Царства Божьего была частью Иисусовой керигмы. Иначе мы просто будем закрывать глаза на один из ключевых и характерных моментов его публичной проповеди (подробнее см. § 67.2). Однако еще более характерной для его керигмы была весть о том, что Царство Божье в каком‑то смысле уже реализуется через его служение.
3.2
"Исполнились сроки". Согласно синоптикам, Иисус возвещал: владычество Божье, которое должно наступить в конце времен, уже проявляется через его слова и дела. Осуществляется долгожданная надежда на мессианскую эпоху (Мф 11:5/Лк 7:22; Мф 11:11/Лк 7:28; Мф 11:12/Лк 16:16; Мф 12:41сл./Лк 11:31сл.).
Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат; ибо истинно говорю вам: многие пророки и праведные желали видеть то, что вы видите, и не увидели, и слышать то, что вы слышите, и не услышали
(Мф 13:16сл./Лк 10:23сл.).
Говоря конкретнее, Царство — уже посреди слушателей Иисуса (Лк 17:20сл.); связывание сатаны ожидалось в конце века сего, но Иисус говорил, что сатана уже терпит поражение (Мк 3:27; Лк 10:18); власть Иисуса над злыми духами в экзорцизмах доказывала, что Царство Божье уже пришло на слушателей (Мф 12:28/Лк 11:20).
Аналогичную тему исполнения мы встречаем в нескольких притчах Иисуса: образ брачного пира (Мк 2:18сл.); притчи о новых заплатах на старую одежду и новом вине в старых мехах (Мк 2:21сл.); притчи о скрытом в поле сокровище и драгоценной жемчужине (Мф 13:44–46); метафора урожая последних времен (Мф 9:37сл./Лк 10:2).
Противоречие в Иисусовом провозвестии о Царстве между исполнившейся надеждой и предстоящей развязкой — еще одна проблема новозаветного богословия. Проще всего она объясняется тесной взаимосвязью между этими двумя элементами в понимании Иисусом своей миссии. Уверенность, что Божье владычество последних времен уже проявляется в его служении, несла с собой убежденность: окончательная его реализация — не за горами (см. далее ниже §§ 45.3, 50.5).
3.3
"Кайтесь и веруйте в Евангелие". Синоптики резюмируют отклик, которого Иисус ждал от слушателей, двумя словами: кайтесь, веруйте. Важность
покаяния отмечена в нескольких отрывках (Мф 11:21/Лк 10:13; Мф 12:41/Лк 11:32; Лк 13:3, 5; 15:7,10; 16:30). То, что имеется в виду призыв к чему‑то радикальному, к полной переориентации жизни и взглядов, видно из некоторых притч, особенно из притчи о блудном сыне (Лк 15:17), а также из нескольких встреч Иисуса — особенно с богатым юношей (Мк 10:17–31) и Закхеем (Лк 19:8). Еще больше об этом говорит призыв Иисуса к ученикам обратиться и стать как дети (Мф 18:3; Мк 10:15/Лк 18:17).
Другая сторона этого детского упования на Бога —
вера. У синоптиков о вере обычно говорится в связи с чудесами; по словам Иисуса, открытость для силы Божьей делает чудо возможным (Мк 5:36; 9:23сл.; Мф 9:28); Иисус хвалит веру, стремящуюся к полноте (Мк 5:34; 10:52; Мф 8:10/ Лк 7:9; Мф 15:28; Лк 7:50; 17:19; см., напротив, Мк 6:5сл.). Отметим, что нигде Иисус не требует веры
в себя. Он ждал иной веры, веры в действующую через него силу Божью последних времен. Здесь мы столкнемся с еще одной проблемой, когда будем сравнивать весть Иисуса с послепасхальной керигмой (см. ниже §§ 7.2, 50.4).
3.4. В ответ на покаяние и веру Иисус
предлагал участие в Божьем владычестве последних времен и его дары. "Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие" (Лк 6:20; Мф 5:3). Среди этих даров — прощение и милость (Мк 2:5; Лк 7:36–50); об этом же говорят некоторые притчи, например о гигантском долге и немилосердном должнике (Мф 18:23–35 — "Царство подобно…"), о двух должниках (Лк 7:41сл.), о мытаре и фарисее (Лк 18:9–14), о блудном сыне (Лк 15:11–32).
В своем служении Иисус воплощал эти прощение и милость, характерные для Царства последних времен, особенно в братских трапезах.
Эти собрания, из которых Иисус никого не исключал (даже явных грешников), выражали суть его вести, ибо предвещали мессианский пир будущего века (Лк 14:13,16–24). Отсюда и Мк 2:17: "Я пришел призвать [на брачный пир] не праведных, но грешных" (см. также ниже § 37.2). В число его близких учеников входило два–три сборщика податей и бывшие проститутки. Вот почему его уничижительно называли "другом мытарей и грешников" (Мф 11:19/Лк 7:34; Лк 15:1сл.; 19:7).
3.5 Наконец, отметим
этическое следствие Иисусовой вести. В мире, где письменный (а постепенно и устный) закон определял все человеческие взаимоотношения, как с Богом, так и с другими людьми (см. ниже § 16.1), весть Иисуса была простой, но революционной. Он учил, что требования Бога радикальны и касаются самых сокровенных тайников человеческих мотиваций (Мф 5:21–32). Соответственно жить только на уровне правил и установлений — значит уклоняться от исполнения воли Божьей (Мк 7:1–23); покаяние, которого ждал Иисус, предполагает серьезное отношение к этой заповеди (Мф 23:26). В то же время суть того, что хочет Бог от человека, Иисус свел к одному слову — "любовь". Самая первая и великая заповедь — "Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим… и возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мк 12:28–31); все препятствующее выражению этой любви, даже сам закон, нужно отставить в сторону и проигнорировать (Мф 5:38–48).
3.6
Резюме. Характерные черты керигмы Иисуса заключаются в следующем:
1. Весть о Царстве Божьем, одновременно о его близости и нынешнем присутствии; себя Иисус считал орудием этого владычества последних времен, но Он не выдвигал себя в качестве содержания своей керигмы.
2. Призыв к покаянию и вере перед лицом силы и заповеди Божьей последних времен; сам Иисус не был объектом веры.
3. Весть о прощении и участии в мессианском мире нового века (с этическим следствием — любовью).
§ 4 Керигма в Деяниях
Мы уже обрисовали вкратце суть керигмы, как ее описывал Додд преимущественно на основании проповедей в Деяниях. Однако здесь наша задача, в отличие от задачи Додда, состоит не в том, чтобы реконструировать провозвестие первоначальных церквей. У нас она проще: мы возьмем проповеди в Деяниях как образец представлений Луки о керигме первых верующих и отметим ее
специфические особенности. Об их исторической ценности у нас еще будет возможность поговорить впоследствии, при более глубоком анализе. Сейчас же зададимся простым вопросом: какой изображают первохристианскую керигму Деяния?
4.1 Иисус возвещал Царство. Проповеди в Деяниях
возвещают Иисуса. Иисус стал содержанием вести; вестник превратился в возвещаемого. Причем
основной упор делается на воскресение Иисуса; снова и снова мы видим его как основной пафос вести, как евреям, так и язычникам (напр., 2:24–32; 4:1сл., 33 — резюме; 10:40сл.; 13:30–37; 17:18, 30сл.). Как мы увидим, это совпадает с эмфазой в вести, унаследованной и переданной Павлом (см. ниже § 5), но резко контрастирует с вестью Послания к Евреям, где воскресение появляется лишь в последний момент, в завершающей доксологии (Евр 13:20).
Напротив, проповеди в Деяниях
практически не обнаруживают интереса к историческому Иисусу: о его служении почти не упоминается; единственное исключение составляют 2:22 и 10:36–39. Более того, эти проповеди содержат очень мало аллюзий на весть и учение самого Иисуса (см., однако, 8:12; 14:22; 19:8; 20:25, 35; 28:23,31). Поэтому сразу возникает ключевой вопрос: существует ли какое‑то единство, какое‑то преемство между Иисусовой проповедью о Царстве и вестью Деяний о воскресении Иисуса?
4.2 Одно из важных следствий акцента на воскресение — полное отсутствие в проповедях Деян всякого богословия
смерти Иисуса. О его смерти упоминается, но просто как о факте (обычно в связи с ответственностью иудеев). Этот исторический факт не интерпретируется (2:23, 36; 3:13–15; 4:10; 5:30; 7:52; 10:39; 13:27сл.). Нигде не сказано, например, что "Иисус умер ради нас" или "за наши грехи"; ни из чего не видно, что смерть Иисуса была жертвой. Несколько кратких аллюзий на Иисуса как Раба (из Второисайи) развивает тему оправдания последующих страданий, но не указывает на искупительный характер страданий (3:13,26; 4:27,30; аналогично 8:30–35). Сходным образом аллюзия на Втор 21:22сл. в Деян 5:30 и 10:39 ("повесив на древе" — ср. 13:29), очевидно, предназначена (Лукой) подчеркнуть позор и поношение Иисуса и тем самым связана с мотивом унижения–оправдания; выводить отсюда богословие Гал 3:13 — значит вычитывать из текста больше, чем позволяет
добросовестная экзегеза
[108]. Даже 20:28 ("церковь Господа — или Бога, — которую он приобрел себе кровью своею"), в строгом смысле не являющееся частью евангелического провозвестия, звучит весьма туманно и загадочно. Одним словом, керигма проповедей в Деяниях не содержит эксплицитного богословия смерти Иисуса.
Здесь опять мы видим поразительную вариацию, ибо искупительный характер крестной смерти Иисуса — одна из основных черт Павлова благовестия (Рим 3:25; 1 Кор 15:3; 2 Кор 5:14–21), а также 1 Петр и Евр, не говоря уже о Мк 10:45. Действительно ли такой была первоначальная керигма, или таково лишь богословие Луки, не вполне ясно. В пользу последней возможности говорит наличие фразы "за грехи наши" в 1 Кор 15:3, а также тот факт, что Лука пропускает Мк 10:45 или, во всяком случае, предпочитает существенно иную версию данного речения (Лк 22:26)
[109]. Одно из возможных объяснений: Лука находился под некоторым влиянием иудаизма диаспоры, где была тенденция затушевывать понятие искупления через жертву
[110]. Как бы то ни было, относительно керигмы проповедей в Деян нужно сказать следующее: она не содержит богословия креста и не делает попыток приписать смерти Иисуса определенное искупительное значение. Соответственно перед нами еще один важный элемент многообразия внутри различных керигм, содержащихся в Новом Завете.
4.3 В проповедях
Деян полностью отсутствует конфликт между исполнением и скорым завершением, который столь выделялся в проповеди Иисуса о Царстве и который также силен в посланиях Павла (см. ниже §5). Интересно, сколь малую роль играет парусия (второе пришествие Иисуса), ближайший эквивалент грядущего Царства в вести Иисуса. Ощущение скорой развязки еле заметно в формулировке Луки в Деян 3:20сл., а день суда выглядит достаточно отдаленной угрозой и, уж конечно, не скорым кризисом, как думал сам Иисус (10:42; 17:31; 24:25). Отсутствует и сильный мотив реализованной эсхатологии, убеждение, что последние дни уже настали (вопреки Додду; см. выше § 2); его можно найти лишь в 2:15–21 и 3:24. Здесь контраст просто поразителен. Ибо, как мы видели, одним из важных элементов Иисусовой вести было одновременно присутствие даров последнего времени и скорое наступление Царства (см. выше §3.1, 2). Аналогичным образом Павел был убежден: воскресение Иисуса и дар Духа были началом (первыми плодами) урожая последних времен (1 Кор 15:20, 23; Рим 8:23); большую часть своего служения Павел проповедовал близость парусии и конца (1 Фес 1:10; 4:13–18; 1 Кор 7:29–31). Особенно примечательно то, как в 1 Кор 16:22 он воспроизводит арамейский возглас ранней церкви: "Маранафа!" ("Господь наш, гряди!"). Не приходится сомневаться, что и у первых общин в Иерусалиме и Палестине было такое чувство эсхатологического горения и неотложности. Более того, как мы увидим далее, общность имущества, описанная Лукой в Деян 2 и 4, лучше всего объясняется как выражение этой эсхатологической восторженности: собственность продают, не задумываясь о том, что год спустя потребуются деньги, — ибо Христос вернется раньше (см. ниже §§ 51.1, 67.3). Неизбежный вывод: Лука замалчивает или игнорирует этот элемент ранней керигмы, возможно, потому, что с течением времени и задержкой парусии он стал менее уместным (см. ниже § 71.2).
4.4 Несмотря на большой временной промежуток, открывшийся между воскресением и парусией Иисуса, и на акцент на воскресение Иисуса, Деян не приписывают прославленному Иисусу практически никакой роли, — за исключением дарования Духа на Пятидесятницу, начала этой новой эпохи в истории спасения (Деян 2:33), а также его функции судьи в конце (10:42; 17:31). Иисус, очевидно, понимался как санкция тех, кто действовал "от имени Иисуса" (2:38; 3:6; 4:10, 30; 8:16; 10:48; 16:18; 19:5 — и ср. 9:34); он появляется в ряде видений (7:55сл.; 9:10; 18:9; 22:17сл.; 23:11; 26:16, 19), но нигде мы не видим того сильного чувства единства между верующими и прославленным Господом, которое отличает весть Павла и Иоанна
[111]. В частности, взаимосвязь между прославленным Господом и Святым Духом, о которой столь чутко говорят Павел и Иоанн (Рим 1:3–4; 8:9–11; 1 Кор 12:3–13; 15:45; Ин 14:15сл., 26; 16:7–15), в Деян присутствует лишь в виде намека (16:6сл.). Еще более удивительно, если не сказать поразительно, полное отсутствие в Деян понятия и опыта сыновства, столь центрального как для Иисуса (см. особенно Мк 14:36; Лк 11:2/Мф 6:9; Мф 11:25сл./Лк 10:21; и ниже § 45.2), так и для Павла, который доносит до нас арамейскую молитву ранних церквей и отголосок присущего им сильного ощущения своего сыновства (Рим 8:15сл.; Гал 4:6).
4.5. Наконец, в связи с возвещением Иисуса в Деян, нужно констатировать сильный "субординационистский" элемент в проповедях. Лишь изредка Иисус изображается как субъект описываемого действия; все, что он делает — служение, воскресение, прославление и т. д., — приписывается Богу (напр., 2:22, 32; 3:26; 5:30сл.; 10:38, 40). В единственном упоминании о парусии (3:20) сказано, что Бог
пошлет Христа; в двух ссылках на роль Иисуса как судьи специально оговорено, что на эту должность его назначил Бог (10:42; 17:31 — где Иисус даже не назван по имени). Более того, не менее двух раз корректнее говорить об "адопцианской" эмфазе в керигме Деян, — где воскресение придает Иисусу новый статус Сына, Мессии и Господа (2:36; 13:33). Это хорошо согласуется с другими, предположительно ранними, формами керигмы (Рим 1:3сл.; Евр 5:5), а потому скорее всего отражает взгляды первых общин (см. ниже §§ 11.2,12.3,51.1 и 54.3). Такая позиция, однако, резко противоречит космическому образу Христа (особенно в поздних паулинистских посланиях и Откр).
4.6 Аналогично провозвестию Иисуса для керигмы в проповедях Деян характерен
призыв к покаянию и вере. Здесь многообразие довольно интересно. Ибо требование покаяния (Деян 2:38; 3:19,26; 14:15; 17:30; 26:20) имеет близкие параллели с соответствующими требованиями Иисуса, но находится в разительном контрасте с Павлом и Иоанном. О покаянии как таковом Павел не говорит ничего или почти ничего (только Рим 2:4; 2 Кор 7:9сл.; 12:21); Иоанн вообще не использует этого слова. Противоположным образом обстоит дело с призывом к вере. Акцент Луки на вере (Деян 2:44; 4:32; 5:14; 10:43; 13:12, 39, 48; 14:1сл.) находит тесные параллели у четвертого Евангелиста, который использует глагол "верить" 98 раз, и в Павловых посланиях, которые используют глагол и существительное почти 200 раз. Но этот призыв — призыв именно к вере
в Господа Иисуса (Деян 9:42; 11:17; 14:23; 16:31), что резко отделяет керигму Деян от керигмы самого Иисуса (см. выше § 3.3). Стоит упомянуть и о другом аспекте описания Лукой веры в первоначальных общинах, ибо он очень специфичен и ставит Деян особняком от остальных новозаветных текстов. Я имею в виду манеру Луки изображать веру во Христа как следствие чуда, причем Луку в таком подходе, видимо, ничто не смущает (Деян 5:14; 9:42; 13:12; 19:17сл.). Прочие новозаветные тексты, наоборот, склонны умалять эту евангелическую и пропагандистскую роль чуда (Мк 8:11сл.; Мф 12:38сл./Лк 11:16, 29; Ин 2:23–25; 4:48; 20:29; 2 Кор 13:3сл.).
4.7 Требованию в Деян сопутствует
обетование — прощения (2:38; 3:19; 5:31; 10:43; 13:38сл.; 26:18),
спасения (2:21; 4:12; 11:14; 13:26; 16:31) и
дара Духа Святого (2:38сл.; 3:19; 5:32; ср. 8:15–17; 10:44–47; 19:1–6). Здесь гораздо больше перекличек с другими новозаветными керигмами. Иисус проповедовал прощение и милосердие (см. выше § 3.4), а Павлово учение об оправдании не далеко ушло от идеи прощения (см. ниже § 5), хотя само слово "прощение" встречается только в Еф 1:7 и Кол 1:14, а в Иоанновом корпусе его вовсе нет. Идея спасения (существительное или глагол) часто приписывается Иисусу в синоптических Евангелиях (Мк 3:4; 5:34; 8:35; 10:52 и т. д.); к ней регулярно обращается Павел (Рим 1:16; 5:9сл.; 8:24; 9:27; 10:1, 9сл., 13 и т. д.), хотя она мало фигурирует в Иоанновых текстах (7 раз). С обетованием о Духе ситуация несколько иная. О Духе как таковом Иисус почти не говорил (по крайней мере судя по имеющимся у нас свидетельствам); лишь Мк 13:11 можно понять как обетование о Духе, — да и то, это не часть керигмы, а обещание ученикам относительно времени испытаний
[112]. Зато Дух определенно составляет часть основной керигмы для Павла и Иоаннова корпуса (см., напр., Рим 2:29; 8:2, 9,15; 1 Кор 6:11; 12:13; 2 Кор 1:22; Гал 3:2сл.; Ин 3:5–8; 7:39; 20:22; 1 Ин 2:27; 3:24).
Примечательно отсутствие у описываемой в Деян керигмы этических следствий. Правда, Лука подразумевает, что верующие держатся вместе и находятся во взаимозависимости: в Деян нет изолированных христиан (отчасти в этом и состоит функция эпизодов в Деян 8 и 18:24–19:7). Но Деян почти нигде не говорят, что принятие вести ведет к каким‑то нравственным обязанностям. Поразительнее всего отсутствие в Деян слов "любовь" и "любить", хотя они важны для провозвестия Иисуса (см. выше §3.5), Павловых посланий (108 раз), Иоаннова Евангелия и Иоанновых посланий (95 раз). Здесь контраст особенно поразителен.
4.8
Резюме. Можно ли говорить о единой керигме в Деян? Можно ли увидеть в различных проповедях, воспроизведенных в Деян, некий стабильный и прочный контур, который можно было бы назвать базовой/ ключевой керигмой первоначальной Церкви (по крайней мере как ее описывает Лука)? Да, можно. Наиболее регулярные и базовые элементы заключаются в следующем:
1. Проповедь о воскресении Иисуса.
2. Призыв откликнуться на эту проповедь, покаяться и уверовать в Иисуса.
3. Обетование откликнувшимся о прощении, спасении и Духе.
§ 5 Керигма Павла
До сих пор мы опирались на материал, который был специально представлен в качестве керигмы, миссионерского провозвестия. Определить содержание миссионерской проповеди Павла будет посложнее: его письма адресованы людям, уже обращенным, и лишь изредка упоминают о проповеди, которая привела к обращению. Задача, впрочем, посильная: с одной стороны, у нас есть различные керигматические и вероисповедные формулы, которые приводит Павел и которые он наверняка использовал в первоначальной проповеди. С другой стороны, мы можем опираться на главные особенности его вести в целом и быть вполне уверены, что в первоначальных проповедях Павла они в большей или меньшей степени (по обстоятельствам) фигурировали. Собственно говоря, вопрос о Павловой керигме мы уже затронули выше в связи с Деяниями. Остается сделать лишь несколько кратких резюмирующих замечаний; а затем мы привлечем другой материал из Павловых посланий, имеющий непосредственное значение для нашей темы.
5.1 Подобно проповедям в Деян, Павел
возвещал Иисуса. Из керигматических и вероисповедных формул, переданных Павлом, мы видим: воскресший Иисус был, пожалуй, самой заметной чертой Павлова благовестия (Рим 1:3сл.; 4:24сл.; 8:34; 10:9; 1 Кор 15:3–11; 1 Фес 1:10; ср. 2 Тим 2:8). Исторический Иисус в Павловой вести, как и в Деян, практически не фигурирует. Послания Павла доносят до нас лишь несколько скупых подробностей из жизни Иисуса: рождение, происхождение от Давида, Тайная вечеря и предательство (Гал 4:4; Рим 1:3; 1 Кор 11:23–25). Нигде Павел не использует (по крайней мере эксплицитно) учение самого Иисуса, как оно содержалось в предании. С другой стороны, смерть Христа имеет гораздо бо́льшую значимость, чем в Деян (Рим 3:24сл.; 4:25; 1 Кор 1:23; 2:2; 15:3; 2 Кор 5:14–21; Гал 3:1), а 1 Фес 1:10 и 2 Фес 2:5 доказывают: близкая парусия была одной из неотъемлемых частей миссионерского провозвестия Павла (во всяком случае в первую половину его миссионерской карьеры; см. ниже § 71.1). Тем не менее самые яркие и характерные черты Павлова благовестия следует искать в его учении об Иисусе как о Господе (см. ниже § 12.1) и о прославленном Христе как о представителе нового человечества ("последнем Адаме" — см. особенно 1 Кор 15:20–23,45–49), когда обращение означает вхождение в союз со Христом (напр., Рим 6:3; 1 Кор 12:13; Гал 2:19сл.; Кол 3:1,3), а верующие составляют его тело (Рим 12:5; 1 Кор 12:27), живут, молятся и действуют "во Христе", "в Господе" (эти фразы встречаются более
160 раз в текстах Павла). С точки зрения Павла, сущность христианства — в принятии (оправдании) человека Богом в личные отношения с собой; человек входит и живет в этих отношениях через веру, что возможно благодаря дару благодати, дару Духа (см. особенно Рим 3:21–5:21; Гал 2:16–4:7). По–видимому, именно таково средоточие Павловой керигмы с его специфическими центральными эмфазами и в его развитой форме.
Как и в случае с Иисусом, керигме Павла присуще противоречие между "уже" (исполнением) и "еще не" (незавершенностью). Вера в воскресение Иисуса и жизнь в Духе как событие настоящего создают эсхатологическое напряжение в верующих, которые сами еще пребывают "во плоти", не воскрешенными из мертвых, не полностью подвластными Духу (духовные тела); этот конфликт особенно сильно выражается в борьбе между "плотью" и "Духом" (Рим 8:12сл.; Гал 5:16сл.), — состязании между "старой природой" и "новой" (Рим 7:22–25; Еф 4:22–24; Кол 3:5–10)
[113].
Таким образом, масштаб и спектр Павловых посланий позволяют нам составить довольно ясное представление о его базовой керигме. Однако они показывают также многообразие провозвестия, которое Павел считал керигмой. Поскольку в этой главе мы делаем лишь предварительный обзор материала, ограничимся наиболее очевидными моментами.
5.2 В
Послании к Галатам Павел говорит как минимум о
трех благовестиях. Первое из них, его собственное, — для неевреев, "для необрезанных" (Гал 2:7): оно приносит свободу от проклятия закона и подчинения закону как пути к праведности (2:16–5:12). Павел говорит в этом ключе о своем благовестии потому, что желает ясно показать его отличие от двух других благовестии. Второе благовестие предназначалось для евреев, "для обрезанных" (2:7); его представляли "столпы" (особенно Петр), имевшие центр в Иерусалиме. Павел признает эту иудейскую версию благовестия в качестве одной из легитимных форм христианской керигмы, подходящей для евреев
[114]. Надо полагать, она не очень сильно отличалась по содержанию от Павловой версии (2:2, 6–9), хотя Павел, несомненно, недолюбливал ее последствия, видя здесь большее подчинение закону, чем лично он считал правильным (2:11–21). Однако, поскольку сторонники каждого из этих двух благовестии признавали правомерность другого и не пытались навязать друг другу свою позицию, Павел не возражал. Однако, по–видимому, в церквах Палестины существовало законническое правое крыло, которое выступало против миссии к язычникам, свободной от Закона. Им принадлежало "другое благовестие", на которое Павел резко нападает в 1:6–9. Не вполне ясно, отрицал ли Павел за этим благовестием христианский статус (1:7, видимо, означает: это не другое благовестие, но искажение благовестия о Христе). Как бы то ни было, не приходится сомневаться, что Павел думал о попытке "иудействующих" навязать другим свое понимание благовестия: это не благая весть, но узы; его проповедники — ненастоящие христиане, они не постигают полноту истины, и им следует себя кастрировать (2:4сл.; 5:12)!
Аналогичную критику мы находим в 2 Кор 10–13. Очевидно, что объекты Павловых обличений считали себя христианами, даже "служителями Христа" и "апостолами Христа" (11:13,23). Однако Павел полагал, что они проповедуют "иное благовестие" и "иного Иисуса", а сами являются "служителями сатаны" и "лжеапостолами" (11:4,13сл.) (см. ниже §§56.1,2).
Этих двух Павловых посланий достаточно, чтобы показать: в первых церквах существовало более одной керигмы. Однако
какой смысл мы вкладываем в понятие "апостольская вера" там, где предметом спора было само понятие апостольства и права на него?
5.3 Из других посланий Павла становится ясно: для него
не существовало стандартной модели и развернутой схемы христианского провозвестия. Базовые очертания Павловой керигмы, отраженные в 1 Кор 15:3сл., содержат лишь утверждения о смерти и воскресении Иисуса. Павел настаивает на том, чтобы коринфяне придерживались их. Однако когда речь заходит о расхождении в вопросе о том, будет ли всеобщее воскресение (15:12 — центральный вопрос для того вида спасения, который предлагается в керигме), Павел — при всей резкости своих интонаций — не называет тех, кто придерживается противоположной точки зрения, отступниками и ренегатами: он просто приводит аргументы (15:12–57)
[115].
1 Кор показывает нам христианскую общину, полную трений и конфликтов, где есть разные верования и обычаи, причем все от имени Христа (1:11сл.; 3:1–4; 4:6–21 и т. д.). Аналогичную ситуацию мы видим в посланиях к фессалоникийцам (1 Фес 5:19–22; 2 Фес 2:2; 3:14сл.), к римлянам (особенно Рим 14:1–4; 16:17сл.), к филиппийцам (Флп 1:15–18; 3:2,12–19) и к колоссянам (2:8,16–23). Судя по этим текстам, представления о единой первоначальной церкви не историческая реальность, но догматическое принятие желаемого за действительное. Здесь у нас нет места говорить об этом подробно, но мы еще вернемся к данной теме в части II.
5.4 Отметим также, насколько
Павел варьировал содержание своей вести в зависимости от обстоятельств. Из 1 Кор 9:19–23 ясно видно: Павел допускал, что конкретные обстоятельства и ситуации могут в значительной степени определять формулировку керигмы. Обратим внимание, например, на разное описание источников благовестия в Гал 1:1,11–17 и 1 Кор 15:3сл. (см. ниже § 17.1). В одном примечательном отрывке Иисус практически не фигурирует, но делается акцент на праведности по делам, исполнению закона (Рим 2:6–16); впрочем, по словам самого Павла, тут он говорит о тех, кто никогда не слышал закона и уж тем более — благовестия
[116]. В одних обстоятельствах он резко выступает против благовестия палестинских христиан: в Антиохии горячо защищает собственное благовестие, обличая конформизм Петра (Гал 2); прямо называет миссионеров из Иерусалима (во всяком случае такое впечатление создается) лжеапостолами (2 Кор 10–13) (см. ниже § 56.1–2); решительно отвергает благовестие закона (Гал 5:1–13; Кол 2:16–23). В других он не возражает против того, чтобы в его собственных церквах благовестие для обрезанных оставалось в силе (1 Кор 8; ср. Рим 14) и чтобы благовестие возвещалось даже теми, кто делает это из оппозиции Павлу и вражды к Павлу (Флп 1:15–18).
Стоит отметить и то, в какой мере
весть Павла развивалась с годами. Самый яркий пример — ее эсхатологическая ориентация. В 1–2 Фес близость парусии очень реальна; если считать ситуацию, возникшую в Фессалонике показательной, то близкая парусия представляла собой один из важных элементов проповеди Павла (см. особенно 1 Фес 1:9сл.; 4:13–18; 2 Фес 2:5). Сходные мотивы мы видим в 1 Кор 7:29–31,15:51сл. Однако в Флп 1:20сл. Павел серьезно считается с возможностью своей смерти до наступления парусии, а в Кол акцент переключается с будущего на прошлое. Если в Рим 6:5 и 8:11 Павел считает воскресение со Христом исключительно делом будущего, то в Кол 2:12 и 3:1 воскресение со Христом уже состоялось (см. ниже §71.1). Это не просто разные выражения одной и той же вести в разных обстоятельствах
[117]. Слишком уж ясной и последовательной выглядит линия развития: сначала — весть о парусии, столь близкой, что смерть даже нескольких верующих становится для обращенных шоком; потом — ясное понимание, что до парусии некоторые умрут (хотя сам он, очевидно, еще застанет ее); потом — спокойное приятие того факта, что до парусии умрут многие (включая, вероятно, самого апостола). Или: сначала — "воскресение со Христом" мыслится как событие будущее и близкое, хотя и не свершившееся; потом — "воскресение со Христом" описывается как нечто уже произошедшее. Одним словом, налицо изменение точки зрения (см. ниже § 71.1).
5.5
Резюме. Подведем итоги нашим изысканиям.
1. У Павла было очень четкое представление о том, что такое благовестие о Христе. Однако соответствующая концепция и ее формулировка не обрели окончательной или фиксированной формы.
2. Павел признавал действительность других провозвестий и называл их тоже "благовестием".
3. Керигма Павла могла принимать разные формы в зависимости от обстоятельств, а с годами меняла акценты и тональность.
4. Поразительно, что в нескольких ситуациях Павел решительно выступил против форм благовестия, признававшихся другими верующими, отрицая за ними само право именоваться "благовестием". Сомнительно, что Павел полностью одобрил бы два новозаветных документа, которые наиболее ясно выражают иудеохристианское понимание керигмы — Мф и Иак
[118]. Конечно, Павел не мог бы назвать закон "законом свободы" (Иак 1:25), — это противоречило его опыту и было неуместно в условиях его миссии. Но и Иак со своей стороны вряд ли был в восторге от Павловой керигмы (см. ниже § 55).
Начинает вырисовываться важный момент:
в самом Новом Завете мы находим не просто разные керигмы, но керигмы, которые выглядят не совместимыми, то есть благовестия, которые невозможно совместить, если сопоставлять их непосредственно друг с другом, без учета их разного жизненного контекста.
§ 6 Керигма Иоанна
Четвертое Евангелие обозначает свою цель следующим образом: "…чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веруя, имели жизнь во имя его" (20:31). Так евангелист сам резюмирует свое благовестие.
6.1 Цель Ин — стимулировать
веру: привести неверующего к вере или укрепить веру в верующем (релевантный глагол может иметь оба значения), или то и другое сразу. Ин придает огромное значение вере. В четвертом Евангелии глагол "веровать" употребляется 98 раз, — гораздо чаще, чем у любого другого новозаветного автора. Это — единственное, что требуется от слушателей, если они хотят обрести "жизнь во имя Христа". (Вспомним, что Ин нигде не говорит о покаянии.) "Веровать" — значит признавать, что "Иисус есть Христос, Сын Божий" (напр., 6:69; 8:24; 11:27; 16:27; 20:31; 1 Ин 5:1,5), а также хранить верность этому Иисусу (напр., 1:12; 3:16; 6:29; 11:25сл.; 17:20; 1 Ин 5:10). (Два значения: "веровать, что…" и "веровать в…". Второе из них — основное и характерное для Ин.) Спецификой Иоаннова словоупотребления является и то, что глагол "знать" (56 раз) стал почти синонимом глагола "верить".
6.2 Содержание веры: "Иисус есть Христос, Сын Божий". Какой смысл вкладывал евангелист в эти слова, видно из образа Иисуса в Ин. Специфику Иоанновой керигмы в данном отношении особенно показывают два аспекта. Первый из них состоит в том, насколько в четвертом Евангелии пересекаются исторический Иисус и прославленный Иисус, насколько исторический Иисус осмысливается в категориях прославленного Христа. Именно эта особенность скорее всего объясняет поразительные различия между Иисусом четвертого Евангелия и Иисусом синоптиков. Здесь я прежде всего имею в виду следующие особенности: вереницу христологических титулов, появляющихся уже в Ин 1 — Агнец Божий, Мессия, Сын Божий, Царь Израилев, Сын Человеческий — тогда как у синоптиков такого рода исповедания приходятся на гораздо более поздний этап служения Иисуса; знаменитые речения "Я есмь" (Ин 6:35; 8:12; 10:7,11; 11:25; 14:6; 15:1), которые едва ли могли быть проигнорированы синоптиками, если бы принадлежали к оригинальной традиции речений Иисуса; яркое самосознание Иисуса, особенно о его предсуществовании, красной нитью проходящее через все четвертое Евангелие (напр., 3:13; 6:38; 8:38, 58; 10:36; 17:5,24), которое должно было наложить некий эквивалентный отпечаток на синоптическую традицию, если бы такие высказывания входили в весть исторического Иисуса. На строго историческом уровне эти различия примирить невозможно. Наилучшее объяснение таково: Ин пытается дать не историческую картину человека Иисуса, но то, что он считает подлинным образом исторического Иисуса, — исторического Иисуса, каким его сейчас видит Ин, исторического Иисуса во славе, которая ему подобала благодаря его смерти, воскресению и вознесению, будучи уже заметна в его земной жизни (см. особенно 1:14; 2:11; 11:4; 12:23; 13:31; 17:5)
[119]. Другие новозаветные керигмы гораздо сильнее разводят исторического Иисуса с прославленным Христом: Деян и Павел не проявляют к историческому Иисусу почти никакого интереса; синоптики изображают Иисуса в свете пасхальной веры, но не позволяют двум картинам слиться воедино. Таким образом, образ Иисуса у Ин глубоко своеобразен, — так же своеобразен, как и христология "последнего Адама" у Павла или христология Первосвященника в Евр (см. ниже §§ 51.2–3, 64.2).
Второе: в сравнении с Павлом и Деян, Ин делает гораздо более сильный акцент на историческую реальность жизни Иисуса. Без сомнения, во многом это вызвано растущим влиянием и вызовом гностицизма. Конкретная форма, распространенная во времена Ин, называлась "докетизмом". Поскольку гностический дуализм считал материю и плоть злом, докетизм отрицал возможность того, что божественный искупитель полностью восприял плоть, воплотился в материю. Человечество Иисуса докеты считали лишь кажимостью
(dokei — "он кажется"). Поэтому Иоаннов корпус подчеркивает реальность человечества Иисуса; на плоти Иисуса делается такой акцент, которому нет четкого аналога в керигмах Деян и Павла (Ин 1:14; 6:51–58; 19:34сл.; 1 Ин 4:1–3; 5:6–8). Здесь мы видим ясное свидетельство тому, что изменившиеся обстоятельства и вызовы конца I в. н. э. во многом формировали керигму, адресованную им (см. далее § 64.2).
6.3 Вера, что Иисус есть Христос, Сын Божий, ведет к
жизни. Здесь перед нами еще одна важная и характерная тема Ин: глагол "жить" и существительное "жизнь" употребляются в Иоанновом Евангелии и посланиях 67 раз. Столь же часто можно встретить эти слова в посланиях Павла (96 раз) и реже — в Деян (20 раз). Ин практически не использует понятия прощения, оправдания и спасения, но тесно связывает обетование жизни с Духом (4:10–14; 6:63; 7:38сл.; 20:22); речения о взаимном пребывании (напр., 6:56; 14:18–23; 15:4–7; 1 Ин 2:27сл.; 3:24; 4:12–16) имеют тесные параллели с Павловым учением о единстве с Христом (см. выше § 5.1), хотя подход Ин более индивидуалистичен (см. ниже § 31.1). Пожалуй, нам нужно рассматривать все это как приблизительно эквивалентные выражения керигматического обетования. Их разнообразие (напр., между Деян, Павлом и Ин) определялось, очевидно, больше личными предпочтениями вестника и условиями конкретных ситуаций, чем принципиальными различиями в смысле и содержании обетования.
Специфика Иоанновой керигмы особенно проявляется в том, как он представляет обетование о жизни в виде жесткого "или — или". Слушатели должны выбрать жизнь или смерть; если они выберут жизнь, то в тот же момент перейдут из смерти в жизнь, оставив смерть и суд позади (3:36; 5:24; 11:25сл.; 1 Ин 3:14; 5:12). Такие резкие антитезы типичны для Иоанновой вести — между светом и тьмой, зрением и слепотой, истиной и ложью, Духом и плотью и т. д. (напр., 1:5; 3:6,19–21; 6:63; 8:12, 44сл.; 9:39–41). Здесь нет места компромиссу и полутонам. Здесь нет представления о жизни как о процессе, об "уже", которое есть лишь начало, о "еще не", которое отличает Павлову весть. В Иоанновом корпусе разграничение между верующими и неверующими — предельно четкое (см., напр., 1 Ин 2:4, 23; 3:6,9сл„ 14сл.; 4:5сл.). Перед нами этический дуализм, антитеза решения: Ин предельно заостряет евангельский вызов. Но он несколько упрощает реальность. Он разделяет человечество на две группы; у Павла же разделение проходит и через сердце верующего (см. выше § 5.1). Таким образом, эсхатологический конфликт, характерный для керигм Иисуса и Павла, ослабел и превратился в реализованную эсхатологию Ин с ее "всё или ничего". Лучше всего это заметно в различных "критериях жизни", которые 1 Ин предлагает своим читателям: обитающий Дух, любовь, правильное исповедание, послушание (напр., 2:4; 3:24; 4:2сл., 7). По–видимому, автор предполагал, что любящие суть те, кто делает правильное исповедание. Неясно, что сказал бы автор о человеке, который выказывает христоподобную любовь, а при этом не верит во Христа. Жесткая Иоаннова антитеза не дает ответа на (христианскую) "проблему": как относиться к доброму язычнику или любящему атеисту? Напротив, Павел, который видел, что разделение проходит внутри каждого человека, и скорбел о неверующем Израиле, как минимум понял бы проблему и предложил бы ответ. А автору 1 Ин нечего сказать на сей счет.
§ 7 Выводы
Мы не стали рассматривать все новозаветные тексты, но сделали лишь краткий обзор керигмы Иисуса, керигмы первохристиан (как она изображена в Деян) и керигм двух других важнейших новозаветных богословов — Павла и Иоанна. Есть ли у них некая общая керигма? Можно ли говорить о существовании единой керигмы? Давайте пока вынесем за скобки весть самого Иисуса и сравним первых три образца послепасхальной керигмы.
7.1 Разделяют ли некую общую керигму проповеди Деян, Павел и Иоанн? Если иметь в виду индивидуальность и специфические особенности каждого, то ответом будет: "Нет, не разделяют". Но если вглядеться повнимательнее, можно увидеть, что в этих провозвестиях присутствует общий элемент; разными способами они действительно выражают "общую керигму". Вот три компонента этой керигмы.
Первое: провозвестие о воскресшем и прославленном Иисусе. Оно выражается по–разному. Деян подчеркивают воскресение Иисуса как таковое; Павел говорит о владычестве Иисуса в настоящем и о представительном значении Иисуса; Ин описывает исторического Иисуса в полном свете пасхальной веры.
Второе: призыв к вере, принятию провозвестия и верности Иисусу возвещаемому. Это самая последовательная черта во всех трех случаях, и она в этом смысле поддерживает слова Бультмана о том, что категория "вера" лучше характеризует первоначальное христианство, чем "ортодоксия" (см. выше § 1).
Третье: вере дается обетование. Это обетование может выражаться по–разному: либо речь идет о Духе, либо о прощении, спасении и жизни, либо о единстве прославленного Христа с верующим (единении со Христом, взаимном пребывании). Не всегда столь же ясно выводится следствие, что отношения веры со Христом предполагают общину веры и ответственность любви в рамках этой общины (и за ее пределами?!).
Таково
единство послепасхальной керигмы. Однако ему сопутствует глубокое
многообразие керигм. Следует ясно отдавать себе отчет: то ядро, которое мы очертили выше, есть
абстракция. Ни один новозаветный автор не возвещает эту керигму как таковую. Ни один новозаветный автор не сводит керигмы к этому ядру. У них есть эти общие элементы, но в разных пропорциях. А
в событии провозвестия не было даже и двух тождественных керигм. Более того,
многообразие предполагало различие и полемику: например, о значении земного служения и смерти Иисуса, о роли закона, об эсхатологическом аспекте благовестия и его этических следствиях. Эти разногласия подчас бывали глубокими, но в соответствующих обстоятельствах керигмы могли быть правомерным выражением христианской керигмы (и пониматься как таковые). Представители разных керигм подчас расходились относительно "керигмы" и даже относительно того, какие формулировки уместны в той или иной конкретной ситуации. Но в различных обстоятельствах они могли признавать и уважать эти различия как приемлемые и правомерные
Таким образом, нужно быть очень осторожным, говоря о "новозаветной керигме". Ибо если этим термином мы обозначаем выделенное нами ядро разных керигм, то ведь ни один новозаветный евангелист его реально не проповедовал. Если же мы так называем одну из разнообразных керигм, то нельзя забывать: она могла оказаться неуместной или неприемлемой для других новозаветных евангелистов и в других обстоятельствах. Иначе говоря,
если мы настаиваем на единстве керигм в Новом Завете, мы должны настаивать и на разнообразии керигм в Новом Завете. Иногда, в какой‑то конкретной ситуации, в ответ на какую‑то конкретную проблему можно сказать: "Это — единственное благовестие, и нет иного" (см. Гал 1:6–9). Но если руководствоваться Новым Заветом, то никогда нельзя говорить: "Данная конкретная формулировка есть благовестие для любого времени и любой ситуации".
7.2 Если говорить о единстве послепасхальной керигмы — корректно, то говорить о единстве между послепасхальной керигмой и керигмой Иисуса — куда сложнее. На уровне публичного провозвестия различия серьезны: Иисус проповедовал Царство, первые христиане проповедовали Иисуса; Иисус призывал к покаянию и вере по отношению к Царству, первые христиане призывали к вере в Иисуса; Иисус возвещал Божью милость и прощение, первые христиане также говорили о Божьей милости и прощении, но предполагали Иисуса в качестве посредника. Очевидно, что центральное место Иисуса в послепасхальной керигме не имеет точного аналога в керигме самого Иисуса. Но пока мы делали сопоставление лишь на уровне публичного провозвестия, говоря о характерных эмфазах каждой керигмы. Вопрос, однако, состоит в том, прослеживается ли здесь какая‑то степень преемственности на более глубинном уровне: считал ли Иисус самого себя неотъемлемой частью своей керигмы? Усматривал ли он тесную связь между Царством и собой (то есть между Царством, которое он возвещал, и своей вестью о нем) или между наступлением Царства и своей судьбой? Одним словом,
можно ли выявить такую преемственность между Иисусом–вестником и Иисусом–возвещаемым, чтобы утверждать: керигма Иисуса и керигма первых христиан в конечном счете одна и та же? Этот вопрос будет лежать в основе многих анализов в последующих главах, а в конце части I мы к нему вернемся.
Тем временем следует признать и подчеркнуть самое очевидное различие между послепасхальным и допасхальным провозвестием — саму
Пасху, веру в воскресение Иисуса. Об этом нужно сказать потому, что и поныне многие предлагают вернуться к допасхальной керигме, выражать сущность христианства Нагорной проповедью или притчей о блудном сыне. Однако
возврата к провозвестию Иисуса как таковому быть не может. Керигмы Деяний и Павла (а по–своему и Иоанна) показывают:
первые христиане не желали просто воспроизводить весть Иисуса. С точки зрения первоначальных церквей произошло нечто принципиально новое, что
само стало основной благой вестью, — воскресение Иисуса из мертвых и вознесение его на небеса. Именно здесь кроется уникальность послепасхальной вести, которая придает ей специфически
христианский характер. По словам Павла, керигма без вести об Иисусе воскресшем или прославленном уже не будет христианской, перестанет быть благовестием (1 Кор 15:14–19). Одним словом,
христианская Церковь построена на послепасхальной керигме, а не на учении исторического Иисуса (или, по крайней мере, не на этом учении, взятом в отрыве от послепасхальной керигмы).
7.3
Резюме.
1. Существует объединяющая нить, которая соединяет все новозаветные керигмы и позволяет уловить специфику первохристианского благовестия.
2. В конкретной ситуации благовестие могло иметь гораздо более строгую дефиницию и более развернутое содержание, причем дефиниция и содержание, в основном, определялись ситуацией.
3. В различных ситуациях благовестие могло быть разным, столь же разным, как и сами ситуации. Эти различия часто были значительны, а также непримиримы при переносе на другие ситуации.
4. Эти различия часто были
неотъемлемой частью благовестии в их различных ситуациях. Было невозможно отказаться от них в ситуации, которая вызвала именно данную конкретную форму провозвестия, одновременно не меняя их характер как благой вести, адресованной этой ситуации.
Отсюда вытекают два важных следствия, актуальные и поныне:
A. Всякая попытка найти единую, объединяющую керигму раз и навсегда обречена на провал. Ибо конкретная ситуация
всегда рождает более строго определенную и более развернутую керигму — такую форму провозвестия, которая в конкретной ситуации несводима к объединяющему ядру без потери смысла и актуальности для конкретной ситуации. И именно в этом более полном провозвестии кроются различия и разногласия.
B. Христианам нужно просто признать факт различных выражений и интерпретаций "керигмы" и смириться с ним, — принять
необходимость и
обоснованность этих различных выражений, не расстраиваться из‑за них, не клеймить их как "греховные разделения" и "еретические расколы".
В то же время абстракция (а это именно абстракция!) стержневой керигмы вполне ясно показывает христианскую специфику — достаточно ясную основу для совместного действия, служения и богослужения. Требовать большего, чем этот незаменимый минимум, все равно что просить Павла отлучить Иакова, или Луку — отлучить Иоанна!
III. Первоначальные вероисповедные формулы
§ 8 Введение
От изучения керигмы мы переходим к изучению вероисповедных формул. Возвещая свою новую веру, первые христиане также исповедовали ее. До сих пор мы рассматривали лишь самый поверхностный уровень; приступая к более глубокому анализу, естественно начать с исповедания веры, которое стояло за провозвестием и которое провозвестие рождало в обращенных. Как именно первые христиане исповедовали веру? Какую форму слов они избирали, чтобы отличить себя от других, а также от аналогичной религиозной веры в своем окружении?
С начала XX в. этой проблеме было посвящено много научных работ. Ученые выявили несколько опасностей, о которых человеку, приступающему к глубокому исследованию, лучше знать заранее.
А.
Опасность проецировать великие общие символы веры на Новый Завет. Исследование первоначальных символов веры — пожалуй, лучший образец того, как модель ортодоксии проецируется на христианские тексты I в. До начала 1940–х годов, за немногими достойными исключениями, отправной точкой таких исследований почти всегда были стандартные символы веры восточного и западного христианства. Учитывая базовые утверждения христианской веры в апостольском символе, никейском символе и т. д., задача казалась ясной: выяснить, присутствуют ли в самом Новом Завете первоначальные или скрытые выражения этих вероисповедных формулировок
[120]. Неписаной базовой предпосылкой во многих случаях, очевидно, была та аксиома, что христианство — это и есть символы веры, что они суть нормативное выражение исповедующего христианства; поэтому новозаветные тексты должны выражать эту веру символов, — пусть не в столь развернутой формулировке, но хотя бы в скрытой, еще не проясненной, не определенной манере. Опасность здесь очевидна: подгонять новозаветный материал под более позднюю унифицированную модель. При таком подходе утрачивается специфика материала (и его многообразие?!)
B.
Опасность искать некий единый, унифицированный символ веры. Опасно было бы пытаться скроить нечто из лоскутков, надерганных из разных мест Нового Завета, а после утверждать, что получился нешвеный хитон. Именно здесь — одно из слабых мест в реконструкции Доддом первоначальной керигмы. В ту же ловушку угодил А. Зееберг — один из первопроходцев в данной области
[121]. Перед нами искушение взять из разных направлений первоначальной традиции вероисповедные формы и сгруппировать их в единую формулу, пренебрегая их изначальной жизненной ситуацией. В таком случае "первоначальное вероисповедание Церкви" не более чем пестрая смесь разнородных элементов, связанных воедино методологией XX в.
C.
Опасность искать некую единую для всех первоначальных исповеданий жизненную ситуацию. Как ни странно, подавляющее большинство исследователей данного вопроса предполагали или заключали, что все первоначальные вероисповедные формулы вышли из одной–единственной жизненной ситуации, а именно крещения. Здесь опять видна неизбывная тенденция втискивать новозаветный материал в заранее заготовленную форму, позволяя высокой сакраментологии последующих веков определять наше понимание первоначального христианства.
D.
Опасность слишком усердно стратифицировать материал по различным слоям (палестинское иудеохристианство, эллинистическое иудеохристианство, допаулинистическое языкохристианство и т. д.),
ожидая при этом последовательного хронологического развития формул от слоя к слою, от стадии к стадии. (Присуща некоторым разработкам в области истории традиции.) Не будем забывать, что значительная часть
первоначальной иерусалимской общины говорила, молилась и богословствовала на греческом языке с самого начала ("эллинисты" — Деян 6:1; см. ниже § 60). Кроме того, навесить на новозаветные документы такие четкие ярлыки невозможно потому, что в некотором важном смысле все эти документы — иудеохристианские
[122].
Конечно, я признаю наличие в новозаветном материале различных акцентов, которые можно было бы обозначить как "иудеохристианские", "эллинистические иудейские" или "языческие". Однако нельзя навязывать текстам такие категории: пусть тексты сами задают нам свои категории (см. также ниже § 53).
За отправную точку возьмем посылку: первые верующие формулировали свою новообретенную веру словами, причем некоторые из первоначальных исповеданий нам известны. Если мы хотим увидеть и правильно понять эти исповедания, мы должны вынести за скобки все поздние символы веры и категории, чтобы подойти к новозаветным текстам с открытым вопросом:
как именно первые верующие выражали свою веру в вероисповеданиях? Отвечая на этот вопрос, следует остерегаться навязывать материалу как единообразие вселенского и сакраментологического христианства, так и многообразие ярлыков в методе "истории традиции". Лишь тогда есть надежда, что материал обретет собственный голос.
Магистральные исследования первоначальных вероисповедных формул показывают, что в центре древнейших форм стоял Иисус, что исповедовалась именно
вера в Иисуса. Этого и следовало ожидать после того, как в предыдущей главе мы выяснили: первохристианские керигмы были преимущественно провозвестием Иисуса и призывали к вере в Иисуса. Соответственно далее мы рассмотрим
различные виды этих исповеданий. В центре нашего внимания будут формулы, которые выглядят основными.
§ 9 Иисус — Сын Человеческий
Почти столетие назад В. Буссет выдвинул гипотезу, что исповедание Иисуса Сыном Человеческим было первым христианским исповеданием и фокусной точкой первохристианской общины
[123]. Примерно десять лет спустя Э. Ломайер утверждал, что для христианства, имевшего происхождение в Галилее (в отличие от иерусалимского христианства), была характерна христология Сына Человеческого
[124]. Впоследствии ученые занялись изучением Q и пришли к выводу, что Q воплощает одно из ранних выражений веры в Иисуса как небесного Сына Человеческого, которое еще не слилось с более поздним образом Иисуса,
сосредоточенным на Страстях (см. особенно Мк)
[125]. Можно ли в таком случае утверждать, что "Иисус — Сын Человеческий" — древнейшая или одна из древнейших словесных формулировок, которыми первохристиане выражали свою веру?
9.1. Как известно, титул "Сын Человеческий" употребляется почти исключительно в Евангелиях: у синоптиков — 69 раз, у Иоанна — 13, в остальных новозаветных текстах — только 1 раз. Более того, какие бы смыслы он ни имел, всюду в Евангелиях мы встречаем его
только на устах Иисуса. Нигде в повествованиях к Иисусу не обращаются как к Сыну Человеческому; ни разу его не славят и не исповедуют этими словами ученики. Казалось бы, ответ ясен: "Сын Человеческий" — это фраза, употреблявшаяся Иисусом, а не исповедание ранних церквей. Однако не все так просто. На протяжении XX столетия ведущие новозаветники исследовали высказывания о Сыне Человеческом и сделали вывод: не все они восходят к Иисусу; как минимум некоторые из них обрели свою нынешнюю форму в послепасхальной ситуации. Главные аргументы таковы:
1. В Q отсутствует целый блок материала, связанного с Сыном Человеческим, а именно упоминания о страдании (и воскресении) Сына Человеческого (наподобие Мк 8:31; 9:12, 31; 10:33сл., 45). Отсюда вполне можно заключить, что Q относится к стадии, предшествующей слиянию традиции Сына Человеческого с керигмой о Страстях (как в Мк), и что речения о страдающем Сыне Человеческом как таковые возникли уже после того, как материал Q обрел свою нынешнюю форму.
2. Сопоставление параллельных синоптических отрывков показывает и другие случаи, где фраза "Сын Человеческий" может быть поздней вставкой: Мф 16:28 (ср. более раннюю форму в Мк 9:1/Лк 9:27); Мф 24:30а выглядит как добавление к Мк 13:26; Мф 26:2 может быть редакторским расширением Мк 14:1; другие случаи, где "Сын Человеческий" может оказаться результатом редактуры, — Мк 9:9, Лк 19:10 и Мф 13:37,41. Более того, почти все Иоанновы упоминания о Сыне Человеческом не имеют близких параллелей у синоптиков, причем некоторые из них столь глубоко привязаны к специфическому Иоаннову языку и темам, что их можно считать частью разработанного Иоаннова богословия (особенно 3:13; 6:62 — тема восхождения/ нисхождения; 3:14,8:28,12:34 — вознесение Иисуса; 12:23,13:31 — прославление).
3. Нигде в синоптической традиции мы не находим ни одного речения о Сыне Человеческом в качестве конституирующей части Иисусова провозвестия о Царстве. Поскольку последнее было ярчайшей особенностью вести Иисуса, вполне можно заключить, что поначалу эти два разных направления были независимыми: материал о Царстве восходит к аутентичному преданию об Иисусе, а материал о Сыне Человеческом — к первоначальной общине
[126]. Последний аргумент, однако, носит обоюдоострый характер: более вероятно, что речения Иисуса, возникшие из пророческого вдохновения первоначальных общин, переплелись с уже существующими преданиями об Иисусе (или были их развитием); пророческие речения, которые представляли бы собой принципиально новую линию, с меньшей вероятностью были бы приняты в качестве речений воскресшего Иисуса
[127].
Тем не менее у нас есть достаточные основания считать:
в первоначальной общине предания о Сыне Человеческом претерпели как минимум некоторое развитие. Напрашивается вывод: первые церкви творчески осмысляли роль Иисуса как Сына Человеческого, причем
убеждение, что Иисус есть Сын Человеческий, составляло одну из важных частей их веры.
9.2. Можно ли высказаться конкретнее? Сколь важной была для них эта вера? В какой мере наши нынешние материалы, связанные с Сыном Человеческим, — продукт первоначальной общины? В какой мере они являются выражением первохристианской веры? Отражают ли высказывания о Сыне Человеческом вероисповедание Иисуса Сыном Человеческим? Основная проблема здесь в том, что факты допускают разные толкования и однозначные выводы невозможны. Назовем лишь основные гипотезы
[128].
(А)
Ни одно из высказываний о Сыне Человеческом не восходит к Иисусу:
все они зародились в
ранних церквах. В этом случае вера в Иисуса как Сына Человеческого, видимо, была самым ранним выражением новой пасхальной веры Иисусовых учеников. Более того, она сыграла творческую роль в развитии предания о речениях Иисуса, беспрецедентную в сравнении с другими формулировками веры. Однако если принять эту точку зрения, то непонятно, почему первохристиане решили идентифицировать Иисуса с Сыном Человеческим
[129]; более того,
почему эта новая вера обусловила нынешний вид традиции, где все высказывания о Сыне Человеческом оказываются исключительно на устах самого Иисуса и ни одно из них не сохранилось в ином контексте. Почему вера в Иисуса как Сына Человеческого отсутствует в керигматических утверждениях? Чем объяснить полное отсутствие этого титула в каких‑либо первоначальных учениях и литургических формулах? Факт остается фактом: с другими "титулами величия" ничего похожего не наблюдается. Напротив, сравнение с развитием остальных титулов (о которых речь ниже) свидетельствует против данной гипотезы.
(В)
Некоторые из высказываний о Сыне Человеческом восходят к
Иисусу, причем в форме, более или менее сохраненной для нас преданием. Таковы высказывания, где Иисус говорит о будущем пришествии Сына Человеческого как кого‑то отличного от себя: особенно Мк 8:38, Лк 12:8сл.; см. также Мф 24:27/Лк 17:24; Мф 24:37, 39/Лк 17:26, 30; Мф 24:44/Лк 12:40; Мф 10:23; Лк 11:30; 17:22. Некоторую уверенность в аутентичности этих речений дает следующее соображение: вряд ли бы первоначальная община стала подобным образом разотождествлять Иисуса с Сыном Человеческим. Творческая роль первых церквей в данном случае началась с идентификации Сына Человеческого с самим прославленным Иисусом. Иисус отныне не просто идентифицировался с Сыном Человеческим в тех высказываниях, где Он ожидал пришествия Сына Человеческого, но в предании появились новые речения: о небесной деятельности и пришествии Сына Человеческого (а затем и о земном служении и страданиях Иисуса).
Ключевой вопрос здесь состоит в следующем:
действительно ли Иисус ожидал пришествия кого‑то более великого, чем он сам. Вышеназванная гипотеза сопряжена с той трудностью, что перечисленные отрывки — единственное свидетельство в ее пользу. Достаточно ли этого? Требуют ли от нас Лк 12:8сл. и Мк 8:38 признать различие между Иисусом и Сыном Человеческим? Подобная интерпретация противоречит реализованному элементу провозвестия Иисуса, в котором Иисус противопоставлял эсхатологическое исполнение своего собственного служения приуготовительному характеру того, что было ранее и в чем роль предтечи выполнял Креститель (см. особенно Мф 11:11/Лк 7:28; Мф 12:41сл./Лк 11:31сл.).
Более того, опять можно спросить: почему и как эта вера в Иисуса как небесного Сына Человеческого привела к развитию предания, где земная деятельность Иисуса обозначалась апокалиптическим титулом; в частности, почему такие незначительные высказывания, как Мф 8:20/Лк 9:58, появились как выражения веры в прославленного Иисуса на небесах. С другими титулами прославления ничего похожего не происходило; напротив, использование Лукой в его Евангелии титула "Господь"
явно носит редакторский характер и отражает его послепасхальную точку зрения (см. ниже § 12.3).
(С) Как минимум
некоторые из высказываний о Сыне Человеческом восходят к
(нетитулярной) речевой идиоме Иисуса: Иисус иногда прибегал к арамейской фразе
bar '
enāšā ("сын человеческий") в смысле Пс 8:46 (ср. Евр 2:6) = "человек" вообще, не относя ее исключительно к себе
[130]. Таким мог быть первоначальный смысл некоторых синоптических речений, особенно Мк 2:10, 2:28 ("Суббота для человека… посему сын человеческий [=человек] есть господин субботы"), Мф 8:20/Лк 9:58 и Мф 11:18сл./ Лк 7:33сл. Некоторое подтверждение данной гипотезе можно найти в Евангелии от Фомы, где содержится лишь одно высказывание о Сыне Человеческом — логия 86, близкая параллель к Мф 8:20/Лк 9:58 (приведена ниже, в § 62.1). Некоторые логии Евангелия от Фомы, очевидно, восходят к независимому и раннему арамейскому источнику
[131]. Здесь можно усмотреть подтверждение той теории, что у истоков традиции, связанной с Сыном Человеческим, стоит нетитулярное употребление
bar '
enāsā.
В этом случае роль первой общины в оформлении речений о Сыне Человеческом была следующей. Общинники искали в Ветхом Завете образы, которые выразили бы их веру в прославленного Иисуса, и сочли подходящей фигуру небесного сына человеческого в Дан 7:13; отсюда появились высказывания, отождествлявшие Иисуса с этой фигурой (либо на базе первоначального речения по типу Пс 8:4, либо независимо от него). В ходе развития предания, эти высказывания становились титулярными ("сын человеческий" превращался в "Сына Человеческого"); эта стадия кристаллизовалась в Q. Впоследствии вся данная традиция расширилась и слилась с развивающейся (Павловой) керигмой о кресте, образовав высказывания о страдающем Сыне Человеческом у Марка
[132]. Четвертое Евангелие сцементировало эту связь, связав образ Сына Человеческого с характерными Иоанновыми темами вознесения и прославления Иисуса (см. ниже § 18.4), а также расширило традицию, включив в нее идею предсуществования (Ин 3:13; 6:62)
[133].
Однако польза от Евангелия от Фомы в данном случае сомнительная, ибо эсхатология Фомы не была типична ни для провозвестия Иисуса, ни для ранних керигм, а потому вполне может отражать не доапокалиптическую, а послеапокалиптическую стадию развития предания (из которой апокалиптические речения о Сыне Человеческом были устранены; см. ниже §62.2). Еще более веский контраргумент: высказывания, считающиеся высказываниями по типу Пс 8:4,
едва ли имеют смысл иначе чем указания Иисусом на самого себя. В частности, было бы неверно утверждать, что "человеку вообще негде голову преклонить" (Мф 8:20/Лк 9:58); в нынешнем виде эта логия вразумительна лишь как указание на миссию Иисуса как бродячего проповедника. Еще больше это относится к Мф 11:18сл./Лк 7:33сл. Если данные речения аутентичны, они отражают манеру Иисуса высказываться о себе в третьем лице как о
bar '
enāšā.
(D) (Вариация предыдущей гипотезы.) Иисус называл себя
bar '
enāšā, но в сознательно двусмысленном ключе ("некто"). Среди ученых нет единодушия относительно того, имеются ли параллели к этому словоупотреблению в Палестине времен Иисуса
[134]. Как бы то ни было,
лучшее свидетельство в пользу того, что Иисус называл себя bar '
enāšā, содержится в самой синоптической традиции: так лучше объясняются вышеназванные тексты (начало (С)); нынешние разные формы некоторых других текстов легче объяснить, постулировав общую оригинальную форму
bar '
enāsā (особенно Мк 3:28/Мф 12:31сл./Лк 12:10)
[135]; понятно, почему в параллельных версиях встречается то "Я", то "Сын Человеческий", — ибо фраза
bar '
enāšā может иметь оба смысла (особенно Мф 5:11/Лк 6:22; Мф 10:32/Лк 12:8; Мф 16:13/Мк 8:27).
Возникает, однако, следующая проблема. В какой момент высказывания о Сыне Человеческом попали под влияние Дан 7:13? Как мы уже отмечали, вряд ли первоначальный апокалиптический образ Сына Человеческого, опиравшийся на Дан 7:13, вобрал в себя глубоко неапокалиптический материал вроде Мф 8:20/Лк 9:58. Почти столь же проблематичен и другой расклад: будто Иисус использовал такую форму
bar '
enāšā, которая включала в себя одновременно идиому Пс 8:4 и метафорику Дан 7:13. Тем не менее
из всех четырех гипотез меньше всего слабых сторон имеет именно та, что Иисус прибегал к двусмысленному выражению bar '
enāšā, причем как минимум в некоторых слугчаях — с аллюзией на Дан 7:13[136]. Проблема в значительной мере снимается, если
одновременно констатировать влияние Дан 7:13 на использование Иисусом фразы
bar '
enāšā, но при этом понимать, что Дан 7:13 не содержит титула, а говорит о некой человеческой фигуре, которая изображает/символизирует гонимых лоялистов маккавейских времен в их высшем оправдании небесным судом
[137]. Тогда возможно, что (некоторые) высказывания о страдающем Сыне Человеческом также восходят к двусмысленной формулировке Иисуса с
bar '
enāšā — несмотря на их отсутствие в Q
[138].
Таким образом, роль первой общины в развитии преданий о Сыне Человеческом, очевидно, была следующей. Первохристиане унаследовали ряд высказываний о
bar '
enāšā, произнесенных Иисусом (почти?) всегда как указание на самого себя, причем некоторые (большинство? все?) из них содержали аллюзию на Дан 7:13 или находились под тем или иным ее влиянием, а потому содержали имплицитную христологию. В подавляющем большинстве случаев ранние общины устранили двусмысленность, превращая
bar '
enāšā либо в первое лицо единственного числа, либо в полновесный титул с прямой или косвенной отсылкой к Дан 7:13.
9.3. Подведем
итоги. Убеждение, что Иисус есть Сын Человеческий, было частью веры первоначальной церкви. Однако у нас нет решающих свидетельств тому, что первохристиане прибегали к христологии Сына Человеческого как к способу подчеркнуть отличие своей веры от других или лучше понять собственную веру. Насколько можно судить,
в данном отношении Церковь ограничилась разработкой традиции Иисусовых речений. За пределами этой традиции вера в Иисуса как Сына Человеческого не имела реальной жизни (единственное исключение составляет Деян 7:56). Христология Сына Человеческого не обеспечивала базу для разработки характерного богословия первых церквей. Если для ранних палестинских общин и было специфично какое‑либо исповедание, то им было "Иисус — Мессия". И хотя Иисуса признавали грядущим Сыном Человеческим, это упование было гораздо четче выражено в исповедании Иисуса Господом.
§ 10 Иисус — Мессия
По–видимому, таково было одно из ключевых выражений веры в ранней иудейской миссии, причем утверждение "Иисус — Мессия" становилось решающим шагом веры для обращенных из иудеев. Об этом свидетельствуют Деян 2:31сл., 3:18, 5:42, 8:5, 9:22,17:3,18:5, 28. У нас нет оснований не верить Луке в данном случае, ибо перечисленные отрывки отражают (раннее) титулярное использование, а не (позднее) использование слова как имени собственного. В других новозаветных текстах (за пределами преданий об Иисусе, отраженных у синоптиков) "Христос" обычно употребляется в качестве имени собственного, одного из способов указать на Иисуса, а не исповедания Иисуса Христом (см. особенно Павла и Соборные послания; ср., однако, Рим 9:5 и 15:3). Впрочем, как ни странно, четвертое Евангелие доносит до нас первоначальное использование слова "Христос". Евангелие от Иоанна было написано в конце I в., но оно редко употребляет слово "Христос" как имя собственное (Иисус Христос); зато регулярно говорит о "Христе" с определенным артиклем (напр., 1:20; 3:28; 7:26, 41; 10:24), причем сохраняет даже еврейскую (или арамейскую) форму
Messias (1:41; 4:25). Как мы уже видели (§ 6), по собственному признанию евангелиста, его цель — продемонстрировать, что "Иисус есть Христос, Сын Божий" (20:31). И в 11:27 Марфа становится образцом для полного христианского исповедания: "Верую, что ты Христос, Сын Божий" (ср. Креститель — 3:28).
10.1. История этого исповедания на протяжении I в. просматривается довольно четко.
В своей основе оно восходит к жизни Иисуса. Решающее свидетельство — обстоятельства его смерти. Не умаляя серьезных исторических проблем, связанных с судом над Иисусом, трудно сомневаться, что Иисуса казнили как мессианского претендента — человека, который представлял националистическую угрозу политическим властям (Мк 15:26; Мф 27:37; Лк 23:38; Ин 19:19, — где "царь иудейский" — лишь обвинение в притязании на мессианство, перефразированное для римского наместника). Следы энтузиазма по поводу Иисуса как претендента на политическое мессианство заметны в эпизоде с насыщением пяти тысяч (Мк 6:30–45), особенно если сопоставить его с рассказом в Ин 6:1–15 (ср. Мк 6:45 и Ин 6:15), вероятно, независимым. Само исповедание, очевидно, также восходит к служению Иисуса (Мк 8:29); но если так, исповедание Петра скорее всего также мыслило мессианство в националистических и политических категориях.
Из всех трех эпизодов ясно: Иисус
отвергал такую роль. Более того, в самой ранней синоптической традиции Иисус нигде не применяет к себе титул "Мессия"; нигде он не выражает недвусмысленного одобрения, когда его так называют. Причина, видимо, состояла в том, что Иисус не разделял концепцию мессианства, неразрывно связанную с титулом "Мессия". Поэтому, когда его исповедовали Мессией, он считал это
непониманием своей миссии и
не одобрял такое исповедание.
С другой стороны, нельзя сказать, что Иисус вовсе отрицал мессианскую роль. Его вход в Иерусалим и нападки на неверное использование Храма вполне могли содержать сознательные мессианские мотивы. Если слова в Мк 12:35–37 аутентичны, Иисус мог указывать в них на самого себя (см. также ниже § 12.2). Обвинение, выдвинутое против Иисуса на суде, видимо, основывалось преимущественно на туманном высказывании о гибели и эсхатологическом восстановлении Храма (Мк 14:58/Мф 26:61; Мк 15:29/Мф 27:40; Ин 2:19; ср. Мк 13:2пар.; Деян 6:14; Фома 71), которое в той или иной форме восходило к Иисусу и составляло некое притязание на мессианство (2 Цар 7:12–14 в интерпретации кумранитов
[139]; 1 Енох 90:28сл.; 4 Езд 9:38–10:27; ср. Иез 40–48; Юбилеи 1:17,27сл.; Зав. Вениамина 9:2; 2 Вар 32:4; Сивиллины Оракулы У.423сл.). Ответ Иисуса на мессианские обвинения Каиафы и Пилата лучше всего понимать в смысле: "Если тебе угодно так выразиться" (Мк 14:62; 15:2)
[140], — то есть сам Иисус предпочел бы иную формулировку. Судя по всему (Мк 8:29–33; 14:61сл.),
в данном отношении Иисус хотел не столько оспорить концепции мессианства, сколько объяснить свою роль в категориях страдания и эсхатологического завершения.
10.2. По–видимому, с этого момента и начала свои разработки
первоначалъная община. Если Иисус относился к титулу "Мессия" глубоко неоднозначно (из‑за его политических ассоциаций), первые христианские апологеты решили титул оставить, но переосмыслить его в категориях страдания, которое Иисус предчувствовал, и смерти, которой он умер.
Это переосмысление титула "Мессия" оказало, видимо, решающее влияние на самое раннее использование его в качестве исповедания. В первые дни христианства, когда новая секта еще не была отличной от иудаизма, исповедание "Иисус — Мессия" стало одним из узловых моментов полемики с более традиционными иудеями, причем особенно обсуждалась смерть Иисуса. Как иудей может верить, что Мессией Божьим стал распятый? "Христос распятый… для иудеев соблазн [камень преткновения]" (1 Кор 1:23). Поэтому для первохристиан было исключительно важно показать: "Христос распятый" — не есть логическая несообразность. Они исследовали Писания и находили отрывки (в частности, Ис 53), в которых можно увидеть идею страдающего Мессии (Деян 3:18; 17:2сл.; 18:28; 26:23; 1 Кор 15:3; ср. выше § 4.2). По крайней мере из Лк 24:26,46 видно, что это распознание страдающего Мессии в Писании — один из важных элементов в развивающемся самосознании древнейшей веры. В то же время Деян 3:20сл., несомненно, свидетельствует: первоначальные палестинские церкви говорили о мессианстве Иисуса в связи с его ожидаемой вскоре
парусией. Однако, судя по всему, до Павла на этом не делался основной упор. Скорее перед нами — некая степень
преемства между Иисусом и первой Церковью:
основополагающая ассоциация мессианства со страданием. Для Иисуса в допасхальной ситуации проблема состояла в том, чтобы связать страдания и смерть с заданной концепцией мессианства, — проблема, которую Иисус, видимо, так и не решил (по крайней мере при жизни). У Церкви в послепасхальной ситуации была другая проблема: связать мессианство с данностью человеческого страдания и смерти, — и она была успешна решена, хотя, похоже, и за счет ограничения данного титула специфической функцией (преодоления иудейской антипатии к провозвестию о распятом Мессии).
10.3.
Павлово употребление титула "Христос" отражает те же акценты: возвещаемый Павлом Мессия — Христос
распятый (см. особенно 1 Кор 1:23; 2:2; Гал 3:1). Но оно также подразумевает, что эта битва была выиграна задолго до Павла. Он не пытается доказать, что Иисус — действительно "Христос", несмотря на свои страдания и смерть. "Христос" уже не титул, применимость которого к Иисусу надо доказывать. Вера в Иисуса как в Христа уже столь сильно упрочилась в его мышлении и провозвестии, что он принимает ее как само собой разумеющееся; "Христос" — просто один из способов упомянуть Иисуса,
имя собственное (так даже в 1 Кор 15:3).
Таким образом, Павловы послания свидетельствуют:
исповедание "Иисус есть Христос" практически не имело ни актуальности, ни жизни в языческой и преимущественно эллинистической среде. Результат вполне ожидаемый. В его пользу говорят и два дополнительных соображения.
1. В эллинистических иудеохристианских текстах титул "Христос" приходилось дополнять и уточнять титулом "Сын Божий" (см. ниже § 11.3). Стало быть, даже в эллинистическом иудеохристианстве это исповедание отчасти утратило значимость.
2. Альтернативное мессианское исповедание "Иисус — Сын Давидов", очевидно, также почти не употреблялось за пределами Палестины и было в основном подчинено христологии Сына Божьего
[141]. Только Матфей придает ему очень большое значение (Мф 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30сл.; 21:9,15 — ср. 21:9 и Мк 11:9сл.), да еще отголоски его раннего значения слышны в Деян 13:23; 2 Тим 2:8 и Откр 5:5, 22:16. В остальном же крайняя скудость аллюзий, даже среди эллинистических иудеев, на такую конфессиональную веру, видимо, отражает определенную степень замешательства от этого притязания (Мк 12:35–37; Ин 7:42 — из уст непостоянной и колеблющейся толпы; Рим 1:3сл. — "по плоти", выражение, часто имеющее у Павла негативный и даже пейоративный оттенок
[142]; ср. Деян 2:29–31; отметим также Варн 12:10). Причина, видимо, состояла в наличии у этого титула ярко выраженного националистического и политического подтекста, из‑за чего он поддавался переосмыслению в более широком контексте эллинизма еще хуже титула "Мессия" (ср. Деян 17:7 и спиритуализацию идеи Иисусова владычества в Ин 18:33–38 и Евр 7:1сл.).
Еще важнее здесь отметить следующее: у Павла мы
видим зачатки более полной вероисповедной формулы. Христос умер (за нас), но был воскрешен (или воскрес) (см. особенно Рим 4:24сл.; 8:34; 14:9; 1 Кор 15:3–5; 2 Кор 5:15; 13:4; 1 Фес 4:14)
[143]. Однако неясно, была ли это вероисповедная формула как таковая или просто обычный двойной акцент в провозвестии. Впрочем, даже если это и впрямь вероисповедная формула, от нее еще очень далеко до второго члена Апостольского символа.
10.4. Если за пределами Палестины исповедание "Иисус есть Христос" теряло значимость, то
в более специфически иудейских кругах оно, видимо, оставалось актуальным. Об этом говорит сохранение титулярного употребления в особом материале Матфея и матфеевской обработке Марка (Мф 1:17; 2:4; 11:2; 16:20; 23:10; 24:5). Однако особенно яркое свидетельство тому — трения внутри иудеохристианства, возникшие в результате падения Иерусалима и воссоздания Синедриона в Ямнии, когда иудаизм стал замыкаться на себя и наметился разрыв между христианством и иудаизмом. Если раньше христиане могли оставаться иудеями и регулярно участвовать в синагогальном богослужении, то приблизительно с середины 80–х годов иудеохристиане были поставлены перед жестким выбором: либо подстроиться под новый и более узко определяемый иудаизм, либо быть отлученными от синагоги. Очевидно, именно здесь — один из факторов, стоящих за Иоанновым корпусом
[144]. В этих обстоятельствах "Иисус есть Христос", видимо, стало проверочной формулой. Для христиан она была критерием истинной веры (1 Ин 2:22; 5:1), а для синагоги — критерием ереси (Ин 9:22). Одним словом,
там, где конфронтация между иудаизмом и христианством оставалась важным фактором в развитии вероисповедного христианства, вероисповедание "Иисус есть Христос" сохраняло значимость и актуальность (ср. Иустин. Диалог с Трифоном иудеем 35:7; 39:6; 43:8; 48:4; 108:2; 142),
но больше — почти нигде.
§ 11 Иисус — Сын Божий
11.1. Исследователи все больше приходят к выводу, что
христология Сына Божьего уходит корнями в служение самого Иисуса.
1. Если раньше казалось, что в иудаизме времен Иисуса выражение "Сын Божий" не имело мессианского значения, то теперь свидетельство кумранских рукописей указывает на обратное. Мало того, что 2 Цар 7:14 и Пс 2 связываются и интерпретируются в мессианском ключе
[145], — недавно переведенный фрагмент из 4–й пещеры применяет титул "Сын Божий" именно к некому человеку в апокалиптическом контексте (4Qps Dan А)
[146]. Поэтому мессианские настроения в связи со служением Иисуса вполне могли использовать данный титул (и отсюда правдоподобие вопроса в Мк 14:61пар.; см. выше § 10.1, прим. 21).
2. Судя по отдельным данным, иудейские "хасидим", считавшиеся наделенными харизматическими способностями, также назывались сынами Божьими или святыми (Божьими)
[147]. Если так, то некоторые одержимые, которым служил Иисус, вполне могли величать его "Сыном Божьим" или "Святым Божьим", — как и предполагают некоторые рассказы о его экзорцизмах (Мк 1:24; 3:11; 5:7; ср. Ин 6:69).
3. Самые прочные корни следует искать в характерной для Иисуса привычке обращаться к Богу словом "Абба" (Отец) во всех своих молитвах (см., например, Мк 14:36; Мф 11:25сл./Лк 10:21). Очевидно, Иисус считал себя Сыном Божьим в каком‑то особом смысле и, возможно, отчасти передал это чувство ученикам (Мф 6:9/Лк 11:2; Лк 22:29). Не стоит, однако, особенно претендовать на знание того, каким было его самосознание в данном отношении
[148].
11.2.
По–видимому, первоначальные церкви не делали особого упора на титул "Сын Божий" как исповедание. Судя по Евр 1:5, они переняли (от кумранской общины?!) ассоциацию Пс 2:7 и 2 Цар 7:14 и применили ее к прославленному Иисусу. Следует отметить, что это первоначальное использование Пс 2:7 имело явно
"адопцианский" смысл: Иисус стал Сыном Божьим через свое воскресение и прославление (так эксплицитно Деян 13:33; отметим также Рим 1:3сл.; и Евр 5:5)
[149]. Даже если он уже при жизни был Сыном Божьим, то после воскресения его богосыновство приобрело особенно высокий статус (Рим 1:3сл.). Здесь подчеркивается фундаментальная важность воскресения Иисуса как отправной точки и основного катализатора христологической рефлексии (см. ниже §§ 51.1 и 54.3). Эти ссылки определенно указывают на то, что данный титул на этой стадии указывал в основном на прославление Иисуса до царского могущества и его близкую парусию (см. Мк 13:32; 14:61сл.; Лк 1:32сл.; 1 Кор 15:24–28; 1 Фес 1:9сл.).
Очевидно, довольно рано богосыновство Иисуса было связано с образом Раба у Второисайи (общим знаменателем послужила концепция Иисусова мессианства). Это могло дать толчок (или стать результатом?!) связи между Пс 2:7 и Ис 42:1 в словах гласа небесного, обращенного к Иисусу при Иордане (Мк 1:11). Здесь же можно искать объяснение языка в Деян 3:13, 26, 4:27, 30
[150]. С учетом нашей предыдущей дискуссии (§ 11.1) следует отметить: в последнем из перечисленных текстов Деян Иисус назван "святым сыном/рабом Иисусом".
11.3. Если в свидетельстве первых христиан исповедание Иисуса Сыном Божьим не играло почти никакой роли, то
в развивающейся миссии эллинистического иудеохристианства оно достигло расцвета. Судя по Луке, первую проповедь Павла в дамасских синагогах можно резюмировать словами: "Он есть Сын Божий" (Деян 9:20). В Рим 1:3сл. Павел явно прибегает к более древней и более общепринятой формулировке как гарантии своей правоверности, чтобы лучше зарекомендовать себя перед христианами Рима; в этом утверждении делается особый акцент на богосыновстве Иисуса. 1 Фес 1:9сл. вполне может быть резюме такой эллинистической иудеохристианской проповеди язычникам
[151]: "Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его…", — уникальная для Павловых посланий ассоциация богосыновства Иисуса с его парусией. Вообще Павел относительно редко использует этот титул, а когда использует, то чаще всего — в посланиях, где находится в диалоге с иудейской традицией христианства (Рим 7; Гал 4). В центре Послания к Евреям, как известно, стоит Первосвященство Христа. Однако это больше обусловлено специфической христологией его автора, чем его общей верой. Базовое исповедание, общее для него и его читателей, — скорее "Иисус есть Сын Божий" (4:14; см. также 6:6; 7:3; 10:29). Поразительнее всего то, как упоминания об Отце и Сыне, довольно скупые у Марка, в Q и у Луки, просто расцветают у Матфея и особенно у Иоанна. (В словах Иисуса Бог назван "Отцом" в Мк — 3 раза, в Q — 4, в Лк — 4, в Мф — 31, в Ин — 100.)
[152] Отметим также, как рождение Иисуса Сыном Божьим, первоначально связывавшееся с его воскресением и вознесением, впоследствии иногда возводилось к его опыту при Иордане (Мк 1:11; Q? — ср. Мф 4:3, 6/Лк 4:3,9), или к его рождению (Лк 1:32,35) и даже — к вечности (Ин 1:14,18; ср. Рим 8:3; Гал 4:4; Кол 1:15; Евр 1:2сл. — см. также ниже § 51.2).
Одна из интереснейших разработок — роль исповедания Иисуса Сыном Божьим как
дополнения и дефиниции к исповеданию его Мессией. Как мы уже видели, Иоанн доносит до нас первоначальный смысл титулования Иисуса "Христом". Однако в четвертом Евангелии эта фраза обычно звучит из уст толпы — как вопрос, как выражение сомнения, а не исповедание веры (ср. Иоанново использование титула "пророк" — особенно 6:14 и 7:40). По–видимому, Иоанн не считал понятие "Мессия/Христос" полностью адекватным выражением своей веры. Для Иоаннова круга базовое исповедание — это скорее "Иисус есть Сын Божий" (Ин 1:34, 49; 10:36; 1 Ин 4:15; 5:5). Конечно, Иоанновы авторы сохраняют исповедание Иисусова мессианства (см. выше § 10.4), но они, видимо, считали необходимым переосмыслить его, трансформировать его в исповедание "Иисус — Сын Божий". Отсюда и Ин 11:27, 20:31, которые надо переводить: "Ты — Христос, то есть Сын Божий…", а не "…Христос
и Сын Божий" (аналогично 1 Ин 2:22сл.; 5:1, 5–12).
С Матфеем — во многом похожая ситуация. Он сохраняет исповедание Иисуса Мессией и Сыном Давида (без сомнения, все еще важное для его (палестинских) иудейских читателей; см. выше § 10.4). Однако, учитывая более широкую читательскую аудиторию, использует и христологию Сына Божьего. Важность исповедания Иисуса Сыном Божьим для Матфея видна из 14:33 (эпизод с хождением по воде). Его источник, Марк, заканчивает тем, что ученики были поражены, но сердца их оставались окаменелыми (Мк 6:51сл.). Матфей превращает это в четкое и ясное исповедание: "Истинно ты Сын Божий" (ср. также редакцию Мк 15:30 в Мф 27:40,43). А в рассказе об исповедании Петра в Кесарии Филипповой он делает в точности то же, что и Иоанн: объясняет исповедание "Ты — Христос" (Мк 8:29), добавляя "то есть Сын Бога живого" (Мф 16:16), — совершенно ясно, что перед нами интерпретирующая вставка. Аналогично Иоанну в Ин 11:27 и 20:31 Матфей как бы говорит: "Вот как надо понимать исповедание Иисуса Христом" (см. также 2:15; 4:3, 6; 11:27; 28:19; и ср. редакцию Мк 5:7 в 8:29, редакцию Мк 14:61 в 26:63)
[153]. Интересное предположение можно сделать на основании использования Матфеем обеих формул (Сын Давидов, Сын Божий): возможно, это Евангелие замышлялось как своего рода мост между более узко понимаемым иудеохристианством (и иудаизмом), с одной стороны, и иудеохристианством, гораздо более проникнутым эллинистическими категориями, — с другой (см. ниже § 76.6). Если добавить свидетельства Иоанна и Послания к Евреям, — три этих документа представляют собой, пожалуй, ярчайшее выражение эллинистического иудеохристианства в Новом Завете, — напрашивается вывод: в эллинистических иудеохристианских кругах самым влиятельным исповеданием было "Иисус — Сын Божий".
Почему так? Очевидно, для языческой аудитории титул "Сын Божий" значил больше, чем титул "Мессия". Более того, он мог служить хорошим
мостом между иудейской и языгеской мыслью: оба общества были знакомы с той идеей, что хорошего или великого человека могут величать сыном Божьим; в обоих обществах фраза "сын Божий" могла указывать на божественность. Возможно, в некоторых иудеохристианских кругах также присутствовала и тенденция избегать слова
kyrios (Господь), ибо оно ставило под угрозу иудейский монотеизм
(kyrios никогда не употребляется в Иоанновых посланиях). Титул "Сын Божий" был одной из очевидных и привлекательных альтернатив. А если его наполнить специфически христианским содержанием, оно могло стать столь же возвышенным исповеданием, сколь и "Иисус — Господь" (см. ниже § 12.4). Несомненно, именно это происходит в словоупотреблении Иоаннова корпуса (Ин 1:14,18; 3:16,18; 10:36; 1 Ин 4:9). В то же время для христиан фраза имела особый подтекст, которого было лишено слово
kyrios; и она обеспечивала такую связь с самопониманием Иисуса, какой не было у
kyrios.
11.4. Исповедание Иисуса Сыном Божьим имело также большое значение в
языкохристианстве. Это особенно видно из его употребления у Марка, где титулу "Сын Божий" принадлежит одна из центральных ролей (см. особенно Мк 1:1,11; 3:11; 5:7; 9:7; 12:6; 13:32; 14:61; 15:39). Не следует, однако, переоценивать в этом отношении различие между эллинистическим иудеохристианством и языкохристианством. С учетом наших прежних замечаний (см. выше § 8.2), пожалуй, имело бы смысл охарактеризовать Марка (аналогично Матфею) как своего рода мост, — на сей раз мост между языкохристианами и христианами из иудейской диаспоры. В пользу этой гипотезы говорят предание об авторстве иудея Марка и впечатление, что оно было написано в языческом контексте. Отметим:
исповедание "Иисус — Сын Божий" оказалось способным преодолеть культурные и национальные границы, сохранив значимость и поныне, — качество, отличающее его от исповеданий, рассмотренных ранее.
Однако это качество легко может обернуться слабостью и опасностью для исповедуемой веры. Ибо слова и фразы, которые легко переходят из одного языка в другой, в реальности, хотя это и не сразу заметно, никогда не остаются теми же: в новой культуре они начинают вбирать смыслы, присущие ее языковому контексту и чуждые контексту прежнему. В результате они могут обрести совершенно иной ряд смыслов, сами по себе оставшись без изменений. Видимо, нечто подобное произошло с исповеданием "Сын Божий" в церквах языческой миссии, ибо по некоторым признакам в эллинистическом христианстве
[154] фраза "Иисус — Сын Божий" стала средством выражения довольно
разных и расходящихся между собой христолочий. Если читать Марка между строк, создается впечатление, что христология Сына Божьего использовалась просто для того, чтобы изобразить Иисуса великим чудотворцем, — это получило (некорректное) наименование концепции "божественного мужа" (см., например, Мк 3:11; 5:7; 9:7)
[155]. Более очевидно, что за Евангелием от Иоанна стоит докетическое понимание Христа (см. ниже § 75.1). Марк и Иоаннов круг решительно выступают против таких христологий. Марк делает это, изображая Иисуса одновременно Сыном Божьим и страдающим Сыном Человеческим. Иоанновы писания с этой целью вводят другую вероисповедную формулу: "Иисус Христос, пришедший во плоти" (1 Ин 4:2; 2 Ин 7; ср. Ин 1:14; 1 Ин 5:6), — явно полемический слоган против докетических представлений о Христе и любого непонимания его богосыновства. Как мы уже отмечали (§ 6.2), Иоанн позволяет своей вере в Иисуса как прославленного Сына Божьего активно окрашивать образ земного Иисуса, — пожалуй, даже слишком активно, скажут некоторые. Временами он приближается к опасной границе, где его вера в Иисуса почти перерастает в откровенный миф (см. ниже § 64.2). Однако эксплицитное исповедание в 1–м Послании Иоанна, что Иисус Христос пришел во плоти, показывает: Иоаннов круг не пересек эту грань. Евангелие от Иоанна и 1–е Послание Иоанна уверенно утверждают реальность земной жизни Иисуса, и тем самым единство и преемство между земным Иисусом во плоти и прославленным Сыном Божьим (см. ниже § 64.2–4).
Абстрагируясь от христианских документов I в., стоит вспомнить: исповедание Иисуса Сыном Божьим стало ключевым описанием Иисуса в классических символах веры, основным языковым средством исповедать одновременно божественность Иисуса и его отличие от Бога Отца ("…Сын Божий… единородный, от Отца рожденный… рожденный, не сотворенный…"). В какой мере это никейское исповедание соответствует вышерассмотренным писаниям или представляет собой корректное развитие первоначальных исповеданий Иисуса Сыном Божьим, — вопрос важный и заслуживающий размышления. По меньшей мере он напоминает нам, что признание единства и многообразия новозаветных текстов имеет последствия, выходящие далеко за рамки самого Нового Завета (см. далее главы X и XV).
§ 12 Иисус — Господь
12.1.
Для Павла и его церквей это исповедание, несомненно, было главным. Павловы послания используют титул Господь"/Господин"
(kyrios) около 230 раз. То, что Иисус есть Господь, — одно из центральных положений Павловой керигмы (2 Кор 4:5; Кол 2:6). "Иисус — Господь" — базовое исповедание при обращении и инициации (Рим 10:9). "Иисус — Господь" — отличительная черта вдохновенности Духом Божьим (1 Кор 12:3). "Иисус — Господь" — кульминационное выражение вселенского почитания в Флп 2:11. Термин
kyrios также часто применяется к Иисусу авторами Лк–Деян и Соборных посланий (реже — в других текстах, и, как ни странно, его вообще нет в Иоанновых посланиях). Не менее важно раннее арамейское призывание, отраженное у Павла в 1 Кор 16:22: "Маранафа" ("Господь наш, гряди!"), — где
mara(п) есть эквивалент
kyrios.
История исповедания Иисуса Господом в первохристианстве в основном вращается вокруг вопроса: сколь значимым было применение этого титула к Иисусу? Какую роль и какой статус приписывало Иисусу (или признавало принадлежащими Иисусу) это исповедание? Ответы, которые дает нам первохристианство, разнообразны, и мы не всегда можем быть уверены, что правильно их слышим. Проблема состоит в том, что "господь" может отражать весь спектр достоинства, — от уважительной формы обращения как к учителю до полновесного божественного титула
[156]. Где в рамках этого спектра находятся раннехристианские упоминания о господстве Иисуса? Ответ, по–видимому, таков:
в течение первых нескольких десятилетий христианства исповедание Иисуса "Господом" переместилось в своем значении от нижнего конца "спектра величия" к верхнему концу спектра, все больше становясь намеком на божественность.
12.2. Согласно Матфею и Луке,
к Иисусу во время его служения регулярно обращались как к "Господу"/"господину", — у Матфея преимущественно в контексте рассказов о чудесах (Мф 8:2,6,8,25; 9:28; 14:28,30 и т. д.), у Луки преимущественно в контексте учения (Лк 9:59, 61; 10:40; 11:1; 12:41 и т. д.). Не приходится сомневаться, что как минимум в нескольких из этих случаев за греческим
kyrie стоит арамейское
mari. Словом
mar именовался, в частности, Абба Хилкия, святой I в. до н. э., — видимо, в признание приписываемых ему харизматических способностей
[157]. Более того, во времена Иисуса слово "господин" было во многом синонимично слову "учитель", а Иисус, конечно, считался имеющим авторитет раввина или учителя (Мк 9:5,17, 38; 10:17, 35, 51 и т. д.). Эквивалентность "учителя" и "господина", возможно, отражена в Ин 13:13сл. и вполне может стоять за использованием
kyrios в Мк 11:3 (ср. Мк 14:14). Поэтому можно констатировать
исповедание Иисуса Господом было укоренено в служении Иисуса постольку, поскольку он был широко признан как (харизматический) учитель и целитель (ср. Мк 1:22, 27; 6:2; 11:28). Вкладывал ли уже сам Иисус в это понятие более высокое значение, зависит от того, как оценивать Мк 12:35–37. Даже если данный отрывок содержит аутентичное слово исторического Иисуса (вполне возможно), оно может означать лишь то, что Иисус считал Мессию фигурой выше Давида по значимости и наделенной особой благосклонностью Яхве. Отсюда необязательно выводить, что Иисус рассматривал Мессию как фигуру божественную (в конце концов Пс 110 первоначально относился к царю; см. также ниже § 12.4, прим. 45).
12.3. Как исповедание,
"Иисус — Господь" восходит преимущественно к вере первохристиан, возникшей после Воскресения. По–видимому, именно вера в воскресение Иисуса из мертвых дала слову "господин" решающий толчок, в результате которого оно резко повысило статус в "спектре величия", обретя намек на божественность. Согласно Деян 2:36 и гимну, процитированному Павлом в Флп 2:9–11,
kyrios — титул, данный Иисусу после его воскресения/прославления и благодаря ему. Ярким подтверждением значимости Воскресения в этом плане служит использование Лукой этого титула. Когда он рассказывает в своем Евангелии о каком‑нибудь эпизоде, для него вполне естественно назвать Иисуса "Господом". Но персонажи, задействованные в эпизоде, никогда так не говорят. Впервые Иисуса называет "Господом" один из его современников сразу после Воскресения (Лк 24:34)
[158]. При всей высокой христологии созданного Иоанном образа воплощенного Логоса (включая вереницу титулов в Ин 1 и сознание Иисусом своего предсуществования)
kyrios не используется современниками Иисуса до Ин 20:28; сам евангелист, в отличие даже от Луки, выказывает явную сдержанность в применении данного титула к Иисусу до Воскресения
[159]. Иными словами, здесь, как и в других текстах, мы видим убеждение:
Иисус стал Господом вследствие своего воскресения и прославления.
Не вполне ясно, какой статус на этой первоначальной стадии мыслился за Иисусом как за воскресшим Господом. Если судить по 1 Кор 16:22, Иак 5:7сл., Откр 22:20, а также 1 Фес и 2 Фес (самые ранние Павловы послания, где часто употребляется слово
kyrios), господство Иисуса предполагало достоинство и власть
Судьи, которому вскоре предстояло возвратиться. К этому моменту титул "Господь" уже начал впитывать смыслы данииловского "Сына Человеческого" (вполне возможно, через комбинацию Пс 110:1 и Дан 7:13 в раннехристианской апологетике)
[160]. Мы
не можем сказать, сколь далеко "Господь" тем самым продвинулся по "спектру величия" и усматривали ли христиане, подобным образом исповедовавшие Иисуса, здесь намек на божественность (ср. в конце концов Мф 19:28/Лк 22:29сл.). С другой стороны, смысл, в котором слово "Господь" применяли к Иисусу его современники, был оставлен далеко позади
[161] (хотя, возможно, воскресение Иисуса отчасти рассматривалось как божественная печать одобрения на ту власть, которую он проявлял в качестве учителя и чудотворца; см. далее § 50.3). С большей долей уверенности можно говорить, что исповедание
mara вряд ли было для первоначальных церквей самым важным. В частности, оно не было средством благовестия в иудейской миссии (в отличие от исповедания Иисуса Мессией и Сыном Божьим — у эллинистических иудеев)
[162], — хотя из Мк 12:35–37 и Варн 12:10сл. вполне можно заключить, что оно фигурировало в иудеохристианской апологетике с раннего периода. Однако 1 Кор 16:22, Откр 22:20 и Дидахе 10:6 наводят на мысль, что исповедание Иисуса "Господом"
(mara) у первых христиан
совершалось прежде всего в рамках их собственного богослужения, на которое наложило долговечный отпечаток. Лишь в эллинистическом христианстве исповедание "Иисус — Господь" стало по–настоящему заметным.
12.4. В эллинистических кругах исповедание
mara, естественно, переводилось греческим
kyrios. Более того, согласно Деян 11:20, именно слово
kyrios избрали первые проповедники евангелия язычникам. С этим переходом исповедание "Иисус — Господь" обрело еще большую значимость.
1. Титул
kyrios прочно закрепился за культовым божеством в некоторых мистериальных религиях (в частности, Исиды и Сераписа) и постепенно становился ключевым титулом в почитании императора ("Кесарь Господин").
2. Еще существеннее и то, что в греческих переводах Ветхого Завета, которыми пользовались Павел и церкви, словом
kyrios переводилось божественное имя (Яхве). Иными словами,
только в момент перехода от mara к kyrios
исповедание "Иисус — Господь" стало четким утверждением божественности прославленного Иисуса. И сделано это было вполне сознательно. Поразительно, как Павел использует ветхозаветные тексты, говорящие о
Яхве, прилагая их к
Иисусу (напр., Рим 10:13; 1 Кор 2:16). Особенно интересно, что он берет один из самых строгих монотеистических отрывков Ветхого Завета (Ис 45:23) и применяет его к прославленному Иисусу в Флп 2:10сл. (о гимне, который имел хождение еще до того, как Павел им воспользовался; см. ниже § 35.3). По всей видимости, здесь "Иисус — Господь" — уже исповедание не просто богоданной власти, но самой
божественности.
Означает ли это, что Иисуса исповедовали как Бога с самых первых дней существования эллинистического христианства? Утверждать это было бы слишком смело.
Во–первых, возникновение исповедания Иисуса, предполагающего его божественность, облегчалась активным использованием Пс 110:1 с очень раннего периода (см. особенно Мк 12:36; Деян 2:34сл.; 1 Кор 15:25; Евр 1:13).
Сказал Господь Господу моему:
"Седи одесную Меня,
Доколе положу врагов твоих
В подножие ног твоих"[163].
Этот отрывок важен двойным использованием слова
kyrios. Одно из них относится, несомненно, к Яхве — но второе? Во втором случае речь явно не о Яхве, но о некой прославленной фигуре, которую псалмопевец именует
kyrios[164].
Во–вторых, Павел называет Иисуса
kyrios, но, по–видимому, воздерживается от того, чтобы назвать его "Богом". (Единственный реальный кандидат в основных Павловых посланиях — Рим 9:5, но даже там текст неясен.) Не встречаем мы у него и молитв, обращенных к Иисусу. Скорее он обычно молится Богу через Христа (Рим 1:8; 7:25; 2 Кор 1:20; Кол 3:17)
[165].
В–третьих, для Павла "Иисус — Господь" — лишь часть более полного исповедания. Ибо, исповедуя Иисуса Господом, он одновременно утверждает: "Бог — один" (1 Кор 8:5сл.; Еф 4:5–6). Здесь христианство выказывает себя развитой формой иудаизма: его монотеистическое исповедание — одна из важнейших частей иудейского наследия, ибо фундаментальное исповедание иудаизма как раз и гласит, что "Бог — один". "Есть только один Бог" (Втор 6:4). Отсюда также Рим 3:30; Гал 3:20; 1 Тим 2:5 (ср. Иак 2:19). В палестинской и иудейской миссии такое утверждение могло быть излишним, поскольку иудеи и христиане разделяли веру в единство Бога. Но в языческой миссии эта иудейская предпосылка в христианстве неизбежно должна была стать заметной (перед лицом широкой веры во "многих богов"). Следует отметить, что
Павел мог величать Иисуса Господом не для того, чтобы отождествить его с Богом, а, наоборот, чтобы отличить его от единого Бога (см., в частности, 1 Кор 15:24–28; см. также ниже § 56.2). Кроме того, говорить о Господстве Иисуса в космических категориях можно было и не создавая особых проблем для монотеизма, ибо готовую и подходящую терминологию предоставляли размышления о Премудрости (см. также Ин 1:1,18; 1 Ин 5:20; ср. Тит 2:13).
12.5. Таким образом,
на первых порах исповедание Иисуса Господом лишь дополняло исповедание единого Бога. Здесь мы видим начало двухчастного исповедания: Бог — един, Иисус — Господь. Пока ранняя Церковь довольствовалась двусмысленностью исповедания
kyrios, проблем не возникало. Но уже с самого начала между этими двумя частями наметилось трение, и постепенно оно всплыло на поверхность:
как утверждать единство Бога, не умаляя Господство Иисуса; как утверждать Господство Иисуса, не умаляя единство Бога? Новозаветные авторы не пытались глубоко разобраться в данном вопросе. Хватало ли Павлу решения, намеченного в 1 Кор 15:24–28? Еф 1:20–23 и Кол 1:15–20 показали бы проблему с этим решением. Автору Послания к Евреям оказалось достаточно поставить сильный адопцианский язык рядом с псалмом, возвеличивающим прославленного Христа как "Бога" (Евр 1:9 — см. далее ниже §§ 51.2,57.2). Лишь четвертый Евангелист предпринимает достаточно последовательную попытку решить этот вопрос в своей христологии Отца–Сына. Его Евангелие увенчивается поразительными словами Фомы о воскресшем Иисусе: "Господь мой и Бог мой!" (Ин 20:28). Безусловно, здесь слово
kyrios перешло на самый верх спектра величия, — хотя не исключено, что восклицание Фомы корректнее рассматривать как преувеличенную форму поклонения, а не как тщательно сформулированное исповедание (см. также Ин 1:1,18; 1 Ин 5:20; ср. Тит 2:13).
Как известно, в последующие века напряжение между Господством Иисуса и единством Бога стало центральной проблемой богословия. Доныне оно является главным камнем преткновения в христианско–иудейском и христианско–мусульманском диалоге. Во многом эта базовая проблема лежит и в основе значительной части современного христианского богословия: как говорить о Боге и Иисусе в наше время?
§ 13 Жизненные ситуации первоначальных вероисповедных формул
В вышерассмотренном материале очевидно прослеживается несколько вероисповедных ситуаций, — ситуаций, которые стимулировали христиан кратко и четко изложить, в чем заключается центральный элемент их новой веры, в чем состоит специфика их веры.
13.1. Самая очевидная жизненная ситуация —
провозвестие: "Иисус есть Христос" (Деян 5:42; 9:22; 17:3; 18:5,28; 1 Кор 1:23), "Иисус есть Сын Божий" (Деян 9:20; Рим 1:3сл.), "Иисус есть Господь" (Деян 2:36; 10:36; 11:20; Рим 10:9; 2 Кор 4:5; Кол 2:6). Как раз и следует ожидать, что специфика христианского благовестия найдет выражение в формулировках вероисповедного типа (особенно когда провозвестие преподносится в форме резюме).
Как мы уже отмечали в начале данной главы, многие ученые рассматривали крещение как основную и чуть ли не единственную жизненную ситуацию для этих исповеданий (§ 8). И впрямь естественно ожидать, что вероисповедные утверждения будут играть заметную роль в процессе становления христианином (особенно в момент выбора). Однако на самом деле в Новом Завете нет четкой связи между крещением и вероисповедными формулами. Самый ясный случай содержится в западном тексте Деян 8:37, где эфиопский евнух перед крещением исповедует: "Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий". Однако западный текст не оригинальный, а потому в Деян 8:37 следует видеть крещальную формулу более позднего поколения (см. ниже § 36.2). В самом Новом Завете ближе всего к крещальному исповеданию как таковому — Рим 10:9: обращение и публичное исповедание связаны воедино, — и это, естественно, предполагает ситуацию крещения. В остальном же
нет никаких внутренних оснований связывать какую‑либо из вероисповедных формул в Новом Завете со специфически крещальным контекстом[166].
13.2. Богослужение. Как ни странно, некоторые наиболее эксплицитно вероисповедные формулы обнаруживаются в контексте богослужения (Ин 20:28; 1 Кор 12:3; Флп 2:11; 1 Ин 4:1–3; см. также 1 Кор 16:22). Напрашивается идея литургического происхождения этих исповеданий, но она не проходит. Ибо "литургия" предполагает нечто продуманное заранее, структурированное и установленное; напротив, эти богослужебные контексты знаменательны своей спонтанностью. В частности, два исповедания (1 Кор 12:3; 1 Ин 4:1–3) мыслятся как изреченные под непосредственным вдохновением Духа, возможно, в экстатических высказываниях (хотя "экстаз" — тоже не очень подходящее слово). В обоих случаях ситуация — богослужебное собрание, когда вдохновенное речение могло быть проверено остальной частью конгрегации. Нет нужды предполагать, на основании Дидахе 10:6, что 1 Кор 16:22 ("Господь наш, гряди!") первоначально или вообще когда‑либо во времена Павла принадлежало к евхаристическому контексту. В самом послании (как и в Откр 22:20) ничто не указывает на такой специфический контекст
[167]. В частности, гипотеза, будто Павел ожидал, что за чтением его послания сразу последует вечеря Господня (причем завершение письма послужит введением к вечере!
[168]), плохо согласуется с нашими сведениями о Павловых церквах и об отношениях Павла с ними. Она предполагает такую степень регулярности коринфского богослужения в плане порядка и формы, какую не подтверждает само послание 1 Кор (1 Кор 11:24сл. — хлеб и вино как часть полной трапезы). И неужели Павел ожидал, что его послание просто прочитают (как сейчас на евхаристиях читают Писание!), не уделив времени ни размышлению, ни дискуссии (ср. 14:29)? Одним словом, сказанное о крещении (см. выше § 13.1) не менее применимо здесь (см. также ниже § 51.1, прим. 21).
Создается впечатление, что во время богослужения первоначальных церквей часто имели место восклицания и крики вероисповедного характера. У восторженных верующих (и конгрегации?!) вырывался тот клич, который одновременно резюмировал их веру, выражал их поклонение и идентифицировал их с конгрегацией. Здесь вероисповедные формулы играли важную роль в развитии самосознания и самопонимания Церкви и наверняка не раз служили одной из форм благовестия (ср. 1 Кор 14:23–25).
13.3.
Конфронтация. В конфронтации с другими верованиями вероисповедные формулы, конечно, играли важную роль, подчеркивая специфику христианской веры. Поэтому не приходится удивляться, что значительная часть этого материала принадлежит к
апологетическим и полемическим контекстам: Деян 9:22,17:3,18:28 — более апологетическая ситуация; Ин 9:22,12:42 — ситуация, где очень обострилась конфронтация с иудаизмом; 1 Кор 8:5сл. — конфронтация с политеистическими религиями греческого язычества; 1 Ин 2:18–23, 4:1–3, 2 Ин 9–11 — исповедание Иисуса есть отличительный критерий истинной веры в спорах, вызванных синкретическими силами в Иоанновой общине (ср. 1 Кор 12:3); 1 Тим 6:12сл., Евр 3:1,4:14,10:23 — исповедание Иисуса есть отличительная черта христианина во время гонений, твердый столп, к которому он прилепляется, когда вере угрожают многочисленные искушения и беды.
§ 14 Выводы
14.1. Главная функция любого исповедания — показать
специфику выражаемой веры. В чем же специфика вероисповедных формул, которые мы рассмотрели выше? На мой взгляд, она состоит в
убеждении: конкретная историческая фигура, иудей Иисус, отныне прославлена, — Иисус продолжает быть
представителем Бога, превосходящим всех других претендентов на титулы "Господь" и "Сын Божий". Здесь следует отметить три момента.
A. Исповедуется сам
Иисус, а не его идеи, вера или учение как таковые. Здесь находит выражение не вера Иисуса, а вера
в Иисуса. В Новом Завете нет исповеданий, в которых говорилось бы просто о значении исторического Иисуса. Дела и слова Иисуса нигде не составляют центральный или единственный элемент исповедуемой веры.
B. Исповедуется
нынешний статус Иисуса — не то, кем он был, а то, кто он есть. Это особенно очевидно в случае с исповеданием
kyrios, поскольку это — титул прославленного величия, который стал применяться к Иисусу в необычном ключе лишь после Воскресения. Но это можно сказать и о титулах "Сын Человеческий", "Сын Божий" и даже "Мессия". Выражение "Сын Человеческий" обрело вероисповедную роль только тогда, когда слова Иисуса о
bar '
enāšā кристаллизовались в утверждение, эксплицитное или имплицитное, о нынешней апокалиптической значимости прославленного Иисуса. Аналогичным образом в Рим 1:3сл., Деян 13:33 и Деян 2:36, 3:20 отражена ранняя вера в то, что лишь при пасхальных событиях Иисус обрел (или полностью обрел) статус "Сына Божьего" или "Христа". Только исповедание "Иисус Христос пришел во плоти" привязано к исторической ретроспективе, — но и оно говорит о нынешнем, прославленном Христе. Однако в трех основных исповеданиях обязательно используется настоящее время: "Иисус
есть…"
С. Как напомнил В. Нойфельд, в каждом случае субъектом исповедания является
Иисус[169]; исповедуется именно историческая личность. Иными словами, каждое исповедание сохраняет важную связь между исторической личностью и тем, кто сейчас есть Источник жизни, оправдания и силы.
Иисус, — тот самый Иисус, который был, —
есть и продолжает быть Христом, Сыном Божьим, Господом. Отсюда вытекает вывод, существенный для поиска нами объединяющего элемента в первохристианстве: отличительная черта, выраженная во всех рассмотренных исповеданиях, и основа христианской веры, исповедуемой в новозаветных текстах, —
единство между земным Иисусом и Прославленным, который каким‑то образом участвует в нашей встрече с Богом здесь и теперь (или составляет часть этой встречи).
О других, более конкретных, выводах из материалов данной главы (относительно преемства между вестью самого Иисуса и самопониманием/верой первохристиан) мы поговорим впоследствии (см. ниже § 50).
14.2. Эти исповедания показывают специфику веры, исповедуемой в
различных конкретных ситуациях. Мы не обнаружили единственного и окончательного исповедания, пригодного всегда и в любой обстановке. И можно почти не сомневаться, что любая попытка отыскать такое единственное первоначальное исповедание потерпит крах. Зато мы нашли не менее трех исповеданий, каждое из которых заслуживает названия "базового и первоначального". Три
разных исповедания — разных, ибо христиане, которые их использовали, были разными; разными были и их обстоятельства. Несколько упрощая и вынося за скобки традицию Сына Человеческого (одно из важных выражений эсхатологической веры первоначальной общины), можно сказать: "Иисус — Мессия" — видимо, главное исповедание палестинских иудеохристиан, "Иисус — Сын Божий" — эллинистических иудеохристиан, "Иисус — Господь" — языкохристиан. Или, говоря точнее: "Иисус — Мессия" — важнейшее исповедание в иудейской Палестине, "Иисус — Сын Божий" — в ситуации эллинистического иудаизма, "Иисус — Господь" — среди язычников.
Почему каждое из них было важным именно в своей сфере? Наверное, потому, что каждое было самым
актуальным и
осмысленным выражением христианской веры в той ситуации. Они были самыми важными, поскольку были самыми актуальными и осмысленными. Но это также означает, что ситуации, в которой исповедовалась вера, принадлежало решающее слово в оформлении вероисповедания. Ситуация порождала исповедание. Она обеспечивала языковое содержание исповедания и вносила вклад в его смысл. И мы видим, что язык, который был важным и осмысленным в одном контексте, становился бессмысленным и неуместным — в другом (Сын Человеческий); или что вероисповедная формула расширяла значение, переходя из одного языка в другой ("Иисус — Господь"). Лучший пример — это, пожалуй, развитие исповедания Иисуса "Христом". Сам Иисус отклонял (или, по крайней мере, не приветствовал) данный титул из‑за ассоциаций, которые тот имел в современной ему Палестине. Потом это исповедание стало ключевым для палестинского христианства, подчеркивавшего свою самобытность в контексте иудаизма (сначала апологетически, затем полемически). Однако, по мере того как христианство выходило за пределы иудаизма, исповедание "Иисус — Мессия" становилось все менее и менее актуальным. Слово "Христос" стало не более чем просто именем собственным; исповедание приходилось объяснять, дополнять, — и в результате оно было вытеснено исповеданием "Иисус — Сын Божий". Однако впоследствии, во время конфронтации с докетическими представлениями, "Иисус — Сын Божий" также перестало быть адекватным выражением христианской веры (с ним легко соглашались многие гностики). Поэтому оно было дополнено исповеданием "Иисус Христос пришел во плоти". И так далее. Факт остается фактом:
исповедания, выросшие в одном контексте, не остаются теми же, когда контекст меняется. Новые ситуации порождают новые исповедания. Христианство, которое перестает разрабатывать новый вероисповедный язык, перестает исповедовать свою веру современному миру.
14.3. Отметим напоследок
простоту рассмотренных исповеданий: "Иисус — Христос", "Иисус — Сын Божий", "Иисус — Господь".
Это существенно, что веру можно свести к таким простым утверждениям. Уметь сформулировать специфику своей веры в одной фразе, уметь выразить свое поклонение в одном слове, уметь сплотиться вокруг единого знамени, уметь держаться просто выраженного убеждения перед лицом гонений и испытаний, — это важно. Новозаветные исповедания не теряют себя в философских абстракциях и богословских глубинах. Они не снабжены оговорками. Они не только для христиан утонченного склада, но и для так называемых "простых верующих". Они — как рекламные лозунги, краткие афористические формулы, которые резюмируют большие притязания. Такие лозунги необходимы, ибо без них вера никогда не может быть верой масс. Но, будучи своего рода афоризмами, они чреваты упрощениями и отсутствием более точных дефиниций. У них — все плюсы и минусы афоризмов. (Предполагается, что лозунг силен, когда хорошо отражает некий фундаментальный принцип. И опасен, когда становится всего лишь орудием бездумного фундаментализма или разногласий — ср. Мф 7:22сл.; 1 Кор 1:12.)
Важно также понимать, что
единство веры в конкретных ситуациях во многом зависит от простоты исповедания. Всякий лозунг предполагает упрощение. Однако более полная дефиниция быстро приводит к
разделениям, причем разделениям ненужным. Вера первоначальных церквей сводима к этим простым формулам, которые работали в разных ситуациях; но интерпретация формул никогда не была жестко определена. Эти формулы также не допускали единообразного расширения и не требовали единого образа поведения.
Таким образом, перед нами снова вырисовывается образ единства и многообразия:
единства в различных базовых исповеданиях (первые верующие утверждали в них
прославление человека Иисуса и
преемство между Иисусом из Назарета и Тем, кто дал им возможность прийти к Богу);
многообразия в различии этих базовых исповеданий, в различии породивших их жизненных ситуаций, в том, как вера исповедовалась в разных ситуациях и как исповедания интерпретировались, дополнялись и изменялись.
IV. Роль предания
§ 15 Введение
Почти все согласятся, что в книге о единстве христианства важно уделить большое внимание "благовестию" и "символам веры". Многие, однако, усомнятся, что в связи с единством стоит поговорить и о предании/традиции. Ибо предание/традиция по определению означает унаследованные из прошлого церковные учения и обычаи, которые формально отличаются от слов Писания. Многие протестанты, в частности, будут против самой мысли, что предание может соперничать с Писанием в определении христианских учений и обычаев, — причем не без антипатии вспомнят, как Тридентский собор 1546 г. выступил против протестантской идеи о самодостаточности Писания, приказав считать предание и Писание равными по авторитету
[170]. Однако в реальности
каждая церковь и каждая деноминация в значительной степени сформирована преданием, — преданием о том, как интерпретировать Писание; о том, какие (ограниченные) уроки выносить из Библии; о том, как совершать богослужение; о том, как управлять церковью. Именно принятие этих преданий составляет на практике узы единства в каждой деноминации. Соответственно нежелание для одной традиции полностью признать другую традицию — один из главных камней преткновения в экуменическом движении. Тем, кто не признает и не хочет признавать влияние традиции на формирование их собственного учения, куда сильнее угрожает опасность быть порабощенным этой традицией, чем тем, кто не делает секрета из своего долга перед традицией
[171]. Очевидно поэтому, что изучение объединяющих и разъединяющих факторов в первохристианский период должно включать изучение роли традиции в формировании христианских учений и обычаев этого периода.
Вопрос, здесь поставленный, крайне интересен, особенно если определять предание через его отличие от Писания (как выше). Ибо в I в. Нового Завета как такового не существовало. Для первохристиан единственным "Писанием" был Ветхий Завет (с оговорками — см. ниже §20). Все, что нам сейчас известно как Новый Завет, находилось в процессе формирования. Этот материал имел форму преданий: преданий, связанных с Иисусом, с Петром, с Павлом и т. д. Благодаря
Traditionsgeschichte (метод изучения истории первохристианских преданий) стало во многом очевидно:
различные новозаветные документы сами представляют собой предания, причем предания развивающиеся, которые мы застаем в разные моменты их развития. Новозаветные тексты не только плод творческого вдохновения: они также воплощают учения и обычаи, зафиксированные на письме в те или иные моменты своего развития. Вот почему столь важен подход
Traditionsgeschichte: при попытках реконструировать конкретные исторические обстоятельства и контекст каждого предания, есть надежда, что в предании снова увидят живую силу в христианской истории I в. Именно эту "живую силу" мы попробуем увидеть в данной главе.
Итак, наша задача — разобраться в роли предания в первохристианстве. Как первохристиане относились к тому, что получили от своих предшественников в вере? Как, скажем, Павел откликался на слышанное им от Анании, Петра и других об Иисусе и благовестии? В частности, становились ли предания, получаемые первохристианами, основой их единства, работали ли они на практике как узы единства в общинной жизни? В некотором смысле мы уже немало об этом говорили: ибо в главах II и III мы анализировали именно многообразие и развитие конкретных традиций, — традиций керигматических и вероисповедных. В одной из последующих глав мы поговорим о традициях литургических и катехетических (см. ниже § 36). А сейчас обратимся к роли предания как такового:
какую роль играло предание в первохристианстве? В какой мере оно способствовало единству?
§ 16 "Предание старцев"
Поскольку Иисус был иудеем, а христианство начиналось как иудейская секта, мы для начала рассмотрим иудейскую традицию I в. Как Иисус и первохристиане отвечали на религиозные предания, которые, несомненно, сыграли роль в их иудейском воспитании?
16.1.
Роль предания в иудаизме. Важно отметить, что в иудаизме времен Иисуса этот вопрос дискутировался. Преимущественно это был спор фарисеев с саддукеями. Для фарисеев Тора была как письменной (Пятикнижие), так и неписьменной (устное предание). Саддукеи же считали авторитетной только письменную Тору
[172]. Поскольку фарисеи заработали на сей счет дурную репутацию, надо попытаться понять, почему они столь высоко ставили устное предание. Фарисеи понимали: в письменном законе всех жизненных случаев не предусмотришь; и, если они не хотят, чтобы письменная Тора превратилась в архаичный реликт, Тору нужно дополнять и интерпретировать, отвечая на изменяющиеся общественные условия. Для фарисеев Тора была чем‑то более великим, более святым и актуальным для жизни, чем письменное слово как таковое. На практике это означало рост предписаний и правил, призванных решать ситуации, не оговоренные в письменном законе. Для фарисеев они были авторитетны, но не сами по себе, а только если их можно было рассматривать как толкования письменного закона, как раскрытие сокрытого в письменной Торе
4. Но если предание — оправданная интерпретация письменной Торы, его можно считать частью Торы и наделять авторитетом Торы. Саддукеи же полагали, что, коль скоро оно не есть часть письменной Торы, оно и не может обладать авторитетом.
Существовали две формы интерпретации: галаха и агада.
Галаха — это декларация воли Божьей о какой‑то конкретной ситуации, правило о том, как нужно поступить. По мере того как одно поколение сменялось другим, правила прежних учителей запоминались и передавались дальше, в результате чего возникло большое прецедентное право, охватывающее все случаи практической жизни, вопросы не только религиозные, но и гражданские и уголовные. Именно эту удлиняющуюся цепочку передаваемого учения, серию взаимосвязанных "галахот" Марк и Матфей называют "преданием старцев". Впервые оно было кодифицировано и записано в Мишне (II в. н. э.). Мишна в свою очередь стала объектом изучения, которое вылилось в создание Талмуда. Но этот процесс уже был достаточно развит к 70 г. н. э.
[173]
Агада — это интерпретация Писания, предназначенная не для регуляции поведения, а для назидания. Она была гораздо свободнее, чем галаха, — результат вольной работы воображения над содержанием Писания с целью вынести из него религиозные и нравственные уроки, полезные для благочестия и поклонения. Часть агады сохранена в Талмуде, но в основном она рассеяна по различным мидрашам. В главе V у нас будет возможность рассмотреть некоторые методы, использовавшиеся учителями времен Иисуса для того, чтобы выводить из письменного закона свои толкования и уроки (§ 21).
16.2.
Отношение Иисуса к преданию. Достаточно очевидно, что Иисус отвергал значительную часть господствовавшей галахи. Каким бы ни было его отношение к письменному закону (см. ниже § 24.5), нет сомнений, что он резко выступал против нескольких признанных установлений устного закона. Поскольку по субботам он регулярно посещал синагогу (Мк 1:21; Лк 4:16; 13:10; и ср. Мф 23:3), нельзя сказать, что он отвергал предание целиком. Однако реалии таковы, что
в единственных евангельских упоминаниях о предании как таковом Иисус решительно его критикует (Мк 7:1–13/Мф 15:1–9). В данном отрывке Иисус прямо противопоставляет "заповедь Божию" и "слово Божие" "преданию старцев". Фарисеи могли считать галаху частью Торы Божьей и радоваться ей (послушание ей — послушание Богу). Однако Иисус, похоже, находил это предание утомительным и чуждым духу любви к Богу и ближнему, — серией детальных правил, которые не стимулировали, а удушали послушание в свободной любви.
Большие сомнения Иисуса в устном предании особенно явствуют из его позиции по трем вопросам — субботы, ритуальной чистоты и обета "корван". Интерпретируя заповедь о субботе, раввины выявили 39 различных видов работы, запрещенных в субботу (в частности, "…завязывать две петли… делать два стежка… писать две буквы…")
[174]. С точки зрения Иисуса, такой подход делает людей рабами субботы; предание о субботе мешает им выполнять заповедь о любви. Субботняя галаха не только не объясняет волю Божью, но и противоречит ей (Мк 2:23–3:5). Аналогичным образом обстоит дело с фарисейскими правилами об омовении рук перед едой (Мк 7:1–8). "Предание человеческое" способствует тому, что верующий остается на уровне чисто внешнего поклонения и тем самым поощряет ханжество
[175]. Еще резче Иисус критиковал казуистику "корвана" (Мк 7:9–13): она давала повод сыну излить свой гнев на родителей, сняв с себя всякие обязательства перед ними (для этого сын посвящал храму все деньги, которые должны были пойти на поддержку родителей). Предание, зародившееся как один из способов интерпретации закона, на практике оказывалось выше закона.
Если бы Иисус родился раньше, когда предание еще не стало таким массивным, когда тенденция контролировать и ограничивать приемлемое поведение еще не стала такой заметной, его отношение к преданию в целом могло бы оказаться более положительным. Но увидев во время своего служения, к каким последствиям приводят многие правила, он полностью отверг целый ряд преданий, которыми руководствовались фарисеи, и резко выступил против того подхода, который подчинял этим преданиям религию и личные взаимоотношения.
16.3. Если Иисус подходил к преданию радикально, то
отношение первых иерусалимских христиан, видимо, было гораздо консервативнее. Судя по озабоченности иерусалимских верующих насчет трапезы Петра с необрезанным Корнилием (Деян 11:2сл.), они по–прежнему считали важным соблюдать ритуальную чистоту во время еды. Общую достоверность этой информации Деяний подтверждает как минимум наличие аналогичной озабоченности у тех иерусалимских христиан, которые вызвали конфронтацию между Петром и Павлом в Антиохии (Гал 2:12; см. далее § 56.1). Согласно Деян 21:20сл., многие иерусалимские верующие были "ревнителями закона" (в частности, ревнителями обрезания и "обычаев"). Кроме того, из Деян 6:14 ясно следует: до Стефана иерусалимские христиане были верны храму и "обычаям, которые передал нам Моисей" (ср. выше прим. 4). По–видимому, именно эта верность Торе, соблюдение Торы, письменной и устной, трансформировали оппозицию фарисеев к Иисусу в гораздо более терпимое отношение к деятельности его учеников (Деян 5:33–39); и именно это привлекло многих фарисеев в новую секту, не мешая им оставаться фарисеями (Деян 15:5; 21:20; см. далее § 54).
16.4. Совершенно иным был подход другого фарисея (или бывшего фарисея) —
Павла. Некогда Павел хранил глубокую верность отеческим преданиям (Гал 1:14). Однако обращение и последующая миссия к язычникам привели его к выводу: предания иудаизма суть оковы для веры; они не только не помогают вере, но стесняют и уничтожают ее свободу. Поэтому от иерусалимских апостолов он перенял только одно традиционное обязательство — практическую заботу о нищих (Гал 2:10). Отсюда резкие слова в Гал 4:8–11 и предупреждение против "преданий человеческих" в Кол 2:
К чему позволяете диктовать вам: "Не трогай того, не ешь этого, не прикасайся к тому…" Все это значит просто следовать человеческим заповедям и учениям. Да, это имеет вид мудрости — с ее неестественным благочестием, самоумерщвлением и строгостью к телу. Но от этого нет никакого проку в борьбе с чувственностью
(Кол 2:21–23; NEB)[176].
Здесь Павел прямо отвергает взгляды синкретического христианства, находящегося под влиянием фарисейского иудаизма (в частности, представление о необходимости для языкохристиан соблюдать замысловатое устное предание (галаху); см. далее § 61.2). Большую терпимость Павел выказывал к желанию иудеохристиан хранить верность отеческим преданиям, например, в вопросах пищевых запретов и святых дней (1 Кор 8; Рим 14). Конечно, Павел считал таких верующих "слабыми в вере" и радовался собственной свободе (Рим 14:1,14; 1 Кор 10:25сл.), — но он не настаивал, что вера во Христа требует от иудея отказываться от всех своих традиций (как и не требует она от язычников перенимать эти традиции). Лично Павел не усматривал ценности в этих преданиях как таковых (ср. 1 Кор 8:8; Гал 6:15); в компании ортодоксальных иудеев он предпочитал их соблюдать, но не возобновлял прежней приверженности им (1 Кор 9:19–22; Деян 21:23–26; ср. Рим 14:19–15:2; 1 Кор 8:9–13). Он возражал против того, чтобы люди пытались навязать друг другу собственные предания (или собственную свободу от преданий).
Одним словом, отношение Павла к иудейскому преданию было ясным:
веру во Христа невозможно и нельзя ставить в зависимость от соблюдения тех или иных преданий. Если унаследованное предание мешает свободе во Христе и мешает поклоняться Богу, от него следует отказаться. Человек с сильной верой может как соблюдать, так и игнорировать галахические правила, и ему это не вредит. А если у кого вера слаба, соблюдение иудейских обычаев способно отчасти помочь, — но тем самым вера и признает собственную немощь.
16.5. Таким образом,
отношение первого поколения христиан к иудейскому преданию было глубоко многообразным: от горячей верности на одном конце спектра до полного отрицания — на другом. Достаточно очевидно, что
иудейское предание не способствовало единству в первоначальных христианских церквах: эллинисты вскоре начали выступать против него в самой Иерусалимской церкви (см. далее § 60), а уж в церквах, состоявших не только из иудеев, но и из язычников, оно больше вызывало споры, чем служило основой общины. Павел, несомненно, не считал иудейское предание достойным того, чтобы его соблюдали все христиане. Более того, в данном вопросе наблюдается некоторый разрыв преемственности между Иисусом и первохристианами.
§ 17 Предания первоначальных общин
Что можно сказать о преданиях специфически христианских, которые существовали у первых верующих? Служили ли они основой единства в первохристианских общинах? В данном разделе мы поговорим о Павловом корпусе, поскольку эти послания дают нам самые полные свидетельства о предании ранней общины (за пределами Евангелий) и поскольку сам Павел сознательно рассматривает вопрос о роли предания в жизни христианской общины. Считал ли Павел предание объединяющей нитью в многообразии первоначального христианства? Предания, о которых идет речь, легко классифицировать по трем категориям: предание керигматическое, предание церковное, предание этическое (хотя, конечно, границы между ними местами размываются).
17.1.
Керигматическое предание. Мы уже отмечали различные керигматические и вероисповедные формулы, которые Павел унаследовал и использовал в своей проповеди (см. выше § 5.1). В 1 Кор 15:1–3 он прямо утверждает, что передал коринфянам то, что сам получил
(pare abon). Как это согласуется с Гал 1:11сл.?
Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял (parelabon) его и научился не от человека, но получил через откровение Иисуса Христа
(Гал 1:11–12; ср. 1:1,16сл.).
С одной стороны, он явно выражает свое благовестие языком традиции, переданной ему предшественниками в вере. С другой стороны, он настаивает, что его благовестие — непосредственно от Бога и не представляет собой унаследованное предание. Как объяснить это противоречие?
Лучшее объяснение таково: Павел считал керигматическое предание
подтверждением собственных убеждений об Иисусе, которые он вынес из своего обращения и поручения на дамасской дороге, а также бесценным способом выражения того, что в любом случае составляло его благовестие (ибо это предание — широко признанная, а не его частная и эксцентрическая формулировка). Проще говоря, Павел и его оппоненты в Послании к Галатам спорили не о традиционной формулировке благовестия, а о Павловой
интерпретации его. Павел был убежден: воскресший Иисус назначил его апостолом к язычникам, причем благовестие язычникам свободно от иудейского закона, письменного и устного. Именно это толкование его апостольства и керигматического предания вызывало протест у многих иудеохристиан. Таким образом,
для Павла керигматическое предание было преданием интерпретированным, — интерпретированным в свете его литой встречи с воскресшим Иисусом. Это также видно из того, как он описывает собственную проповедь. Его благовестие действенно не потому, что в своих словах он опирается на верную традицию, а потому, что эти слова даны ему Духом (ср., напр., 1 Кор 2:4сл.; 1 Фес 1:5; 2:13). Иначе говоря, даже когда Павел использовал в своей проповеди язык традиционной керигмы, это было
предание духовное, заново сформулированное под вдохновением и действием Духа
[177]. Отсюда можно заключить:
керигматическое предание было одним из объединяющих звеньев в первохристианских общинах, но могло интерпретироваться по–разному. Многие иудеохристиане толковали его в свете "предания старцев", а Павел — в свете "откровения Иисуса Христа" (полученного им на дороге в Дамаск).
17.2.
Церковное предание. Павел использует язык предания в одном из отрывков, где говорит о вечере Господней:
Ибо я от Господа принял (parelabon) то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб…
(1 Кор 11:23–25)
Это — предание о словах Иисуса, которым, по мнению Павла, коринфяне должны руководствоваться на общих трапезах. В то же время он без малейших угрызений добавляет фразу, которая, видимо, является его собственной интерпретацией полученной формулы: "Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет" (11:26)
[178]. Более того, он специально указывает источник предания о Тайной вечере — "Господь". Очевидно, это означает не столько то, что земной Иисус был первоначальным источником данного предания, сколько то, что Павел считал нынешнего, прославленного Иисуса источником данной исторической формулы, — иными словами,
формула авторитетна не потому, что она относится к преданию, а потому, что она получена и принята непосредственно по воле Прославленного (ср. настоящее время в 1 Кор 7:10)
[179]. По–видимому, здесь перед нами опять идея "духовного предания" (оно авторитетно, ибо непосредственно основано на вдохновении и актуально).
В 1–м послании к Коринфянам Павел также несколько раз апеллирует к обычаю других церквей языческой миссии (1 Кор 4:17; 7:17; 11:16; 14:33). Здесь, очевидно, возникала некая форма церковной традиции, на которую можно было ссылаться как на своего рода объединяющее звено. Впрочем, если судить по 1 Кор 7,11 и 14, то были просто обычаи, призванные помочь новым христианским группам хорошо зарекомендовать перед обществом, в котором они жили. И Павел, как творец этого предания, явно не наделял его независимым авторитетом. Оно просто подтверждало, что во всех церквах он давал одинаковые наставления.
17.3.
Этическое предание. Чаще всего Павел использует язык предания, когда говорит о поведении и нравственной ответственности новообращенных (1 Кор 7:10; 9:14; 11:2; Флп 4:9; Кол 2:6; 1 Фес 4:1; 2 Фес 2:15; 3:6). Одна из наиболее интересных особенностей этого этического предания состоит в то, что
оно, по–видимому, во многом (или даже полностью)[180] черпает свою силу в жизни Иисуса (то есть в предании об Иисусе): его словах (1 Кор 7:10 — Мф 5:32; 1 Кор 9:14 — Лк 10:7) и его делах (Рим 6:17; 1 Кор 11:1; 2 Кор 10:1; Флп 2:5; Кол 2:6; Еф 4:20)
[181]. Даже там, где мы находим призыв следовать примеру лично Павла (1 Кор 4:16сл.; 11:1сл.; Флп 3:17; 4:8сл.; 2 Фес 3:6–9), этот призыв имеет силу только потому, что сам Павел брал за образец поведение Христа (1 Кор 11:1; ср. 1 Фес 1:6).
Поэтому создается впечатление, что в этих случаях Павел опирался на вполне обширное предание об Иисусе и что его новообращенные также были знакомы с этим преданием. Такой вывод вроде бы подтверждается количеством Иисусовых учений, на которые Павел, по–видимому, дает (сознательные) аллюзии, особенно в разделах своих посланий, посвященных этике (напр., Рим 12:14; 13:9; 16:19; 1 Кор 9:4; 13:2; Гал 5:14; Флп 4:6; 1 Фес 5:2,13,15). Это в свою очередь наводит на мысль:
предания, которые Павел передавал, основывая новые церкви (1 Кор 11:2; 2 Фес 2:15; 3:6),
включали изрядное число преданий об Иисусе (трудно сказать, во фрагментарной форме или уже собранными в тематические сборники)
[182].
Это общее наследие предания об Иисусе, несомненно, служило достаточно важным объединяющим фактором в первоначальных общинах. Павел даже называет его
"законом Христовым" (Гал 6:2; ср. 1 Кор 9:21)
[183]. Однако отсюда не следует вывод, что Павел считал данное предание обязательным правилом для новообращенных. Для этого Павлова этика была слишком харизматической, слишком опирающейся на непосредственное вдохновение Духа (Рим 8:4,14; Гал 5:16,18, 25), слишком чуждой ментальности устава (Рим 6:14; 7:6; 8:2; 2 Кор 3:3, 6,17; Гал 5:16), слишком взыскующей наставления Духа в спорных и сомнительных вопросах (Рим 12:2; Флп 1:9сл.; Кол 1:9сл.; Еф 5:10)
[184]. На это указывает и то, как Павел
пренебрегает одним из эксплицитных речений Иисуса, сохранившихся в предании об Иисусе (1 Фес 2:6, 9; 2 Фес 3:7–9; ср. 1 Кор 9:14). Создается впечатление, что Павел считал этическое предание, взятое из преданий об Иисусе, не сводом
законов, которым надо повиноваться
при любых обстоятельствах, а серией
принципов, которые надо применять
в свете обстоятельств. Иными словами, перед нами опять духовное предание, —
предание, которое не есть нечто независимое от Духа или имеющее независимый авторитет, но предание, которое следует интерпретировать под водительством Духа и исполнять лишь постольку, поскольку в нем признается руководство Духа.
17.4.
Предание в Пасторских посланиях. Совсем иное отношение к преданию мы наблюдаем в последних посланиях Павлова корпуса. Видимо, ко времени написания посланий к Тимофею и Титу (конец I в.?), уже упрочился некий когерентный свод традиции, который служил критерием ортодоксии. Он именуется "учением" (1 Тим 4:16; 6:1; 2 Тим 3:10;
Тит 2:7,10) или, более конкретно, — "здравым учением" (1 Тим 1:10; 2 Тим 4:3; Тит 1:9; 2:1), "добрым учением" (1 Тим 4:6), "учением, согласным с благочестием" (1 Тим 6:3). Другие названия — "вера" (11 раз), "здравые слова" (1 Тим 6:3; 2 Тим 1:13), "переданное тебе" (1 Тим 6:20; 2 Тим 1:12,14). Содержание этой традиции не вполне ясно, но, судя по "верным словам", оно включало все три вышерассмотренные категории: керигматическое предание (1 Тим 1:15; 2 Тим 2:11; Тит 3:5–8), церковное предание (1 Тим 3:1; ср. Тит 1:9), этическое предание (1 Тим 4:8сл.; 2 Тим 2:11–13), — и, видимо, предания об Иисусе (?). Отношение к традиции глубоко консервативно: ее надлежит блюсти (1 Тим 6:14; 2 Тим 4:7), держаться (Тит 1:9), хранить (1 Тим 6:20; 2 Тим 1:12,14), защищать (1 Тим 6:1) и передавать неповрежденной от одного поколения другому (2 Тим 2:2). Очень типичен отрывок 2 Тим 1:12–14:
…Я уверен, что он силен сохранить вверенное мне до того дня. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня… Храни истину, вверенную тебе Духом Святым, живущим в нас[185].
Отметим, в частности, что даже сам Павел изображается больше как хранитель предания, нежели как автор предания; а Дух — не как интерпретатор или воссоздатель предания, но просто как сила беречь наследие прошлого
[186]. С Пасторскими посланиями мы возвращаемся почти к тому, с чего начали:
здесь мы, по–видимому, ближе к фарисейскому подходу куст–ному закону, чем к отношению Иисуса и Павла к традиции своего времени.
§ 18 Предания об Иисусе
Итак, керигматические предания и предания об Иисусе были своего рода объединяющей нитью, которая связывала различные раннехристианские церкви. Эти предания могли иметь довольно разные
функции и
разный авторитет (ср. Павел и его более консервативный ученик в Пасторских посланиях). Что касается
содержания преданий, мы уже достаточно показали многообразие форм, которые могли принимать керигматические и вероисповедные предания (см. главы II и III). Теперь необходимо подробнее остановиться на содержании и форме преданий об Иисусе. В какой мере существовал общепринятый корпус такого рода традиций, передаваемых от христианина к христианину, и обеспечивал ли он своего рода общий апелляционный суд? Существовала ли некая фиксированная традиция, которую с самого начала тщательно оберегали и с помощью которой впоследствии устанавливали учение и улаживали споры (как можно подумать из Пастырских посланий)?
18.1. Насколько можно судить, собирание преданий об Иисусе могло осуществляться по–разному.
Рассказ о Страстях — очевидно, единственный крупный блок материала, оформившийся в связное повествование в ранний период. В нем первоначальной общине оказалось важно осмыслить Иисуса как страдающего Мессию (см. выше § 10.2). Существование синоптического источника Q, содержавшего только
речения Иисуса, иногда оспаривается. Однако сильные указания в самих синоптиках получили еще большее подкрепление с открытием Евангелия от Фомы, которое представляет собой именно такой документ. Важно, что в Q, несомненно, отсутствует рассказ о Страстях. Таким образом, у нас есть свидетельства раннехристианской заинтересованности высказываниями Иисуса как таковыми, а не только его делами или его смертью и воскресением (см. далее § 62). Естественно предположить, что традиции Q во многом совпадали с этическим преданием, на которое ссылается Павел (см. выше § 17.3).
В последнее время все больше ученых считают, что Марк и Иоанн опирались на некий
"источник чудес", — цикл рассказов о чудесах, использовавшийся некоторыми раннехристианскими проповедниками для создания образа Иисуса как великого чудотворца, засвидетельствовавшего себя перед Богом и людьми могучими деяниями. Павел, надо думать, выступает именно против такого образа Иисуса во 2–м Послании к Коринфянам, — если исходить из корреляции между проповедью лже–апостолов о "другом Иисусе" (2 Кор 11:4) и их переоценкой чудес, видений и необычной речи (10:10; 11:16–20; 12:1,12 — см. ниже § 44.2). Отсюда Павлов упор на то, что сила Божья полностью проявляется лишь в немощи (2 Кор 4:7–12; 12:9; 13:3сл.), сообщающий большую глубину предыдущему акценту на "Христа распятого" (1 Кор 1:23; 2:2). Аналогичным образом, по–видимому, отвечал и Марк на похожий образ Иисуса как великого чудотворца: неслучайно он подчеркивает, что Сын Человеческий пришел пострадать и умереть (Мк 8:29–33; 9:31 и т. д.), — корректируя осмысление Иисуса исключительно в категориях рассказов о чудесах, использованных Марком в первой половине своего Евангелия (например, 4:35–5:43; 6:31–56)
[187]. Наиболее сильные свидетельства в пользу существования источника чудес мы находим в четвертом Евангелии, где есть указания и на "Источник знамений" (особенно Ин 2:11; 4:54) и на исправление евангелистом его акцентов даже там, где он заимствовал его материал (4:48)
[188]. Все это указывает еще на одно использование преданий об Иисусе в первохристианстве, опять без всякой прямой связи со смертью и воскресением Иисуса: для некоторых ранних верующих Иисус был особенно важен как чудотворец.
Одна из самых удивительных черт древнейших новозаветных текстов —
отсутствие у Павла видимого интереса к преданиям об Иисусе. Как мы уже видели, он, очевидно, знаком с таким материалом и часто на него намекает (см. выше § 17.3). Однако
прямо он указывает только на один эпизод из служения Иисуса (1 Кор 11:23–25 — предательство и Тайная вечеря); кроме этого он
прямо цитирует только два речения, полученных им из предания (1 Кор 7:10; 9:14). Не вполне ясно, какие выводы надо из этого делать, но с учетом вышесказанного, можно констатировать многообразие в использовании и неиспользовании преданий об Иисусе среди первохристиан.
18.2. Что происходило с конкретными преданиями в процессе передачи и использования? Есть ли свидетельства, что предания об Иисусе с самого раннего периода получили фиксированную форму и передавались без существенных изменений от одной общины к другой? Подобно многим другим рассматриваемым здесь вопросам, этот вопрос требует гораздо большего внимания, чем то, которое мы можем себе позволить. Мы поговорим в основном о той стадии
Traditionsgeschichte, которую анализировать легче всего, — от Q и Марка до Матфея и Луки
[189].
Возьмем для начала
повествовательные предания.
1. Некоторые повествования, очевидно, передавались
практически без изменений, за исключением стилистических и сделанных для удобства (напр., Мк 1:16–28; 2:1–12; 5:21–43; 8:1–9).
2. В других случаях мы видим некоторое развитие или
многообразие традиции, которое не представляет особого значения: например, опыт Иисуса при Иордане ("Ты сын мой…" — Мк 1:11; "Это сын мой…" — Мф 3:17; но также расширение в Мф 3:14сл.); исцеление слуги центуриона (пришел ли центурион к Иисусу лично — Мф 8:5сл.? или послал друзей — Лк 7:6сл.?); исцеление Вартимея (или двух слепых?) при выходе из Иерихона (или входе в Иерихон?) (Мк 10:46–52пар.).
3. На большую свободу в обращении с преданием об Иисусе указывают
хронологические нестыковки между контекстами некоторых повествований: Марк помещает проклятие смоковницы перед "очищением Храма", а Матфей — днем позже (Мк 11:12–25; Мф 21:12–22); согласно Иоанну, очищение Храма произошло в начале служения Иисуса, а согласно синоптикам — в конце (Ин 2:13–22). Хорошо известно, сколь трудно согласовать хронологию Иоанна с синоптическим рассказом о Тайной вечере и распятии.
4. По мнению многих ученых, двойной марковский рассказ о чуде насыщения (Мк 6:30–44; 8:1–9) и упоминание Луки о двух миссиях, посланных Иисусом (Лк 9:1–6; 10:1–12), вызваны
двумя разнящимися преданиями об одних и тех же эпизодах, полученных Марком и Лукой из отдельных источников (ср. эти две версии и их синоптические параллели).
5. В ряде случаев мы видим более
богословски обусловленное развитие предания, когда евангелист явно исправлял или поправлял источник. Например, Марк сообщает: "И
не мог совершить там никакого чуда" (Мк 6:5). Матфей исправляет: "И
не совершил там многих чудес" (Мф 13:58). Или, скажем, марковская концовка в эпизоде с хождением по воде: "И они чрезвычайно удивлялись, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено" (Мк 6:51–52). Как мы уже говорили (§ 11.3), Матфей сделал из этого следующее: "Бывшие в лодке поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий»" (Мф 14:33).
6. В одном случае различные версии эпизода столь отличаются друг от друга, что выявить первоначальную форму практически невозможно. Я имею в виду два рассказа о смерти Иуды (Мф 27:3–10; Деян 1:18сл.). О вариантных перечнях "Двенадцати" см. ниже (§ 28.2, прим. 7). Ни в одном из этих случаев я не отрицаю, что в основе разных преданий лежало некое "реальное событие", — совсем наоборот. Следует, однако, отметить:
различные рассказы о "реальном событии", по–видимому, во многих случаях постепенно расходились в процессе передачи (случайно или из богословского замысла), причем в некоторых случаях степень различия слишком велика, чтобы ее игнорировать.
18.3. Теперь рассмотрим
предания о высказываниях Иисуса. Здесь мы видим степень многообразия в передаче, сходную с описанной выше (§ 18.2).
1. Многие высказывания Иисуса сохранены с
очень высокой степенью вербального совпадения между разными евангелистами (напр., Мк 2:19сл.; Мф 8:9сл.; 12:41сл.; 24:43–51). Попутно отметим, сколь многие логии Евангелия от Фомы имеют близкие параллели в синоптической традиции (см. ниже § 62.1, прим. 40).
2. Некоторые высказывания дошли до нас в
разных контекстах. Например, речение об обретении и потере жизни помещается в два или три разных контекста (Мф 10:39; Мф 16:25/Мк 8:35/Лк 9:24; Лк 17:33; Ин 12:25); Лука дважды воспроизводит речение о светильнике (Лк 8:16; 11:33); высказывание "по плодам вашим" было либо сжато в одно Лукой (6:43–45), либо разделено на два Матфеем (7:16–18; 12:33–35). Пожалуй, еще более существенные вариантные дублеты — предупреждения в Мк 8:38, Мф 10:32сл., Лк 9:26,12:8сл. (см. также ниже § 51.1).
3. Следует также отметить Иисусовы логии, которые вполне могут претендовать на аутентичность, но
находятся за пределами Евангелий. Они выдают существование конкретных преданий, не учтенных или опущенных евангелистами. Среди хороших примеров — Деян 20:35; версия Лк 6:5 по кодексу D (слова Иисуса работающему в субботу — "Человек, если ты знаешь, что делаешь, ты благословен; но если не знаешь, ты проклят как преступивший Закон"
[190]); логия 82 из Евангелия от Фомы ("Кто близ меня, тот близ огня, а кто далек от меня, далек от Царства")
[191].
4. Некоторые высказывания получили
другую интерпретацию в ходе передачи. В частности, разные переводы на греческий язык арамейского оригинала, видимо, объясняют существенно разные версии: Мк 3:28сл. ("сыны человеческие"), но Мф 12:32/Лк 12:10 ("Сын Человеческий") (см. выше § 9.2, прим. 16); Мк 4:12 ("чтобы"), но Мф 13:13 ("потому что")
[192]. Весьма правдоподобна гипотеза Ч. Г. Додда и И. Иеремиаса, что ряд притч обрел в ходе передачи иной смысл, чем тот, который вкладывал в них Иисус. Особенно примечательна трансформация "притч кризиса" в притчи о втором пришествии (Мк 13:34–36 и различные параллели; Мф 24:43сл./Лк 12:39сл.; Мф 25:1–13)
[193]. Сопоставим также разные описания проповеди Крестителя: проповедник огненного Суда в Q (Мф 3:7–10/Лк 3:7–9), но всего лишь проповедник покаяния у Марка (Мк 1:4–8 — нет огня и суда) и всего лишь свидетель Иисуса у Иоанна (1:19–34; 3:27–30 — нет ни огня, ни суда, ни призыва к покаянию). Пожалуй, особенно интересна здесь история предания о высказывании Иисуса по поводу разрушения и эсхатологического восстановления Храма. Оно представлено лишь как лжесвидетельство в Мк 14:58/Мф 26:61, но Иоанн приписывает его самому Иисусу (Ин 2:19; см. выше § 10.1). Не вполне ясно, как понимали его первые иерусалимское верующие (как лжесвидетельство или как обетование, что Храм будет средоточием эсхатологического обновления в Израиле? — см. ниже § 67.3). Как бы то ни было, судя по Деян 6:14, Стефан усматривал здесь слово осуждения на Храм (см. ниже §§ 24.5, 60).
5. Отметим, что некоторые высказывания Иисуса
сознательно изменялись в процессе передачи (с целью придать им
иной смысл). Возьмем, например, начало разговора между богатым юношей и Иисусом. В Мк 10:17сл. оно выглядит так: "Учитель
благой! Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?" — "
Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог". Но вот версия Мф 19:16сл.: "…что
сделать мне благого, чтобы иметь жизнь вечную?" — "Что ты
спрашиваешь меня о благом? Только один благ". Отметим также, как однозначный запрет на развод в Мк 10:11 смягчен оговоркой насчет прелюбодеяния в Мф 19:9 и более снисходительным установлением о смешанных браках в 1 Кор 7:15 (см. далее § 55.1). Или рассмотрим, как ловко Лука избегает необходимости рассказывать о явлениях Воскресшего в Галилее, опуская Мк 14:28 и превращая обещание галилейских явлений (Мк 16:6сл.) в воспоминание о словах, сказанных Иисусом,
"когда был еще в Галилее" (Лк 24:6–7; см. далее ниже § 72.2).
6. В некоторых, хотя и не очень многочисленных, случаях, мы видим ясные указания на то, что речение
возникло в ранних церквах, но в ходе передачи было
добавлено к преданиям об Иисусе. Например, Мф 18:20 — почти наверняка обетование, высказанное от имени прославленного Иисуса каким‑то раннехристианским пророком и принятое церквами как речение Иисуса. Аналогичный, хотя менее ясный, пример мы находим в Лк 11:49–51. Мф 11:28–30 — видимо, пророческая интерпретация высказывания из Q (Мф 11:25–27), в котором прославленный Иисус, который на земле говорил как посланник Премудрости, отныне высказывался как сама Премудрость (см. ниже §§ 57.1, 62.1). Один из ярких примеров интерпретирующей вставки, вызванной изменением ракурса после миссии к язычникам, представляет собой Мк 13:10 (особый материал Мк, нарушающий ход мысли; использование слова "благовестие" — типично марковское). Да и Мк 13 в целом содержит массу материала для изучения истории предания (см. ниже § 67.3, прим. 27).
Можно сделать вывод:
первоначальные церкви не считали предание об Иисусе чем‑то фиксированным, неким корпусом традиции, содержание и структура которого были твердо заданы с самого начала[194]. Тот факт, что сохранилось такое количество преданий о словах и делах Иисуса, означает, что первоначальные общины берегли эти предания как сокровища и относились к ним как к авторитету в вопросах учения и обычаев (см. выше § 9.1, прим. 8). Однако сами предания не считались обретшими окончательную или окончательно авторитетную форму. Их авторитет подвергался адаптации и интерпретации под руководством пророческого Духа в изменяющихся обстоятельствах (ср. Мф 13:52).
18.4. Самая яркая иллюстрация последнего тезиса — предания об Иисусе, отраженные в ч
етвертом Евангелии (конец I в.). Достаточно беглого взгляда, чтобы увидеть глубокое отличие Иоаннова образа Иисуса от синоптического:
предания об Иисусе прошли серьезную разработку. Это, однако, не означает, что Иоанн здесь утратил связь с исторической реальностью: в отрывках, параллельных синоптическим, мы видим достаточные указания на то, что он опирается на хорошую традицию (напр., Ин 1:19–34; 2:13–22; 6:1–15)
[195]. Следовательно, можно с некоторой долей уверенности ожидать, что даже там, где параллелей нет, есть солидный традиционный фундамент, укореняющий Иоаннову надстройку в истории. (Ср., например, Лк 13:34 и Мк 14:13сл, которые подтверждают Иоанна, намекая, что Иисус имел более обширный контакт с Иерусалимом, чем можно, казалось бы, подумать по синоптикам.)
Отметим, однако, в какой мере этот материал предания был переработан Иоанном. Я уже обращал внимание на различные черты Иоанновой христологии, иллюстрирующие этот факт (см. выше §§ 6.2, 9.2,10.4, 11.3). Можно указать еще на две особенности Иоаннова подхода, более актуальные для темы данной главы, которые демонстрируют степень переработки Иоанном предания об Иисусе, — переработки, призванной ответить на требования его ситуации.
1. Иоанн организует материал в соответствии с
драматической композицией: все его Евангелие устремлено к кульминации "часа" — того часа, когда Иисус будет "прославлен", "поднят", когда он "взойдет" туда, откуда сошел
[196]. Движение к этой кульминации характеризуется нарастающим "судом"/"отделением"
(krisis), вызванным самим присутствием Иисуса (см., напр., 3:17–19; 5:22–24; 7:43; 9:16; 10:19; 12:31; 16:11)
[197]. Чтобы поставить и объяснить эту развивающуюся драму, Иоанн перекраивает дела и слова Иисуса таким образом, что их Иоаннову специфику отрицать невозможно (см., напр., развернутые разделы 4:1–42; 9; И).
2. Отметим особый характер
речей Иисуса в четвертом Евангелии. Если сопоставить эти речи, мы увидим ч
еткую модель, где мысль как бы развивается по концентрическим кругам: обычно Иисус сначала делает утверждение, которое слушатели не понимают; оно становится у Иисуса отправной точкой для более подробной формулировки и т. д.
[198] Поскольку эта модель сохраняется независимо от аудитории, — к примеру, умный иудей (Ин 3), самарянская проститутка (Ин 4), галилейская толпа (Ин 6), враждебные иудейские власти (Ин 8), ученики (Ин 14), — и поскольку она не имеет реальных параллелей у синоптиков, трудно избежать вывода, что перед нами
литературный прием, Иоаннов способ подачи своего углубленного понимания первоначального предания об Иисусе. Иными словами, в Иоанновых речах правильнее всего видеть
серию развернутых медитаций (или проповедей) над первоначальными высказываниями Иисуса или первоначальными особенностями его служения.
Таким образом, опять отсутствует представление о предании об Иисусе как о чем‑то окончательно установленном и фиксированном, что нужно только охранять и передавать. Напротив,
предание об Иисусе, очевидно, сохранялось в Иоанновой общине и Иоанновой общиной только в интерпретированной и разработанной форме. Оно было частью общинной жизни, живя и взрослея вместе с членами общины, вместе с ними отвечая на вызовы каждой новой ситуации, — и это куда ближе духовной традиции Павла, чем "здравое учение" Пастырских посланий.
§ 19 Выводы
19.1.
Предание — одна из важных объединяющих нитей в многообразии первохристианства. Не предания, характерные для иудаизма, ибо Павел со своими языческими новообращенными отвергали или игнорировали бо́льшую их часть, а Иерусалимская церковь считала их значимыми и в основном хранила им верность. Но керигматическое предание и предания об Иисусе, — те керигматические и вероисповедные формулы, те различные собрания повествований об Иисусе и высказываний Иисуса, которые были общими в разных церквах. Здесь возникает новая и немаловажная нить единства. Ибо мы уже знакомы с провозвестием и исповеданием смерти и Воскресения Иисуса как одной из составляющих единства. С ними было связано и
общее принятие преданий об Иисусе (то есть преданий о земном служении и учении Иисуса).
19.2. В этой объединяющей нити есть
несколько ярких черт многообразия. Мы уже достаточно сказали о многообразии в использовании и форме керигматических и вероисповедных преданий (главы II и III). Сейчас выяснилось, что и предания об Иисусе
использовались по–разному. Q, по–видимому, стремится сохранять подлинные слова Иисуса, — причем делает это таким образом и в такой степени, которые чужды Павлу. Марк использует повествования о служении Иисуса, создавая противовес сторонникам образа Иисуса как чудотворца по преимуществу. Есть фундаментальные различия в отношении роли традиции между Павлом и Пасторскими посланиями.
Форма и
содержание преданий об Иисусе также очень различны. Стадия перехода от Q к Марку (и далее — к Матфею и Луке) обнаруживает не только
уважение к преданию, но и определенную
свободу. И четвертое Евангелие показывает, сколь
широкой ощущалась эта свобода: оно демонстрирует такую свободу в толковании и разработке традиции, доставшейся от прежнего поколения, которая кажется расположенной просто на другом полюсе по сравнению с Пасторскими посланиями (а ведь эти авторы, видимо, принадлежали к одному поколению христианства). Без сомнения, до Пастырских посланий у нас нет свидетельств традиции как чего‑то фиксированного, стоящего над учителем (роль которого ограничивалась бы сохранением и передачей). Павел и все евангелисты (особенно четвертый) свидетельствуют об обратном:
каждая община и каждое новое поколение принимало возложенную на них (имплицитно или эксплицитно — Духом) ответственность интерпретировать полученное предание заново, соотнося его со своей ситуацией и своими нуждами.
19.3. Несколько слов следует добавить о специфически Павловой и Иоанновой (хотя отчасти и синоптической) концепции предания как
предания интерпретированного и духовного, а также о ее значении для авторитета, приписываемого преданию. С точки зрения Павла и Иоанна, керигматическое предание и предание об Иисусе обладают авторитетом, но не независимым и
не сами по себе. Они
авторитетны лишь в динамическом соединении с вдохновением Духа в настоящем. Традиция, утратившая актуальность, либо отбрасывается (иудейское предание), либо интерпретируется и адаптируется (керигматическое предание и предание об Иисусе). Это может быть сделано потому, что для Павла и Иоанна средоточие откровения не только прошлое (земной Иисус), но и настоящее (Дух Иисуса). Следовательно, авторитет строится не вокруг одного, а вокруг двух центров — предание
и Дух, — причем авторитетное выражение проповеди или учения в каждом конкретном случае принимает форму интерпретированного предания
[199].
У Иоанна в двух текстах о Параклите (Ин 14–16) мы находим своего рода апологию такого подхода. Ибо в 14:26 и 16:12–15 Параклит имеет двойную функцию: напоминает
первоначальную весть Иисуса и
открывает новую истину (в результате чего истина возвещается заново). Иными словами, подвергая предание об Иисусе обстоятельной переработке, Иоанн все же ориентируется на первоначальную традицию. 1–е Послание Иоанна постулирует аналогичное равновесие между нынешней/продолжающейся ролью Духа как учителя (2:27; 5:7сл.) и учением, дарованным "от начала" (2:7, 24; 3:11). Впоследствии нам придется вернуться к этой теме и рассмотреть ее под другим углом (см. ниже §§ 46.3, 47.3). А пока подведем такой итог: Павел и Иоанн считали предание из прошлого авторитетом, когда оно было преданием интерпретированным, — интерпретированным Духом в настоящем и для настоящей ситуации.
19.4. На протяжении части I мы собираем материал, касающийся взаимосвязи провозвестия Иисуса с благовестием/благовестиями первоначальных церквей. В данной главе мы обнаружили в этой связи два важных момента.
1. Судя по отношению ранних церквей к преданиям об Иисусе как к авторитету,
весть земного Иисуса сохраняла для них актуальность. Однако, поскольку она была авторитетна для них лишь как предание
интерпретируемое, ее авторитет состоял не столько в историческом происхождении, сколько в изреченности Тем, кто ныне был Господом общины, и в возможности рассматривать ее как выражение его воли в настоящем. Иными словами, даже в вопросе об унаследованном предании ключевым объединяющим фактором было
преемство между земным Иисусом (историческим источником предания об Иисусе) и прославленным Господом (нынешним источником интерпретируемого предания). Этот вывод усиливает выводы, сделанные в главах II и III.
2. Из продолжающейся актуальности предания об Иисусе не следует делать вывод, что керигма Иисуса и керигма первохристиан во многом совпадали. Если Павел использует язык предания для предания об Иисусе и керигматического предания, то предание об Иисусе он цитирует
только в этических вопросах и в связи с вечерей Господней, — а керигматическая традиция как таковая использует
лишь предание о смерти и воскресении Иисуса[200]. Это подтверждает, что Павел не считал керигму просто новым выражением вести и учения Иисуса.
Керигма возвещала Распятого и Воскресшего, а не прошлое учение земного Иисуса. Вопрос о взаимосвязи Иисусовой вести с вестью первохристиан, таким образом, получает частичный ответ, — но в основном остается пока нерешенным.
19.5. Те, кто ценит предание вообще или предание христиан I в. в частности, могут сделать из проделанного анализа несколько актуальных выводов.
1. Нас не должны тревожить серьезные разногласия по поводу предания в современном христианстве, ибо, как мы видели, уже в первохристианстве на сей счет существовало большое многообразие мнений. Тем, кому ближе консервативное отношение ранней Иерусалимской церкви к ранней иудейской традиции и Пасторских посланий — к раннехристианской традиции, следует помнить: Павел и Иоанн (не говоря уже о самом Иисусе) относились к традиции прошлого куда либеральнее. Либералам же не стоит забывать, что Новый Завет включает и Пастырские послания. Одинаково консерваторам и либералам стоит последовать совету, который Павел адресовал равно "слабым" и "сильным" (в вопросах традиции; см. Рим 14:1–15:6; 1 Кор 8–10): не абсолютизировать роль предания, глубоко уважать чужое мнение и чужие обычаи, — пусть ни консерватор не "осуждает" либерала за его свободу, ни либерал не "презирает" консерватора за его угрызения (см. особенно Рим 14:3; см. далее ниже § 76.2)
[201]. Неинтерпретированных преданий не бывает (даже вначале). Подлинный вопрос состоит в том, как быть с многообразием толкований.
2. Если в каждой конкретной ситуации авторитет обретает
интерпретированное предание, как насчет того множества интерпретированных преданий, которыми полна многовековая церковная история? Сохраняют ли они авторитет, когда процесс интерпретации позади, или эти толкования были авторитетны лишь для своего времени, ибо они были актуальны лишь в свое время? Или они становятся частью предания, которое надо интерпретировать заново? Если так, нужно ли нынешним интерпретаторам учитывать прежнее интерпретированное предание и служит ли какой‑то элемент в нем
нормой для остального? Или в процессе интерпретации лучше миновать прежние толкования, сбросить их со счета, — и работать непосредственно с изначальным преданием? Если так, то что считать "изначальным преданием"? Включает ли оно Евангелие от Иоанна и Пасторские послания (и даже послания Климента, Игнатия и т. д.)? Или же это традиция, которая стоит
за Павлом и Евангелиями (как синоптическими, так и Иоанна)? На такие вопросы важно ответить, чтобы решить, как христианству XXI в. смотреть на авторитет, и каким быть этому авторитету. Есть здесь и более широкие проблемы (в частности, о новозаветном каноне), о которых у нас нет возможности поговорить здесь: мы займемся ими в последней главе
[202].
А пока повторимся: изучение раннехристианского предания обнаруживает примерно такой же образ единства и многообразия, какой мы нашли в главах II и III.
Единство в преданиях о смерти и Воскресении Иисуса, единство в преданиях об Иисусе, — но многообразие в попытках заново интерпретировать предание и в спектре интерпретаций.
V. Использование Ветхого Завета
§ 20 Введение
Один из важнейших объединяющих факторов в христианстве — взаимное признание некоторых писаний в качестве основополагающих и нормативных (иными словами, в качестве Писания). Более того, те, кто особенно горячо оспаривает роль предания, делают это в защиту первичного и несравненного авторитета Библии. Можно ли сказать это о Библии первоначальных церквей? Единственной Библией, которую они знали и признавали, были еврейские Писания — Закон и Пророки, а также ряд других писаний, об авторитете и числе которых еще не возникло полного согласия. Все это более или менее совпадало с корпусом, который христиане называют "Ветхим Заветом". Ради удобства мы будем пользоваться этим последним термином (ВЗ). Однако следует помнить, что для I в. это слишком точное определение и к тому же анахронизм (Ветхий Завет предполагает наличие Нового, который в ту пору еще не существовал).
Нет необходимости доказывать, что
Ветхий Завет — один из важнейших объединяющих элементов в первохристианстве и первохристианской литературе. В специфически иудеохристианских текстах это просто бросается в глаза: взять хотя бы высокую частотность фразы "да исполнится…" у Матфея и Иоанна, а также важную роль цитат из Писания в ранних речах в Деяниях, в Рим 9–11 и Послании к Евреям. Но это можно сказать обо всех новозаветных текстах. Достаточно взглянуть на греческий текст в издании Нестле: почти на каждой странице есть слова, набранные другим шрифтом; они обозначают прямые ссылки на Писания (поразительное исключение составляют Иоанновы послания), — причем сюда не вошли менее явные аллюзии. В этом смысле все новозаветное христианство есть иудеохристианство; весь Новый Завет пронизан влиянием Ветхого, который определяет смысл его категорий и понятий.
Ч. Г. Додд высказывал похожую мысль в своей хорошей книге "По писаниям", имевшей подзаголовок "Фундамент новозаветного богословия":
Весь этот корпус материала — отрывки из ветхозаветного Писания с их применением к евангельским фактам — присутствует во всех основных частях Нового Завета. В частности, он представляет отправную точку для богословских построений Павла, автора Послания к Евреям и четвертого Евангелиста. Это — фундамент всего христианского богословия и уже содержит все его главные регулятивные идеи[203].
Смелые слова. Если они верны, значит, перед нами один из важнейших объединяющих факторов (возможно, не менее важный, чем вера в Иисуса) — не только "евангельские факты", но и "ветхозаветное Писание"; не только Иисус, но и Ветхий Завет. До сих пор мы видели, что в керигме, исповедании и предании только Иисус дает единство и когерентность многообразию формулировок. Следует ли добавить еще один блок к фундаменту христианства — Ветхий Завет? Может быть, подлинная основа раннехристианского единства — Иисус
и Ветхий Завет?
Вопрос о взаимосвязи Ветхого и Нового Заветов привлекал исследователей столетиями. Судя по количеству литературы, написанной по этой теме в последнюю треть XX в., в наше время такие дискуссии стали особенно оживленными. К счастью, задачи, которые мы здесь преследуем, помогают сузить и заострить проблему. Ведь ключевой вопрос состоит не столько в том, были ли иудейские Писания авторитетными, сколько в том,
как их авторитет понимался на практике. То же самое можно сказать о современных дебатах по поводу библейского авторитета: что такое авторитет Библии, когда смысл текста невозможно установить полностью, но приходится мириться с его двусмысленностью? Что такое авторитет Библии, когда по одному и тому же вопросу один автор говорит одно, а другой — другое? В главах II‑IV мы уже видели немало такого многообразия, а многообразие деноминаций в христианстве — живое свидетельство о многообразии интерпретаций, возможных в библейской экзегезе. Таким образом, ключевой вопрос для нас состоит не в том, считался ли Ветхий Завет авторитетным, а в том, чем был его авторитет на практике. Как первохристиане обращались с иудейскими Писаниями? Как они использовали Ветхий Завет?
§ 21 Иудейская экзегеза времен Иисуса
Достаточно общепринято, что раннехристианское использование Ветхого Завета развивалось в контексте иудейской экзегезы того времени. С нее и начнем. В целях нашей дискуссии можно выделить пять основных категорий иудейской экзегезы: таргум, мидраш, пешер, типология и аллегореза. О последних трех категориях идет немало споров. Поэтому сразу отметим, что эти категории — никоим образом не жесткие: часто бывает трудно провести грань между одной и другой или с уверенностью классифицировать способ экзегезы. Однако с их помощью легче описывать спектр иудейской экзегезы и интерпретации. Поэтому надеюсь, что в ходе дискуссии такая классификация себя оправдает.
21.1.
Таргум. Таргум — это прежде всего
перевод (на арамейский язык). Между возвращением из плена и II в. н. э. еврейский язык постепенно вытеснялся арамейским как
разговорным языком евреев. В течение длительного времени иврит оставался прежде всего
языком ученых, языком сакральным, — поэтому он использовался в письменных текстах данного периода. Однако к I в. н. э. многие (большинство?) палестинские иудеи говорили, видимо, только на арамейском
[204]. Это означало, что синагогальные чтения из Закона и Пророков следовало
переводить (иначе люди не понимали смысла). Долго хватало устных переводов, однако постепенно появились и письменные. До нас дошел целый ряд различных таргумов
[205].
Отметим, что таргум
не буквальный перевод. Часто он больше похож на пересказ или объяснение текста. Он расширяет текст, а нередко и изменяет его. Удивляться этому не приходится: так ведет себя и LXX (особенно в 3 Цар). Однако таргумы в данном отношении менее сдержанны, чем LXX: в нескольких случаях перевод просто превращается в
толкование, и текст сильно не соответствует оригиналу. Самый яркий пример — таргум Исайи 53: перевод сознательно построен так, чтобы исключить христианское толкование. Он тенденциозен:
Кто поверил слышанному от нас? И кому так открылась сила могучей руки Господа? И праведник взойдет перед Ним как росток, — и как дерево, пускающее корни у потока воды, так возрастет в Земле святое поколение, нуждающееся в нем: его вид будет не как у обычного человека, и страх перед ним — не как страх перед обычным человеком; но святость будет на лице его, так что все видящие его будут искренне почитать его. Тогда будет презренна и подойдет к концу слава всех царств; они станут нетвердыми и больными как муж скорбей и предназначенный для болезни, — и, как когда присутствие Шехины удалилось от нас, они будут (
или: мы будем) презренны и незначительны. Тогда помолится он за прегрешения наши, и беззакония наши будут прощены ради него, хотя мы считались пораженными, отверженными перед Господом. Но он построит святилище, которое было осквернено из‑за прегрешений наших и оставлено из‑за беззаконий наших; и его учением мир умножится на нас, и через нашу верность его словам наши прегрешения будут прощены нам. Все мы были рассеяны как овцы, совратились каждый на свой путь; но Господу было благоугодно простить нам всем прегрешения ради него
[206].
21.2.
Мидраш. Мидраш — это
толкование отрывка/текста, ставящее своей задачей вскрыть актуальность этого текста для настоящего. Для мидраша важен не столько буквальный и прямой смысл текста, сколько его
внутренние и
скрытые смыслы. Типичный мидраш состоит в извлечении таких сокрытых в каком‑то конкретном тексте смыслов.
Мидраш отталкивается от (священного) текста или даже какого‑то одного слова, но не просто разъясняет его: мидраш также расширяет смысл и, с помощью всевозможных ассоциаций, выводит скрытые смыслы[207].
Ко временам Иисуса существовал широкий консенсус относительно правил интерпретации. Это семь правил ("миддот") Гиллеля:
1. Умозаключение от менее важного к более важному (и наоборот).
2. Умозаключение на основании аналогии: проводится аналогия между двумя отрывками, использующими общие выражения.
3. Построение семьи (группы отрывков, связанных по контексту), где особенность, присущая одному члену, применяется к остальным.
4. Аналогично (3), но семья состоит только из двух отрывков.
5. Общее и частное, частное и общее: детальное установление общего применения из частного случая (и наоборот).
6. Разъяснение с помощью аналогичного отрывка в другом месте.
7. Умозаключение на основании контекста.
Впоследствии число этих правил было увеличено до 32
[208]. О двух типах мидраша (галахе и агаде) мы уже говорили выше (§ 16.1).
21.3.
Пешер. Пешер можно определить как частный случай мидраша, хотя многие ученые отказываются рассматривать его как отдельную категорию
[209]. Само слово "пешер" означает просто
"интерпретация". Смысл этого термина обязан Книге Даниила, в арамейской части которой (2:4–7:28) оно встречается 30 раз, где обозначает истолкование Даниилом снов Навуходоносора и Валтасара, а также истолкование Даниилом письмен, появившихся на стене во время Валтасарова пира. Обычно пешер дает гораздо более строгую интерпретацию, чем мидраш. Сильно упрощая, можно сказать: мидраш раскрывает
актуальность текста, а пешер объясняет
смысл текста на основе соотношений один к одному. Например, каждый элемент сна, каждое слово на стене имеет точное значение, причем значение, связанное с настоящим.
Мене, текел, и парсин. Вот интерпретация (pesher) этих слов: мене — исчислил Бог дни царства твоего и положил конец ему; текел — ты взвешен на весах и найден легковесным; перес — разделено царство твое и отдано мидянам и персам
(Дан 5:25–28).
В последние годы о пешерах много говорят в связи с использованием их в кумранских комментариях. Общинники Мертвого моря считали себя верными Нового Завета, живущими в последние дни перед эсхатоном. Они верили, что некоторые ветхозаветные пророчества относятся к ним и только к ним, — пророчества, остававшиеся непроясненной загадкой до тех пор, пока Учитель Праведности не сообщил верное толкование
[210].
Несколько таких комментариев дошли до наших дней лишь во фрагментах (например, комментарии на Книги Исайи, Осии и Наума). В наиболее полном виде сохранился комментарий на Книгу Аввакума. Метод разъяснения: сначала цитируется текст, затем следует его толкование. Пример:
"Вот, Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный" (1:6а). Толкование (pesher) этого: имеются в виду киттии (то есть римляне. — Дж. Д.)…
Отметим смелость толкования: слово "халдеи" относится к римлянам!
"Почему вы, изменники, глядите и безмолвствуете, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его" (1:136). Имеются в виду дом Авессалома и члены их совета, которые молчали, когда наказывали Учителя Праведности…
"А праведный своею верою жив будет" (2:46). Толкование этого: это относится ко всем исполняющим Закон в доме Иуды, которых Бог спасет от Дома Суда за их страдания и веру в Учителя Праведности.
Из кумранской техники пешера было выведено 13 правил интерпретации. Они в удобном виде изложены в книге Кристера Стендала "Школа святого Матфея"
[211].
21.4.
Типология. Этой формой интерпретации христиане в прошлом сильно злоупотребляли (особенно в постреформационном протестантстве и до сих пор в некоторых сектах): скажем, детали рассказов о патриархах или об устройстве скинии в пустыне рассматривались как прообразы Христа и христианского спасения. Отчасти по этой причине многие ученые сомневаются, что типология — подходящая категория для таких анализов, как наш. Однако если придерживаться верной дефиниции, типологическую экзегезу действительно можно найти как в дохристианском иудаизме, так и в Новом Завете.
Типология усматривает
связь между людьми и событиями прошлого и будущего (или настоящего). Соответствие с прошлым отыскивается не в письменном тексте, а
в историческом событии. Стало быть, типологию следует отличать как от предсказательного пророчества (где текст функционирует только как предсказание будущего), так и от аллегории (где соответствие кроется в скрытом значении текста, а не в повествуемой им истории). Типология не игнорирует исторический смысл текста, но скорее берет его за отправную точку. Таким образом, типологическая экзегеза основана на убеждении, что некоторые события в прошлой истории Израиля (как они изложены в более ранних писаниях) с помощью прообраза раскрывают Божий промысел о людях. В частности, некоторые высокие моменты откровения в истории спасения, особенно события начала, — будь то начала мира (сотворение, рай), или Израиля (исход, пустыня), — а также события из высокого периода израильской национальной жизни (царство Давида), являют образец деяний Божьих и тем самым прообразуют будущее время, когда Божий промысел раскроется в полноте. В этом смысле типологию уместно определить как
"эсхатологическую аналогию".
В самом Ветхом Завете есть несколько ярких примеров типологии. Рай, очевидно, понимался как прообраз эсхатологического блаженства (Ис 11:6–8; Ам 9:13). Исход и пустыня стали прообразом эсхатологического избавления (напр., Ис 43:16–21; 52:11сл.; Ос 2:14–20). Давид — прообраз грядущего избавителя (Ис 11:1; Иер 23:5; Иез 34:23; 37:24). Впоследствии Моисей рассматривался как прообраз эсхатологического пророка (на основе Втор 18:15). В апокалиптических текстах межзаветного периода рай соперничает с Иерусалимом как прообраз осуществления Божьего замысла в новую эпоху (которая ожидалась вскоре)
[212].
21.5.
Аллегореза. Самый видный сторонник аллегорезы в дохристианском иудаизме — Филон Александрийский. Отличительная черта аллегорического метода состоит в его
отношении к тексту как к своего рода коду или шифру. Соответственно интерпретация получается сродни дешифровке. Аллегорию можно рассматривать и как более крайнюю форму мидраша, в чем‑то напоминающую пешер. Для аллегориста текст имеет как минимум два уровня смысла: буквальный/поверхностный и более глубокий. Буквальный смысл не стоит совсем презирать и отвергать, но в сравнении с более глубоким смыслом он относительно незначителен — как тень по отношению к предмету. Читатели, которые остаются на уровне одного буквального смысла, "некритичны" (О
том, что Бог неизменяем, 21; О
том, кто наследует Божественное, 91). У Филона мы находим такие утверждения: "Буквальный рассказ символизирует скрытый смысл, требующий объяснения" (О
наградах и наказаниях, 61); "когда мы истолковываем слова в соответствии со смыслами, которые лежат
под поверхностью, все мифическое устраняется с дороги, и
подлинный смысл становится ясен" (О
земледелии, 97 — аллегореза была древнейшей формой демифологизации); "да не будем мы введены в заблуждение словами как таковыми, но воззрим на аллегорический смысл, лежащий под ними" (О
собрании необходимых знаний, 172)
[213].
Как отмечает Р. Уильямсон, ценность аллегорической экзегезы для Филона состояла в следующем:
1. Она помогала уйти от буквального понимания антропоморфных описаний Бога.
2. Она помогала избежать тривиальных, неудобовразумительных, бессмысленных и неправдоподобных значений, которые имеют некоторые ветхозаветные отрывки при буквальном понимании.
3. Она помогала решать исторические проблемы Ветхого Завета (например, где Каин нашел себе жену?).
4. Она помогала делать из Ветхого Завета выводы, сообразные с эллинистическими философиями, тем самым оправдывая Ветхий Завет перед собратьями–философами
[214].
§ 22 Первохристианская экзегеза Ветхого Завета
Все пять типов еврейской экзегезы встречаются в Новом Завете.
22.1.
Таргум. Новозаветные авторы обычно пользуются LXX, но зачастую они сами или их источники делают собственный перевод с иврита. Приводить примеры нет необходимости. Вопрос о таргумическом переводе или цитатах–пешер требует более подробного рассмотрения, и мы к нему еще обратимся ниже (§ 23).
22.2.
Мидраш. В Новом Завете есть несколько хороших примеров развернутых мидрашей. Ин 6:31–58 — это мидраш на Пс 78:24 ("…хлеб с неба дал им есть" 6:31). В нем Иоаннов Иисус объясняет, что "он" текста — не Моисей, а Отец. "Хлеб с неба" — тот, кто сошел с неба (Иисус и его плоть, отданная за жизнь мира). Те, кто едят, — не отцы в пустыне, которые ели манну и умерли, но те, кто слышит Иисуса (если они будут есть его плоть и пить его кровь, — то есть если уверуют в него и получат Дух его, — они не умрут)
[215].
Рим 4:3–25 — мидраш на Быт 15:6 ("Поверил
(episteusen) Авраам Богу, и это вменилось
(elogisthē) ему в праведность"). Отметим, как Павел цитирует данный отрывок вначале (ст. 3) и снова в конце (Q. E. D. — ст. 22). Ст. 4–8 разъясняют слово
elogisthē, где Павел показывает, что его можно понимать в смысле
помилования, а не
награды (используя второе правило Гиллеля для связи Быт 15:6 с Пс 32:1сл.). Ст. 9–22 разъясняют слово
episteusen, где он выдвигает три аргумента для доказательства того, что Авраамову
pistis (веру) следует понимать как веру в Павловом смысле, а не как верность в раввинистическом смысле (ст. 9–12,13–17а, (176–21))
[216]. Аналогичным образом Гал 3:8–14 (или даже 8–29) можно рассматривать как мидрашистскую интерпретацию Быт 12:3,18:18.
2 Кор 3:7–18 можно классифицировать либо как мидраш, либо как аллегорию. Павел истолковывает Исх 34:29–35. Сначала он объясняет, что означало
сияние лица Моисеева (ст. 7–11), затем — что означало
"покрывало", которым Моисей закрывал лицо (ст. 12–15), и напоследок — кто такой
Господь, с которым Моисей говорил без покрывала (ст. 16–18). Отметим, что в своем толковании Павел предполагает то, о чем Книга Исхода не упоминает, — возможно, даже противоречит ей. В Книге Исхода ничего не сказано об увядании славы, а Моисей надевает покрывало, чтобы скрыть от людей сияние, а не его увядание
[217].
Аналогичным образом было показано, что некоторые речи в Деяниях (особенно Деян 2 и 13) имеют форму христианских мидрашей
[218] и даже Мф 4:1–11 можно рассматривать как мидраш на Втор 6–8 (см. работу Б. Герхардссона — выше, прим. 5).
22.3.
Пешер. Ближайшие эквиваленты кумранским пешерам — Рим 10:6–9 и Евр 10:5–10. Рим 10:6–9 представляет собой интерпретацию Втор 30:12–14, где каждый стих цитируется в очень вольном переводе, а приложенные объяснения напоминают пешеры
[219].
Праведность от веры так говорит: не говори в сердце своем: "Кто взойдет на небо?" (то есть Христа свести), или "Кто сойдет в бездну?" (то есть Христа из мертвых возвести). Но что она говорит? "Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем", то есть слово веры, которое мы проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься.
Евр 10:5–10 — интерпретация Пс 40:6–8, хотя тут весь отрывок цитируется сначала по LXX (которая сама представляет собой интерпретирующий парафраз еврейского текста). Затем автор берет ключевые места цитаты и разъясняет их в стиле пешера.
Жертвы и приношения Ты не восхотел,
но тело уготовал мне.
Всесожжения и жертвы за грех не угодны Тебе.
Тогда я сказал: "Вот, иду, как в книге написано обо мне,
исполнить волю Твою, Боже".
Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжении, ни жертвы за грех — которые приносятся по Закону, — Ты не восхотел и не благоизволил", потом прибавил: "Вот, иду исполнить волю Твою". Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей‑то "воле" освящены мы едино–кратным "принесением" "тела" Иисуса Христа.
Другие примеры экзегезы по типу пешер — Рим 9:7сл., 1 Кор 15:54–56,2 Кор 6:2, Еф 4:8–11, Евр 2:6–9, 3:7–19. См. ниже § 23.
22.4.
Типологическую экзегезу в вышеописанном смысле (§ 21.4) тоже можно найти в Новом Завете, хотя ученые спорят, сколь широко она там распространена. В двух отрывках у Павла мы находим само слово
typos ("образ"), причем оно употреблено как раз в этом смысле.
• Рим 5:14. Павел называет Адама "образом будущего". Отметим ограниченный характер типологического соответствия: Адам — прообраз Христа только в той степени, в какой он показывает, что в Божьем промысле один поступок одного человека может решающим образом повлиять на отношения Бога с народом, который от этого человека происходит. В остальном же взаимосвязь между Адамом и Христом скорее обратного плана (Рим 5:15–19).
• 1 Кор 10:6. Павел говорит о событиях, последовавших за исходом, как о
typoi. Отношения Бога с коленами Израилевыми в пустыне суть "образы" (ст. 11): как дар избавления (из Египта) и чудесные насыщения в пустыне не помешали им подпасть под осуждение Божие за последующие идолопоклонство и грехи, так крещение во Христа и единение со Христом не уберегут коринфских верующих от суда.
Тема прообразов в Послании к Евреям глубоко своеобразна и находится под сильным влиянием эллинистической философии. Автор отталкивается от наставления, данного Моисею: "Смотри, сделай все по тому образцу
(typos), который показан тебе на горе" (Исх 25:40). Этот стих позволяет ему связать воедино еврейскую эсхатологию двух
эпох (нынешнего века и грядущего, ветхого и нового) с платонической космологией двух
миров (небесный мир реальности и земной мир копий и теней). Скиния со своим ритуалом была лишь "тенью" (10:1) и "антитипом" (9:24) небесного святилища. Но Христос теперь вошел в подлинное святилище и сделал его открытым для верующих. Он — подлинный священник и подлинная жертва, а не копия или тень. Иными словами, как ветхий век был веком теней и подобий, так новый век — век реальности и "типа". Христос раз и навсегда устранил тени и принес небесные реальности в земное существование. Таким образом, верующие могут обрести ныне нечто подлинное — подлинное очищение, подлинное вхождение в присутствие Бога. Ветхозаветные священство, жертва, святилище и завет прообразовали служение и дары Христовы: небесная реальность, по отношению к которой они были лишь несовершенной копией, стала реальностью христианского существования здесь и теперь.
Единственный другой случай употребления слова
antitypos мы находим в 1 Петр 3:21, где избавление Ноя рассматривается как прообраз крещения. Типологическое соответствие натянуто, ибо избавление от потопа не вполне аналогично спасению людей. Единственная реальная связь между потопом и христианским крещением — вода. И 1 Петр форсирует это соответствие, говоря о спасении Ноя
"через воду". Здесь мы недалеки от более причудливой типологической экзегезы последующих веков.
Среди других образцов новозаветной экзегезы, включающей ту или иную форму типологии, — образ Иисуса как пасхального агнца (Ин 19:36; 1 Кор 5:7) и, конечно, вся новозаветная тема жертвоприношения в связи с Иисусом. Опасность состоит в том, что чем шире мы берем спектр типологической соотнесенности между Ветхим и Новым Заветом, тем более заурядной делаем идею "прообраза" и тем сильнее типологическая экзегеза скатывается в наименее назидательные виды аллегорезы.
22.5.
Аллегореза. Некоторые ученые вообще отрицают наличие аллегорической экзегезы в Новом Завете
[220]. Это не совсем так: на самом деле она там есть, просто ее немного и она сильно отличается от Филоновой аллегорезы. Единственные четкие примеры: 1 Кор 10:1–4, Гал 4:22–31 и, возможно, 2 Кор 3:7–18. Экзегеза 1 Кор 10:1–4 основана на признании типологического сходства между ситуацией израильтян в пустыне и христиан в Коринфе (см. выше § 22.4). Однако аллегорические черты несомненны: переход через Чермное море понимается как аллегория крещения во Христа ("крестились в Моисея в облаке и в море" = аллегорически, крестились в Духе во Христа — ср. 12:13); манна и вода из скалы — аллегории сверхъестественного укрепления христиан свыше
(pneumatikos в ст. 3–4 почти эквивалентно слову "аллегорический" — ср. Откр 11:8); сама скала — аллегория Христа (впервые эта аллегория расшифровывается эксплицитно путем разъяснения "камень же был/ Христос")
[221].
Более ясный случай мы имеем в Гал 4:22–31, где Павел прямо говорит, что прибегает к аллегорической экзегезе (ст. 24). Здесь расшифровка менее проста, но эти проблемы не особенно влияют на смысл: Агарь = завет Закона с горы Синайской, нынешний Иерусалим, воспитывающий своих детей в рабстве Закону; Сара = завет обетования, вышний Иерусалим, который свободен; Измаил = дети по Закону, рожденные "по плоти"; Исаак дети обетования, рожденные "по Духу"
[222].
О 2 Кор 3:7–18 мы уже подробно говорили в связи с мидрашами, к числу которых относится данный отрывок (§ 22.2). Наиболее явные аллегорические черты содержатся в ст. 14, где Павел говорит, что покрывало, закрывавшее лицо Моисея, поныне закрывает умы современных ему иудеев, когда они читают Закон, —
"то же самое покрывало"! А также в ст. 17, где Павел дает ключ к расшифровке процитированного стиха из Исх 34, — "«Господь» (упомянутый в отрывке) = "Дух". Своего рода аллегорию можно усмотреть и в 1 Кор 9:8–10: Павел берет заповедь Втор 25:4 ("Не заграждай рта волу, когда он молотит") и выводит из нее обязанность общин обеспечивать своего апостола и других миссионеров. Поскольку в 1 Кор 9:9сл. Павел пренебрегает буквальным смыслом изначального установления, перед нами самая близкая в Новом Завете параллель к Филоновой аллегорезе (ср.
Послание Аристея 144).
§ 23 Цитаты–пешер
В вышерассмотренных случаях первохристианское использование Ветхого Завета просто отражало аналогичное многообразие иудейской экзегезы I в. (с аналогичным уважением к авторитету иудейских Писаний). Однако в Кумране и Новом Завете мы находим еще один тип экзегезы, который позволяет нам четче понять ситуацию. Он заслуживает отдельного рассмотрения.
В мидрашах, пешерах (и аллегориях) обычно сначала цитируется ветхозаветный текст, а затем приводится толкование. Однако в этом другом типе экзегезы
цитата уже содержит в себе интерпретацию. Данный тип можно называть таргумическим переводом или (как я предпочитаю)
цитатой–пешер. Включение интерпретации в текст иногда не ведет к его видоизменению, но обычно все же предполагается модификация формы
[223].
23.1. Цитаты, где
тексту придается иной смысл, гем тот имел первоначально, но сама форма текста не меняется или погти не меняется. Например:
Мих 5:2: "И ты, Вифлеем–Ефрафа, меньший среди кланов Иудиных?..";
Мф 2:6: "И ты, Вифлеем… ничем не меньший среди правителей Иудиных".
Abb 2:4: "Праведный своею верою/верностью жив будет";
LXX: "Тот, кто праведен, будет жить Моею верою" (то есть Божьей верностью);
Рим 1:17: "Оправданный верою будет жить".
Пс 19:4: свидетельство о творении;
Рим 10:18: те же слова отнесены к благовестию.
Наверное, самый яркий пример — Гал 3:16. Этот стих содержит аллюзию на Быт 12:7 (LXX), завет с Авраамом и его семенем (то есть потомками). Павел берет тот факт, что LXX использует существительное
sperma (собирательное, в единственном числе), — и относит его ко Христу. Разумеется, если понимать
sperma (семя) как единственное число, то
первоначальное обетование будет выглядеть нелепицей; но в полемике с иудействующими этот тип раввинистической экзегезы дает Павлу возможность быть достаточно убедительным для своих оппонентов. Относительно других примеров см. Деян 1:20, 4:11; Рим 12:19. Не будем также забывать, что указания на Иисуса усматривали не только в явно мессианских текстах (Псалмы о возлюбленном Сыне, Исайя о Рабе, тексты о Камне), но и в отрывках, первоначально говоривших о Яхве (см. выше § 12.4).
23.2. Цитаты, в которых
смысл текста существенно модифицирован с помощью изменения формы текста, — например, 2 Кор 3:16 (см. выше прим. 15) и Еф 4:8 (Пс 68:18).

В еврейском тексте и LXX царь
принимает дары
поклонения от пленных. У Павла прославленный Иисус
дает дары
Духа ученикам. Существует таргум Псалма 68, где фраза "ты принял дары" передана как "ты научился словам Торы и дал их в дар сынам человеческим"
[224]. Знал Павел эту версию или нет, его собственный таргумический перевод не менее смел.
Самый яркий пример цитаты–пешер мы, видимо, находим в Мф 27:9–10 (ср. Зах 11:13). (Для легкости сравнения перегруппируем фразы.)

На протяжении всей Книги Захарии действующим лицом является пророк ("я"); 30 сиклей составляют его плату; он бросает их в дом Господа. У Матфея "я" превращается в "они" (священники) и "него" (Иисуса), — хотя евангелист почему‑то сохраняет "мне" в конце, в результате чего возникает несообразие. Тридцать сребреников становятся деньгами за кровь, заплаченными
Иуде. И если в первоначальном отрывке пророк бросает свою плату в доме Господа, то у Матфея священники покупают поле горшечника.
Заметим, что Матфей приписывает этот отрывок Иеремии, хотя берет его из Захарии. Причина, возможно, состоит в намерении включить в цитату ссылку на Иеремию. Здесь приходят на ум такие яркие события в жизни Иеремии, как встреча с горшечником и пророческий акт покупки поля (Иер 18–19,32). Поэтому текст Матфея, видимо, следует рассматривать как комбинацию текстов, — прежде всего Захарии, но с намеком и на Иеремию.
Другие случаи комбинации текстов Мф 21:5,13; Рим 9:33, 11:8; 2 Кор 6:16–18; Гал 3:8; Евр 10:37сл.; 13:5
[225].
23.3. В ряде случаев цитата–пешер включает
развитие текста, не имеющего реальных параллелей. Это легко видеть на примере Мф 2:23. Нет пророчества, в котором было бы сказано: "Он назарянином наречется". Перед нами, видимо, комбинация двух аллюзий (на Суд 13:5 и Ис 11:1). Самсон рассматривается как прообраз Иисуса, поэтому фраза "он будет назорей" тоже применяется к Иисусу; Ис 11:1 говорит об отрасли
(nēzer) Иессея. Получившийся у Матфея вариант
(nazōraios, то есть назарянин) возник в результате игры слов
nazir(aion) (назорей) и
nēzer (отрасль)
[226].
Другие примеры цитат, не имеющих параллелей в Ветхом Завете и, видимо, образованных посредством комбинации ссылок и аллюзий: Лк 11:49; Ин 7:38; 1 Кор 2:9; Иак 4:5 (ср. Еф 5:14).
§ 24 Принципы интерпретации
По мере анализа становится все очевиднее, что, говоря о Ветхом Завете в первохристианстве, мы говорим не о некой "вещи в себе". Говоря об использовании Ветхого Завета в Новом Завете, мы сталкиваемся не с прямым соответствием и исполнением, которые придали Ветхому Завету полностью объективный авторитет. Последних два раздела с очевидностью показали: новозаветные цитаты из Ветхого Завета суть
интерпретации. Ветхий Завет цитировался только потому, что его интерпретацией можно было обосновать ту или иную мысль, соотнести ее с определенной ситуацией; довольно часто толкование было сопряжено с модификацией текстуальной формы. Одним словом,
первохристиане ценили Ветхий Завет не как независимый авторитет, а как авторитет интерпретируемый.
Какими же принципами руководствовались они в своих толкованиях? Были ли эти толкования полностью произвольными, или свобода толкования все же сдерживалась определенными рамками?
24.1. В первую очередь надо заметить, что выбор ветхозаветных текстов не был произвольным. Новозаветные авторы не хватали первый попавшийся текст и не выдумывали тексты "из ничего". В цитируемых ими отрывках есть определенная
заданность. Большей частью это были либо отрывки, которые уже считались мессианскими (вроде Пс 110:1), либо отрывки, которые могли претендовать на мессианский характер в свете обстоятельств жизни Иисуса (вроде Пс 22 и Ис 53). Это верно даже в отношении аллегорий в Гал 4:22–31 и 2 Кор 3:7–18. Еще до того, как христианский толкователь взялся за детальную разработку, можно было изобразить Измаила и Исаака как два типа отношений с Авраамом; можно было понять сияние лица Моисеева как образ славы завета Моисеева. Аналогичным образом обстоит дело и с текстами вроде Мф 2:23 и Ин 7:38; они возникли не на пустом месте, и авторский замысел нам вполне понятен (мы видим, какие отрывки взяты за
отправную точку, и как они соединились воедино). Одним словом, присутствует
определенная заданность в выборе интерпретируемых текстов.
24.2. Во–вторых, мы снова и снова замечаем, что толкование возникает в результате прочтения ветхозаветных отрывков
в свете явления Христа, с точки зрения новой ситуации, которая возникла с приходом Иисуса и с принесенным им искуплением. Это особенно хорошо видно в Гал 3:8, 4:22–31; 2 Кор 3:7–18 и Мф 2:23.
Гал 3:8: Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, заранее проповедало благовестие Аврааму: "В тебе благословятся все народы".
На самом деле Авраам не слышал благовестия. Обетование "в тебе благословятся все народы" можно считать "благовестием" лишь при истолковании в свете Христа; лишь потому, что оно в каком‑то смысле исполнилось в Иисусе, оно может быть названо "благовестием"; свое осмысление его как благовестия Павел черпает из Иисуса и принесенного им искупления.
Аналогичным образом обстоит дело с Исааком и Измаилом в Гал 4. Павел осмысляет их рождение в своих характерных категориях:
kata рпеита ("по Духу"),
kata sarka ("по плоти"). Исаак и Измаил были для него значимы в данном отношении, поскольку их можно было истолковать аллегорически, применив к сложившейся ситуации.
Или покрывало Моисея, упомянутое в 2 Кор 3. Для старого Завета оно не имело того значения, которое находит в нем Павел. Его значение — целиком в Новом Завете: покрывало Моисея понимается и трактуется как покрывало на сердцах
нынешних иудеев (3:14 — покрывало
одно и то же). Иными словами, значение, которое Павел приписывает этому покрывалу, взято не столько из самого текста, сколько из его собственного богословия.
Или Мф 2:23. Текста "он назарянином наречется" не возникло бы, если бы Иисус не пришел из Назарета. Ни сами по себе, ни взятые по отдельности, слова "назорей" и
nëzer (отрасль) не указывают на Назарет. Стало быть, интерпретация выросла не столько из Ветхого Завета, сколько из евангельской традиции.
Коротко говоря, мы опять видим,
в какой степени интерпретация Ветхого Завета определялась не прошлым, а настоящим.
24.3. Теперь можно понять, каков был принцип интерпретации, как появлялась цитата–пешер.
Пешер возникал, когда сводили воедино данность текста и данность евангельской традиции. Пожалуй, лучше всего можно проиллюстрировать данный процесс на примере Мф 27:9сл. Сначала была данность текста в Книге Захарии. Зах 11 — текст, несомненно, мессианский: он говорит о стаде и о пастыре. Стадо — видимо, Израиль, а пастырь — сам пророк, который принимает эту роль по воле Божьей. Пастырь высказывается повсюду от первого лица. Это, конечно, имеет мессианский смысл, что от читателей не могло укрыться. Итак, во–первых, был мессианский отрывок. Во–вторых, было предание об Иисусе и христианская вера в мессианство Иисуса. Сюда входило убеждение, что в Иисусе исполнились мессианские писания. Соответственно возникало естественное желание соединить мессианский отрывок и предание об Иисусе.
В данном случае непосредственная актуальность Захарииного пророчества для предания об Иисусе очевидна. В Зах 11 пастырь терпит в каком‑то смысле неудачу, и его отвергает стадо; упомянуты также 30 сиклей в качестве его платы/цены. В предании об Иисусе Мессия отвергается Израилем и предается за 30 сребреников. Очевидно, что в данном случае ветхозаветное пророчество и предание об Иисусе "соответствуют" друг другу. Более того, у Захарии пастырь бросает деньги в храме, и еврейский текст добавляет: "для горшечника" (в сирийском изводе говорится о сокровищнице). Это можно объяснить ссылкой на Книгу Иеремии с ее известными отрывками про горшечника и покупку поля как пророческий акт. В предании об Иисусе Иуда бросает 30 сребреников в храме, и те идут на покупку поля горшечника.
Точки соприкосновения Захарии/Иеремии с преданием об истории с Иудой
достаточно серьезные, чтобы оправдать вывод: пророчество Захарии/Иеремии сбылось. Остальное — дело ловкости рук:
детали одного рассказа можно более или менее точно подогнать под
детали другого рассказа. В данном случае автор использует следующую технику: приписывает некоторые действия разным лицам; пренебрегает отдельными нюансами (скажем, Иуда в пешере отсутствует — вводить его в повествование значило бы слишком все запутать); включает в Захарию кое–какие элементы из Иеремии (в результате чего образуется единое целое); оставляет некоторые детали некоррелированными ("как сказал
мне Господь").
Проблема такого рода цитат требует гораздо более полного рассмотрения. Однако Мф 27:9сл., пожалуй, представляет собой самый яркий образец ветхозаветного текста, процитированный вариант которого больше обусловлен богословской интенцией новозаветного автора, чем любым из существовавших тогда переводов. При наличии места мы могли бы изучить и другие случаи того, как ветхозаветный текст и первоначальное предание об Иисусе сходились, чтобы сформировать новый текст, интерпретированный, или чтобы придать первоначальному тексту смысл, который тот едва ли мог нести в своей первоначальной формулировке
[227].
24.4. Важность ситуации, в которой находится интерпретатор, для его интерпретации, также видна из следующего факта:
иногда один и тот же ветхозаветный текст толкуется разлитыми новозаветными авторами по–разному. Например:
(1) Быт 15:6. Как мы уже видели, Павел цитирует Быт 15:6 в качестве доказательства, что Авраам был оправдан не делами, а только верою (Рим 4:3сл.; Гал 3:6). Однако Иаков цитирует тот же отрывок для доказательства почти прямо противоположного: Авраам был оправдан не только верою, но и делами (Иак 2:23; см. далее ниже § 55.3).
(2) Пс 2:7. Согласно Деян 13:33, проповедуя в Антиохии Писидийской, Павел отнес этот стих к воскресению Иисуса (ср. Евр 1:5; 5:5). У синоптиков данный отрывок отнесен к сошествию Духа на Иисуса при Иордане (Мк 1:11пар.; см. также ниже § 51.2)
(3) Ис 6:9сл. ("…слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите…"). Это классическое объяснение иудейского неверия. Б. Линдарс отмечает:
В Ин 12:39сл. данный отрывок объясняет, почему отклик на проповедь Иисуса был столь незначительным; в Деян 28:25–28 он связан с переменой Павловой деятельности (которая отныне делает основным адресатом язычников, а не иудеев); в Мк 4:11сл. он показывает, почему Господь наш учил притчами. Как известно, во всех этих случаях цитата говорит об отклике аудитории. Однако полного сходства между ними нет, а с апологетической точки зрения марковский отрывок стоит совершенно особняком
[228].
(4) Ис 8:14–18. Один из самых известных отрывков о Камне, где Яхве изображается как камень преткновения и скала соблазна. Рим 9:33 и 1 Петр 2:8 относят его к Иисусу: Иисус приравнивается к Яхве, Камню. Ис 8:17сл. говорит о доверии Исайи к Яхве и о детях, которых даровал ему Яхве. Евр 2:13 относит данный отрывок к Иисусу: доверие Исайи к Яхве рассматривается как доверие
Иисуса к Яхве. Иными словами, в пределах пяти стихов Иисус отождествляется одновременно с Яхве и с Исайей в его уповании на Яхве.
(5) Дан 7:13. По мнению Перрина, в Новом Завете заметны следы трех экзегетических традиций, связанных с данным отрывком: применение Дан 7:13 постепенно смещалось от вознесения к парусии
[229]. Это правдоподобная гипотеза, хотя меня она и не вполне убеждает.
(6) С большей уверенностью можно говорить о смещении в использовании Зах 12:10 от парусии (Мф 24:30; Откр 1:7) к апологии Страстей (Ин 19:37).
(7) Пс 110:1. Обычно этот текст применяется к восседанию Иисуса одесную Бога (напр., Мк 14:62; Деян 2:33–35; Кол 3:1; Евр 8:1). С его помощью также обосновываются некоторые христологические титулы (напр., Мк 12:35–37; Деян 2:33–36; 7:56) и утверждается подчинение властей Христу (напр., 1 Кор 15:25). Он может относиться и к небесному заступничеству Иисуса (Рим 8:34; ср. Евр 7:25)
[230].
24.5. Самые яркие образцы того, как ветхозаветное откровение подвергается реинтерпретации в свете откровения Иисуса, — это случаи, когда
Ветхим Заветом фактически пренебрегается и он отбрасывается (новое откровение настолько не вяжется со старым, что никакое толкование не поможет их примирить, а потому откровению старому приходится посторониться, быть отмененным).
Мы уже видели: это случалось, когда
Иисус противопоставлял Торе собственное откровение и видение воли Божьей, — причем Торе не только устной (см. выше § 16.2), но и письменной. Например, в Мф 5:21сл., 27сл. он подает себя как высшего интерпретатора Закона, предлагая глубоко радикальное толкование пятой и шестой заповедей. В других материалах, собранных в Нагорной проповеди, он не просто перетолковывает Закон, но вносит серьезные оговорки к нему: в Мф 5:33–37 он фактически пренебрегает заповедями о клятвах (Лев 19:12; Числ 30:2; Втор 23:21); в 5:38–42 он отменяет
ius talionis (Исх 21:24; Лев 24:20; Втор 19:21). В Мк 10:2–9/Мф 19:3–8 он девальвирует Моисеево разрешение на развод (Втор 24:1). Пожалуй, более всего бросается в глаза его учение о нечистоте: в том виде, как оно изложено в Мк 7, оно фактически подрубает под корень
весь ритуальный закон (что Марк осознает — 7:19b). Как известно, его трапезы с "грешниками" давали тот же результат, — отсюда и резкая оппозиция фарисеев к Иисусу
[231].
Поучительный образец радикального перетолкования мы находим в Стефановой критике в адрес Храма (Деян 7 — особенно ст. 41–50). Похоже, оно было вдохновлено преданием об Иисусовом речении о гибели и восстановлении Храма (Деян 6:14), — речении, которое иерусалимские верующие либо игнорировали, либо интерпретировали иначе (см. выше § 18.3). Стефан, видимо, рассматривает историю израильского богопочитания в свете этого высказывания и приходит к весьма тенденциозной ее интерпретации. Используя Ис 66:1сл. (один из немногих ветхозаветных текстов, который вроде бы решительно высказывается против Храма), он фактически утверждает (вопреки 2 Цар 7:13 и т. д.), что строительство Храма как постоянного и стационарного святилища было знаком израильского отступничества от Бога (см. ниже § 60). Иными словами, рассматривая Ветхий Завет
в свете слов Иисуса, Стефан использовал одну часть Писания для оправдания отказа от ясного учения многих других Писаний.
Павел дает нам классические образцы того, как христианство I в. могло отказываться от значительной части своего иудейского наследия, от многого в Ветхом Завете, который иудеи (и иудеохристиане) по–прежнему считали актуальным и обязательным для соблюдения. Сюда входит, в частности, отказ от центральной роли Закона в иудаизме: по словам Павла, "Христос — конец Закона как пути к праведности"; Моисеево предписание в Лев 18:5 (covenantal nomism, "номизм Завета" — Э. Сандерс) более недействительно (скорее уж, ориентироваться нужно на Втор 30:12–14). Далее Павел интерпретирует отрывок, который изначально вдохновлял на
соблюдение Закона (Втор 30:11,14), в категориях праведности/ спасения через
веру (Рим 10:4–9)! Иными словами, закон был дан лишь на время, он был своего рода нянькой, сидевшей с детьми до прихода веры (Гал 3:19–25). Однако, когда пришла вера, когда пришел Христос, Закон отменен (2 Кор 3:13сл.; Еф 2:15).
Во всех этих случаях Иисус и его последователи столь явно противоречили прямому смыслу определенных ключевых отрывков и тем Писания, что им приходилось считать эти отрывки и темы делом прошлого. Встреча со Христом и свобода, принесенная Христом, требовали столь радикального перетолкования Ветхого Завета, что некоторые функции ветхозаветного откровения стали считаться отжившими.
24.6. Кратко остановимся еще на одном вопросе. Как видим, в первохристианстве откровение прошлого было во многом подчинено откровению настоящего. Но не существовала ли и противоположная тенденция? Не вводились ли в традицию дополнительные элементы с целью обеспечить лучшее соответствие с Ветхим Заветом и исполнение ветхозаветных чаяний и тем? В частности, не приводило ли желание получить "доказательство от пророчества" к
созданию тех или иных элементов в предании об Иисусе (как думали многие ученые со времен Д. Ф. Штрауса)
[232]?
Главная трудность с проверкой этой гипотезы состоит в том, что многие детали, о которых идет речь, слишком мелкие и появляются только в контексте исполнения пророчеств (например, рассказы о распятии — Мк 15:36 (= Пс 69:21?); Лк 23:46 (= Пс 31:5?); Ин 19:33 (= Пс 34:20?)). Поэтому невозможно установить, присутствовали ли эти детали в традиции (или памяти очевидцев) изначально и независимо от мотива, связанного с доказательством от пророчества. Впрочем, иногда такая проверка в какой‑то степени возможна и показывает:
тенденция создавать предания об Иисусе на основании мессианских чаяний была ограниченной. Здесь нет места для адекватного, подробного анализа данного вопроса, поэтому ограничимся несколькими краткими примерами.
Один из ярких примеров того, как деталь могла придумываться, исходя из пророчества, мы находим у Матфея. Согласно Матфею, Иисус въехал в Иерусалим, сидя одновременно на осле и на осленке, в соответствии с Зах 9:9 (Мф 21:2–7; ср. иную версию в Мк 11:2–7). Однако это мелочь. Более важные, хотя и более спорные, примеры — рождение Иисуса в Вифлееме и непорочное зачатие. Судя по некоторым признакам, Иисус, возможно, родился не в Вифлееме (наиболее очевидная альтернатива — Назарет): скажем, очень сомнительна историческая достоверность рассказа о римской переписи, которая коснулась Галилеи и произошла до смерти Ирода Великого (Лк 2:1сл.); Мк 12:35–37 наводит на мысль, что Иисус или первохристиане сомневались в давидическом происхождении Мессии (ср. Варнава 12:10сл.). Хочет того христианский историк или не хочет, он должен считаться с возможностью: весь рассказ о рождении Иисуса в Вифлееме возник из убеждения в необходимости продемонстрировать исполнение Иисусом Мессией Мих 5:2. Более того, многие христианские исследователи не отрицают или не игнорируют возможность (еще более тревожную для традиционной христианской веры) того, что рассказ о непорочном зачатии Иисуса возник из апологетического желания показать Иисуса исполнением как можно большего числа ветхозаветных пророчеств (в данном случае Ис 7:14)
[233].
Однако два других важных примера из одной из самых спорных областей (рассказ о Страстях) указывают в ином направлении. Вышеприведенный анализ Мф 27:9сл. (§ 24.3) ясно продемонстрировал процесс, путем которого соединялись ветхозаветное пророчество и предание об Иисусе (причем предание об Иисусе влияло на формулировку ветхозаветных цитат). Разумеется, можно было достичь и более точного исполнения пророчеств: стоило только изменить или добавить те или иные подробности в рассказ о предательстве Иуды. Однако это произошло в лучшем случае с уточнением конкретной цены за кровь —
тридцать сребреников (Зах 11:12). В остальном же детали ветхозаветного пророчества не привели к переформулировке предания об Иисусе (скорее уж наоборот). Стало быть, как минимум в одном случае мотив с доказательством от пророчества не означал подчинения предания об Иисусе Ветхому Завету.
Другой пример — рассказ о Гефсимании (Мк 14:32–42пар.). По мнению М. Дибелиуса, эта традиция была в основном сформирована желанием изобразить Иисуса как идеального мученика, чьи страдания соответствуют страданиям, описанным у псалмопевца
[234]. Однако ст. 33, 35 -это вряд ли образ мученика, а ст. 34 содержит лишь намек на Пс 42:5,11; 43:5. Более того, молитва Иисуса (ст. 36) составлена не из текстов Псалмов. Поэтому более вероятен такой вариант: перед нами аутентичное предание об Иисусе, которое допускало корреляцию с ветхозаветным языком, но ни в одном из узловых моментов не определялось им.
В общем, судя по всему,
там, где предание об Иисусе уже имело хождение и было принято, оно ограничивало тенденцию дополнять его подробностями и темами, взятыми из мессианских пророчеств Ветхого Завета. В тех случаях, когда предание об Иисусе не давало или почти не давало информации, оставался больший простор для деятельности тех раннехристианских апологетов, которые считали нужным изобразить Иисуса как полное исполнение ветхозаветных чаяний — во всех обстоятельствах его жизни, от рождества до воскресения (см. также выше § 9.1, прим. 8).
§ 25 Выводы
Иудейские Писания имели большое значение для иудеохристианства. Первохристиане считали важным установить преемство между Ветхим Заветом и своей новой верой, отождествить Иисуса с предсказанной мессианской фигурой (или мессианскими фигурами). Если бы Иисус не исполнил ни одно ветхозаветное чаяние, последовало бы одно из двух: у него либо не возникло бы стойких приверженцев, либо его ученики с самого начала достаточно последовательно отрицали бы Ветхий Завет. Однако Иисус исполнил многие пророчества (или, по крайней мере, многие пророчества можно было отнести к нему без особых натяжек). Следовательно, Ветхий Завет был слишком ценным способом дать оценку Иисусу и рассказать о нем собратьям–иудеям, чтобы его можно было игнорировать.
Отсюда в первохристианстве пошел
процесс интерпретации, в ходе которого сводились воедино ветхозаветный текст и христианские взгляды на Иисуса. Ни одна из этих сторон не доминировала всецело над другой, навязывая ей свой смысл и подавляя ее. Но и полного смешения также не происходило. Присутствовала значительная корреляция; некоторые отрывки могли быть восприняты практически без изменений. Обычно, однако, иудейские Писания требовалось несколько
адаптировать в свете предания об Иисусе, в свете христианского отношения и веры в Иисуса, в свете новой ситуации, которую он создал. Иногда адаптация касалась лишь
смысла, выводимого из текста. Однако зачастую
модифицировался и сам текст; порой мы видим
существенную модификацию и
конфлацию различных текстов. Иногда имел место отказ от тех или иных предписаний, важных для ветхозаветной религии, — предание об Иисусе полностью вытеснило их.
Можно сделать вывод: иудейские Писания сохраняли свой авторитет (особенно для иудеохристиан), но
не сами по себе, а в интерпретированном виде. Что касается многих других первохристиан, тут допустима более резкая формулировка:
иудейские Писания сохраняли свой авторитет лишь в той мере, в какой они поддавались адекватному перетолкованию в свете нового откровения Иисуса. Явление Иисуса, предание об Иисусе, новая жизнь в Иисусе — все это определяло процесс интерпретации. И в этом первохристиане могли по праву считать себя учениками своего Учителя. Для Иисуса было характерно одновременно уважение к иудейскому Писанию и глубокая свобода в подходе к нему, причем он исходил из своего собственного богообщения и собственной жизни в Духе, — аналогичным образом, первохристиане уважали Ветхий Завет, но
свободно истолковывали его в свете явления Христа.
В связи с нашей темой единства и многообразия приходится заключить: в христианстве I в. Ветхий Завет был одним из элементов единства, хотя и не сам по себе, а
будучи интерпретирован. Ветхий Завет, истолкованный в свете откровения Иисуса, способствовал объединению различных христианских церквей в I в., — а
различия в интерпретации увеличивали и многообразие христианства I в. Иисус опять находится в центре, — предания о нем и нынешняя связь христиан с ним через Дух. Таким образом, Ветхий Завет не мог соперничать с Иисусом как основание христианского единства, ибо первохристиане читали его только с точки зрения Иисусова откровения. Он представлял собой некий незаменимый пролегоменон и дополнение к преданию об Иисусе и керигматической традиции, важный для их возникающей самобытности, одно из основных орудий апологетики (особенно в иудейской миссии). Но там, где старое откровение не согласовалось с новым, магистральное направление христианства I в. не сомневалось: следует либо адаптировать старое к новому, либо вовсе отказаться от старого
[235].
Отсюда возникает уже современный вопрос: если первохристиане обращались с Писанием подобным образом, то как должны обращаться с Писанием христиане нашего времени? Свое учение о богодухновенности всей Библии христиане часто строят на том, что Ветхий Завет считали богодухновенным Иисус и первохристиане. Не следует ли добавить, что за образец в христианской интерпретации Нового Завета стоит брать и свободу Иисуса и первохристиан в толковании Ветхого Завета? К этим вопросам мы вернемся в последней главе книги.
VI. Концепции служения
§ 26. Введение
Как часто отмечалось, возникновение и консолидация ортодоксии во II в. зависели преимущественно от двух факторов: развития представления о "правиле веры" (см. особенно Тертуллиан) и появления монархического епископата. Насколько укоренены эти события II в. в I в.? В последних четырех главах мы в сущности занимались данной проблемой в связи с "правилом веры". Нам приоткрылся масштаб единства и многообразия христианской веры I в., как она выражалась в керигме и вероисповедании, а также в ее отношении к преданию и Писанию. Мы сделали вывод: средоточие единства имело гораздо менее четкую дефиницию, а многообразие было куда значительнее, чем можно было ожидать.
Теперь займемся другим фактором, ключевым для ортодоксии II в., —
монархическим епископатом. Как известно, ко временам Киприана епископ стал подлинным средоточием единства и оплотом против ереси. Но уже у Игнатия мы встречаем следующее увещание:
Все следуйте за епископом, как Иисус Христос — за Отцом… Без одобрения епископа никто не делай ничего, имеющего отношение к Церкви… Где присутствует епископ, там пусть и собирается конгрегация, так же как где Иисус Христос, там и Католическая церковь. Без епископа нельзя ни крестить, ни совершать вечерю любви. И наоборот, что он одобрит, то угодно и Богу… Прекрасная вещь — признать Бога и епископа
(Послание к смирнянам 8:1–2).
Это — начало II в., хотя и никоим образом не типично для II в. в целом. Но прославление Игнатием епископа — лишь первый шаг в долгом развитии.
А как насчет I в.? Какие концепции
служения мы обнаруживаем там? Что было средоточием
авторитета в общей жизни первоначальных церквей? Существовал ли уже в I в. (возможно, с самого начала) некий стандартный тип служения, который объединял первохристианские конгрегации? На протяжении последнего столетия (особенно в 1880–1920–е гг.) вокруг этих проблем кипели жаркие споры
[236]. Можно было бы подойти к делу, разобрав различные гипотезы, возникавшие по ходу дискуссии, но, наверное, проще всего идти от самих новозаветных текстов: какая форма или какие формы служения отражены в них?
[237]
§ 27. Иисус и его ученики
Иудаизм времен Иисуса отличало разнообразие группировок. Саддукеи фактически представляли собой господствующую политическую партию, аристократический и консервативный "истеблишмент". Гораздо более сектантской организацией (но все же религиозно–политической партией) были появившиеся позже зелоты, — ярые, воинствующие националисты. Где‑то посередине этого религиозно–политического спектра находились фарисеи, но их куда сильнее занимало толкование Торы, чем политическая борьба. Фарисеев, конечно, можно считать отдельной партией (фарисеи = "отделенные"?), но они обладали менее развитой организацией, а отношения строились скорее по типу учитель–ученик. С другой стороны, ессеи занимали промежуточную позицию между фарисеями и зелотами в спектре сектантского иудаизма. Они имели высокоразвитую внутреннюю организацию и создали жестко структурированную общину в Кумране.
Как вписываются в эту картину Иисус с учениками? Пожалуй, ближайшая параллель к взаимоотношениям Иисуса с учениками — отношения рабби со своими последователями. Это подтверждается тем обстоятельством, что Иисуса широко знали как учителя, как человека, у которого есть ученики (Мк 9:5,17, 38; 10:17, 35, 51 и т. д.). Но насколько правомерно говорить об общине Иисуса? Можно ли найти в Иисусовых учениках отражение более поздней Церкви? Считал ли Иисус своих учеников общиной
[238]? В пользу утвердительного ответа говорят следующие факты:
(1) Употребление слова
ekklēsia (собрание народа Божьего, впоследствии "церковь" — Мф 16:18; 18:17).
(2) Иисус избрал
двенадцать учеников и почти наверняка считал Двенадцать в каком‑то смысле представляющими Израиль (двенадцать колен — см. особенно Мф 19:28/Лк 22:29сл.).
(3) Иисус говорил о своих
учениках как о Божьем стаде (Лк 12:32; ср. Мф 10:6; 15:24; Мк 14:27пар. и образы пастуха), — метафора Израиля, неоднократно встречающаяся в иудейской литературе (Ис 40:11; Иез 34:11–24; Мих 4:6–8; 5:4; Псалмы Соломона 17:45).
(4) Иисус мыслил своих учеников как семью (Мк 3:34сл.); ученики — не только наследники Царства, но и те, кто обратились и стали как дети (Мф 18:3).
(5) На Тайной вечере Иисус эксплицитно охарактеризовал общность своих учеников в категориях (нового) завета (Мк 14:24пар.; 1 Кор 11:25). Стало быть, он считал учеников членами–основателями нового завета, нового Израиля (см. далее § 40.4).
(6) Отметим также степень организации среди учеников Иисуса, которая предполагается в Лк 8:3 и Ин 12:6.
Таким образом, разговоры об общине Иисуса или общине вокруг Иисуса не лишены оснований. Есть, однако, соображения, которые указывают в другом направлении.
(А) Ученичество Иисуса не предполагало вступления во что‑либо такое, что можно было бы назвать общиной в строгом смысле слова. Не существовало четкой границы между теми, кто оставил дом, чтобы последовать за Иисусом, и гораздо более широким кругом учеников, многие из которых, видимо, остались дома: принадлежность к семье Иисуса зависела от исполнения воли Божьей, а не от следования за Иисусом (Мк 3:35). Аналогичным образом молитва Господня не молитва замкнутой церковной общины: ее могут читать все, кто жаждет наступления Царства Божьего. Иисус не ввел никаких обрядов, которые бы отличали его учеников от их современников. От Иоаннова крещения он отказался (видимо, не желая, чтобы культовый или ритуальный акт становился препятствием и барьером). Его братские трапезы не ритуал или церемония, куда бы допускались только ученики (см. далее §§ 39.3,40.1). Именно
открытость Иисусова окружения столь резко отличала его от кумранской общины
[239]. Иисус "не основывает новой Церкви, ибо спасение не обретается вступлением в религиозное общество, пусть даже радикально трансформированное"
[240].
(B) По–видимому, роль учеников как нового Израиля была зарезервирована на будущее, еще не наступившее. Она должна была вскоре стать одной из особенностей последнего времени, частью нового завета, новой эпохи, которая, как верил Иисус, начнется с его смертью и оправданием (см. ниже § 50.3). Это особенно ясно в отношении Двенадцати (Мф 19:28/Лк 22:29сл.); их роль как Двенадцати, пока Иисус был еще с ними, была лишь символической: они символизировали будущий эсхатологический народ Божий. Ни из чего не видно, что они считались или являлись функционерами (и уж тем более — иерархами) в общине, собранной вокруг Иисуса в Палестине (см. Мф 23:8; Мк 10:43сл.). В частности, нет ни малейших намеков на то, что они были "священством", а остальные ученики — "мирянами". Их власть и авторитет — не над общиной учеников, но как соучастников миссии Иисуса (Мк 3:14сл.; 6:7пар.; Лк 10:17сл.). Скорее уж для Иисусова окружения подходит понятие "движение", чем "община".
(C) Важно понимать, что это движение целиком и полностью было сосредоточено на Иисусе, целиком и полностью от него зависело. Ученичество означало "следование" за Иисусом. Только он был пророком и учителем. Только ему принадлежал единственный реальный авторитет и единственное реальное служение. И если Иисус иногда как минимум звал учеников изгонять бесов и проповедовать благую весть о Царстве, они лишь исполняли его миссию, так сказать, по доверенности. Вокруг Иисуса не было общины как таковой: были лишь группы учеников (одни побольше, другие поменьше), которые либо наблюдали за его деятельностью, либо мешали ей, либо (в какой‑то малой степени) участвовали в ней.
Поэтому
лучше, видимо, воздержаться от использования понятий "община Иисуса" и "община вокруг Иисуса". Любая концепция, любой тип служения может иметь происхождение только в Иисусе, а не в учениках вокруг него и не в Двенадцати. И если уж говорить об учениках Иисуса как о "церкви", следует признать и ее характер: это группа/группы учеников, собравшихся вокруг Иисуса, причем и вместе, и по отдельности они
напрямую зависят
только от Иисуса во всяком служении и учении.
§ 28. Служение в первоначальной общине
Что касается служения в первоначальной палестинской церкви, тут возможны два расклада. Оба они основаны на интерпретации Деяний. Один из них строится на более прямолинейном прочтении, но несколько сомнителен; второй менее очевиден, но, пожалуй, более достоверен в историческом плане.
28.1. Сначала рассмотрим первый расклад. Согласно этому сценарию, двенадцать апостолов с самого начала возглавляли Иерусалимскую общину и надзирали за ее миссионерской деятельностью; после отпадения Иуды Матфей был избран свыше (по жребию), чтобы число апостолов снова составило двенадцать (напр., 1:15–26; 2:42сл.; 4:33–37; 6:2,6; 8:1,14; 15:22). Уже на ранней стадии к этому прибавилось назначение дополнительной семерки на второстепенную должность; эти семеро переняли от апостолов некоторые административные функции (6:1–6), — подобно тому, как Моисей назначил семьдесят мужей, чтобы они разделили с ним его административное бремя (Числ 11:16–25), и подобно тому, как Иисус назначил Семьдесят, чтобы они помогали ему в его проповеднической деятельности (Лк 10:1сл.). "Пресвитеры" впервые упоминаются в 11:25, но затем появляются несколько раз и, как и апостолы, проявляют данную им власть (см. особенно 15:2, 4, 6, 22сл.). При таком прочтении получается, что классическая трехстепенная иерархия служения возникла очень рано: епископ (преемник апостола), священник (= пресвитер) и дьякон (Семерка). Более того, некоторые авторы предполагают или пытаются доказать, что этот тип служения стал нормой для других церквей и конгрегации, по мере того как они появлялись в различных местах Восточного Средиземноморья.
Однако эта гипотеза сопряжена с несколькими трудностями.
(А) Судя по первоначальному преданию (или преданиям) в 1 Кор 15:3–7,
не следует ставить знак равенства между "апостолами" и "Двенадцатью". Апостолами также считались Павел (1 Кор 9:1; 15:8сл.), Иаков (Гал 1:19?), Варнава (Гал 2:9), Андроник и Юлия (Рим 16:7), а также, вероятно, Аполлос и Силуан (1 Кор 4:9; 1 Фес 2:6сл.). Следовательно,
скорее всего "апостолы" были гораздо более широкой группой, чем "Двенадцать". Более того, для Павла апостольство заключалось, главным образом, в проповеднической деятельности (1 Кор 9:1сл.; 15:10сл.; Гал 1:15сл.; 2:9). Это хорошо согласуется с первоначальным представлением об апостоле как о "миссионере", отраженном в Мф 10:2, Мк 6:30 (только в контексте миссии ученики именуются "апостолами") и Деян 14:4,14. Это хуже согласуется с образом "апостолов" как постоянно проживающих в одном месте руководителей Иерусалимской церкви; мы находим такую картину, например, в Деян 8:1: "апостолы" — единственные, кто
не уходит из Иерусалима!
(B) Гипотеза о том, что Семерка, назначенная в Деян 6, подчинялась Двенадцати и стала началом дьяконского чина, имеет слабое обоснование в тексте.
Ее избрание гораздо больше было признанием уже существующего харизматического авторитета, чем назначением на должность: Семеро исполнились Духа не в результате возложения рук, — они были полны Духа и раньше (6:3, 5, 8,10). Кроме того, согласно более естественному пониманию греческого текста, руки на них возлагали не "апостолы", а толпа учеников (6:6). И если ими кто‑то вообще руководил, то не ограничивал их полномочия "служением столам". Как видно из дальнейшего, гораздо важнее был их харизматический авторитет, который полнее всего проявлялся в благовестии и миссионерской деятельности (6:8сл.; 8:4сл.) (см. далее § 60).
(C) Пресвитеры, несомненно, играли в Иерусалимской церкви важную роль (ср. Иак 5:14), и Лука наводит на мысль, что Павел воспроизводил иерусалимскую модель в других церквах (14:23; 20:17). Однако это не находит подтверждения у самого Павла: нигде в его посланиях "пресвитеры" не упоминаются; они появляются в Пастырских посланиях, но эти послания скорее всего были написаны уже после смерти Павла. Бросается в глаза, что, даже если исходить из повествования Луки, Антиохийской церковью руководили пророки и учителя (Деян 13:1–3), — намек на совершенно иную общинную структуру и служение в церквах эллинистической миссии (как мы увидим в § 29, полностью подтверждающийся Павловыми посланиями).
Таким образом, Лука, вероятно, попытался изобразить первохристианство гораздо более единым и единообразным в плане организации, чем оно было на самом деле. Далее мы увидим, что в пользу этого предположения есть и другие доводы (§ 72.2).
28.2. Другой возможный сценарий:
в первоначальной Иерусалимской общине служение и авторитет имели гораздо более спонтанную и харизматическую природу; поначалу ей были присущи разные формы руководства, а затем установилась форма, при которой за образец была взята иудейская синагога.
Служение, видимо, осуществлялось по непосредственному велению Духа или видения, — и это считалось достаточным авторитетом. Несомненно, именно так обстояло дело с Антиохийской церковью и с Павлом (13:2,4; 16:6сл., 9сл.; 18:9; 22:17сл.). А еще — с эллинистами и Ананией из Дамаска (6:8,10; 7:55; 8:26,29,39; 9:10). А еще — с Петром, Иоанном и "братьями" в Иудее (4:8; 10:10–16,19; 11:18; ср. 15:28). Именно так Филипп отправился к эфиопскому евнуху, Анания — к Павлу, а Петр — к Корнилию: они не пошли сначала консультироваться с собратьями–миссионерами, или с местной церковью, или с церковью в Иерусалиме. Стефан и Филипп, которые, согласно Луке, должны были "пещись о столах", проповедовали по внушению Духа (6:8–10; 8). Служение не было уделом какой‑то небольшой группы людей, и даже обратившиеся священники (6:7), видимо, не занимали особого положения и не исполняли особого служения в церкви.
Вероятно, поначалу наиболее видное место занимали Двенадцать, как представители эсхатологического Израиля (Мф 19:28/Лк 22:29сл.; Деян 1:6, 20–26; 6:2)
[241]. Однако по той или иной причине они стали утрачивать центральную роль и, за двумя или тремя очевидными исключениями, мы постепенно теряем их из виду. Причина, видимо, отчасти состояла в том, что их функция во многом связывалась с Воскресением и возвращением Христа (1 Кор 15:5; Мф 19:28/Лк 22:29сл.) и неважно подходила к общине промежуточного периода
[242]. Как бы то ни было, насколько можно судить, Петр и, вероятно, братья Иаков и Иоанн быстро выдвинулись в качестве заметных и, надо полагать, главенствующих фигур (Деян 1:13; 3–4; 12:1сл.; отметим также их значимость в евангельской традиции). Эпизод с евреями и эллинистами в 6:1–6 показывает другую сторону вещей: избранные Семеро, видимо, все были эллинистами (и даже ведущими эллинистами), — уже выделившимися в плане духовной зрелости и авторитета (6:3) (см. также ниже § 60). Как соотносились между собой руководящая роль группы вокруг Петра и таковая роль Семерых, неясно: в ключевом эпизоде Петр даже не упомянут (6:7–8:4).
Миновало около десяти лет, и лишь тогда (после смерти Ирода Агриппы в 44 г. н. э.) в Иерусалимской церкви окончательно выкристаллизовались особенности руководства, а авторитет стал более институциональным. Ключевой фигурой был Иаков, брат Иисуса. Когда он попал в число руководителей Иерусалимской общины? Ясного ответа на этот вопрос нет. Однако ко времени второго визита Павла в Иерусалим (не раньше 46 г.) Иаков уже входил в число трех "столпов" (Гал 2:9). Другой Иаков чуть раньше был убит Агриппой (Деян 12:2), а Петр и Иоанн постепенно уходили с ведущей сцены: Петр — видимо, из‑за угрозы со стороны Агриппы, да и вообще его больше волновала "миссия к обрезанным" (Деян 12:3–17; Гал 2:8); Иоанн — неясно, почему (в Деян он не появляется после 8:14; см. также ниже § 76.6). В любом случае Иаков вскоре получил все бразды правления, которые сохранял вплоть до своей смерти в 62 г. (Деян 15:13сл.; 21:18; Гал 2:12). Вероятно, он же ввел в Иерусалимскую церковь синагогальную модель управления, собрав вокруг себя группу старейшин (11:30; 15:2, 4, 6, 22сл.; 16:4; 21:18). Надо полагать, в этой более жесткой общинной структуре оставалось все меньше места для харизматического авторитета, опиравшегося только на Дух и откровение, — хотя, очевидно, по важным вопросам все равно испрашивалось мнение всей конгрегации (Гал 2:2–5; Деян 15:22), а пророки по–прежнему были связаны с Иерусалимом (Деян 15:32; 21:10).
§ 29. Служение в павловых церквах
29.1.
Тело Христово как харизматическая община. В своих представлениях о служении Павел исходит из образа Церкви как тела Христова. Этот подход особенно заметен в Рим 12,1 Кор 12 и Еф 4. Чтобы понять Павла в данном случае, следует иметь в виду несколько важных моментов.
(A) В Рим 12 и 1 Кор 12 Павел описывает
местную церковь. В самых ранних своих посланиях он говорит еще не о "вселенской Церкви", а о "церквах" (Рим 16:16; 1 Кор 7:17; 16:1,19 и т. д.). Аналогичным образом "тело" в Рим 12 и 1 Кор 12 не вселенская церковь, а церковь в Риме и церковь в Коринфе. В частности, из разработки метафоры тела в 1 Кор 12 ясно, что тело, о котором идет речь, — коринфские верующие (ст. 27 — "вы — тело Христово").
(B) Для Павла тело Христово —
харизматическая община. "Функции" тела — это именно харизмы Духа (Рим 12:4). Органы тела — индивидуальные верующие как харизматики, то есть действующие органы тела, которые проявляют те или иные духовные дары, говорят какое‑то слово или занимаются деятельностью, выражающей Дух общины и служащей общинной жизни (Рим 12:4–8; 1 Кор 12:4–7,14–26).
(C) Отсюда следует, что у
каждого члена христианской общины есть некая функция в общине; "каждому" дана та или иная харизма (1 Кор 7:7; 12:7,11). Строго говоря, харизматики — все. В каждом проявляется благодать (= харизма). Каждый является членом тела лишь постольку, поскольку Дух включает его в корпоративное единство через действующую в нем благодать. Павел не делил христиан на две группы — имеющих Духа и не имеющих, проявляющих харизму и не проявляющих, служащих и тех, кому служат. С точки зрения Павла, быть христианином — значит быть харизматиком. Невозможно быть членом тела, и не быть при этом орудием служения Духа этому телу.
(D) Члены тела имеют
различные функции,
различные служения (Рим 12:4; 1 Кор 12:4сл.), — иначе тело не будет телом (1 Кор 12:17,19). Каждый должен понять, какую харизму через него/нее проявляет Дух. И он должен сотрудничать с Духом, чтобы выразить эту харизму, иначе ухудшится функционирование тела. Поскольку это дар
Духа, а не нечто его собственное, человек не может ставить это себе в заслугу. Соответственно если его харизма кажется ему менее значимой, он не должен ощущать стыд или ущербность; еще меньше оснований гордиться и превозноситься, если харизма кажется важной.
Все функции тела важны и
незаменимы для здоровья целого организма (1 Кор 12:14–26; Рим 12:3). Метафора тела была и остается классической иллюстрацией единства в многообразии, —
единства, которое вырастает не из регламентированного послушания, но из гармонии многих разлитых частей, действующих вместе, которое поддерживается многообразием.
Итак,
в Павловых церквах служение принадлежало всем; каждому для его жизни в теле Христовом было нужно не особое служение немногих, но разнообразные служения всех его собратьев.
29.2.
Акты служения и регулярные служения. Харизма у Павла означает некое конкретное выражение
charts (благодати), некий конкретный акт служения, конкретную деятельность, конкретное проявление Духа. Это
событие, а не способность; трансцендентный дар для конкретного случая, а не человеческий талант, всегда находящийся под рукой
[243]. Единство тела Христова состоит во взаимодействии этих разнообразных харизм.
Христианская община существует только в живом взаимодействии харизматических служений, в конкретных проявлениях благодати, в реальных словах и делах на благо других людей.
Однако помимо индивидуальных харизматических деяний и речений Павел признавал, что некоторые члены тела Христова могут нести более
регулярные служения] более того, особняком стоит роль самого апостола.
(A) Служение
апостола в Павловой церкви было
уникальным: его доверил Павлу лично воскресший Христос (1 Кор 9:1; 15:7; Гал 1:15сл.); Павел добился больших успехов как миссионер и основатель церквей (1 Кор 3:5сл., 10; 9:2; 15:9сл.; 2 Кор 10:13–16); его роль была глубоко эсхатологической (Рим 11:13–15; 1 Кор 4:9). Как основатель любой конкретной церкви (то есть служитель, чей богоданный авторитет продемонстрирован и подтвержден успешным основанием этой церкви), Павел нес на себе ответственность давать советы ее членам и наставления в ее делах (отсюда Павловы послания в Фессалоники, Галатию, Коринф и т. д.). Вот почему именно апостольское служение возглавляет список служений в местной церкви (1 Кор 12:28), а также более общий список служений (Еф 4:11). В частности, его долгом было передавать благовестие, вверенное ему воскресшим Господом, как его подтвердили собратья–апостолы (Гал 1:11сл., 15сл.; 2:2,6–10), а также различные предания, общие для всех церквей (см. выше § 17). Следует отметить, однако, что Павел не был апостолом вселенской Церкви; его авторитет не признавался всеми церквами и ограничивался его собственной сферой миссионерской деятельности (Гал 2:7–9; 2 Кор 10:13–16), основанными им церквами (1 Кор 12:28 — "Бог поставил в (местной) церкви…"; см. выше § 29.1). Павел резко оспаривал право других апостолов проявлять власть в его церквах (2 Кор 10–13), а сам не пытался распоряжаться в Иерусалимской церкви (Деян 21; ср. 15:12сл.)
[244]. Более того, отметим, что из‑за уникальности роли и авторитета апостола, его функцию нельзя описать в категориях церковной "должности": он не был назначен Церковью, и Павел не мыслил никого в качестве своего преемника как апостола (1 Кор 15:8 — "последний из всех"; 4:9 — последний акт на мировой арене перед Концом).
(B) Менее фундаментальными (в строгом смысле слова), но первостепенными среди регулярных служений в Павловых церквах были служения
пророков и
учителей (1 Кор 12:28). Чуть упрощая, можно сказать: пророк передавал Церкви новые откровения, а учитель — старые. Ниоткуда в Павловых посланиях не видно, что это были церковные "должности", на которые христиане получали назначения. И уж конечно, пророчествовали не только пророки, а учили не только учителя (1 Кор 12:10; 14:1,5, 26, 39). Из Павловых представлений о харизматическом служении вытекает, что пророки признавались как пророки, потому что они пророчествовали регулярно. Нельзя сказать, что они пророчествовали потому, что они были пророками, — наоборот, они были пророками, потому что пророчествовали, потому что так через них регулярно проявлялся Дух в Церкви. Аналогичным образом обстоит дело с учителями, хотя сама специфика учительской деятельности наводит на мысль, что их служение имело более формализованный характер (наставление в церковных преданиях — Гал 6:6). (С) В Павловых церквах существовало также
широкое разнообразие других регулярных, менее четко определенных, служений. Сюда входили проповедь, оказание различной помощи, управление и/или некоторые виды руководства, поездки по поручениям и соработничество с Павлом в миссии к язычникам (Рим 12:7–8; 16:1, 3, 9, 21; 1 Кор 12:28; 16:15–18; 2 Кор 8:23; Флп 1:1; 2:25; 4:3; Кол 1:7; 4:7; 1 Фес 5:12сл.). Четкой грани между этими видами служений не проводилось: скажем, назидание пересекается с пророчеством (Рим 12:6–8), а "вспоможения" (1 Кор 12:28) — с раздаянием и заботой (Рим 12:8). Объяснение этого многообразия очевидно: любая форма служения, на которую члена общины регулярно толкал Дух и которая была на пользу Церкви, признавалась (или во всяком случае должна была признаваться) Церковью как регулярное служение (1 Фес 5:12сл.; 1 Кор 16:16,18). Следовательно, эти служения не следует считать официальными; это не суть официальные церковные должности и назначения. Более того, в случае со Стефаном и его домашними прямо сказано: "Они
взяли на себя служение святым" (1 Кор 16:15). Только два служения приняли форму, в которой можно усмотреть начаток будущих должностей, — "блюстители (епископы) и дьяконы" (Флп 1:1). По–видимому, в данном случае некоторые не столь четко определенные области управления и вспоможения начали сгруппировываться и объединяться в более ясно очерченные формы служения; соответственно христиан, которые несли эти служения, можно было обозначать одним понятием (блюститель, дьякон). Однако все равно не факт, что служения, упомянутые в Флп 1:1, были прямыми предшественниками появившихся во II в. должностей епископа и дьякона (хотя бы потому, что ни Игнатий, ни Поликарп не знают ни о какой епископской должности в связи с Филиппами). Понятия "благовестники" и "пасторы" из Еф 4:11 также могут обозначать более четко определенные служения, хотя не исключено, что Послание к Ефесянам рассматривает вселенскую Церковь в более позднем (после–Павловом?) ракурсе (см. ниже §72.1). Но даже здесь они скорее относятся не столько к формальным должностям, сколько к функциям. (D) Напоследок отметим, какое место в Павловых представлениях о харизматической общине занимало служение
конгрегации. Образ тела Христова ясно предполагает, что каждый член в отдельности и все члены в совокупности отвечают за благосостояние целого. Поэтому не приходится удивляться, что Павел призывает
всех членов общины учить, увещевать, судить и утешать (Рим 15:14; 1 Кор 5:4сл.; 2 Кор 2:7; Кол 3:16; 1 Фес 5:14). Более того, бросается в глаза, что Павловы наставления и назидания обычно обращены к общине в целом. Нигде в своих посланиях (за возможным исключением Флп 1:1) он не обращается к какой‑то одной группе людей, как если бы вся (или основная) ответственность за организацию, богослужение и общее благополучие лежала на ней. Это особенно заметно в 1–м Послании к Коринфянам: казалось бы, череда ситуаций и проблем просто вопиет о необходимости четкой руководящей структуры, — но Павел не говорит о такой потребности. Подтекст ясен: если в какой‑то ситуации требовалось руководство, Павел ожидал, что харизматический Дух предоставит его в слове мудрости и наставления через какого‑то человека (ср. 1 Кор 6:5; 12:28). На общине в целом лежал долг проверять все слова и дела, претендующие на вдохновение и авторитет Духа (1 Кор 2:12,15; 1 Фес 5:20сл.), даже если они принадлежали самому Павлу (ср. 1 Кор 7:25,40; 14:37). На них лежала ответственность давать одобрение, говорить "Аминь" на боговдохновенные речения (1 Кор 14:16), признавать авторитет Духа в служениях, совершаемых по его велению (1 Кор 16:18; 1 Фес 5:12сл.).
29.3. Подведем
итоги. Павловы представления о церкви и
служении отличаются от концепции ученичества в земном служении Иисуса в том отношении, что предполагают харизматическую
общину, отличающуюся взаимозависимостью, где каждый знает Духа напрямую, но нуждается в служении других членов (учении и т. д.). Павловы представления о церкви и служении
отличаются также от модели, разработанной в Иерусалиме: они имеют в виду лишь харизматическую общину и ничего более, — общину "свободного братства, развивающуюся через живое взаимодействие духовных даров и служений, без официального авторитета и ответственных «старейшин»"
[245]. В частности, это показывает, что Павлову церковь невозможно описать как священническую, где служение имеют лишь некоторые. С точки зрения Павла, Дух преодолел, оставил в прошлом ветхое иудейское разграничение между священством и народом: отныне служение несут
все, и каждый член общины может быть призван на любое служение. Некоторые имеют более
регулярное служение, которое конгрегации следует признавать и поддерживать. Однако идею монослужения или церковной автократии — когда важнейшие дары сосредотачиваются в одном человеке (даже апостоле) или избранной группе — Павел насмешливо отвергал (1 Кор 12:14–27).
§ 30. По направлению к Игнатию
30.1.
Пасторские послания. Если мы вернемся на несколько страниц назад и сравним Павловы представления о харизматическом служении с увещаниями Игнатия Антиохийского в Послании к Смирнянам (§ 26), у нас может возникнуть искусительная мысль, что эти две концепции стоят на разных полюсах и вообще несовместимы. Однако если мы обратимся к позднейшим документам паулинистического корпуса (Пастырским посланиям), то обнаружим в них
понимание церковной структуры, которое выглядит гораздо более близким Игнатию, чем Павлу\ Эта особенность церковной организации — одно из главных указаний на то, что Пасторские послания в их нынешнем виде появились уже после смерти Павла и отражают ситуацию в паулинистических церквах, которая сложилась в последней четверти I в., если не позже.
Вот основные черты.
(1) Только в этих документах паулинистического корпуса упоминаются старейшины (1 Тим 5:1сл., 17,19; Тит 1:5).
(2) Понятия "блюстители" (епископы — 1 Тим 3:1–7; Тит 1:7сл.) и "дьяконы" (1 Тим 3:8–13) относятся к институциональным должностям (1 Тим 3:1 — "должность епископа"). На основании 1 Тим 3 можно предположить, что дьяконы были подчиненной должностью (хотя их конкретные функции неясны).
(3) Не вполне ясна роль Тимофея и Тита в этой иерархии, хотя они, несомненно, стояли выше старейшин, блюстителей и дьяконов. Показательно, что Пасторские послания адресованы им, и они, видимо, обладали такими полномочиями в урегулировании общинных дел, какие Павел никогда не применял ни лично, ни через своих непосредственных соработников (см. ниже §72.1).
(4) Особенно бросается в глаза, что Павлова концепция харизмы была сужена и отрегулирована: теперь харизма — дар, который дается раз и навсегда при рукоположении; Тимофей несет этот дар в себе, и он дает ему возможность справляться с разного рода ответственностью. Иначе говоря, из события, которое имеет свой авторитет в себе самом, харизма стала властью и авторитетом
должности (1 Тим 4:14; 2 Тим 1:6).
Пожалуй, лучшее объяснение этой формы служения и церковной организации заключается в следующем:
Пастырские послания — продукт растущего после–Павлова сближения между более формализованными структурами, заимствованными иудеохристианством у синагоги, и более динамической харизматической структурой Павловых церквей. В пользу этой гипотезы свидетельствует прежде всего упоминание в Пасторских посланиях старейшин, с одной стороны, и блюстителей с дьяконами — с другой. Как мы уже говорили, старейшины — одна из особенностей иудеохристианских конгрегации (см. выше § 28.1; также Иак 5:14сл.); блюстителей и дьяконов (по крайней мере эти названия) мы встречаем в одном из последних посланий Павла как нововведение в церковной организации (известное нам только по Филиппам). Отсюда такая версия: после смерти Павла название (и форма?) этих регулярных служений в Филиппах была скопирована другими Павловыми церквами
[246] (или во всяком случае получила более широкое распространение в Павловых церквах); одновременно функции блюстителя и дьякона были более четко определены и отрегулированы (см. Дидахе 15:1–2). На этой стадии начались попытки совместить две модели, ассимилировать организацию иудеохристианских церквей к организации Павловых церквей (или наоборот). Пасторские послания (и 1–е Послание Климента), видимо, были написаны в ту пору, когда этот процесс ассимиляции или интеграции зашел далеко, но еще не завершился. В частности, роли блюстителя и старейшины, очевидно, ассимилировались друг к другу, но из Пасторских посланий неясно, были ли оба понятия синонимами, или слово "блюститель" стало названием одной из конкретных руководящих функций у старейшин (почему старейшины не упомянуты в 1 Тим 3?); ср. Деян 20:17, 28; 1 Климента 42:4; 44:4сл.; 47:6; 57:1.
30.2. Если эта гипотеза имеет под собой историческое основание, можно попытаться проследить по другим новозаветным документам
стадии сближения между иудеохристианскими церквами и церквами Павловой миссии. Я имею в виду прежде всего 1–е Послание Петра и Евангелие от Матфея
[247]. Здесь у нас гораздо меньше данных, и во многом приходится рассуждать исходя из косвенных признаков, поэтому необходима осторожность. Полная картина событий нам недоступна, но имеющиеся данные говорят в пользу вышеизложенной гипотезы.
1–е Послание Петра, видимо, вышло из паулинистической среды или, по крайней мере, находится под сильным влиянием Павлова богословия (см., например, специфически Павловы выражения и идеи в 2:5; 3:16; 4:10сл., 13; 5:10,14). Отметим, в частности, что Павлова концепция харизмы остается нетронутой: по словам автора,
каждый получил какую‑то харизму, и "благодать Божия проявляет себя по–разному" (4:10); автор связывает харизмы с говорением и обслуживанием, — понятия достаточно широкие, чтобы одновременно охватывать многообразие Павловых перечней в Рим 12 и 1 Кор 12, но при этом сохранять Павлов акцент на харизмах слова и харизму как служение. Отметим также, что титул священника дается не какому‑то индивидуальному христианину (в Новом Завете этого вообще нет), а Церкви в целом и служение христиан в целом описывается в категориях священнического служения (2:5, 9), как и у Павла (Рим 15:27; 2 Кор 9:12; Флп 2:17 (?), 25,30). Титул "пастор и блюститель" относится только к Иисусу (1 Пет 2:25). В то же время единственный раз, когда упоминается о пророках, используется прошедшее время (1:10–12 — речь о раннехристианских пророках или в том числе о них). Более того, 1–е Послание Петра, очевидно, предполагает четко очерченный круг старейшин с относительно хорошо определенными обязанностями (5:1–5). Поэтому есть основания считать, что 1–е Послание Петра отражает
ту стадию, когда Павловы церкви (или церкви, находившиеся под большим влиянием Павла)
уже начали принимать и адаптировать иудеохристианскую модель церковного устройства, но еще не утратили гибкости и свободы Павловой харизматической общины[248].
30.3.
Евангелие от Матфея, видимо, отражает еще более раннюю стадию сближения, но со стороны иудеохристианства. Так, например, с одной стороны, присутствует сильный акцент на действенность Закона (особенно 5:17–20 — см. ниже § 55.1); только у Матфея мы находим логии, в которых Иисус ограничивает миссионерскую деятельность иудеями (10:6, 23); в словах о твердом основании церкви и "ключах Царства Небесного" (16:18сл.) выделяется Петр. С другой стороны, в матфеевской церкви, очевидно, были книжники (= учителя) (ср. 7:29 — "их книжники"), которые не просто передавали Закон и предания об Иисусе, но истолковывали их заново (13:52 — см. выше главу IV); матфеевская церковь была гораздо более открыта и вовлечена в миссионерство, чем первоначальная Иерусалимская церковь (28:19сл.); и особо выделен не Иаков, а Петр
[249], который в преданиях I в. столь же тесно ассоциируется с миссионерством, сколь и Павел (см. особенно Гал 2:8сл.)
[250].
Для нашей темы особый интерес представляют отрывки 7:15–23,18:1–20 и 23:8–12. Судя по 7:15–23, матфеевская церковь потерпела некий ущерб от служения странствующих пророков: те несли харизматическое служение такого типа, который (по крайней мере с точки зрения Матфея) был сопряжен с антиномизмом (7:22сл.; ср. 24:11, 24). В данном отрывке Матфей не отвергает служение странствующих пророков по определению (ср. 10:7сл., 41; 17:20), а просто хочет, чтобы эти пророки лучше исполняли Закон. В "общинном правиле" (18:1–20) примечательно отсутствие какого‑то особого руководства, отличного от обычных членов церкви; не упомянуты даже старейшины и блюстители. Речь идет только о "малых сих", что, видимо, относится ко всем членам сразу, ибо для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно стать как дети (18:1–6,10). Далее "правило" требует от каждого искать потерянных овец, возвращать заблуждающегося брата, связывать и разрешать (18:12–20)
[251]. Одним словом, власть "связывать и разрешать", учить и наводить порядок дана Иисусом не только Петру, или какому‑то другому лицу, или группе должностных лиц, но и каждому члену церкви (18:18–20).
У Матфея Петр выделен не столько как иерарх, сколько как представитель учеников, — как и в 14:28–31, где он олицетворяет "маловерие" учеников (ср. 6:30; 8:26; 16:8; 17:20)
[252]; аналогичным образом Двенадцать, видимо, понимаются как представители церкви в целом (19:28; ср. 1 Кор 6:2сл.). Наконец, 23:8–10 адресует матфеевской церкви довольно прямое предупреждение: не следует удостаивать особого ранга, титула или статуса какого‑либо индивидуального члена общины, ибо только Бог — "отец", и только Иисус — "учитель" и "наставник". Величие, к которому все призваны, не есть величие власти, но смиренного служения (20:25–27; 23:11сл.).
Матфеевскую общину, пожалуй, лучше всего охарактеризовать как
братство (5:22–24, 47; 7:3–5; 18:15, 21, 35; 23:8), собранное вокруг Иисуса, который есть старший брат (12:49сл.; 18:20; 25:40; 28:10). Среди иудейской враждебности она старалась сохранить определенную открытость и служение для всех членов общины (наиболее заметными были служения Петра, пророков и учителей). Она также сознавала две противоположные опасности: иерархической структуры, которая препятствует многообразному служению братьев
[253], и харизматического профетизма, который отделяет чудеса и откровения от должной верности Закону. Иными словами,
матфеевская община пыталась разработать некую форму паулинистской церковности в иудейской среде и более уместным для иудейской среды образом[254].
§ 31. Иоаннова альтернатива
В христианстве I в. Пасторские послания показывают тенденцию к растущей институционализации, в направлении Игнатия и большой Церкви II в. и позднее. Однако, по–видимому, была в I в. и противоположная тенденция. Самый яркий образец этого
сопротивления институционализации мы находим в четвертом Евангелии и Иоанновых посланиях. Следы его присутствуют также в Послании к Евреям и Апокалипсисе.
31.1.
Индивидуализм четвертого Евангелия — одна из самых ярких черт этого примечательного документа. Его автор, подобно Павлу, мыслит богослужение в харизматических категориях (см. ниже § 34.4), но в отличие от Павла у него нет представления о харизматической
общине. Конечно, некое чувство общины присутствует как в четвертом Евангелии, так и в 1–м Послании Иоанна (Ин 10:1–16; 15:1–6; 17:6–26; 1 Ин 1:7; 2:19; 3:13–17), но это не община харизматически взаимозависимых членов. Действительно, на каждого возлагается "горизонтальная" ответственность любви к братьям; в обоих текстах, как и у Павла, в этом видится особенность подлинного христианина (Ин 13:34сл.; 1 Ин 3:10–18, 23сл.; 4:20сл.). Но для Иоанна "вертикальное" взаимоотношение с Богом–Духом — дело в основном
индивидуальное. Есть, в частности, взаимная связь со Христом, но не взаимозависимость: каждая овца сама слышит голос пастуха (Ин 10:3сл., 16); каждая ветвь укоренена непосредственно в лозе (15:4–7). Фразы о поедании плоти Иисуса, питии его крови или воды, истекшей из его ребра, адресованы более череде индивидуумов, чем общине, которая сама есть тело Христово (6:53–58; 7:37сл.). А кульминация "Евангелия знамений" (Ин 1–12) — воскресение отдельного человека, символизирующее скорее личное спасение (Ин 11), чем всеобщее воскресение из мертвых. Иисус действительно молится о единстве верующих, что наводит на мысль об общине, но даже здесь единство, о котором говорит Иоанн, сравнимо с единством Отца и Сына, укоренено в союзе индивидуального верующего с Иисусом, поддерживается этим союзом (17:20–23)
[255].
Особенно же бросается в глаза следующее: маленькая группа, оставшаяся вокруг Иисуса после просеивания, после страшного испытания
(krisis) на веру и верность (один из ведущих мотивов; см. выше § 18.4), не формирует ни иерархию, ни должностную структуру, которая отделяла бы ее от других учеников. Ее члены нигде не называются "апостолами" (ср. 13:16) и, возможно, включают часть женщин, которые вообще занимают в четвертом Евангелии важное место (Ин 4,11, 20). Ни из чего не видно, что они несут особое служение
внутри общины учеников. Это просто "ученики", которые скорее всего изображены как представители всех (в том числе будущих) учеников в их общей ответственности любить друг друга и миссионерствовать (Ин 14–16; 20:22)
[256]. Вероятно, это относится и к "возлюбленному ученику". Какая бы историческая реальность ни лежала в основе данного образа (ср. 21:20–24), Иоанн, очевидно, видит в нем символ индивидуального верующего в непосредственности и близости его отношений с Иисусом (13:23–25; 20:2–8). Аналогичным образом в 1 Ин 2:27 помазание Духа устраняет необходимость в учителях; Дух, пребывающий в каждом верующем, — вполне достаточный учитель. Одним словом,
в Иоанновом корпусе фактически нет представления о церковном служении и уж тем более — о должности. Все рассматривается через призму личных отношений с Богом через Дух и слово
[257].
31.2. Из всех новозаветных посланий за пределами паулинистического корпуса, наибольшую близость к Павлу имеет 1–е Послание Петра, а затем —
Послание к Евреям. Однако если 1–е Послание Петра находится на полпути между Павлом и Пасторскими посланиями, то Послание к Евреям — на полпути между Павлом и Иоанном. Конечно, в этой церкви есть руководители (Евр 13:7,17, 24), но это скорее пасторская функция, чем должность (13:17). В еще большей степени это относится к учительскому служению (5:11–6:8): упомянута только одна оговорка: в человеке должна присутствовать духовная зрелость, выражающаяся в умении отличать добро от зла (обретаемом посредством опыта и практики; 5:14); сопоставим ее с требованиями, которые Павел предъявляет к пророкам и учителям (см. выше § 29.2). Никакие другие виды служения не ограничены отдельными членами общины. Напротив, ответственность за обслуживание и увещание возлагается на всех членов общины (6:10; 10:25; 12:15). Здесь также есть прямые параллели с харизматической общиной Павла (см. выше § 29.2).
Еще больше обращает на себя внимание другое: согласно Посланию к Евреям,
служение целиком и полностью сосредоточено во Христе. Только он именуется "апостолом" (3:1). Он завершает фрагментарное откровение, данное через древних пророков (1:1сл.). Важнее всего то, что он — священник, первосвященник, священник по чину Мелхиседека (2:17; 3:1; 4:14сл.; 5:1 и т. д.). Его священство — столь великое и полное, что попросту
не оставляет роли и места для какого‑либо священнического посредника внутри христианской общины. Особое священство осталось в прошлом, в эпохе теней. Но Христос принес каждому верующему реальность, доныне лишь предзнаменуемую (Евр 7–10). Как Священник, он совершил окончательное жертвоприношение раз и навсегда и открыл каждому верующему Святая Святых; теперь
каждый может сам переживать реальность того, что некогда было доступно лишь первосвященнику в виде тени (4:16; 6:19сл.; 10:19–22). Одним словом, ветхозаветные служения исполнились во Христе, а потому отменены для народа новозаветного. Здесь мы опять видим близкую параллель с Иоанновыми представлениями о Церкви и служении, где служение сосредоточено в Иисусе и
каждый верующий может лично "приблизиться" к присутствию Божьему, независимо от других верующих или человеческого посредника[258].
31.3. Концепция служения, на которую намекает
Апокалипсис, по–видимому, находится где‑то между Павлом и Иоанном. Здесь также бросается в глаза отсутствие представления об иерархии и церковных должностях. Царями и священниками (1:6; 5:10; 20:6), служителями Божьими (7:3) являются все верующие. Апостолы упомянуты, но как принадлежащие периоду начала Церкви (21:14). Старейшины появляются в небесном тронном зале, но не факт, что они вообще соответствуют конкретным людям (возможно, имеется в виду ветхозаветный совет Яхве); если такое соответствие и есть, речь идет о Церкви в целом, а не о носителях конкретных церковных должностей, — возможно, одна дюжина обозначает ветхий Израиль Божий, а другая дюжина — нынешнюю Церковь (4:4, 10; 5:8; 11:16; 19:4; ср. 3:21). В "ангелах" церквей (1:20; 2–3) не следует видеть епископов (блюстителей) или конкретных руководителей. Поскольку слова, адресованные каждому ангелу, несомненно, относятся к церкви в целом, ангелы — это скорее всего небесные соответствия различных церквей. Одним словом,
Апокалипсис нигде не упоминает епископов, дьяконов, учителей и пасторов; понятия "священники" и "старейшины" относятся ко всей Церкви.
Единственные конкретные служения, упомянутые в Апокалипсисе, — служения
пророка (2:20; 10:7; 11:10,18; 16:6; 18:20, 24; 22:6, 9) и
свидетеля/ мученика (2:13; 11:3; 17:6; ср. 1:2, 9; 6:9; 11:7; 12:11,17; 19:10; 20:4). Эти слова иногда обозначают конкретных людей в церкви (2:13, 20; 22:9), но в 11:3, 10 два свидетеля/пророка, видимо, символизируют церковь в целом. Неясно, относят ли парные понятия "святые и пророки/мученики" (11:18; 16:6; 17:6; 18:24) равно ко всей общине или выделяют пророков/мучеников из числа остальных святых (как, возможно, в 18:20). Однако нет никаких намеков на пророческую иерархию, и, поскольку все верующие призваны свидетельствовать об Иисусе, все имеют Дух пророчества (12:11, 17; 19:10; ср. 6:9–11; 20:4). Здесь перед нами частичная параллель с Павловым представлением о служении: в принципе, всякий святой — свидетель и пророк, хотя некоторые призваны нести это служение в более полной мере, чем остальные. Иногда на некий особый авторитет претендует сам автор Апокалипсиса (1:3; 21:5; 22:6,18сл.), но это просто авторитет пророческого вдохновения, в наличии у себя которого убежден любой пророк; 22:18сл. — не более чем литературная конвенция, призванная обеспечить точную передачу авторского оригинала (ср., например,
Послание Аристея 310сл.). Духовидец Иоанн не отделяет себя от своих адресатов ни как свидетель, ни как пророк (1:2, 9; 19:10). Одним словом, в Апокалипсисе
отражена Церковь, живущая пророчеством[259].
§ 32. Выводы
32.1. В нашем изучении христианства I в.
мы нигде не обнаружили большего многообразия, чем в различных концепциях служения и общины. На стадии допасхального ученичества слово "община" не вполне адекватно для описания Иисусова окружения, а служение сосредоточено на самом Иисусе. На второй стадии (первое поколение христиан) мы встречаем две разные модели: с одной стороны, ранняя и несколько хаотическая, харизматическая свобода Иерусалимской церкви сменилась более консервативным церковным устройством, заимствованным из синагоги; с другой -11авел горячо отстаивал гораздо более свободный вариант харизматической общины, где единство и зрелость вырастают из живого взаимодействия даров и служений, без опоры на церковные должности или иерархию. На третьей стадии (второе поколение христиан) эти модели одновременно начинают смешиваться и расходиться:
с одной стороны, после смерти Павла началось сближение иудеохристианских форм с паулинистическими, которое в Пасторских посланиях (как минимум) давало ужесточение структур, предвестника будущего католичества; с другой — присутствовала и реакция против институционализации, где Иоанн, автор Послания к Евреям и автор Апокалипсиса (каждый по–своему) протестуют против структурирования церкви вокруг должностей и посредников, говоря о возможности прямого богообщения для каждого верующего и о том, что священство и пророчество принадлежат всем. (Иоанн, в частности, тосковал по тому пониманию ученичества, которое было присуще первой стадии. Выражаясь современным языком, это — христианство
conventicle (тайного собрания) и
camp‑meeting (христианского лагеря)).
32.2. Все это означает, что из "Спагетти–Джанкшн"
[260] христианства I в.
только одна дорога вела к ортодоксальному церковному устройству Игнатия; остальные же вели как минимум в другом направлении. Конечно, мы рассмотрели лишь один из аспектов новозаветной экклезиологии, но и сказанного достаточно, чтобы отдать должное знаменитым словам Э. Кеземана: "Новозаветный канон как таковой не образует основу для церковного единства. Наоборот, он… создает базу для множественности конфессий"
[261]. Этот факт недостаточно учитывается современным экуменическим движением, и его значение для нынешнего деноминационного многообразия нужно осмыслить гораздо внимательнее и тщательнее, чем это пока делается. Мы вернемся к данному вопросу в заключительной главе (особенно § 76.2).
32.3. Существует ли у этих моделей служения и общины некое средоточие единства, или они представляют собой разрозненные фрагменты, не обладающие особой когерентностью?
Последовательно прослеживается лишь одно средоточие единства — Иисус и вера в Иисуса
[262]. В допасхальном движении только Иисус был служителем, пророком и учителем. В первоначальный послепасхальный период авторитет и наставления черпались в видениях Иисуса, от тех, кто действовал "во имя его", от Духа, дарованного прославленным Иисусом; даже Иаков занял руководящее место отчасти потому, что был братом Иисуса. Согласно Павлу, харизматическая община есть ничто, если она не является телом Христовым, не живет его Духом, не способна на его жертвенную любовь. Даже у второго поколения христиан мы находим все то же средоточие — Христос, который именуется в 1 Пет 2:25 "пастырем и блюстителем наших душ"; Христос, который, согласно Мф 23:8–10, только один и может быть назван учителем и наставником; Христос, который в Послании к Евреям изображен священником и первосвященником. В Апокалипсисе Церковь названа невестой Христовой (21:2сл., 9). Даже в Пасторских посланиях подчеркивается, что человек Христос Иисус — единственный посредник между Богом и человеком (1 Тим 2:5). У Иоанна одна из главных тем — центральное место Иисуса как воплощенного и прославленного Логоса и зависимость каждого ученика непосредственно от него.
Таким образом, мы снова видим, что
единственная нить, объединяющая различные модели, — Иисус Назарянин, ныне прославленный. Он поныне остается средоточием авторитета, и в нем обретается образец служения.
32.4. Краткого упоминания заслуживают две другие особенности, которые, при всей их актуальности для современной проблематики, обычно игнорируются:
1. Новый Завет нигде не оставляет места для разграничения верующих на священство и народ, "клир" и "мирян". Чувство эсхатологического исполнения, присущее первым двум поколениям христианства, означало: священство внутри общины верующих, при котором одни верующие обособлены от других, —
дело минувшей, дохристианской эпохи. Только Христос назван "священником" (Послание к Евреям; ср. Рим 8:34). Некоторые новозаветные авторы говорят о священстве всех верующих (1 Пет 2:5, 9; Откр 1:6); Павел характеризует служение благовестию или другим верующим как священническое служение (Рим 15:16; Флп 2:25). Однако больше не существует священного пространства, куда есть доступ лишь немногим (Ин 4:20–24). Единственное жертвоприношение — принесение верующими в жертву самих себя, своих телесных взаимоотношений в повседневном мире (Рим 12:1). Культ отныне секуляризован. Нет места для священства, которое по своему характеру отличалось бы от священства всех верующих. Создается впечатление, что этой постоянной особенности канонических документов христианства не уделяется достаточно внимания во всех современных дебатах (как о "служении", так и "о служении всего народа Божия").
2. Бросается в глаза крупная роль, которую у истоков христианства играло
служение женщин–учеников. В Евангелиях они занимают видное место: см. Мф 28:1–10, Мк 15:40сл., Лк 8:1–3 и особенно Евангелие от Иоанна (2:3–5; 4:25–30,39; 11:24–27; 20:1–18). Когда в наше время спорят о Павловых посланиях, то слишком много внимания уделяют, с одной стороны, 1 Кор 11:2–16 и 14:34сл. (не говоря уже о 1 Тим 2:11сл.) и, с другой стороны, — Гал 3:28. Незаслуженно пренебрегают ясными указаниями на то, что в Павловых церквах женщины несли важные служения и могли занимать руководящие позиции. Возьмем хотя бы Рим 16: Фива — первый человек, который назван "дьяконом" в Новом Завете, и "патрон" церкви Кенхрейской. Затем Прискилла (16:3): она, видимо, принадлежала к числу соработников Павла и более выделилась в руководстве и служении, чем ее муж Акила. Затем Юния (16:7 —
не Юний): очевидно, жена Андроника; еще до Павла была в числе ведущих апостолов. Не будем забывать также о Мариам, Трифене, Трифосе и Персиде (16:6,12): все они, как сказано, "много потрудились", — описание, которое в других отрывках обычно указывает на руководство (1 Кор 16:16; 1 Фес 5:12). Поскольку только они охарактеризованы подобным образом в перечне приветствий из Рим 16, можно сделать вывод: по–видимому, женщины играли особо заметную роль в руководстве первохристианскими церквами в Риме.
VII. Типы Богослужения
§ 33. Введение
Богослужение — один из важнейших объединяющих факторов в христианстве. Ибо в богослужении есть место той пышности языка и свободе литературной формы, которая отсутствует в керигматических и вероисповедных формулах. Литургии различных деноминаций (особенно гимны) — сокровищница богослужения, наполненная разнообразными традициями прошлого и настоящего, выходящая за рамки конфессиональных и национальных ограничений. Даже гимны, в которые вложены определенные доктринальные позиции (вроде "Любовь Божия, всякую любовь превосходящая…" Уэсли) или гимны унитариев стали средством христианского богослужения, при котором различия и разделения часто кажутся малосущественными. Более того, в экуменических дискуссиях XX в. получил распространение лозунг (несомненно, как следствие разочарования от межконфессионального диалога): "Богослужение объединяет, доктрина разделяет". Следует также отметить, что восточные христиане всегда усматривали в богослужении гораздо большую (относительную) важность, чем их западные собратья, ибо православная "ортодоксия" касается не столько вероучения, сколько богослужения. Быть православным христианином — значит принадлежать к общине, которая правильно молится и славит Бога.
Таким образом, мы видим еще одну область, которую следует рассмотреть, исследуя единство и многообразие христианства I в. Какие образы богослужения мы находим в церквах новозаветного периода? Существовал ли единый тип богослужения, или, как и в случае со служением (глава VI), присутствовало разнообразие типов? В какой степени христиан объединяло богослужение, и сколь различными были его формы? Сначала мы кратко рассмотрим ряд новозаветных текстов, уделив особое внимание Иисусу, первоначальной Церкви, Павлу и Иоанну. Затем возьмем более узкую тему —
гимны новозаветных церквей. (За последние 80 лет новозаветная наука достигла серьезных успехов в освоении данного вопроса.) И, наконец, зададимся вопросом: использовались ли уже в I в.
развитые формы литургии и катехетики, которые обеспечивали более широкую нить единства, чем те, о которых мы говорили в предыдущих главах.
§ 34. Многообразие подходов и форм
34.1.
Иисус. Как Иисус относился к богослужению своего времени, не вполне ясно. Это одна из многочисленных проблем в изучении христианских истоков, которую ученые решают по–разному. Без сомнения, за основу надо взять эсхатологизм Иисуса: он считал, что сила Царства последних времен уже действует в мире, и ожидал, что скоро Царство наступит окончательно (см. выше §§ 3.1,2). Следовательно, его позиция в данном вопросе и его богопочитание были нетипичны для его современников. С точки зрения большинства современников Иисуса, Бог — вышний и святой, и обращаться к нему нужно с глубочайшим благоговением; имманентность Божья выражалась с помощью учения об имени Божьем, о Премудрости Божьей и т. д. Однако для Иисуса Бог — непосредственно рядом. Бог — Отец, причем не в смысле сотворения мира или адоптации, а в смысле глубоко личном и семейном, который позволяет обращаться к Богу словом "Абба" ("дорогой отец", "папа") (см. ниже § 45.2). Этот подход признает
преемство с прошлым: Иисус рассматривал данное откровение как кульминацию прежнего (см. Мф 5:17; ср. Мф 11:25сл./Лк 10:21). Но он предполагал и
разрыв с прошлым: появилось нечто новое, что не удержать в старых рамках (Мк 2:21сл.). Это особенно видно из отношения Иисуса к Храму и синагоге, из его отношения к Закону, а также из его молитвы.
(А) Отношение Иисуса к Храму и синагоге. Мы не знаем, сколь часто Иисус ходил в Храм (см., в частности, Мф 23:37–39/Лк 13:34сл., а также несколько посещений в Евангелии от Иоанна). Нам наверняка известно только об одном визите Иисуса в Храм, и о том, что он там делал, — "очищение Храма". Но в чем смысл этого очищения? Если Мк 11:17 (с цитатой из Ис 56:7) передает подлинные слова Иисуса, то можно сделать вывод: Иисус видел в Храме средоточие эсхатологического обновления. В пользу этой интерпретации говорит отношение первохристиан к Храму (см. ниже §§ 34.2, 54.2). Другое возможное объяснение: изгнание продавцов жертвенных животных подразумевало отрицание традиционного культа жертвоприношений (это действие в сущности делало продолжение культа невозможным; ср. критику Иисуса в адрес законов ритуальной чистоты — см. ниже). Вспомним здесь речение Иисуса, отраженное в Мк 13:2,14:58 (см. выше § 10.1): судя по нему, Иисус относил Храм (и культ жертвоприношений) к старой, уходящей эпохе, — в грядущем Царстве будет новый (небесный) Храм (см. истолкование в Ин 2:21 и Деян 6:14 — см. ниже § 34.2)
[263]. Стало быть, отношение Иисуса к Храму не вполне понятно (ср. также Мф 5:23сл. и 9:13,12:7; Мк 1:44, Лк 17:14 и Лк 10:31сл.; также см. Ин 5:14; 7:14, 28; 8:20; 10:23).
Неясность его сохранившегося учения на сей счет отражена в различных путях, которыми следовали в первоначальной Иерусалимской общине евреи и эллинисты (см. ниже § 34.2). Что касается отношения Иисуса к синагоге, нам сообщается, что он посещал ее (и, надо полагать, регулярно), — впрочем, судя по имеющимся данным, Иисус ходил туда не только читать Тору и участвовать в молитвах, но и проповедовать собственную весть (Мк 1:21–27, 39; 3:1; 6:2; Мф 9:35; Лк 4:15–21; 13:10).
(B) Отношение Иисуса к Закону, устному и письменному. Этот вопрос мы уже рассматривали (см. выше §§ 16.2,24.5). Вспомним лишь, что Иисус отвергал галаху о субботе, казуистику корбана и установления о ритуальном омовении. Его отношение к посту также не прошло незамеченным (Мк 2:18; Мф 11:19/Лк 7:34), хотя не исключено, что он ожидал поста от своих учеников в промежуток перед наступлением Царства (Мк 2:20; Мф 6:16–18). Еще больше бросается в глаза та независимость, с которой он судил о письменном Законе, с которой он определял, как и в какой мере следует исполнять заповеди Закона. Как мы уже отметили, "учение о нечистоте… в том виде, как оно изложено в Мк 7… фактически подрубает под корень
весь ритуальный закон" (§ 24.5). Здесь мы опять видим преемство (Иисус заново утверждает — на более глубоком уровне — запреты на убийство и прелюбодеяние), но также и разительный разрыв преемства.
(C) Молитвенная практика Иисуса. По мнению И. Иеремиаса, Иисус соблюдал иудейские часы для молитвы: "утреннюю молитву — на рассвете, дневную молитву — во время дневного жертвоприношения в Храме и вечернюю молитву — вечером перед сном"
[264]. Однако для Иисуса молитва была чем‑то гораздо более спонтанным и живым, как опять‑таки явствует из его регулярного обращения к Богу словом "Абба", выражением глубокого доверия и послушания (насколько можно судить, его современники обращались к Богу гораздо более формальным образом; см. далее § 45.2). Конечно, молитва, которой он научил учеников (Мф 6:9–13/Лк 11:2–4), в двух или трех своих прошениях перекликается с древними иудейскими молитвами
[265], но все же она стоит особняком именно из‑за предполагаемой особой близости с Богом и эсхатологической неотложности.
34.2.
Первоначальная община. Учение Иисуса о богослужении оставляло достаточный простор для толкования, а потому
разнообразие толкований и обычаев появилось почти с самого начала.
(A) Насколько можно судить, палестинские первохристиане оставили традиции иудейского богослужения практически без изменений. Они ежедневно ходили в Храм (Деян 2:46; 3:1; 5:12, 21, 42), возможно, ожидая, что он станет местом возвращения Иисуса (Мал 3:1 — см. ниже § 67.3). То, что эта значимость Храма — не выдумка Луки (ср. ниже § 72.2), подтверждается отрывком Мф 5:23сл., который показывает, что первохристиане продолжали соблюдать культ жертвоприношений. По–видимому, представление об Иисусе как о конце Храма еще не установилось. Первохристиане, очевидно, также соблюдали традиционные часы молитвы (Деян 3:1; 5:21; 10:9 (?)) в Храме и/или синагоге (ср. Деян 6:9; Ин 9 — см. выше § 10.4). И они продолжали соблюдать Закон и "предания старцев" (в том числе субботу), — как ясно видно, например, из Мф 23:3, 23; 24:20; Деян 21:20; Гал 2:3сл., 12; 4:10 (ср. Рим 14:2, 5; Кол 2:16, 20сл.; см. также выше § 16.3). Наверное, до эпизода с Корнилием палестинские христиане даже не ставили под сомнение необходимость сохранять ритуальную чистоту (Деян 10:14; 11:3; см. также ниже § 54.2).
(B) В то же время, очевидно, возникали и
новые формы богослужения, причем с самого начала. Они были связаны с собраниями в частных домах (Деян 2:46; 5:42). Мы слышим о различных элементах этих встреч: богослужение и молитва (1:14; 2:42; 4:23–31; 12:12), учение (то есть, видимо, научение (ветхозаветным) Писаниям и преданию об Иисусе, передача и истолкование их; 2:42; 5:42) и общие трапезы (2:42,46). Ни из чего не видно, что они складывались в регулярную модель или формировали единую структуру. Скорее можно предполагать наличие
как минимум двух разных видов собраний: одно (более официальное?) — для молитвы и учения (отчасти по типу синагогальной службы), другое — для братских трапез (куда могли входить и другие элементы, вроде пения, включаемые более спонтанно; ср. 2:46сл. о воодушевлении). Новые типы богослужения, зарождавшиеся на подобных встречах, не были полностью отличными от прежних: неизвестно, читалась ли на них молитва "Шема" (Втор 6:4–9; 11:13–21), которую каждый израильтянин был обязан повторять дважды в день
[266], но наверняка были чтения из Писаний (хотя прямых указаний на это нет), а также, без сомнения, некоторые типичные формы благодарения и благословения, "Аминь" (ср. 1 Кор 14:16). Присутствовали и специфически христианские элементы: молитва Господня, использование "Абба" в молитвах, воспоминания о словах и чудесах Иисуса (все они должны были передаваться в первоначальных общинах) и, конечно, центральность Иисуса — в его присутствии (Мф 18:20)
[267] и ожидаемом скором возвращении (1 Кор 16:22); сюда же относятся те элементы общих трапез, которые были связаны с воспоминанием о братских трапезах Иисуса (в особенности о Тайной вечере), а впоследствии развились в Евхаристию (см. ниже § 40).
(С) Некоторое время эта двойная модель богослужения (Храм и домашние собрания) сосуществовали бесконфликтно. Однако с
эллинистов и Стефана начинается расхождение путей: было поставлено под сомнение, что для учеников Иисуса Храм должен сохранять свою важность; возникла резкая антитеза между старым (храмовым) и новым богослужением
[268]. Ключевая информация на сей счет содержится в Деян 6–7: историческая достоверность этих материалов спорна, но они, очевидно, вполне точно отражают (по крайней мере в данном вопросе) взгляды эллинистов, которые спровоцировали первое гонение на христиан. Стефана обвинили в том, что он выступал против храмового культа (6:13сл.). При этом из 6:14 следует, что он взял Иисусовы слова о гибели Храма (Мк 13:2; 14:58) и истолковал их как отрицание за Храмом места божественного присутствия (см. выше §§ 18.3, 34.1). Еще красноречивее последняя часть речи (Деян 7), которая увенчивается прямыми нападками на Храм: Стефан ссылается на Ис 66:1сл. (см. выше § 24.5) и называет Храм "рукотворным", — именно этим словом иудеи часто бранили язычников за идолопоклонство (см. ссылки в § 60). Если это адекватно отражает взгляды Стефана и/или эллинистов, — судя по продолжению (8:1–4; 11:19–21), видимо, отражает, — напрашивается вывод: начиная с очень раннего периода
богослужение эллинистов совершалось преимущественно на домашних собраниях, где специфически христианские элементы формировали новый тип богослужения. Более того, нельзя сбрасывать со счета тот факт, что Стефан
отвергал не только иудейское отношение к Храму, но и
богослужение арамеоязычных/евреоязычных христиан в той мере, в какой оно продолжало фокусироваться на Храме. Неясно, было ли оспорено отношение палестинских христиан к Закону именно тогда или позже: очевидно, именно ревность по Закону и преданиям сделала Павла гонителем христиан–эллинистов (Гал 1:13сл.; Флп 3: сл.; ср. Деян 6:13), но речь в Деян 7 не перерастает в критику Закона (ср. 6:14). Как бы то ни было, очевидно, что уже с раннего периода христиане
по–разному относились к богослужению и по–разному совершали богослужение; возникавшая при этом
серьезная разница во мнениях, видимо, делала нелегким сохранение единства в первохристианской общине (§60).
34.3.
Павел. Из двух ранних типов богослужения на Павла, видимо, больше всего повлияло богослужение свободных домашних церквей эллинистов (хотя степень влияния неясна). Что касается миссионерской деятельности Павла, там в домашних церквах протекала значительная часть общинной жизни (Рим 16:5; 1 Кор 16:19; Кол 4:15; Фил 2), совершались большие (еженедельные?) собрания всей общины (1 Кор 11; 14; ср. 16:2). Однако Павловы представления о богослужении не сводятся к одобрению унаследованных форм, но вырастают в основном из его метафоры (местной) Церкви как тела Христова. Как мы знаем, для Павла тело Христово — харизматическая община (то есть община, функционирующая харизматически). Тело Христово обретает выражение, живет и развивается через взаимодействие даров и служений, разнообразие проявлений, которые Дух Христов объединяет в единство цели и характера (см. выше § 29). Однако это означает, что
тело Христово находит зримое выражение преимущественно в богослужении и через богослужение: именно в богослужении многообразие функций (= харизм) демонстрирует их взаимозависимость и объединяющую силу (поэтому разговор о харизмах в 1 Кор 12–14 сосредоточен на молитвенном собрании).
Как это работало на практике? Самый четкий ответ дает 1 Кор 14:26–33а: "Когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть откровение, есть язык, есть истолкование…" Бесспорно, здесь Павел представляет
богослужение делом глубоко спонтанным, без регулярной структуры и формы, полностью зависящим от вдохновения Духа. Он дает лишь следующие правила: глоссолалические речения не должны идти неразрывной чередой (за каждым таким высказыванием должно следовать его толкование на обычном языке — в противном случае глоссолалию вообще следует исключить); каждое пророческое речение должно оцениваться пророками и/или всей общиной (ср. 1 Кор 2:12–15; 1 Фес 5:19–22); на одном собрании должно быть не более двух–трех пророческих высказываний. Таким образом, богослужение состоит из последовательных выступлений, в которых участвуют обладатели регулярных служений (пророки и учителя), но любого члена общины может подтолкнуть Дух на проявление какой‑то конкретной харизмы (в частности, пророчество или назидание). Не предполагалось, что регулярные служения займут бо́льшую часть собрания или даже послужат руководством. Руководить будет Дух, — может быть, через регулярное служение, а может, через дар слова наставления и мудрости каким‑то иным членам общины (1 Кор 6:5; 12:28). Как мы уже отмечали (§ 29.2), Павел вообще не предполагает никакого официального руководства (по крайней мере в 1 Кор)
[269].
Участвовали ли
женщины в этом харизматическом богослужении, неясно. Если отрывок 1 Кор 14: 33b-36 действительно принадлежит Павлу, может показаться, что он исключает всякое женское участие. Однако допустима менее ригористическая интерпретация: скажем, женщинам запрещается только перебивать оценку пророческих высказываний (14:29–33а) ненужными вопросами. Более того, это, вероятно, надо истолковывать в свете 1 Кор 11:5, где предполагается, что женщина может пророчествовать. Возьмем для сравнения Деян 2:17сл.; 21:9; Кол 4:15 и Рим 16:1–12 (см. выше § 32.4).
Напоследок отметим, что из 1 Кор 11 и 14 не видно, как богослужебное собрание соотносилось с общей трапезой. Создается впечатление, что они обсуждаются по отдельности. Поэтому естественнее предположить, что Павел имеет в виду
два разных собрания для разных целей (ср. также Плиний Младший,
Письма Х.96.7).
34.4. Когда заканчивается первое христианское поколение, можно констатировать
расхождение типов богослужения, аналогичное расхождению в концепциях служения. Опять‑таки наиболее ясно оно прослеживается на примере Пасторских посланий и Иоанна. Мы будем следовать той же процедуре, что и в главе VI, только более кратко
[270].
(A)
Пасторские послания. Как и следовало ожидать, руководство богослужением здесь сосредоточено в руках довольно узкого круга верующих. В частности, не предполагается, что назидание — харизма, которую может проявлять любой: это прерогатива и полномочия конкретных должностей (1 Тим 2:12; 3:2; 4:13; Тит 1:9). Пророчество упомянуто, но лишь как авторитетный голос из прошлого (1 Тим 1:18; 4:1, 14). (Может быть, пророчество оказалось слишком спонтанным и творческим даром, чтобы оно прижилось в церкви, нацеленной на поддержание добропорядочности и сохранение унаследованной традиции (см. далее § 74.4)?) Из других элементов вышеназванных типов богослужения, очевидно, только молитва была делом всей конгрегации (1 Тим 2:8). Таким образом, перед нами
намного более регламентированный и упорядоченный стиль богослужения, чем тот, который подразумевается в 1 Кор 11–14.
(B)
Евангелие от Матфея. У Матфея мы опять находим раннюю стадию сближения между первоначальной моделью палестинского христианского богослужения (Мф 5:23сл.) и более свободным харизматическим богослужением Павловых церквей (7:22; 10:7сл.; 17:20). В частности, отметим, что в 18:15–20 ответственность за наведение порядка возложена на церковь в целом (ср. 1 Кор 5:4сл.; 6:4сл.). Аналогичным образом власть "связывать и разрешать" дана всей конгрегации (Мф 18:18), а не только Петру (16:19), — независимо от того, видим ли мы в ней учительскую функцию (см. ниже § 73) или декларацию отпущения грехов (ср. Ин 20:23). Там, где два
любых верующих проявляют или празднуют свою веру, Бог признает ее, и там присутствует Иисус (18:19сл.).
В центре матфеевского понимания богослужения стоят верующий и община (то есть богослужение не регулируется носителями должностей и традицией).
(C)
Евангелие от Иоанна. Иоанн склонялся в противоположную сторону, чем Пасторские послания: он был против растущего формализма и институционализации богослужения (как и церковных служений).
Ключевой отрывок содержится в Ин 4:23сл.: "…Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине". Здесь Иоанн достигает цели, противопоставляя христианское богослужение традициям иудейского и самаритянского богослужений, то есть служение в Духе и истине — богослужебным предпочтениям, вылившимся в конфликт между Иерусалимом и горой Гаризим
[271]. Иоанн фактически говорит, что Иисус оставил позади эти темы и подходы, как и вообще вытеснил Храм (2:19), иудейские праздники и жертвоприношения (1:29; 6:4, 25–28; 7:37–39; 19:36), Закон (1:17; 4:10,14; 6:30–35) и иудейские обряды (2:6; 3:25–36).
Поклонение Богу отныне не требуется совершать в определенном сакральном месте, по определенной сакральной традиции или в соответствии с определенной сакральной церемонией. Бог хочет от людей такого почитания, которое не привязано к некоему священному зданию и не связано какой‑либо традицией или обрядом, — но поклонения живого, вечно нового ответа Богу, который есть Дух. Характер этого ответа подсказывает Дух Божий в свете истины Иисуса. Таким образом, отрывок Ин 4:23сл., вероятно, задуман Иоанном как скрытый укор всем, кто хочет связать богослужение условностями института, традиции и обряда. Судя по текстам, упомянутым в § 31.1, и по 1 Ин 3:24, 4:13, для Иоанна и Иоанновых церквей поклонение в Духе и истине было своего рода
индивидуалистическим пиетизмом. (D)
Послание к Евреям. По–видимому, отражает аналогичную реакцию против ритуалистического богослужения в ветхозаветном стиле. Ветхозаветное богослужение было лишь тенью реальности, которую открыл Иисус для своих учеников, — прямой и непосредственный вход в небесную скинию, в само присутствие Божье (10:1). Здесь также богослужение мыслится в несколько пиетистских категориях: поскольку всякое священство и служение сосредоточены на Иисусе (см. выше § 31.2), только от Иисуса каждый член общины может получить реальность обновления (4:16; 6:19сл.; 10:19–22; 13:15).
34.5. Итак, перед нами опять глубокое многообразие: в частности, многообразие отношений к типам богослужения, унаследованным из прошлого, — надо ли их сохранять, или стоит постоянно доверяться Духу и создавать новые формы, более подходящие для народа Божьего в различных и меняющихся ситуациях (идя на разрыв с традициями прошлого); многообразие отношений к богослужению, — считать ли его вопросом предстояния индивидуальной души перед Богом или чем‑то таким, чему подобает совершаться, когда человек вовлечен в структурированную молящуюся общину? Вскоре мы увидим еще один фактор, способствующий многообразию, — гимны, один из аспектов первохристианского богослужения.
§ 35. Первохристианские гимны
Некоторые гимны или гимноподобные формы были очевидны практически с самого начала (псалмы в Лк 1–2 и хваления из Апокалипсиса). Другие были обнаружены лишь в XX в. — гимны Христу (особенно в Павловых посланиях).
35.1.
Лк 1–2. Четыре псалма из Лк 1–2 издавна включались в богослужения христианской Церкви.
(A)
"Магнификат" ("Величит душа моя Господа…"/Песнь Марии; Лк 1:46–55). Очевидно, построен по образцу песни Анны (1 Цар 2:1–10).
В нем отсутствуют специфически христианские идеи; по своему характеру и содержанию он типично еврейский. Но очевидно, что с древнейшей поры христианства христиане переняли его во всей полноте как выражение своей собственной хвалы.
(B)
"Бенедиктус" ("Благословен…"/Песнь Захарии; Лк 1:68–79). Полон ветхозаветных аллюзий, особенно на Псалмы, Книги Бытия, Исайи и Малахии. Первая часть носит ярко выраженный иудейский характер (ст. 68–75); во второй части появляются идеи, более характерные для христианства (ст. 76–79). По мнению многих ученых, первоначально это был мессианский псалом — см. особенно ст. 68сл., 76 и 78:
…посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока твоего…
…ты, младенец, наречешься Пророком Всевышнего…
…по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше…
Одна из фигур или титулов в иудейских мессианских чаяниях — "пророк" (Втор 18:18сл.; Ис 61:1сл.; Мал 4:5; Завещание Левия 8:15; Завещание Вениамина 9:2 (?); 1QS 9:11; 4QTest 5–8); греческое слово, которым в ст. 78 назван солнечный восход
(anato з), вполне может быть аллюзией на LXX Иер 23:5, Зах 3:8, 6:12 (где им переведена мессианская метафора — "Отрасль"). Если Песнь Захарии изначально была мессианским псалмом (во славу мессианства Иоанна Крестителя?), то христиане, позаимствовавшие ее, легко могли истолковать роль Крестителя ("предтеча Господа") как роль предтечи
Иисуса.
(C)
"Слава в вышних Богу " (Лк 2:14). Судя по "Апостольским постановлениям" (IV в.), к тому времени этот гимн укоренился в христианском утреннем богослужении. Ничего специфически христианского в нем нет, за исключением контекста.
(D)
"Ныне отпущаеши " (Лк 2:29–32). Псалом хвалы в честь прихода Мессии. Выражает тихий восторг веры при виде того, что осуществилось чаяние всей жизни. По–видимому, словами этого гимна первохристиане вновь и вновь выражали свою радость от избавления и вручение себя Божьей воле.
Все эти гимны выросли непосредственно на почве иудейского благочестия; специфически эллинистическое влияние в них совершенно отсутствует. Два этих гимна не содержат даже христианской специфики. Остальные два — более мессианские, чем христианские (они выражают радость по поводу прихода Мессии, но не сообщают, кто этот Мессия). Каким бы ни было их первоначальное происхождение, Лука почти наверняка заимствовал их из живого богослужения первоначальных общин (а не из воспоминаний о событиях восьмидесятилетней давности). Иными словами, перед нами
псалмы ранних палестинских общин, которые обрели свою нынешнюю форму в период, когда еще не было "христиан" — только иудеи, верившие, что Мессия пришел
[272].
35.2.
Апокалипсис. Здесь много псалмов и славословий или, возможно, точнее сказать, — возгласов хвалы: в честь Бога (4:8,11; 7:12; 11:17сл.; 15:3сл.; (16:7; 19:1–3, 5)), в честь Агнца (5:9сл.; 12), в честь Бога и Агнца/Христа (5:13; 7:10; 11:15; (12:10–12); 19:6–8). Все они также имеют иудейскую тональность (см. особенно слова "Аллилуйя" и "Аминь"), но менее традиционны по форме и содержанию, чем псалмы из Лк 1–2. По–видимому, они возникли под влиянием синагог диаспоры, где святого и праведного Бога иудаизма славили как Творца и Вседержителя, всеобщего Судию (темы, которые чаще всего появляются в богослужении Иоаннова Апокалипсиса). Опять заметно пересечение христианства с иудаизмом, и, следовательно, мы, видимо, должны видеть здесь
типичные выражения хвалы эллинистическими иудеохристианами. Хвала Агнцу, возможно, отражает авторскую формулировку, но она построена по образцу славословий Бога и вполне могла быть частью языка и богослужения общины, к которой принадлежал духовидец.
Отметим
волнение и эмоциональную насыщенность, присущие этой хвале. Она описана как хвала небесная, но, очевидно, построена по образцу богослужения и языка, знакомого духовидцу (или даже воспроизводит его). Если так, трудно представить, что верующие торжественно произносили эти слова, рассевшись рядами на скамейках во время литургии! Здесь есть восторг и живость, — обратим внимание, в частности, на отсутствие длинных псалмов вроде "Магнификата" — краткость и вариации славословий выдают спонтанность. Легко вообразить богослужебное собрание в ранних эллинистических иудеохристианских общинах, где после пророчества, псалма или молитвы восторженный верующий восклицает: "Победу Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!" (7:10). Или где верующий начинает знакомое славословие, а остальные подхватывают: "Аминь! Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!" (7:12).
35.3. Когда ученые распознали в новозаветных текстах различные
гимны Христу, начались многочисленные дебаты, которых мы здесь коснемся лишь очень кратко. Сначала займемся тремя самыми длинными гимнами.
(А)
Флп 2:6–11. После публикации в 1928 г. исследования Э. Ломайера по данному отрывку
[273] в научном мире все более укоренялось мнение, что здесь Павел сознательно цитирует раннехристианский гимн. Гармоническое сочетание и ритмика предложений, несомненно, свидетельствуют в пользу данной гипотезы, хотя о структуре гимна ученые по–прежнему спорят. Главным ключом, пожалуй, является параллелизм, который станет очевидным, если расположить строки попарно: для еврейской поэзии характерно повторение мысли одной строки (или полустроки) в следующей строке другими словами. Здесь мы видим почти совершенный параллелизм, если три фразы считать разъяснительными глоссами: ст. 8 — "и смерти крестной", ст. 10 — "небесных, земных и преисподних", ст. 11 — "в славу Бога Отца". Рассматривать этот гимн, пожалуй, лучше всего в соответствии с моделью, предложенной Р. Мартином
[274]:
Он, будучи образом Божиим,
не держался за равенство с Богом;
Но опустошил себя,
приняв образ раба.
Сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек.
Он смирил себя,
быв послушным до смерти…
За это Бог вознес его на высоты
и даровал ему имя, которое выше всякого имени,
Чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено…
и всякий язык исповедал, что "Иисус Христос — Господь".
Для нас важнее остановиться на полемике вокруг контекста и богословия гимна. Некоторые исследователи считают контекст глубоко эллинистическим: гимн вроде бы оперирует не с иудейской эсхатологией двух последовательных эпох, а с греческим представлением о двух сосуществующих сферах. По мнению целого ряда ученых, гимн использовал учение о Небесном Человеке, присущее дохристианскому гностическому мифу об Искупителе
[275]; в середине XX в. эта теория обрела, пожалуй, чрезмерную популярность, но сейчас она широко считается исторически малообоснованной. В данном случае гораздо более оправданно говорить о
сильном иудейском влиянии: еврейская поэтическая форма даже навела Ломайера на мысль, что в основе греческого текста лежала арамейская поэма; очевидно, отчасти повлияла иудейская рефлексия над страданием и оправданием праведника. Еще сильнее повлияли на этот гимн распространенные в иудейских кругах представления об Адамовом грехе, его последствиях и божественном исцелении. Христианская версия этих представлений такова:
послушание Иисуса более чем перевешивает
непослушание Адама (см. особенно Рим 5:12–21). Здесь контраст ясен: Адам нес в себе образ Божий, но стал держаться за равенство с Богом; будучи всего лишь человеком, он превознесся и стал непослушным; поэтому Бог осудил его на существование под бременем греха и смерти. Напротив, Христос был в форме Божьей, но не стал цепляться за равенство с Богом, а принял форму раба, условия (падшего) человечества, уничижил себя в послушании до смерти; поэтому Бог вознес его, дал ему титул и честь, подобающие Богу.
Еще одна проблема: присутствует ли здесь трехступенчатая христология? Говорит ли гимн не только о земном и прославленном Христе, но и о более ранней стадии — мифической предыстории, или предсуществовании? Пожалуй, не стоит слишком акцентировать этот момент. Основной мотив — контраст между смирением и прославлением, и первые две строки не выдают философского интереса к божественному существованию на доисторической стадии. Язык взят из рассказа об Адаме и подчеркивает в основном смирение Христа, глубину его самоуничижения. Акценту на земном унижении Христа соответствует акцент на идее прославления: Бог
превознес его и дал ему божественный титул
kyrios (см. также ниже § 51.2).
(В)
Кол 1:15–20. Впервые в этих стихах распознал форму гимна Э. Норден в 1913 г.
[276] В нынешнем своем виде гимн явно делится на две основные строфы: первая говорит о Христе и творении, вторая — о Христе и Церкви.
А Который есть образ Бога невидимого, первородный всякой твари;
ибо в нем было создано всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, —
все создано через него и для него;
и он есть прежде всего, и все обретает строй в нем.
И он сам есть глава тела (Церкви).
B Который есть начаток, первородный из мертвых,
чтобы иметь ему во всем первенство,
Ибо в нем благоугодно было обитать всякой полноте,
и через него примирить с собою все,
Умиротворив через него (кровью креста его),
и земное и небесное.
Курсивом показан параллелизм между строфами (конечно, введенный сознательно), а скобки отмечают фразы, которые, вероятно, были добавлены Павлом.
Опять‑таки ученые спорят прежде всего о происхождении гимна (в частности, о степени и характере эллинистического влияния). Э. Кеземан заметил, что если удалить всего лишь восемь из 112 слов в ст. 15–20, специфически христианских мотивов не останется. Отсюда он предположил, что в основе гимна лежит гностический миф об Искупителе, миф об архетипическом человеке, который есть также Искупитель
[277]. И впрямь гимн содержит черты, которые можно отнести за счет эллинистического иудаизма, уже содержащего отдельные элементы гностицизма:
"образ Бога невидимого",
"первородный всякой твари", "видимое", "престолы", "господства", "обретать строй" (последние четыре слова у Павла почти нигде больше не встречаются), "полнота". Однако эта теория разбивается об одну фразу — "первородный из мертвых". Она явно принадлежит первоначальному гимну и слишком наделена христианской спецификой, чтобы принадлежать дохристианскому источнику. Гораздо правдоподобнее другая версия: этот гимн возник в христианской общине, состоявшей преимущественно из евреев диаспоры (или даже язычников, находившихся под влиянием иудейских представлений), для которых уже было характерно
богословие Премудрости, проникнутое эллинистическим влиянием. Это вполне адекватно объясняет два самых характерных элемента гимна: отождествление Иисуса с предсуществующим орудием творения и космическую роль прославленного Иисуса. Для них и для Павла во Христе осуществились и исполнились все понятия и категории, ранее относимые к Премудрости (см. также ниже § 51.2). Как говорит далее послание, это исполнение столь совершенно, что ни к кому больше эти категории не применимы: Христос — не один (гностический или иудейский) посредник из многих, но
единственный Посредник (см. особенно 2.9,17). Отметим здесь поразительную смелость языка: "Все обретает строй в нем… через него примирить с собою все". Здесь богословское рассуждение переходит в поклонение и хвалу (см. далее § 46.4)
[278].
(С)
Ин 1:1–16. Видимо, содержит более ранний гимн Логосу (или, точнее, поэму); отметим, в частности, краткие ритмические предложения и прозрачный стиль. Поэма, вероятно, состояла из ст. 1, 3–5, (9), 10–12b, 14,16; ст. 6–8/9 и 15 — очевидные прозаические вставки, содержащие полемику с сектой Крестителя, а ст. 2,10b, 12с-13,17сл. — разъясняющие добавления
[279]. Опять‑таки ученые много спорят о происхождении поэмы. К примеру, Бультман считал, что четвертый Евангелист взял ее из какого‑то гностического источника, а первоначально она была гимном хвалы в честь гностического Искупителя
[280]. Однако язык и мировоззрение поэмы, видимо, относятся к более ранней стадии развития, когда на первый план выходили стоическая концепция Логоса и (опять же) эллинистические иудейские размышления о Премудрости
[281]. Специфически гностические понятия и темы отсутствуют. Пожалуй, правильнее считать, что гностицизм и поэт Логоса черпали идеи из одного котла.
Далеко не факт, что здесь мы вообще имеем дело с дохристианской поэмой. Некоторые специфически христианские строки (или даже большинство из них) можно удалить из последних двух строф (ст. 10–16) без особого ущерба. Но разве правдоподобно было бы убрать строку: "И Логос стал плотью?"
[282] Вся поэма держится на первых строках ст. 14 (строфа IV). Более того, они органично вписываются в поэму по стилю и четкой аллюзии на Премудрость (Сир 24:8). Если удалить всю четвертую строфу (ст. 14,16), поэма будет изувечена. Поэтому поэма о Логосе скорее всего возникла
в христианской общине, глубоко знакомой с синкретической религиозной мыслью своего времени и использовавшей этот язык, чтобы восславить Иисуса.
Отметим, что здесь христологии предсуществования уделяется больше внимания, чем в вышерассмотренных двух гимнах. Поэма завершается воплощением Иисуса; о смерти и воскресении/прославлении речи не идет. Она одновременно Иоаннова и не–Иоаннова. Слова о том, что воплощенный Иисус полон благодати и истины, а также о "полноте", напоминание о готовности Иоанна рассматривать земного Иисуса через призму его прославления (см. выше § 6.2). Однако в поэме отсутствует устремленность Иоаннова Евангелия к кульминации спасения — смерти, воскресению, вознесению и Духу (см. выше § 18.4 и ниже § 64.2). Вероятно, поэма впервые возникла в Иоанновой общине на ранней стадии ее развития.
(D) Рассмотрим еще три более кратких гимна Христу, которые убедительно выявляются в новозаветных текстах. Сначала
Евр 1:3:
Который, будучи отражением славы Его
И отпечатком сущности Его,
И держа все словом силы своей;
Когда он совершил очищение грехов,
Он воссел одесную Величия на высоте.
Вводное "который", причастия и довольно церемониальный стиль указывают на то, что это гимн. Слова типа "отражение" и "отпечаток", а также третья строка, напоминают о Кол 1:15–20 и говорят о влиянии эллинистической иудейской рефлексии о Премудрости (см. особенно Прем 7:26сл.)
[283].
(Ε)
1 Тим 3:16:
Он был явлен во плоти,
Оправдан в Духе,
Увиден ангелами,
Проповедан в народах,
Принят верою в мире,
вознесен во славе.
Строки явно построены на череде контрастов: плоть/Дух, ангелы/народы, мир/слава. Описание идет не в хронологической последовательности, но есть противопоставление между земным унижением Иисуса (во плоти) и его прославлением. В общем и целом здесь кратко и четко выражена тема оправдания–прославления, которая играет заметную роль и в других текстах (в том числе Флп 2:6–11).
(F)
1 Пет 3:18сл., 22 имеет очень похожую форму:
(Кто пострадал за грехи,
чтобы привести нас к Богу)
Быв умерщвлен по плоти,
ожив духом,
(Которым он проповедовал и находящимся в темнице духам)…
Взойдя на небо,
Пребывает одесную Бога,
И ему подчинены ангелы, власти и силы.
Гимн неполон: вероятно, автор цитирует лишь часть его (возможно, в адаптированной форме). Отметим опять контрасты плоть/Дух и смерть/ воскресение, а также мотив возвышения Иисуса над силами. Богословие и мировоззрение, определяющее язык этих двух последних гимнов, отличается от рассмотренных ранее (которые больше принадлежали к паулинистскому типу) и имеет эллинистический характер.
(G) Другие отрывки, в которых видели гимны Христу, — Еф 2:14–16; Кол 2:13–15
[284] и 1 Пет 1:20, 2:21сл., но я не исключаю, что это просто высокий слог самих авторов посланий. Р. Дайхгребер отнес некоторые тексты к числу гимнов
Богу: Рим 11:33–36; 2 Кор 1:3сл.; Еф 1:3–14; Кол 1:12–14; 1 Пет 1:3–5; см. также, например, славословия в 1 Тим 1:17; 6:15сл.
[285] Однако ни в одном из этих случаев нет достаточных оснований считать, что автор включил в послание более раннее произведение. Если в Павловых или Петровых посланиях где‑то попадается высокий слог, это не обязательно означает, что перед нами заимствование.
Следует упомянуть еще один гимнический фрагмент — Еф 5:14. Обычно считается, что это именно гимн, поскольку иначе вводную формулу надо объяснять как ссылку на Писание, а это маловероятно.
Потому сказано:
"Проснись, спящий,
Воскресни из мертвых!
И будет светить тебе Христос".
Отличие от гимнов Христу очевидно: хвала Христу отсутствует. Это скорее призыв христианину действовать. В первой половине XX в. в Великобритании издавались сборники церковных гимнов, где подобные вещи встречались неоднократно: их печатали под рубрикой "Евангельский зов".
(Н) Не будем забывать, что в Павловых церквах использовался еще один тип гимнов — "
духовные песни" (1 Кор 14:15; Еф 5:19; Кол 3:16). Вероятно, это были спонтанные гимны, воспеваемые отдельными людьми или всей общиной как глоссолалия (особая хвала, которая возродилась в современном харизматическом движении).
Подведем итоги. Первые шесть гимнов, рассмотренных в этом разделе, имеют много общего. В частности, гимны (А) — (С) возникли в примерно одинаковой среде, обнаруживают аналогичные влияния и идеи. Их объединяют понятия предсуществования и уничижения; все они, кроме поэмы о Логосе, содержат представление о воскресении/прославлении и последующей космической роли Христа. Гимны из Послания к Колоссянам, Евангелия от Иоанна и Послания к Евреям подчеркивают роль Предсуществующего в творении; Иоаннов Пролог ясно повествует о Воплощении. Гимн из Послания к Филиппийцам пронизывает параллель с историей Адама. Два других гимна (1 Тим, 1 Пет) также возникли в эллинистической среде, но не обнаруживают влияния размышлений о Логосе и Премудрости. Они также подчеркивают прославление, но в порядке более простого контраста — не с уничижением как таковым, а с земной/плотской природой.
35.4. Изучение гимнов, дошедших до нас от новозаветной поры, вскрыло дополнительные аспекты многообразия христианства I в. В частности, это
многообразие, которое возникает, когда богослужение отражает настрой и среду каждой конкретной группы молящихся или когда верующие хотят использовать язык и концепции своих современников и своей среды, — чтобы богослужение было как можно более адекватным времени.
(1) Псалмы из Евангелия от Луки отражают
раннее палестинское иудеохристианство, — хвалу простого иудеохристианского благочестия. Судя по тому, что у Луки была возможность их записать, палестинские христиане продолжали их использовать: эти псалмы полностью подходили для их богослужения, несмотря на слабовыраженную христианскую (то есть отличную от иудаизма) специфику.
(2) Гимн из Послания к Филиппийцам содержит богословскую рефлексию иного плана (о том, как исправить Адамов грех), но она также характерна для
иудейской мысли (апокалиптической, Премудрости, раввинистической).
(3) Гимны из Апокалипсиса отражают одну из форм
эллинистического иудеохристианства, — более вдохновенную и пророческую, более затронутую восторженной и апокалиптической религиозностью.
(4) Гимны из Послания к Колоссянам, Евангелия от Иоанна и Послания к Евреям отражают
глубоко специфическую форму эллинистического иудеохристианства, — более продуманную, более затронутую философскими и религиозными размышлениями о космосе. Они связывают с Иисусом эллинистическую иудейскую рефлексию над взаимоотношением Бога и мира.
(5) Гимны из 1–го Послания к Тимофею и 1–го Послания Петра отражают еще одну сторону
эллинистического христианства, — которая подчеркивает контраст между плотским состоянием Иисуса и его прославлением.
Заметим, сколь различны эти гимны. Большая дистанция отделяет простое иудейское благочестие от богословской утонченности и глубины гимнов из Евангелия от Иоанна и Послания к Колоссянам, которые говорят на философском языке и идут в ногу с религиозной мыслью того времени. Отличны от них гимны из Иоаннова Откровения с их апокалиптическим бурлением. А восторженные глоссолалические гимны Павловых церквей обладают собственным своеобразием.
Более продуманные гимны можно найти в целом ряде текстов: у Павла, Иоанна, в Послании к Евреям плюс, возможно, еще в Пасторских посланиях и 1–м Послании Петра. Очевидно, они были характерны для одной из форм богослужения, достаточно широко распространенной в эллинистических иудейских конгрегациях, — более вдумчивый и интеллектуальный тип христианства. В то же время "духовные песни" были знакомы и тем Павловым общинам, которые, кажется, особенно ценили ум и мудрость (1 Кор, Кол). Две другие категории ограничены соответственно Евангелием от Луки и Апокалипсисом (и это единственный род гимнов, который содержат данные тексты). Поэтому они отражают более специфические богослужения и, видимо, более специфические молящиеся общины: с одной стороны, иудеохристианство, которое в некоторых отношениях оставалось более иудейским, чем христианским; с другой стороны, апокалиптическое христианство, где богослужение было наполнено пророчествами и восторженными возгласами. Более подробно об этих типах христианства мы поговорим в части II.
§ 36. "Панлитургизм?"
Где во всем этом многообразии найти единство? С середины XX в. все больше утверждалась точка зрения, что жизнь и богослужение христианских общин объединял целый ряд общих элементов. Согласно этой гипотезе, уже с раннего периода в богослужении и учении некоторых церквей начали развиваться литургические и катехетические формы, которые затем широко распространились среди других церквей. Если так, то на поставленный нами вопрос есть ответ: в беспокойном многообразии раннехристианских общин и богослужений единству способствовали общая литургия и катехизис. Но насколько верна эта гипотеза? Как мы уже видели, в ранних церквах имели хождение различные керигматические, церковные и этические традиции, особенно предания об Иисусе (см. выше §§ 17–18). Можем ли мы заключить, что помимо конкретных традиций (или групп традиций) были распространены структурированные и когерентные катехетические и литургические формы? Данная гипотеза высказывалась достаточно часто, чтобы уделить ей некоторое внимание.
36.1.
1–е Послание Петра было одним из узловых моментов полемики в этом вопросе. В 1940 г. П. Каррингтон заметил, что у Посланий к Колоссянам и Ефесянам, 1–го Послания Петра и Послания Иакова есть ряд общих материалов: призывы
отбросить зло,
покориться (Богу и старейшинам),
бодрствовать, молиться и
противостоять дьяволу. Вывод Каррингтона: каждый из этих авторов опирался на общий образец учений, крещальный катехизис (еще не записанный, но уже широко использовавшийся устно), — "серию формулировок, которые следовало напоминать готовящимся к крещению в различных апостольских традициях. У истока этих формулировок стояла некая первоначальная процедура, впоследствии широко распространившаяся в новозаветной церкви и развивавшаяся в разных направлениях"
[286].
Идеи Каррингтона использовал Э. Сельвин, который забросил сеть более широко (включив, в частности, материалы из Рим и 1 Фес). Он выявил крещальный катехизис, содержащий пять разных разделов:
(1) Вхождение в новую жизнь при крещении: ее основа — Слово, истина, благовестие; ее природа — рождение свыше, новое творение, новое человечество.
(2) Новая жизнь: отказ отчего она подразумевает ("Отбросьте…").
(3) Новая жизнь: ее вера и поклонение.
(4) Новая жизнь: ее социальные добродетели и обязанности.
(5) Учение, обусловленное кризисом: бодрствование и молитва ("Не спите…"), неколебимость ("стойте твердо…").
Сельвин датирует этот образец 50–55 г. и считает, что он имел хождение в различных письменных версиях, которые использовали учителя в разных регионах и группы общин
[287].
Другие пошли гораздо дальше. Скажем, по мнению X. Прайскера и Ф. Л. Кросса, 1–е Послание Петра не просто использует крещальный катехизис или крещальную проповедь (еще одна популярная теория), но почти целиком представляет собой развернутую литургию
[288].
Развитие форманализа и его (кажущиеся?) успехи с 1–м Посланием Петра воодушевили многих ученых на поиск литургических форм в Новом Завете. Внимание быстро привлекло
Послание к Ефесянам из‑за параллелей катехетического типа с 1–м Посланием Петра. Самый грандиозный тезис здесь выдвинул Дж. Кирби. С его точки зрения, "если из текста удалить эпистолярные куски, получится самостоятельный документ, который можно использовать при богослужении", — богослужении, которое, "возможно, было тесно связано с крещением, хотя и не обязательно с исполнением самого таинства". Скорее это была "христианизированная форма обновления завета; эфесский руководитель решил положить данную пятидесятническую церемонию в основу своего письма"
[289]. В том же году Э. Хэнсон обнаружил "элементы крещальной литургии" в
Послании к Титу 2–3, основываясь на параллелях между этим посланием и 1–м Посланием Петра и Посланием к Ефесянам
[290].
Выдвигались и менее глобальные теории (например, о крещальном характере некоторых из вышеназванных гимнов). По мнению Ф. Фильхауэра, крещальным гимном был "Бенедиктус"
[291]. Ломайер считал, что гимн из Послания к Филиппийцам принадлежал к евхаристическому контексту; другие, однако, склоняются к мнению, что он лишь торжественно напоминал христианам о значении их крещения
[292]. Кеземан видит в Кол 1:12–20 "одну из первохристианских крещальных литургий"
[293], а Г. Борнкам связывает Евр 1:3 с празднованием вечери Господней
[294]. Другие ученые пытались доказать, к примеру, что 1 Фес 1:9сл. — крещальный гимн
[295], что Кол 2:9–15 содержит еще один крещальный гимн
[296], что 1 Ин — "напоминание о крещении"
[297], а Откр 1:5 использует установившуюся крещальную терминологию
[298].
Аналогичный поиск производился и в
Евангелиях, хотя и в несколько ином ключе. В частности, Каррингтон интерпретировал Евангелие от Марка как лекционарий, изложенный в соответствии с литургическим годом
[299]. Дж. Килпатрик считает Евангелие от Матфея "литургической книгой", предназначенной для (избирательного) публичного чтения и толкования
[300]. М. Гоулдер детально разрабатывает сходную гипотезу, считая лекционариями всех трех синоптиков: Марк рассчитан на полгода, Матфей — на полный год (следуя циклу праздников), Лука — на год (следуя субботнему циклу)
[301]. По мнению Э. Гилдинг, в задачи четвертого Евангелиста входило сохранить традицию Иисусовых речей и синагогальных проповедей в форме, подходящей к литургическому использованию в церквах
[302].
36.2.
Оценка. Должен сознаться, что многие из перечисленных гипотез меня не убеждают по двум основным причинам. Во–первых, я не уверен, что сходства в учении обязательно говорят об установившихся катехетических формах. Действительно, общих учений немало: в частности, призывы "отбросить", "покориться", "бодрствовать", "стоять" и "противиться". Но мы же знаем, сколь быстро разные люди, охваченные общим энтузиазмом и делом, начинают говорить на одном языке, со своим жаргоном и словечками. При достаточной мобильности между христианскими общинами общие увещевания и общий стиль назиданий общины мог появиться очень рано. То, что разные авторы используют одни и те же (или похожие) слова и идеи для описания обращения, его основы, природы и следствий, бросается в глаза, но едва ли удивительно. Как ясно из параллелей с эллинистическими мистериями и кумранскими рукописями, эти авторы во многом черпали из общего фонда метафор и символов, общих для различных религий I в. А после того как среди христиан распространились представления о рождении свыше, о новом творении, о свете и тьме, об отречении от прежней жизни с ее злом, о принятии евангельского благовестия, о переходе к новой жизни с ее обычаями, христианам было естественно использовать именно тот тип увещеваний, который мы часто встречаем в новозаветных посланиях. Поэтому, прежде чем придавать особое значение, скажем, повторению слова
apothesthai ("отбросить"), спросим себя, какое еще слово столь удачно выразило бы метафору, вполне естественную и расхожую в подобных речах? Поэтому, для меня не вполне убедительны попытки вывести эти
сходства языка и стиля из нескольких
установленных и широко признанных катехетических форм.
Во–вторых, еще проблематичнее называть эти катехетические формы крещальными катехизисами.
(A) Реалии таковы, что нам просто неизвестно, сколь разработанным был обряд крещения во времена новозаветных документов. Ссылаться на поздних авторов вроде Ипполита (III в.), как делает Кросс, или Феодора Мопсуестского (IV‑V вв.)
[303] бесполезно для понимания 1–го Послания Петра.
Первые прямые ссылки на катехуменат появляются лишь после 200 г.
(B) Новозаветные тексты свидетельствуют, пожалуй, против этих гипотез.
Нигде в Деяниях Апостолов желающим креститься не преподается курс наставлений, — факт, значение которого тем более возрастает, чем более мы считаем Луку склонным проецировать поздние обычаи на историю первоначальной Церкви (см., однако, ниже § 72.2). Ученые иногда усматривают пример докрещального наставления в Деян 8:37, но это поздняя вставка "западной" семьи; поскольку в I в. данного текста не существовало, он не поддерживает теорию о наличии в Послании к Колоссянам и 1–м Послании Петра разработанных и признанных форм этических наставлений. Более того, мы видим спонтанный вопрос и спонтанный ответ, — ничего формального; отрывок скорее, ближе к Деян 2:37–39, чем к катехетическому наставлению. Деян 2:37–39 вообще наводит на мысль, что всякое так называемое докрещальное наставление в первых церквах было не более чем заключительным обращением/увещеванием проповеди (ср. проповедь Иоанна Крестителя (Лк 3:7–14). А чем больше смотришь на наставления прозелитам, готовящимся к крещению в иудаизме
[304], тем больше обращаешь внимание на полное отсутствие таких наставлений в любом из крещений, упомянутых в Деяниях (см. также § 13.1).
(C) Многие ученые считают, что лучшее свидетельство существования признанного катехизиса — Рим 6:17. Однако "образом учения"
(tupos didachзs) в этом стихе, видимо, названо благовестие. Различие, которое часто проводят (Додд и другие) между керигмой и дидахе (учением), довольно искусственное и чуждое Павлу: у Павла послушание — это именно послушание благовестию (напр., Рим 1:5; 16:26). А в других Павловых текстах
tupos всегда относится к какому‑либо человеку или поведению конкретных людей (Рим 5:14; 1 Кор 10:6; Флп 3:17; 1 Фес 1:7; 2 Фес 3:9; 1 Тим 4:12; Тит 2:7). Судя по всему, Рим 6:17 близко по смысловому наполнению к Кол 2:6, а "образ учения" — одно из названий предания об Иисусе (см. выше § 17.3).
(D) Если уж разграничивать керигму и дидахе, то из Мф 28:19сл. можно сделать вывод, что
всякому систематическому научению предшествовало крещение, а призыв к крещению был завершением проповеди
[305]. Аналогичным образом список в Евр 6:1сл., видимо, относится к содержанию проповеди, которая привела читателей к обращению: все шесть элементов (за исключением возложения рук) упоминаются в проповедях Деяний; и Павел, конечно, "полагал основание" (1 Кор 3:5–11) с помощью своей проповеди. Коринфяне приняли
(parelabete), а Павел передал
(paredōka) общую сокровищницу наставлений посредством своей евангельской проповеди (
euēggelisamēn) (15:1–3).
(Ε) Евангелия говорят не только о том, что элементы предания об Иисусе сохранялись и передавались в признанных формах и отчасти группировались в тематические сборники, но и о том, что
эти формы снова и снова вольно комбинировались, в зависимости от разного учительского контекста (см., например, использование Матфеем и Лукой общих для них источников Марка и Q). Поэтому нет оснований предполагать, что предание об Иисусе, получаемое новообращенными (см. выше § 17.3), передавалось в виде строго определенного или вообще регулярного образца
[306].
36.3. Еще хуже обоснована гипотеза о том, что в новозаветный период уже существовали разработанные крещальные литургии.
(A) Ни из чего не видно, что в первых два христианских поколения крещения были организованными обрядами, на которых члены общины пели установленные гимны. Судя по информации в Новом Завете, в течение примерно первых 50 лет ритуал инициации был простым, спонтанным и гибким, не имевшим строгой формы. Крещаемый исповедовал веру, его погружали в воду, произнося при этом крещальную формулу ("во имя Иисуса"), и (во многих местах и многих случаях) на него возлагали руки. Все остальное — домыслы. Из того факта, что в западном и восточном христианстве развились
разные обряды крещения, не следует, что один из них был первоначальным, а другой — нет. Скорее это говорит о другом: в самом начале процедуры инициации были изменчивы и не имели твердого образца. Из них впоследствии развились различные формы.
(B) Самая ясная новозаветная информация на сей счет содержится в Деяниях Апостолов. Она говорит против литургической гипотезы, — опять‑таки факт особенно важный для тех, кто считает, что Лука проецировал современные ему церковные обычаи (80–90–е годы) на первоначальный период. Возьмем хотя бы Деян 8:36, 38 — просьба о крещении удовлетворяется немедленно и без возражений; 16:14сл. — сердце Лидии открылось для принятия Павлова слова, и она крестилась (видимо, сразу); 16:33 — крещение ночью (!); 18:8 — многие "веровали и крестились". И. Мунк дает этим свидетельствам справедливую оценку: "В Деяниях Апостолов, как и в других новозаветных текстах, крестят без промедления. По сравнению с нынешними официальными обрядами это даже может показаться легкомысленным: крестился — и пошел дальше"
[307].
(C) Все, что противопоставляется этому четкому свидетельству Деяний, — домыслы и гипотетические намеки в текстах. Причем обычно такие выкладки нелогичны, ибо берут в качестве
предпосылки, что крещению сопутствовала формальная литургия! Более того, можно подумать, что крещение — единственный случай, когда церкви благодарили за прощение грехов или что о любви Христовой говорили лишь в связи с крещением. В. К. ван Унник справедливо предостерегает против "своего рода "панлитургизма", который через призму литургии рассматривает любое место в Павловых посланиях, имеющее словесную параллель с
гораздо более поздними литургиями"
[308].
(D) 1–е Послание Петра, видимо, было просто письмом к новообращенным, — письмом, в котором автор часто оглядывается на истоки их христианской жизни. Перфекты в 1:22сл., очевидно, подразумевают событие, произошедшее некоторое время назад. Аналогичным образом 1:5–7 отражает опыт того, как после обращения верующие ощущали на себе покров Божий. Из описания адресатов как детей (1:14) и новорожденных младенцев (2:2) можно вывести максимум то, что их обращение произошло относительно недавно. Экзегеты часто пытаются найти указания на проповедь в других частях послания: скажем, в семикратном "ныне" или в 1:8 (стих, подсказывающий картину проповедника и ликующих обращенных), — но это лишь отражение специфики текста
[309].
(E) Вспомним наши предыдущие выводы. Сторонники "панлитургизма" опираются, в основном, на послания Павла и послания Павлова круга (в частности, 1 Пет). Однако, как мы видели, одна из
основных черт общинной жизни в Павловых церквах —
спонтанность и
гибкость] богослужение было импровизированной комбинацией более признанных форм (псалмы, гимны, чтения и т. д.) с более спонтанными высказываниями (духовные песни, пророчества и т. д.) (см. выше § 34.3). В свете этого контекста и надо рассматривать те материалы (учения, увещевания и т. д.), на которые ориентируются ученые вроде Каррингтона и Сельвина. При таком подходе ясно видно:
говорить о наличии в церквах Павловой миссии какой‑то установленной литургии (тем более — официального обряда крещения) не приходится.
36.4. И уж совсем не выдерживает критики гипотеза о том, что Евангелия — это
лекционарии.
(A) Ни из чего не видно, что иудейские лекционарные циклы, предполагаемые особенно Гилдинг и Гоулдером, существовали уже в I в. н. э. Конечно, не исключено, что с каждым праздником были связаны какие‑то конкретные чтения их Писания, но это не означает наличия признанного праздничного лекционария.
(B) Сторонники лекционарной гипотезы обычно исходят из того, что раннехристианские церкви сохранили годовой круг иудейского календаря. Однако известные нам факты из жизни Павловых церквей говорят об обратном: Павел не хотел, чтобы его новообращенные соблюдали иудейские праздники (Рим 14:5сл.; Гал 4:10сл.; Кол 2:16сл.); см., однако, Деян 20:16. Конечно, в более консервативных иудеохристианских общинах дело, видимо, обстояло иначе. Но из чего видно, что Марку и Матфею вообще интересны иудейские праздники? Иоанн упоминает несколько праздников (Пасха, Кущи, Освящение Храма), но его цель при этом — показать, что Иисус есть исполнение этих праздников (см. выше § 34.4); любые попытки связать данные ссылки с лекционариями притянуты за уши.
(C) Лекционарная гипотеза обязательно подразумевает такое стремление к регулярности и порядку, какое мы в специфически христианском богослужении церквей I в. не находим, — ни у Павла, ни тем более у Матфея и Иоанна. Уместно вспомнить красноречивое описание богослужения II в. у Иустина Мученика: "Воспоминания апостолов и писания пророков читаются
настолько, насколько позволяет время" (Апология 1.67; курсив мой. —
Дж. Д.). Иными словами, даже в середине II в. продолжительность чтений не была регламентирована. А значит, и лекционарию не было места.
§ 37. Выводы
37.1. В
многообразии первохристианского богослужения сомневаться не приходится. Мы видим, каким был спектр этого многообразия: верующие расходились в вопросе о том, нужно ли сохранять иудейские богослужебные традиции и в какой мере предоставить развитие формы и чина творческому вдохновению Духа в каждой общине; в вопросе о том, является ли поклонение больше делом личным или общинным (см. выше § 34.5). Существовало и разнообразие гимнов, стиль которых отражает разный настрой и разные способы богослужения и тематика которых отражает разные апологетические контексты верующих (§ 35.4).
Где же искать единство во всем этом многообразии? Не в официальных катехетических и литургических формах. Действительно, некоторые гимны получили широкое распространение (во всяком случае в церквах, испытавших влияние Павла). Предания об Иисусе объединяли верующих как минимум в той мере, в какой они повторялись, истолковывались и обсуждались за богослужением. Легко выявляются сходные стили и метафоры (опять‑таки особенно в эллинистических иудеохристианских и языкохристианских церквах). Однако именно для этих церквей было характерно свободное богослужение в Духе, где регулярные формы лишь дополняли гораздо более спонтанную молитву; кроме того, эти регулярные формы могли по–разному комбинироваться разными людьми в разных ситуациях — в спонтанном вдохновении и хвале.
37.2. С
уверенностью можно говорить лишь об одном объединяющем элементе, и это —
Христос. В первообщине как евреи, так и эллинисты оправдывали свой тип богослужения ссылкой на слова и дела Иисуса. Грекоязычные церкви восприняли именно те особенности первохристианского богослужения, которые восходят к земному Иисусу (особенно молитву "Абба" (Рим 8:15сл.; Гал 4:6) и молитву Господню (Мф 6:9–13/Лк 11:2–4)) или сосредоточены на прославленном Иисусе (Маранафа — 1 Кор 16:22). У Павла молящаяся община названа телом Христовым, — харизматическая община, о которой Павел говорит: "…так и Христос" (1 Кор 12:12). В Пасторских посланиях единственный гимн — гимн Христу (1 Тим 3:16), три из пяти "верных слов" — о Христе (1 Тим 1:15; 2 Тим 2:11–13; Тит 3:5–8), в равной степени о его земной и небесной миссии. У Матфея именно присутствие (прославленного) Иисуса среди верующих создает общину и возможность богослужения (Мф 18:20 — высказывание, сохранившееся в контексте предания о (земном) Иисусе); аналогично и с миссией (Мф 28:18–20). По Иоанну, богослужение, угодное Отцу, — поклонение в Духе Иисуса ("иной Параклет") и в согласии с истиной, явленной в Иисусе (Ин 4:23сл.). И наконец, в Послании к Евреям именно человек Иисус, обладающий той же плотью и кровью, что и мы, прошел впереди нас, дабы открыть идущим за ним путь в Святая Святых, само присутствие Божие (Евр 2:5–15; 10:19–22); именно этот Иисус, как первосвященник небесного Храма, помогает молящимся искушаемым (2:17сл.; 4:14–16).
То же верно в отношении раннехристианских гимнов. Действительно, как и следовало ожидать от языческих общин, мы находим хвалы Богу в Апокалипсисе и славословия Богу у Павла, а также вероисповедные формулы, исповедующие не только Владычество Христово, но и единство Бога (см. выше § 12.4). Однако в остальном главная характерная и объединяющая тема всех этих гимнов — значение, которое они придают Иисусу. Не являются исключением Еф 5:14 и псалмы из Евангелия от Луки, где главные герои — Мария и Иоанн Креститель (ибо их роль определяется отношением к Иисусу — мать и предтеча). Псалмы Луки сосредоточены на избавлении, которое принес Мессия. В остальных случаях общий элемент — Иисус прославленный. Главное вдохновение составители гимнов, очевидно, черпали в своем понимании
нынешнего статуса Иисуса и его прославленного присутствия. В частности, именно вера в нынешнее прославление Иисуса подтолкнула христиан славить его, применяя к нему характеристики предсуществующей Премудрости. Не менее последовательно проводится важная мысль о тождестве нынешнего прославленного Господа с человеком Иисусом. Она формулируется по–разному: закланный Агнец; Человек (послушный Адам), ставший Господином всего (эсхатологический Адам); первенец из мертвых; воплощенное Слово, источник благодати; человек во плоти, оправданный в Духе; убитый, но воскрешенный.
37.3. Подведем итоги. Когда мы рассматриваем богослужение христианских церквей I в., то обнаруживаем
единство и многообразие того же плана, которые встречались нам прежде. Средоточием единства была вера в человека Иисуса, ныне прославленного. Вокруг этого единства существовало почти безграничное многообразие.
VIII. Таинства
§ 38. Введение
Поэтому таковы признаки истинной Церкви Божьей, в которую веруем, которую исповедуем, и к которой принадлежим: во–первых, истинная проповедь слова Божия, в коем Бог открыл себя нам, как возвещают пророческие и апостольские писания; во–вторых, правильное совершение таинств Христа Иисуса, которое должно быть присоединено к слову и обетованию Божию, дабы запечатлеть и подтвердить его в наших сердцах; и наконец, правильные меры церковной дисциплины, как предписывает слово Божие, которые искореняют порок и взращивают добродетель… (
Шотландское исповедание веры, 1560 г., статья 18).
Никто не возьмется отрицать, что из вышеперечисленного именно "слово Божие" и "таинства Христа Иисуса" в первую очередь объединяли и объединяют христиан, — хотя вопрос о том, какую проповедь считать "истинной" и какое совершение таинств — "правильным", более способствовал многообразию, чем единству, а взаимосвязь этих двух элементов осталась до конца не проясненной. В столетия, предшествовавшие Реформации, благодать, авторитет и единство все прочнее сосредотачивались в таинствах, а роль проповедуемого слова соответственно умалялась. Реформация круто изменила эти роли, и слово оказалось выше таинств. Тейдельбергский катехизис" говорит: "Вера рождается в наших сердцах через проповедь Святого Евангелия и укрепляется приобщением к Таинствам" (Вопрос 65). Еще резче высказался Кальвин: "Предел нелепости — возвышать таинства над Словом, которое они лишь добавляют и запечатывают"
[310]. Перемена акцентов отразилась и в церковной архитектуре: в типичных протестантских церквах центральное место занимает кафедра проповедника. С тех пор полемические страсти поутихли, но различия все еще глубоки. Растет литургическое движение; его влияние особенно заметно в том, как престол все больше оказывается в центре богослужения, а кафедра становится менее значимой. При этом остается влиятельным богословие слова, которое получило мощнейший стимул от Карла Барта: "Предпосылка, которая делает провозвестие провозвестием, а значит, Церковь — Церковью, есть Слово Божие"
[311]. Многие считают, что за последнее время удалось достичь гораздо большего равновесия между словом и таинством. Однако это происходит за счет сглаживания богословских проблем, которые ясно осознавались в прежние века: в частности, что значит "средства благодати́?
Как именно Бог передает благодать человечеству? Какую роль здесь играют символ и рациональность? Какая коммуникация или интеграция божественного и человеческого здесь происходит?
Дебаты последних столетий снова ставят перед нами проблему: какой была ситуация в I в.? Мы уже исследовали значимость проповеди и роль слова керигматического и письменного в данный период (см. выше гл. II‑V). Теперь поговорим о роли таинств в единстве и многообразии первоначальных церквей. Несомненно значимыми объединяющими факторами были крещение и вечеря Господня:
Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух… один Господь, одна вера, одно крещение…
(Еф 4:3сл.).
Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба
(1 Кор 10:17).
Но что это означало на практике? Каким было многообразие вокруг этого единства? Какое значение приписывалось этим ритуальным актам на каждой стадии христианской экспансии, в каждом центре христианской общины? Что подтолкнуло первохристиан выделить именно эти два момента?
[312] В какой мере и в какой форме они происходят от Иисуса? Что повлияло на их развитие? Какую роль они играли в отношениях Бога и человека? Правомерно ли называть их "таинствами" с самого начала?
Далее мы проследим развитие формы и значения сначала крещения, а потом вечери Господней. Затем рассмотрим четвертое Евангелие, поскольку оно стоит особняком и вызывает большую полемику.
§ 39. Крещение
39.1.
Происхождение крещения. Относительно того, откуда пошло христианское крещение, ученые высказывали разные гипотезы. Его непосредственными предшественниками называли иудейские обрядовые омовения и кумранские ритуалы очищения, омовение прозелитов и Иоанново омовение. Из всех этих кандидатур самая вероятная — последняя. Связующим звеном послужило крещение самого Иисуса Иоанном, а четвертое Евангелие подтверждает догадку, которая в любом случае должна у нас возникнуть: некоторые из первых учеников Иисуса ранее были учениками Крестителя (Ин 1:35–42). Само же Иоанново крещение, видимо, представляло собой адаптацию иудейских ритуальных омовений (плюс частичное кумранское влияние)
[313].
Если христианское крещение восходит к крещению Иоаннову, надо попытаться понять, какой смысл вкладывал в этот ритуал сам Иоанн. Насколько можно судить, Иоанн считал, что крещение имеет двоякое значение для его слушателей
[314].
(1) Крещение
покаяния — акт, посредством которого человек выражал свое покаяние. Именно так описывают его Марк (1:4) и Лука (Лк 3:3; Деян 13:24; 19:4). Согласно Марку и Матфею, все крестились в Иордане, исповедуя свои грехи (Мк 1:5; Мф 3:6). Матфей вкладывает в уста Крестителя слова "Я крещу вас в воде в покаяние" (Мф 3:11): по–видимому, они означают, что реализация намерения креститься придавала покаянию определенную форму, доводила его до полноты. Добавим, что Марк и Лука используют более полную фразу: "крещение покаяния для прощения грехов" (Мк 1:4; Лк 3:3). Из этого
не следует, что Иоанн или евангелисты считали крещение источником или посредником прощения. Если даже Иоанн считал, что прощение можно получить непосредственно там, не дожидаясь Грядущего, — что не факт, ибо, судя по редакционному вмешательству в Мф 3:2,11, лично Матфей полагал прощение доступным только через Иисуса — греческий текст лучше всего истолковать следующим образом: прощение было результатом покаяния, а не крещения как такового (ср. Лк 24:47; Деян 3:19; 5:31; 10:43; 11:18; 26:18). Одним словом,
Иоанново крещение рассматривалось как средство выражения покаяния, приносившего прощение грехов.
(2) Крещение как
приготовление пути Грядущему: Иоанн крестил водой, а Грядущий будет крестить Духом и огнем (Мф 3:11/Лк 3:16). Явление Грядущего ожидалось как Суд — огня (Мф 3:10–12/Лк 3:9,16сл.), ветра и огня или скорее огненного Духа (ср. Ис 4:4). Однако в нем заключена и милость, коль скоро Иоанн предлагает крещаемым это как обетование, а не как угрозу: "Я крещу вас… а он будет крестить вас…". Иоанново крещение готовило к крещению Духом и огнем. Таким образом, предполагалось, что крещение Духом и огнем — очистительное; оно есть акт/процесс просеивания, когда непокаявшиеся будут уничтожены, а покаявшиеся — очищены
[315]. Иными словами,
"крещение Духом и огнем" — Иоаннова метафора для обозначения мессианских бедствий, периода великой скорби, страдания и разрушения, который ожидался перед наступлением мессианского царства (см., напр., Зах 14:12–15; Дан 7:19–22; 12:1; 1 Енох 100:1сл.; Оракулы Сивиллы III.632–651; 1QH 3:29–36)
[316]. В данном случае "крещение" — особенно выразительная метафора, ибо крестились в реке, а река и поток еще в Ветхом Завете фигурировали как метафоры для охваченности бедствиями (ср. Пс 69.2,15; Ис 43.2; особо отметим Ис 30:27сл.). Иоанн воспользовался этим образом, чтобы сказать о явлении Грядущего, ибо считал, что его собственное крещение символизирует смысл этого явления и готовит к нему.
39.2
Крещение Иисуса Иоанном. Если Иоанн вкладывал в омовения такой смысл, возникает неизбежный вопрос: имели ли эти омовения иной смысл в случае с Иисусом?
(A) Крестился ли Иисус в покаяние? Предание о том, что Иисус принял крещение
покаяния, смущало многих ранних христиан (ср. Мф 3:14сл.; Иероним,
Против Пелагия III.2). Но зачем еще Иисусу было креститься у Иоанна? Чтобы стать учеником Иоанна? В ожидании скорого Царства? В ознаменование начала собственного служения? Ответ неясен. Минимальный ответ: крещение Иисуса у Иоанна, видимо, было
выражением некоего твердого решения (и по крайней мере в этом смысле не очень отличалось от Иоаннова крещения покаяния; см. выше § 39.1).
(B) Было ли крещение Иисуса крещением приготовления? Здесь вот какая трудность: согласно нашим повествованиям, Дух сошел на Иисуса немедленно, чего не предполагала Иоаннова метафора с Духом и огнем. С другой стороны, сошествие Духа вообще не рассматривалось как составная часть крещения Иисуса. Судя по евангельским повествованиям,
Дух сошел после крещения. Более того, во всех четырех Евангелиях главный элемент во всем эпизоде — сошествие Духа (Мф 3:16; Мк 1:10; Лк 3:21сл.; Ин 1:32–34). Очевидно, евангелисты дают понять, что
Дух был дан Иисусу в ответ на его крещение (то есть в ответ на его решение, выраженное в крещении). В этом смысле можно считать, что даже в случае с Иисусом
Иоанново крещение — во многом приготовительное. Более того, поскольку Иисус считал, что сила Духа действует через него в его провозвестии и исцелениях как сила последних времен (см. выше § 3.1 и ниже § 45.3), можно сказать: даже в случае с Иисусом Иоанново крещение готовило к
эсхатологическому служению Духа. Хронологическая дистанция между этими двумя моментами оказалась более близкой, чем думал Иоанн, но не принципиально иной.
39.3.
Крещение в служении Иисуса. Крестил ли Иисус? Ин 3:22, 26 и 4:1, видимо, содержит традицию, отвечающую на этот вопрос утвердительно. Если так, получается, что Иисус просто продолжал Иоанновы омовения (Ин 3:22сл., 26). С другой стороны, Ин 4:2 отрицает, что Иисус крестил лично. Поскольку другой информации, которая позволила бы разобраться в данном вопросе, у нас нет, самое большое, что мы можем сказать, это то, что поначалу Иисус и/или его ученики крестили обращенных, а потом перестали. Почему? Почему они столь быстро отказались от практики крещения? (Или, возможно, и вовсе не крестили?) На это можно дать двоякий ответ.
(A) Иисус, видимо, считал, что в его деятельности исполняются Иоанновы чаяния. Он сам уже имел общение с Духом последнего времени (см. ниже §§ 45.3, 50.5), и его служение все более устремлялось к огненному суду, предреченному Иоанном в метафоре Духа и огненного крещения (Лк 12:49сл.; ср. Мк 9:49; 10:38; 14:36; Евангелие от Фомы 10,82)
[317].
(B) Иисус
не хотел, чтобы какой‑то обрядовый барьер мешал людям присоединиться к нему или быть его учениками. Он не желал, чтобы ритуал исключал из Царства. Если кто‑то остался вовне, это его собственный выбор (см. выше § 27).
39.4.
Крещение в первохристианстве. Некоторые ученые пытались доказать, что (водное) крещение не совершалось в первохристианских общинах, но было введено позднее эллинистами: считалось, что крещения Духом достаточно (Деян 1:5; 11:16); в повествовании об излиянии Духа во время Пятидесятницы крещение не упоминается; ссылки на крещение в первоначальной Церкви (в частности, 2:38, 41) — поздние вставки; повествования в Деян 8:12–17,10:44–48,19:1–7 указывают на проблематичность объединения двух видов крещения в ранней миссии
[318]. С другой стороны, когда Павел обратился, крещение уже было установившимся обычаем: апостол принимает его как должное в Рим 6:4,1 Кор 1:10–17 и т. д.; нам не известен ни один некрещеный христианин в первоначальный период, — хотя иногда Иоанново омовение считалось достаточным (присутствовавшие на Пятидесятницу и Аполлос — 18:24–28). Если бы христианское крещение пошло от эллинистов, оно бы играло роль в полемике между иудеохристианством и эллинистическим христианством: эллинисты бы противопоставляли крещение обрезанию. Однако в этих спорах обрезанию противопоставляется не крещение, а вера и Дух (Гал 3:1–5; 5:1–6; см. ниже § 39.6). Поэтому Деяния Апостолов, видимо, дают точную информацию:
крещение с самого начала было важной частью христианства. И почти наверняка принятое первохристианами крещение было крещением Иоанна, — ритуалом, который иные из них сами прошли и ранее использовали; который прошел и сам Иисус (и, возможно, совершал какое‑то короткое время). Евангелие приписывает указание крестить воскресшему Иисусу (Мф 28:19; ср. Лк 24:47). В первохристианстве крещение, видимо, имело следующее значение:
(А) Крещение было
выражением покаяния и веры: отметим тесную взаимосвязь между покаянием/верой и крещением в 2:38,41; 8:12сл.; 16:14сл., 33сл.; 18:8; 19:2сл. Неудивительно, что 1 Пет 3:21 (единственный новозаветный отрывок, который дает почти дефиницию крещения) определяет христианское крещение как "обещание, данное Богу с чистой совестью" (или "прошение у Бога чистой совести"). Возможно, креститься было как перейти Рубикон
[319]: назад пути нет, а не сделать это — значит не взять на себя христианскую ответственность.
(B) Крещение, очевидно, по–прежнему считалось
приготовлением и имело
эсхатологическую ориентацию на будущее. Из Деяний это плохо видно: эсхатологический пыл первохристианских общин Лука в основном проигнорировал или затушевал (см. ниже § 71.2). Однако намек на него есть в Деян 3:19–21 и более чем намек — в Евр 6:1сл., не говоря уже о 1 Фес 1:9сл.
Эти два значимых элемента вполне предсказуемы. И они подтверждают, что
христианское крещение напрямую восходит к Иоаннову крещению. Мы видим, однако, и два новых специфических элемента, которые, видимо, с самого начала были характерны для христианского крещения.
(C) Христианское крещение
совершалось "во имя Иисуса" (Деян 2:38; 8:16; 10:48; 19:5). Эту фразу можно понимать в двух смыслах: (1) крестивший действовал как представитель прославленного Иисуса (ср. Деян 3:6; 16; 4:10 и 9:34); (2) крещаемый воспринимал свое крещение как решение стать
учеником Иисуса (ср. 1 Кор 1:12–16 и ниже § 39.6). Вполне возможно, верны оба этих смысла. Кстати сказать, судя по вышеназванным отрывкам, троическая формула в Мф 28:19 — позднее расширение более простой и более ранней формулы "во имя Иисуса".
(D) Крещение служило
ритуалом инициации, входа в местную христианскую общину. С одной стороны, крещение как "Рубикон" означало, что крещаемый вступает в общину Иисусовых учеников, со всеми вытекающими последствиями (включая разрыв с прежним образом жизни, социальным остракизмом и возможными гонениями). С другой стороны, крещение (вместе с возложением рук, которое иногда практиковалось) выражало
принятие общиной новообращенного. Это особенно видно в Деян 10:47сл., где главный мотив крещения Корнилия, видимо, состоит в публичном принятии в Церковь, признании ею.
Последних два аспекта первохристианского крещения (С, D) могут объяснить, почему первохристиане крестили, тогда как Иисус не крестил: им требовался
осязаемый способ выражения веры в того, кто зримо среди них более не присутствовал (см., напр., Лк 7:37сл., 48–50); кроме того, они сильнее ощущали себя общиной, чем ученики земного Иисуса (см. выше § 27). Конечно, это было сопряжено с риском: между общиной и "аутсайдерами" возникал культовый и ритуальный барьер, который Иисус отвергал. С тех пор этот риск неоднократно создавал серьезную угрозу для христианского богословия и практики таинств.
Остановимся еще на одном моменте:
какова, с точки зрения первохристиан, взаимосвязь между крещением и даром Духа} Многие ученые пытались доказать, что поначалу христиане считали крещение средством обретения/дарования Духа. Заметим, однако, что первохристианское крещение
не понималось как крещение в Духе: антитеза между обрядом водного крещения и метафорой крещения в Духе (созданная Иоанном Крестителем) перешла в христианство (Деян 1:5; 11:16); нигде в Деяниях не сказано, что кому‑то Дух был дан в крещении или через крещение (Деян 2:4, 38; 8:12–17; 10:44–48; 18:2; 19:5сл.), — если только не понимать "крещение" в гораздо более широком смысле, чем позволяют отрывки. Из Луки ясно, что
дар Духа был важнейшим, решающим элементом обращения/инициации; дар Духа знаменовал принятие человека Богом: 2:17 -Дух есть решающая инициация в "последние дни" (ср. 11:17); 8:12–17 -крещение недостаточно без Духа; 10:44–48 — решающую роль играет Дух, а крещение выражает лишь признание людьми божественного благоволения; 18:25–28 — Аполлос имеет Духа, поэтому Иоаннова крещения достаточно; 19:1–7 — Духа нет, поэтому весь процесс надо повторить. Иными словами, действие Божье выражалось не в крещении, но в роли Духа (см. далее § 72.2)! Поэтому нельзя сказать, что, с точки зрения Луки или первых церквей, смысл крещения изменился, когда христиане заимствовали его у Иоанна.
Христианское крещение выражало в основном человеческое действие (покаяние/веру)
по отношению к Богу, тогда как Дух считался выражением Божьего действия по отношению к людям.
И напоследок отметим многообразие форм и особенностей обращения/инициации в Деяниях: крещение до Духа, Дух до крещения, Дух без крещения, крещение с последующим возложением рук. Можно с уверенностью заключить: главная забота первохристиан и Луки состояла не в том, чтобы установить конкретную ритуальную процедуру, и уж тем более не в том, чтобы привязать действие Божье к определенному культовому действию (см. ниже § 72.2). Напротив, Деяния подчеркивают свободу Бога отвечать на веру, когда и как Он захочет. Деяния показывают, как
ранние церкви адаптировали себя и свой зачаточный ритуал в соответствии с действием Бога в Духе (см. также ниже § 44.1).
39.5.
Крещение в эллинистическом христианстве (кроме Павла). Если Коринфская церковь была сколько‑нибудь типична для эллинистического христианства, то эллинистическое христианство придерживалось таких взглядов на крещение, которые глубоко отличались от вышерассмотренных. Из 1 Кор 1:10–17 ясно, что в Коринфе крещение провоцировало разделения. По меньшей мере различные партии образовывались в соответствии с тем, кто кого крестил (1:12–15). Вполне вероятно, многие коринфяне считали, что крещение создает мистическую связь между крещающим и крещаемым (соответственно крещению, очевидно, приписывались
квазимагические свойства). Это находит подтверждение в 1 Кор 10:1–12: судя по Павлову увещеванию, коринфяне рассматривали крещение (и вечерю Господню) как своего рода талисман, гарантирующий спасение. 1 Кор 15:29, видимо, относится к практике заместительного крещения, которая предполагала, что крещение одного человека может обеспечить спасение другого, уже умершего. Как видим, здесь богословие и концепция крещения формировались под влиянием идей, очень далеких от тех, что мы до сих пор рассматривали. Однако Павел обращается к сторонникам таких взглядов как к членам христианской общины Коринфа (то есть эти взгляды разделялись и некоторыми христианами). Иными словами,
как только мы покидаем пределы той сферы христианства, которая находилась под наибольшим влиянием наследия Иоанна Крестителя, многообразие христианского понимания крещения существенно расширяется.
39.6.
Крещение в богословии Павла. Предыдущий абзац ставит перед нами ключевой вопрос: придерживался ли сам Павел квазимагической концепции крещения? Находился ли и он под влиянием мистериальных религий? Сколь широким должно быть многообразие крещального богословия, чтобы включить Павла? Многие исследователи находят у Павла такие влияния. Их аргументы, в частности, таковы:
(1) Павлово представление о крещении как об умирании со Христом выдает влияние культов умирающих и воскресающих божеств.
(2) Павлова фраза "крестившиеся во Христа" описывает результат крещения, ибо "во Христа" — сокращенная формулировка от "во имя Христа" (которое, несомненно, описывает акт крещения).
(3) Метафоры омовения (см. особенно Еф 5:26; Тит 3:5) приписывают этому ритуальному акту духовное очищение и обновление
[320].
Меня не убеждают эти аргументы.
(1) Действительно, в Рим 6:4 и Кол 2:12 Павел связывает крещение со смертью Иисуса. Однако важно отметить, что в Рим 6:4 он связывает крещение только со смертью, а не с воскресением, которое лишь предстоит в будущем (6:5; ср. 8:11). Павел усматривает в крещальном погружении символ погребения со Христом, но идея выхода из воды как символического воскресения со Христом в Рим 6 отсутствует. Аналогично в Кол 2:12 структура предложений вроде бы связывает крещение прежде всего с погребением (которое оно столь хорошо символизирует), а не непосредственно с воскресением
[321]. Отсюда получается, что, с точки зрения Павла, крещение
символизирует не умирание и воскресание со Христом (инициация в мистериальный культ), а
смерть и погребение. Это наводит на мысль, что Павел находился в основном под влиянием отношения
Иисуса к собственной смерти (Мк 10:38; Лк 12:50; см. выше § 39.3). Если Иисус говорил о своей предстоящей смерти как о крещении, то понятно, почему Павел рассматривал крещение как участие в этой смерти. Соответственно крещение, которое у Павла символизирует погребение, выражало
желание крещаемого отождествить себя с Иисусом (тем, кто успешно прошел через мессианские бедствия) в его смерти. Вместо огненного крещения, которое Иоанн предсказал, а Иисус пережил, инициируемый проходил только через крещение, использовавшееся самим Иоанном, — символ, воплощающий веру крещаемого в символизируемое.
(2) "Крестившиеся во Христа" — это не сокращенный вариант фразы "крестившиеся во имя Христа". Последняя формулировка относится напрямую к акту крещения. Греческая формула "во имя такого‑то" означала "на счет такого‑то" и усиливает предположение, что крещение рассматривалось как
акт передачи: крещаемый передавал названному по имени себя как имущество или ученика. Соответственно аргументация Павла в 1 Кор 1:12сл. ("я — "Павлов (ученик)") подразумевает: "Я крестился во имя Павла". А фраза "крестившиеся во Христа" — скорее всего не описание обрядового акта, а
метафора. Так 1 Кор 12:13, видимо, возвращает нас ко второй половине антитезы Крестителя между ритуалом водного крещения и метафорой крещения Духом (и огнем); Рим 6:3, видимо, возвращает к метафорическому использованию самим Иисусом глагола "креститься" применительно к своей смерти (Мк 10:38; Лк 12:50). А в Гал 3:27 мы видим взаимодополняющие метафоры крещения и облечения в одежды; в 1 Кор 12:13 — крещения и дождя, в Рим 6 — крещения, погребения и распятия. То, что идея умирания со Христом не укоренена в крещении и не зависит от него, подтверждается использованием данного мотива в других Павловых отрывках, где она независима от всякой мысли о крещении (напр., 2 Кор 4:10; Гал 2:19сл.; 6:14; Флп 3:10). Метафора крещения особенно применима к обращению, ибо хорошо символизирует погребение, а само крещение как ритуал инициации занимает важное место в общем событии обращения/инициации. Говорить нечто большее — значит пускаться в домыслы, не основанные на текстах Павла.
(3) Я сомневаюсь, что метафоры очищения существенно усиливают доказательство влияния эллинистических мистериальных религий на Павловы представления о крещении. Еф 5:25–27 содержит образ Церкви как невесты Христовой; часть его составляет метафора бани для невесты, которая в данном случае обозначает очищение и обновление, вызванное словом проповеди (ср. Деян 15:9; 1 Кор 6:11; Тит 2:14; Евр 9:14; 10:22). Даже в Тит 3:5 "верное высказывание", видимо, говорит об "омовении… Святым Духом", то есть омовении, которое вызывает Дух и с помощью которого Дух возрождает и обновляет внутреннюю природу ума новообращенного (ср. Рим 12:2; 2 Кор 4:16; Кол 3:10). Впрочем, не исключено, что автор Пастырских посланий вкладывал в это "верное высказывание" более отчетливый сакраментологический смысл (см. ниже §72.2).
(4)
Павел не придавал крещению той роли, которую в современном ему иудаизме играло обрезание. Если бы Павел понимал крещение так, как его понимали в Коринфе (см. выше § 39.5) или как его часто понимают в сакраментологии наших дней, он бы иначе высказывался об обрезании (в частности, в Послании к Галатам, где он фактически полемизирует с сакраментализмом иудействующих). Конечно, возражает он против ритуализма без реальности, — но не в пользу ритуализма с реальностью, а в пользу самой реальности. К реальности жизни в Духе зовет он читателей (Рим 5:5; 2 Кор 1:21сл.; Еф 1:13сл.). Именно общая жизнь в Духе соединяла их в единство (1 Кор 12:13; 2 Кор 13:14; Еф 4:3; Флп 2:1). Именно обрезание сердца, а не крещение заменило этот ритуальный акт ветхого Израиля (Рим 2:28сл.; 2 Кор 3:6; Флп 3:3; Кол 2:11 — "нерукотворенное"). Для Павла крещение было относительно малозначимым (1 Кор 1:17). Когда он сталкивался с теми, кто ошибочно понимал крещение как квазимагический акт, он без колебаний оспаривал такой подход. Вообще он предпочитал не выдвигать крещение на первый план. Если бы Павел это сделал, получилось бы, что он придает ему столь же большое значение, сколь и коринфяне. А Павел не считал его таким уж важным.
Подведем итоги:
(1) Павел соглашался со своими предшественниками в христианской вере: крещение есть крещение "во имя Иисуса", то есть крещение в ученичество Иисуса,
средство выражения верности Иисусу как Господу (ср. Рим 10:9).
(2) Павел углубляет символику крещения: отныне оно является
метафорой единения со Христом, крещением во Христа, причем сам этот ритуал символизирует погребение, самоотождествление крещаемого с Христом в его смерти. Здесь он использует выражения, которые можно понять в смысле
ex opere operato (как многие делали и делают). Однако ни из чего не видно, что Павел изменил базовую направленность крещения и его роль во взаимоотношениях Бога и человека: крещение — по–прежнему выражение человеческой веры, благодать же Божья проявляется (при крещении, да и всегда) в даре и дарах Духа.
(3) Павел переосмыслил крещение в другом смысле: у него крещение почти полностью теряет ориентацию на будущий эсхатон, но во многом обращено назад, к смерти Христовой
[322].
39.7. Кратко коснемся вопроса о
крещении младенцев. Многообразие христианского богословия и обычаев содержит необычный парадокс: способ, который на протяжении многих столетий считался главным способом возрождения, почти не имеет обоснования в Новом Завете; более того, при всей пестроте христианства I в., он не нашел там места. Следует признать:
крещение младенцев не может быть обосновано богословием крещения ни одного из новозаветных авторов. И чем больше мы понимаем, что одна из основных функций крещения в первые десятилетия христианства — выражение веры и выбора крещаемого, тем меньше оправдания крещению младенцев находим в христианских истоках. Пожалуй, только коринфяне могли бы в какой‑то степени его одобрить (см. выше § 39.5), но далеко не все захотят опираться на такой прецедент.
Конечно, можно попытаться обосновать крещение младенцев окольным путем, через понятие семейной солидарности. А именно: ребенок верующего родителя в силу самого этого факта попадает в круг родительской веры (1 Кор 7:14). Кроме того, никто не отрицает, что в ходе своего служения Иисус благословлял младенцев (Мк 10:13–16). Однако реальная проблема состоит в следующем:
является ли христианское крещение подходящим выражением этого статуса в семье верующих? Является ли в наши дни крещение способом принести детей к Иисусу, чтобы он их благословил? Еще один новозаветный прецедент можно поискать в крещении целых домов, описанном в нескольких отрывках (Деян 16:15, 33; 18:8; 1 Кор 1:16). Однако здесь все очень ненадежно, поскольку далеко не факт, что эти дома включали маленьких детей: Деян 16:15 — была ли Лидия замужем? 16:34 — все возрадовались среди ночи; 18:8 — все уверовали; 1 Кор 16:15 — все служили. Другой вариант такой аргументации: обрезание совершалось над (израильскими) мальчиками–младенцами как частью богоизбранного народа. Однако сила этого довода зависит от того, как оценивать взаимосвязь между ветхим и новым Израилем: как мы уже видели, новозаветный эквивалент ветхозаветного обрезания — обрезание сердца, дар Духа, а не крещение; участие в новом завете обретается через веру во Христа Иисуса, а не через естественное происхождение (см. особенно Гал 3). Поэтому аргумент о семейной солидарности надо признать слабым. Он объясняет статус ребенка в кругу верующих, но не оправдывает дальнейший шаг (что его надо крестить), ибо этот статус не зависит от крещения и не является даром Христовым. Следовательно, если христиане хотят, чтобы крещение сохраняло свой регулярный новозаветный смысл (выражение веры крещаемого), им, пожалуй, следует отложить его до того момента, когда ребенок сможет сделать самостоятельный выбор. Этому правилу можно следовать, ничуть не ущемляя статус ребенка в кругу верующей семьи.
В общем и целом, при всем многообразии христианской веры и обычаев I в., скорее всего оно не включало крещение младенцев.
§ 40. Вечеря Господня[323]
40.1.
Происхождение вечери Господней вызывает меньше споров. Она уходит корнями в служение Иисуса, в две особенности его служения — (А) общие трапезы и (В) последнюю вечерю с учениками.
(A) Во время своего служения Иисус часто бывал гостем на трапезах (Мк 1:29–31; 14:3; Лк 7:36; 11:37; 14:1; Ин 2:1–11) и как минимум несколько раз и сам звал гостей (Мк 2:15; Лк 15:1сл.). Более того, его привычки стали притчей во языцех: "Обжора и пьяница, друг мытарей и грешников!" (Мф 11:19)
[324]. Эта репутация подразумевает, что Иисус часто ел в соответствующей компании. Есть и другие указания на то, что его сотрапезниками могли быть люди самого разного круга: Лк 8:1–3; 24:33; Мк 6:32–44; 8:14; ср. Ин 4:8, 31; 21:12.
Важно осознать, сколь существенно это было для Иисуса и его современников. Для людей Востока общие трапезы — гарант мира, доверия и братства; в каком‑то очень глубоком смысле они подразумевали общую жизнь. Поэтому общие трапезы со сборщиками податей и грешниками были Иисусовым способом провозвестия о спасении Божьем, способом сказать о прощении. Вот почему религиозные современники Иисуса были в шоке от свободы его контактов (Мк 2:16; Лк 15:2): благочестивые могли есть только с праведниками. Однако
застолья Иисуса были открытыми и чуждыми снобизма. Они звали к милости, а не к культовым ритуалам для какой‑то внутренней группы, обособленной от окружающих (см. также выше § 35.1).
Отметим также эсхатологическое значение общих трапез Иисуса. Для этого их нужно рассматривать в общем контексте его проповеди. Здесь становится ясно, что Иисус видел в общих трапезах со своим участием предзнаменование мессианского пира (Мк 2:19; 10:35–40; Мф 22:1–10/Лк 14:16–24; Мф 25:10; Лк 22:30; ср. Ис 25.6; 65:13; 1 Енох 62:14; 2 Варух 29:8; 1QSa 2:11–22) (см. также выше § 3.4)
[325].
(B)
Последняя трапеза Иисуса с учениками стала окончательным выражением того совместного общения, которое составляло важную часть всей его миссии. В частности, она акцентировала характер его миссии как служения (Лк 22:24–27; ср. Ин 13:1–20); она ясно предрекла его смерть (особо отметим мотив "чаши" в Мк 10:38; Лк 22:20; Мк 14:36); в ней эсхатологическая тональность достигла высшей точки, — трапеза как последнее предвосхищение праздника завершения (Мк 14:2; Лк 22:16, 18 -видимо, обет поста в преддверии близкого Царства).
Была ли эта последняя трапеза пасхальной? Мнения ученых расходятся. В пользу утвердительного ответа говорят следующие факты: трапеза вкушалась в Иерусалиме (а не в Вифании), причем ночью; участники пили вино; были произнесены слова интерпретации (Мк 14:17сл. и т. д.)
[326]. В пользу отрицательного ответа: вряд ли Иисуса казнили бы в день Пасхи; древнейшие предания не говорят о пасхальном характере этой трапезы. Возможно, самое простое объяснение таково: либо Иисус рассматривал эту вечерю как особую пасхальную трапезу, либо он возвысил значение трапезы, которая в остальном была обычной
[327].
40.2.
Вечеря Господня в первохристианстве. Правомерно ли говорить о вечере Господней в первохристианстве? Мы читаем, что первохристиане ежедневно устраивали общие трапезы (Деян 2:42, 46). По–видимому, эти трапезы рассматривались как
продолжение Иисусовых общих застолий: христиане часто сознавали его присутствие среди них, особенно поначалу (Лк 24:30сл., 35; Ин 21:12–14; Деян 1:4; ср. Откр 3:20); кроме того, эти трапезы почти наверняка были выражением их эсхатологического восторга (см. Деян 2:46)
[328] и в этом смысле, подобно общим застольям Иисуса, предзнаменовывали эсхатологический пир.
Как они соотносились с последней трапезой Иисуса? Трудно сказать. Скорее всего это были обычные трапезы: упоминается только хлеб (Деян 2:42, 46), а вино за обычными трапезами не пили: идентичные выражения в 20:11 и 27:35 могут относиться только к обычной трапезе; слова установления/интерпретации не упоминаются, и на них нет даже намека. Когда христиане ожидали скорого завершения, у них практически не было стимула регламентировать формы или создавать обряд воспоминания. При этом факт остается фактом: первоначальная община сохраняла и передавала слова интерпретации, сказанные Иисусом над хлебом и вином (в той или иной форме эти слова действительно восходят к Иисусу; см. выше § 17.2 и ниже § 40.4). В отсутствие точных данных, пожалуй, лучше всего остановиться на таком объяснении: первоначально вечеря Господня праздновалась
раз в год и была христианским эквивалентом еврейской Пасхи. В конце концов первохристиане были иудеями; эбиониты, обычаи которых во многом повторяют обычаи Иерусалимской общины (см. ниже § 54), праздновали ее именно как ежегодный праздник
[329].
Не следует, однако, предполагать, что первохристиане обязательно четко различали регулярные общие трапезы и те, за которыми они специально повторяли слова, сказанные Иисусом на последней вечере.
40.3.
Вечеря Господня у Павла. О вечере Господней Павел говорит только в 1 Кор 10:14–22,11:17–34, но этих упоминаний достаточно, чтобы понять, где евхаристия, праздновавшаяся в Павловых общинах, следовала более ранней традиции, а где отходила от нее.
Преемство с более ранней традицией особенно заметно в трех пунктах.
(1) Павел цитирует предание как основу своего понимания Вечери (1 Кор 11:23–25), — предание, которое в конечном счете восходит к последней трапезе Иисуса с учениками. По–видимому, Павел получил это предание от своих предшественников в вере, — хотя его авторитет он усматривает в том, что получил его "от Господа" (см. выше § 17.3).
(2) Вечеря сохраняет эсхатологическую тональность — "…доколе он придет" (1 Кор 11:26). Впрочем, этот момент не особенно сильно выражен: более того, ст. 26 ("ибо…") больше напоминает разъяснение, сделанное лично Павлом, чем часть унаследованной традиции.
(3) Вечеря остается братской трапезой: в 1 Кор 10:18–22 Павел проводит двойное сравнение между жертвенной трапезой в израильском культе (Лев 7:6,15), вечерей Господней и празднеством в языческом храме; цель сравнения состоит в том, что каждая из этих трапез выражает общение
(koinōnoi, "общники" — 10:18, 20)
[330]. Из 1 Кор 11:17–34 ясно видно, что вечеря Господня происходит в контексте трапезы.
В то же время очевидны
изменения.
(1) Взаимосвязь между братской трапезой и словами интерпретации над хлебом и вином стала четче, ибо причащение хлебом и вином, видимо, постепенно превращалось в самостоятельное событие и смещалось к концу трапезы. У нас слишком мало данных, чтобы утверждать с уверенностью, но, похоже, богатые коринфские христиане начинали трапезу раньше, а бедняки (рабы и т. д.) обычно могли поспеть лишь к самой вечере Господней (11:21,33). Отсюда обличения в 11:27, 29: "не различать тела", видимо, значит есть и пить не в братском общении с бедными и слабыми; "виновен против тела и крови Господней" — видимо, та же мысль, что и в 8:11сл., и подразумевает грех против более слабого брата
[331].
(2) Хотя эсхатологическая тональность присутствует, в 11:26 гораздо более сильна обращенность назад, к смерти Иисуса. Здесь мы также видим изменение акцентов: от братской трапезы в целом как символа мессианского пира к вечере Господней как провозвестия о смерти Иисуса.
(3) Не оказался ли сам Павел под влиянием синкретической мысли? Не приобрела ли у него вечеря Господня черты магического ритуала? В пользу такого предположения выдвигались следующие аргументы. (А) В 1 Кор 10:4 слово
pneumatikos можно понять как "передающий Дух
(Рпеита)". (В) 1 Кор 10:16сл. обнаруживает очень тесное тождество между хлебом и телом Христа, между вином и кровью Христа. (С) 1 Кор 11:29сл. выдает предрассудки самого Павла в данном отношении
[332]. Язык Павла действительно допускает такую интерпретацию. Однако нужно учитывать следующее. (А) В 1 Кор 10:1–13 Павел предостерегает
коринфян против именно такого сакраментализма, считая его искажением вечери Господней. Поскольку 10:1–4 есть аллегория ("скала" аллегорически обозначает Христа и т. д.), слово
pneumatikos лучше понять как "аллегорический" (см. выше § 22.5). (В) Хотя в 10:16сл. действительно можно увидеть эллинистическое представление о единстве с культовым божеством (Христом) через поедание его тела, ст. 20 показывает: Павел скорее мыслит в категориях общения и партнерства (общения, выражаемого через участие в одной трапезе, за одним столом).
Важно не столько то, что именно едят и пьют, сколько приобщение (koinōnia) одному хлебу и одной чаше (ст. 16); верующие едины, ибо делят один хлеб (ст. 17), а не из‑за действенности хлеба самого по себе (см. выше прим. 20). (С) В 1 Кор 11:29сл., поскольку коринфяне преувеличивали, а не преуменьшали значение вечери Господней (10:1–13), Павел, очевидно, считает болезнь и смерть следствием греха против
общины (тела Христова — ср. 5:5), а не действием причастия как такового
[333].
40.4.
Возможные вариации первохристианских традиций. То, что мы называем вечерей Господней, Евхаристией, Святым Причастием, мессой, возможно, представляет собой
конечный результат соединения или стандартизации ряда разных традиций.
(A) Нам известны разные виды трапезы, каждая из которых повлияла на развитие вечери Господней.
(1) Общие трапезы Иерусалимской общины, на которых, видимо, использовался только хлеб, без вина (см. выше § 40.2).
(2) Трапеза пасхального (?) типа, совершавшаяся раз в год. При этом хлеб и вино были частью полной трапезы: хлеб вкушали либо вначале (обычная трапеза), либо в середине (Пасха), а вино — в конце (1 Кор 11:25 — "после вечери").
(3) Полная трапеза, в которой сначала шла чаша, а позже — хлеб. Возможно, это подразумевается в 1 Кор 10:16, более кратком тексте Луки (без Лк 22:19d-20)
[334], а также Дидахе 9.
(B) Текстуальные традиции также выдают различие форм и развитие обычаев. Слова интерпретации, сказанные на Тайной вечере, дошли до нас в виде как минимум двух разных текстуальных традиций.
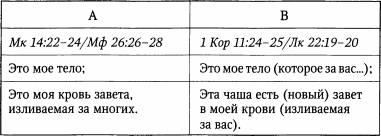
В словах над хлебом фраза "которое за вас…" (традиция В), видимо, является поздней: ее трудно вывести из арамейского языка; она отсутствует в традиции А; это форма такого плана, какой естественно было возникнуть при литургическом развитии.
Большее внимание привлекают различия во втором речении: традиция А делает упор на
кровь, а традиция В — на
Завет. Более ранней, видимо, следует считать традицию В. Аргументы: "кровь завета" — форма неестественная или по меньшей мере очень необычная в еврейском и арамейском языках; мысль о том, чтобы пить кровь, была иудеям отвратительна (см. особенно Лев 17:10–14; ср. Деян 15:20, 29); тесный параллелизм двух речений в традиции А, видимо, возник в результате литургического использования
[335]. Поскольку слова над хлебом и чашей первоначально были
двумя самостоятельными речениями, произносившимися в разные моменты трапезы (см. выше § 80), скорее всего форма второго речения ассимилировалась с формой первого только тогда, когда хлеб и вино выделились в особый ритуал в конце трапезы (ср. 1 Кор 10:16); и, напротив, если более ранней была традиция А, непонятно, почему разошлись параллельные формулировки. Поэтому создается впечатление, что
более ранняя форма второго речения (над чашей, а не над вином)
делала акцент на завете, — и это соответствует эсхатологической тональности Тайной вечери (см. выше § 40.1). Слова "в моей крови…" могут быть поздней вставкой, но, даже если и так, данный смысл, возможно, подразумевается: завет устанавливался через жертвоприношение, и Иисус рассматривал свою скорую смерть как такого рода жертву (ср. Исх 24:8; Евр 9:20; Лк 12:49сл. — см. выше прим. 8); фраза "…изливаемая" явно ассоциируется с жертвоприношениями.
По–видимому, в случае со вторым речением мы имеем две разные традиции.
• Одна из них осмысляла Тайную вечерю в категориях Нового Завета. Прежние общие трапезы Иисуса были знаком мессианского пира в грядущем Царстве. В последней из этих трапез образность меняется: теперь идет речь о Завете, а трапеза предзнаменует способ, которым этот Завет будет установлен, которым придет Царство, — а именно смерть Иисуса как огненное крещение, мессианские бедствия, предсказанные Крестителем. Однако здесь акцент делается на самом завете; чаша — это чаша обетования о том, что грядет после смерти Иисуса (Лк 22:18/Мк 14:25); эсхатологическая тональность доминирует над сотериологической. Именно эта форма традиции, очевидно, восходит к самому Иисусу. Ее сохранение, видимо, отражает эсхатологический смысл трапезы, за которой собравшиеся повторяли эти слова.
• Другая из них делала упор на смерть Иисуса как таковую. Здесь преобладает сотериологическая тональность. Содержание не меняется, — сдвигаются лишь акценты. Эта традиция, видимо, возникла, когда вечеря Господня начала обособляться в самостоятельное явление и обращаться более к прошлому (свершившееся искупление), чем к будущему (эсхатологический пир).
Возможно, еще одна традиция отражена в Ин 6:53–56. Здесь первое речение выглядело иначе: "Это моя плоть" (а не "это мое тело"). Существование данной вариантной традиции подтверждается Игнатием (Послание к Филадельфийцам 4:1; Послание к Смирнянам 6:2). Не исключено, однако, что она появилась позднее, как противовес докетическим представлениям о Христе.
40.5.
Вероятное развитие вечери Господней. Подведем итоги вышесказанному:
(A) Взаимосвязь вечери Господней с полной трапезой развивалась следующим образом. (1) Первохристианство: вечеря Господня — видимо, часть трапезы (христианская Пасха, 1 Кор 11:25 — слово о хлебе является более ранней частью трапезы). (2) Павловы церкви (по крайней мере коринфская): вечеря Господня, очевидно, обособилась в отдельный элемент в конце трапезы; (3) Поздняя стадия (когда вечеря Господня становилась или уже стала отдельным событием): симметричная литургическая формулировка установительных слов (Марк, Матфей).
(B) Это вероятное общее развитие сказалось и на
значении, которое придавалось актам и словам, составляющим вечерю Господню. Сначала эти два акта и слова осмыслялись по отдельности, а не параллельно. Они были связаны с различными частями полной трапезы, а потому каждый из них
сам по себе (а не в совокупности) понимался как выражение всей трапезы. Иными словами,
общинная реальность Нового Завета выражалась во всей трапезе, и этот аспект трапезы особо фокусировался в некоторых ее моментах (сначала — в хлебе, потом — в вине).
Последующее развитие, видимо, трансформировало первоначальное понимание трояким образом:
(1) Общинная трапеза, сакраментальная реальность которой состояла в самом акте братского единения, по–видимому,
трансформировалась в ритуальный акт, более открытый возможности магического понимания (1 Кор 10). Хлеб и чаша, очевидно, переставали восприниматься как выражение смысла всей трапезы и становились чем‑то самодостаточным, отделенным от трапезы. Большее значение обретал сам факт вкушения хлеба и вина ("делайте это в память обо мне" — 1 Кор 11:24,25). Вероятно,
сакраментальная реальность постепенно сосредотачивалась больше на самих хлебе и вине, чем на трапезе как таковой.
(2) Прежний акцент на трапезе
Завета, выражавшийся особенно в
общей чаше (традиция В), видимо, начал
уступать место акценту на вине как символе крови и жертвы Иисусовой (традиция А). Если раньше главным было создание братского единства Завета здесь и теперь, то теперь на первый план все более выходила репрезентация жертвоприношения.
(3) Следовательно, начала увядать эсхатологическая значимость трапезы как предзнаменования мессианского пира; причастные хлеб и вино
все больше соотносились с прошлым событием — смертью Иисуса. У Павла вечеря Господня в значительной степени представляет собой пересказ искупления, совершенного в прошлом; эсхатологический аспект сохранился лишь в том, что вечеря должна была возвещать о смерти Иисуса до парусии.
Уже в первые 40 лет христианства в праздновании вечери Господней произошли изменения, которые хотя и не подтолкнули никого из новозаветных авторов считать эту вечерю особым (и уж тем более исключительным) средством благодати, но заложили основу для последующего процесса, в ходе которого вечеря Господня все больше воспринималась как средоточие встречи верующего с Богом через Христа.
§ 41. Таинства в четвертом Евангелии
В последние годы среди ученых резко усилились споры о роли таинств в Иоанновом богословии. Существующие позиции можно условно разделить на три группы.
(1)
Ультрасакраментологическая интерпретация[336]: все упоминания о воде имеют сакраментологическое значение (в том числе 2:1–11; 4:7–15; 5:2–9; 7:37–39; 9:7,11; 13:1–16; 19:34), а указания на вечерю Господню содержатся в 2:1–11 и 15:1–11. Сакраментологические аллюзии присутствуют даже в эпизоде с "очищением Храма" (2:13–22), хождением Иисуса по воде (6:16–21) и в речи о Добром пастыре (10:1–18).
(2)
Несакраментологическая интерпретация[337]: почти все Иоанново Евангелие явно имеет
антисакраментологическую направленность, а указания на таинства в 3:5 ("вода и…"), 6:51–58 и 19:34 — вставки церковного редактора.
(3)
Умеренная сакраментологическая интерпретация[338]: Евангелие от Иоанна содержит несколько ссылок на таинства (несомненно — 3:5 и 6:51–58; вероятно, но не точно — 19:34; возможно — 2:1–11 и 13:1–16).
Видимо, ответ находится где‑то посередине между двумя последними альтернативами.
(A)
В Евангелии от Иоанна полностью отсутствуют рассказы о крещении Иисуса (Ин 1)
и об "установлении" вечери Господней (Ин 13). Это молчание можно удовлетворительно объяснить лишь двумя способами. Либо Иоанн не хотел акцентировать оба таинства; более того, отвлекал от них внимание читателей. Либо он помещал их в контекст всего служения Иисуса. Ввиду 6:51–58 последнее предположение не исключено (Иоанн использует глубокую символику), но в остальных случаях такие толкования будут колоссальной натяжкой. В общем и целом первый вариант правдоподобнее.
(B) Иоанновы упоминания о
"воде" делятся на два типа. Первый тип:
вода символизирует дары новой эпохи, и в особенности дары Святого Духа. 4:10,14 — в первохристианстве выражение "дар Божий" почти всегда обозначает Святого Духа (Деян 2:38; 8:20; 10:45; 11:17; 2 Кор 9:15; Еф 3:7; 4:7; Евр 6:4)
[339], а слово "текущая", видимо, здесь отсылает к действию Духа в Суд 14:6,19; 15:14; 1 Цар 10:10 (где используется то же слово); 7:37–39 — эксплицитное отождествление с Духом; 19:34 — антидокетическая направленность, отсюда акцент на крови (Иисус действительно умер — см. ниже § 64.3), а вода, видимо, задумана как символическое исполнение 7:38; в Ин 9 и 13 вода не упомянута, да и в любом случае в 9:7 прямо объясняет купальню как символ "посланного" (то есть Иисуса). Второй тип:
вода символизирует ветхую эпоху, в отличие от новой, предлагаемой Иисусом: 1:26, 31, 33 — повторный акцент на том, что Иоанн крестил лишь водой, возвышает контраст с Иисусовым крещением Духом; 2:6 — вода олицетворяет иудейские очистительные ритуалы (в противоположность вину новой эпохи); 3:25–36 -как Иоанн Креститель "от нижних", так и его крещение (напротив, Иисус пришел свыше, имеет и дает Духа без меры); 5:2–9 — исцеление принес Иисус, а не вода. Соответственно весьма вероятно, что оставшееся упоминание о воде ("вода и…" 3:5) имеет один из вышеописанных смыслов (
либо Дух, либо ветхая эпоха). Если это подтвердится, отпадут причины считать его поздней вставкой. Но анализ показывает, что возможны оба смысла. В одном случае речь идет об очищающем и обновляющем действии Духа свыше, — с аллюзией на Пророков (Ис 44:3–5; Иез 36:25–27; ср. 1 QS 4:20–22). В другом случае речь идет о водном крещении (Иоанновом или христианском) или даже о водах при физическом рождении (как 3:4), в отличие от рождения от Духа (главная тема 3:6–8): чтобы войти в Царство Божье, нужно родиться от воды и
Духа, то есть
не только физически родиться, но и пережить обновление Духа; не только водное омовение, но и омовение Духом (ср. 1:33; 3:26–34). Добавим еще, что нет оснований понимать гендиадис
"родиться от воды и Духа" как эквивалент
"креститься водой и Духом" (особенно ввиду Иоанновой антитезы между водным крещением и крещением в Духе — 1:26,31,33). Очевидно, этот гендиадис рассматривает водное крещение и крещение Духом как неотъемлемые части обращения/инициации (родиться от воды и родиться от Духа), делая особый упор на второй из них. (Аналогично Иисуса можно назвать "гендиадисом" между Логосом
воплощенным и жизнетворным
Духом — ср. 3:6 и 6:63; см. также следующий абзац.) (С) Судя по параллели с Игнатием, в Ин 6:51–58 есть указание на вечерю Господню (ср. выше § 40.4)
[340]. Попробуем разобраться, как это происходит и зачем. (1) "Есть", "жевать", "пить" —
метафоры веры в Иисуса: основная мысль отрывка состоит в необходимости уверовать в Иисуса (ст. 29, 35, 36, 40, 47, 64, 69 — см. также выше § 6.1). (2) Иоанн подчеркивает, что Иисус не только прославленный и вознесенный Христос, но и Сошедший с небес (ст. 33, 38, 41сл., 50сл., 58), то есть подлинно воплощенный и распятый. Перед нами
резкая антидокетическая полемика, особенно выраженная в ст. 51–56, где слово "хлеб" заменено на "плоть" (ст. 51), а "есть" — на более грубое "жевать" (ст. 54). Жевать плоть Иисуса и пить его кровь — значит верить в Иисуса как подлинно воплощенного (ср. Игнатий, Послание к Смирнянам 6:2; и см. ниже § 64.2). (3) Иоанн верит, что эта живящая новая взаимосвязь с Иисусом достигается
лишь через Дух вознесенного Иисуса (3:3–8; 4:10, 14; 6:27; 20:22): ответом на "веру" становится дар Духа (7:39). Более того, он старается не создать впечатление, что такая взаимосвязь достигается участием в вечере Господней или зависит от участия в ней. Использовав евхаристическую терминологию плоти (и крови) в ст. 51–56, чтобы подчеркнуть свое отрицание докетизма, Иоанн немедленно предупреждает: "Дух животворит, плоть же не приносит никакой пользы" (6:63). Иными словами, если ст. 51–58 действительно содержат евхаристическую терминологию, трудно уйти от мысли, что ст. 62сл. —
протест против буквального понимания таинств (то есть против того представления, что жизнь, о которой столь часто говорит Иоанн, передается через употребление в пищу причастных хлеба и вина)
[341].
Создается впечатление, что Иоанн полемизирует с современным ему сакраментализмом. Точно так же, как он возражал против институционализации (отраженной уже в Пастырских посланиях и 1–м Послании Климента; см. выше §§ 31.1, 32.1), он, очевидно, счел необходимым выразить протест против растущей тенденции к сакраментализму (того плана, как мы встречаем чуть позже у Игнатия; см. Игнатий, Послание к Ефесянам, 20:2). Иоанн
не занимает антисакраментологическую позицию в строгом смысле слова, не отказывается от таинств: он намекает на них в 6:51–58 (скорее всего) и 3:5 (вполне вероятно). Однако, по–видимому, растущее буквальное понимание таинств вызывает у него возражения
[342].
§ 42. Выводы
42.1. Теперь мы можем ответить на некоторые вопросы, поставленные в конце § 38, и отдать должное тому многообразию богословия и формы, от которого не уйти при любой попытке оценить роль таинств в христианстве I в.
(A) Прежде всего бросается в глаза тот факт, ч
то таинства поздних церквей не находят ни малейшей параллели в жизни Иисуса. Иисус никого не крестил (по крайней мере большую часть своего служения), а его общие трапезы — диаметральная противоположность ограниченному или "закрытому коммуниону"
[343]. Если и называть служение Иисуса "сакраментологическим" в широком смысле слова, то в этот широкий смысл нужно включать как ритуальные выражения (возложение рук, омовение ног ученикам и т. д.), так и неритуальные (личные отношения).
(B) Когда два этих таинства стали частью христианства? Крещение — почти сразу, а вечеря Господня — спустя несколько лет. Общая/пасхальная трапеза Иерусалимской первообщины содержала в лучшем случае зачаток таинства. А
вечеря Господня, какой мы ее знаем, — результат довольно длительного процесса.
(C)
Первоначально особо важную роль играла эсхатология, ибо крещение было напрямую заимствовано из Иоаннова омовения, а общая трапеза — продолжение Иисусовой практики и выражение новозаветного братства. Но чем шире христианство распространялось в эллинистическом мире, тем меньше становилась эсхатологическая направленность.
Ее вытесняла обращенность назад, к смерти Иисуса: крещение выражало погребение со Христом, а вечеря Господня возвещала смерть Иисуса.
(D) Некоторые христиане (как минимум коринфские) стали рассматривать развивающиеся таинства в
полумагических категориях: будто они приносят или гарантируют спасение и единство с прославленным Господом. Павел решительно отвергал такой подход.
(E) На другом конце спектра, в конце I в. Иоанн протестовал против сакраментализма, буквального понимания таинств. Этот протест оказался тщетным: сакраментологическая тенденция, заметная у Игнатия, возобладала.
42.2. В чем же средоточие единства среди всего этого многообразия? Как и раньше, это опять Иисус:
таинства воплощают и выражают преемство между земным Иисусом и прославленным Христом. С самого начала крещение совершалось "во имя Иисуса". Крещающий олицетворял прославленного Иисуса, а крещаемый становился учеником прославленного Господа. В то же время Павел подчеркивал как нечто непререкаемое, что крещение говорит и о смерти Иисуса, дает метафору единения со Христом в его смерти. Однако нет прямой попытки связать крещение самого Иисуса Иоанном с христианским крещением. Христианское крещение выражает преемство не столько между допасхальным и послепасхальным ученичеством, сколько
между смертью Иисуса и последующими христианским общинами.
Вечеря Господня содержит преемство на обоих уровнях. С одной стороны, братские трапезы первохристианских общин (из которых выросла вечеря Господня как таковая) были
продолжением общих застолий самого Иисуса. Преемство подчеркивалось еще и тем, что участники этих трапез, видимо, сознавали присутствие Иисуса, Владыки Завета (ср. Лк 24:35; Деян 1:4; 1 Кор 10:21). Считалось, что сам Земной и Прославленный произносит установительные слова (через пророка? — см. Дидахе 10:7). С другой стороны,
предание о словах, сказанных на последней трапезе Иисуса с учениками, всегда влияло на формирование вечери Господней как таинства. В итоге это оказало решающее влияние, и эти слова обеспечили преемство именно со страданиями и смертью Иисуса.
42.3. Роль таинств в Новом Завете состоит не в том, что в них сосредоточена благодать или что они служат каналом для благодати, — Иисус и новозаветные авторы были бы скорее против такого понимания, чем за него. Наоборот, там, где Новый Завет ценит таинства, это происходит потому, что
они с помощью ярких символов выражают средоточие христианской веры в Иисуса, человека, который отдал свою жизнь за многих, а ныне прославлен; и потому, что
они дают вере в Иисуса возможность найти подходящее выражение.
IX. Дух и опыт
§ 43. Введение
Традиционно христиан объединяют символ веры, служение и литургия. Тем не менее в христианстве всегда существовало направление или течение (порой не
больше тонкой струйки), преуменьшавшее основополагающее значение письменного символа веры, четко обозначенных служений и регламентированного богослужения. Оно подчеркивало роль
непосредственного опыта. Для сторонников такого христианства (в крайних формах обычно называемого "восторженным" (
enthusiastic) особенно важно живое общение с Богом — осознание Его присутствия, опыт обращения, получаемое откровение, вдохновение, следование Его воле и, наконец, мистическое единение с Богом.
Приведем несколько примеров, чтобы показать, насколько важную роль играло в истории христианства это направление. В IV‑VII веках процветала секта евхитов. По словам Иоанна Дамаскина, когда священники говорили евхитам: "Мы не из опыта, а из веры знаем, что имеем Духа Святого", те отвечали им: "Приходите помолиться с нами. Мы обещаем, что вы ощутите присутствие Духа". Самый выдающийся средневековый византийский мистик, Симеон Новый Богослов (X‑XI вв.), утверждал, что крещение без подлинного обращения — всего лишь омовение водой; настоящим христианином можно стать, только приняв "второе крещение", крещение "Духом", "крещение слезное", дающее просветление, превосходящее простое интеллектуальное познание
[344]. Св. Викентий Феррер (XIV‑XV вв.) упоминает среди достоинств, "необходимых для служителей Божьих… непрестанное
вкушение и
ощущение божественной сладости. "Рекохидос", влиятельная группировка в испанской церкви в первой половине XVI века, практиковала особую форму молитвы под названием "реколлекция", с помощью которой делалась попытка ощутить истинность своей веры, позволить Богу войти в душу. Молитва часто приводила к состояниям экстаза, наподобие транса, когда люди издавали вздохи и радостные выкрики. Мартин Лютер написал в предисловии к
Magnificat: "Никто не способен постигнуть Бога или слово Божье, пока не открыл ему это сам Дух Святой; но никто не может получить что‑либо от Духа Святого, если он не почувствует Его". Хорошо известно, что Джордж Фокс ставил "внутренний свет" выше Писания в вопросах авторитета. Известен такой случай. Однажды он прервал в Ноттингеме проповедника: "Это не Писание, это Дух Святой, которым в древности святые дали Писание, который и религии… испытывает". Граф Цинцендорф, основатель моравского поселения Гернгуте, понимал процесс спасения как "непосредственное и радостное восприятие любящего Отца"
[345]. Влияние моравского пиетизма заметно в понимании Фридрихом Шлейермахером (ED. E. Schleiermacher) религии как "чувства исключительной зависимости", а еще больше — в описании Джоном Уэсли (J. Wesley) того, как его сердце "обрело необычную теплоту" и произошло нечто очень важное: "Свидетельство Духа — это внутренний опыт души: Дух Божий прямо свидетельствует моему духу, что я — дитя Божье"
[346]. Наконец, в последние 20 лет в церкви по всему миру распространилось пятидесятничество. Так в XX в. проявляется эта жизненная, отличная от католичества и протестантизма разновидность христианства, постигаемого "опытом". Так в наши дни воплощается убеждение, что вопрос о том, "где Церковь?", следует видоизменить, спросив: "Где Дух Святой явным образом дает силу?"
[347] Католическая церковь, конечно, обычно старалась это течение в христианстве ограничивать и отклонять, ограждая высокими берегами или отводя под землю, из опасения, что "восторженное" направление сократит ее паству — причем иногда опасения эти были небезосновательны. Мартин Лютер, хотя и считал религиозный опыт очень важным, горько жаловался на спиритуалиста–анабаптиста, который твердит:
"Geist, Geist, Geist.."
[348], а затем "отбрасывает самый мост, по которому может прийти Дух Святой… а именно такие внешние священные установления, как телесный знак крещения и проповеданное Слово Божье"
[349]. Известное замечание епископа Батлера (Butler) Джону Уэсли отражает рационалистическое пренебрежение религиозным опытом: "Сэр, утверждать, что ты испытал необычайные откровения и дары Святого Духа, недопустимо, просто недопустимо…"
[350] Более умеренную и непосредственно относящуюся к данной теме точку зрения высказал в наше время Алан Ричардсон (A. Richardson): "Сама Библия мало значения придает субъективному опыту… Выражение "религиозный опыт" на новозаветный греческий перевести невозможно"
[351].
Таким образом, перед нами наиболее сильные проявления инакомыслия из тех, что мы рассматривали. Что такое религиозный опыт — средоточие христианского единства или опасное уклонение от него? Насколько важен был религиозный опыт в раннем христианстве, насколько обусловливал он его характер и самопонимание? Стояло ли за внешними выражениями керигмы и символа веры, служения и молитвы общее воодушевление или общий опыт, который и способствовал многообразию, но в то же время связывал всех воедино? Если одной из важных составляющих христианства I в. был религиозный опыт, то какой: любой или вполне определенный? Восторженность анабаптистов или более сдержанные переживания Лютера? Перейдем к рассмотрению этих вопросов, прежде всего отметив, что раннее христианство было по природе довольно восторженным (включая рассказы о нем Луки). Затем мы попытаемся осветить, насколько это возможно, роль религиозного опыта у Иисуса, Павла, а также (более кратко) — в Пастырских посланиях и у Иоанна
[352].
§ 44. "Восторженное" христианство
"Восторженное" христианство — третье, а точнее, четвертое из основных разновидностей христианства (помимо православия, католичества и протестантизма). Его иногда считают более поздним отклонением, на которое большее влияние оказали гностицизм или монтанизм, чем ортодоксальное христианство, или даже чисто протестантской аберрацией, порожденной Реформацией и в основном ограниченной XVII‑XVIII веками
[353]. На самом же деле
самая ранняя форма христианства, по–видимому, не что иное, как одна из таких "восторженных" сект.
44.1. Имеющиеся источники не позволяют достаточно полно представить себе
ранние общины в Палестине. Книга Деяний часто не столько проясняет, сколько затемняет картину. Тем не менее можно видеть несколько черт, которые характерны для "восторженного" христианства. Если эта книга имеет какую‑то историческую ценность, трудно отрицать, что видение и экстаз, чудеса и непосредственное вдохновение при говорении были свойственны первым христианским церквам.
а)
Видение и экстаз. Явления Христа после воскресения необходимо определить как одну из форм видений. Павел понимал воскресшее тело как "духовное", а не как "естественное", то есть он считает, что способ существования воскресшего Иисуса отличается от Его физического существования (1 Кор 15:42–50). Следовательно, когда он говорит, что "видел" воскресшего Иисуса (1 Кор 9:1), то имеет в виду не процесс зрительного восприятия, а скорее какое‑то видение (ср. Гал 1:16 — "открыть во мне Сына Своего"). Действительно, так сам Павел описывает свое обращение в одном из приведенных в Книге Деяний рассказов об этом (Деян 26:19 — "небесное видение", но см. ниже, прим. 16). Менее ясна природа первых явлений Иисуса после воскресения, которые описаны в Евангелиях. Но их также правильнее считать некой формой видений, когда все видевшие Иисуса были убеждены, что это Он — восставший и обретший новую жизнь
[354].
Описанное Лукой в Деян 2 первое значительное совместное переживание Духа во время Пятидесятницы необходимо определить как состояние экстаза, включавшее, по крайней мере, элементы слышания (звук, как от сильного ветра), видения (языки, как бы огненные) и автоматического говорения (глоссолалия). То, что это считалось переживанием Духа (и, видимо, не только Лукой), свидетельствует о важности подобного опыта в первые годы существования новой секты, а также о характере, приписывавшемся христианами Духу — Дух
восторженности. Это подтверждается значимостью других случаев экстатического состояния, приписываемых именно Духу: Деян 4:31, 8:17–19 (по смыслу); 10:44–46; 19:6. Во всех этих случаях Лука, несомненно, описывает состояние исступления, то есть экстаз.
Книга Деяний ясно свидетельствует: такие видения в первых христианских общинах были нередким явлением. Это подтверждает и Павел в 2 Кор 12:1, 7. В рассказах Луки почти все правдоподобно и нет серьезных причин сомневаться в его словах о том, что видения переживали все ключевые фигуры раннего периода существования новой секты — Петр, Стефан, Филипп, Анания, Павел. Более того, согласно Луке, эти видения во многом определяли направление миссионерской деятельности (особенно 9:10, 10:3–6,10–16, 16:9–10,18:9, 22:17–18). Два из них прямо описаны как "исступление" (10:10,11:5,22:17).
В тех случаях, когда важные решения определяются видениями, перед нами не что иное, как "восторженность".
б)
Чудеса. Едва ли можно сомневаться в том, что раннее христианство отличалось многими необычными событиями и рассказами о чудесах. Сообщение Книги Деяний здесь достаточно подкреплено непосредственным свидетельством Павла (Рим 15:19,1 Кор 12:10,28–29, Гал 3:5). Это включает исцеление хромых, слепых, расслабленных (Деян 3:1–10,8:7,9:18,33–34 и т. д.) и рассказ о воскресении Петром Тавифы (9:36–41, ср. 20:9–12). На протяжении истории религии такие "могущественные дела" совершались (по крайней мере, о них сообщалось) там, где собрание или общину охватывало исступление. Особенно интересны рассказы об исцелении благодаря тени Петра (5:15–16), платкам и опоясаниям, которых касался Павел (19:11–12), а также "чудеса осуждения" в 5:1–11 (смерть Анании и Сапфиры) и 13:8–11 (ослепление Елимы). Это и есть проявление "восторженности": дух так возносится, а воображение так воспламеняется, что проявление сверхъестественной силы легко предвосхищается, а рассказы об этом не вызывают удивления.
в)
Вдохновение. Вдохновенное говорение также было нередким явлением в раннем христианстве. Павел, несомненно, желал, чтобы все его коринфские адресаты пророчествовали (1 Кор 14:5), а фессалоникийских верующих предупреждал, чтобы они не ограничивали пророческий Дух (1 Фес 5:19–20). Из Книги Деяний складывается впечатление, что вдохновенное говорение было в среде первых верующих широко распространенным явлением и они верили: пророчество Иоиля уже полностью исполнилось, ибо
все были пророками — юноши и старцы, родители и дети, хозяева и слуги (Деян 2:17–18). Проявление Духа заключалось в даровании способности говорить, восхвалять, свидетельствовать (Деян 2:4, 4:8, 31, 5:32, 6:3, 5,10 и др.). Люди ощущали непосредственное божественное водительство, которому нельзя было сопротивляться (5:3, 9, 8:29,39, 9:31, 10:19,13:2, 4 и др.). Они действовали и говорили с дерзновением и властью, веря, что делают это "во имя Иисуса" как прямые и полномочные представители воскресшего Христа (2:38, 3:6,16, 4:10,13, 29–31, 5:28, 40–41 и др.).
В истории христианства такие притязания наиболее характерны для "восторженного" направления.
Сила и частота этих разнообразных переживаний, присущих ранней форме христианства, показывают, что перед нами не отдельные случаи поэтического видения, харизматических способностей или пророческого экстаза, но община, для которой такой опыт был характерным и необходимым для духовной жизни и ее направленности. Поэтому необходимо сделать вывод о
"восторженном" характере этой общины.
44.2. В Новом Завете есть множество ясных указаний на
существование в христианстве I в. очень сильной (некоторые скажут — излишне сильной)
"восторженной" тенденции, или направления.
а) Некоторые из основных проблем Павла были связаны с "восторженными" группами верующих — особенно в Коринфе. Из 1 Кор 1:18 -4:21 ясно, что отдельные коринфские христиане считали себя "духовными" (πνευματικοί — см. особенно 3:1). Они уже достигли высшего уровня духовности, познания высшей мудрости и презирали низший уровень других христиан, включая Павла (см. особенно 4:8–10). Таким образом, перед нами проявление духовной элитарности, типичной для менее привлекательных форм "восторженности". В 1 Кор 8 мы вновь встречаем упоминание о людях (возможно, тех же самых), которые полагали, будто обладают высшим знанием, оправдывавшим эгоизм и невнимательность к тем, кто подобным познанием не обладал. В 1 Кор 14 Павел обращается к тем (опять‑таки πνευματικοί), кто, похоже, думал, что мерой духовности является экстатическое говорение — чем непонятнее, тем вдохновеннее (14:6–25)! Их поведение слишком напоминало бурное поклонение почитателей Диониса (12:2). Они жаждали духов (14:12), то есть приходили в состояние исступления для того, чтобы испытать вдохновение; их молитву отличали беспорядок и неустройство (14:23, 33, 40). Это признаки необузданной
"восторженности". В 1 Кор 15:12 мы встречаемся с мнением, "что нет воскресения мертвых", то есть
будущего воскресения, телесного воскресения. Возможно, это было проявление элитарной духовности: не может быть никакого будущего воскресения, ибо христиане уже испытали
полноту воскресшей жизни через Дух (ср. 4:8,15:45–46). Отметим, что это "восторженное" направление не было какой‑то внешней угрозой, а составляло ч
асть Коринфской церкви (см. ниже, § 61.1).
Ситуация, изложенная в 2 Кор 10–13, — продолжение описанного в Первом послании. И здесь мы слышим о людях, которых в Коринфской церкви высоко чтили за видимые проявления "восторженности": их речь впечатляла, то есть была, вероятно, вдохновенной и экстатической (10:10, 11:6); они явно хвалились своими видениями и откровениями; их "знамения и чудеса и могущественные дела" рассматривались как подтверждение их апостольства. Относясь к себе таким образом, они, похоже, соответственно представляли и Евангелие; Павел обвиняет их в проповеди "другого Иисуса" (11:4). Возможно, они считали Иисуса человеком, обладавшим большими духовными силами, божественным чудотворцем, превосходившим другие подобные фигуры эллинистической религии — как и сами они превосходили Павла в религиозном опыте (ср. выше, § 18.1).
В письмах к Коринфянам свидетельство о "восторженных" тенденциях в церквах, основанных Павлом, наиболее отчетливо. Но из 2 Фес 2:2 и Кол 2:18 мы видим, что и в других подобных церквах дело обстояло таким же образом. В первом случае пророческое слово о парусии, видимо, некритически воспринималось как божественное руководство к поведению (ср. 2 Фес 3:6–13). Во втором случае речь идет, похоже, о том, что в общине колоссян имелись люди, хвалившиеся бывшими у них при инициации видениями, которые они считали оправданием почитания ангелов (также см. ниже, § 61.2.6).
б) Марк, возможно, создал свое Евангелие тоже, чтобы противостоять той христологии, которую осудил Павел во 2 Кор 10–13, то есть апологетике, или проповеди, представляющей Иисуса в основном как выдающегося чудотворца (ср. выше, §§ 11.4 и 18.1). В таком случае ситуацию или общину, к которой обращался Марк, должна была отличать та же сильная наклонность к "восторженности", что и коринфскую общину.
в) Еще одно свидетельство о менее желательных формах "восторженности" в христианстве I в. можно найти в Мф 7:21–23. Матфей, очевидно, имел в виду "восторженных" харизматиков с опасной склонностью к антиномизму. Другой пример — Иуд 1:19, где Иуда, по–видимому, выступает против тех, кто, подобно аналогичной группе в Коринфе, считал себя πνευματικοί, духовной элитой (см. ниже, § 61.2. д).
44.3.
Луку необходимо считать одним из "восторженных" христиан, хотя и не склонным к элитарности. Описывая в Деян начало христианства, он снова и снова упоминает о проявлениях "восторженности". И среди синоптиков он единственный, кто упоминает об одном явно экстатическом переживании Иисуса (Лк 10:18, ср. 10:21, 22:43). Более того, "восторженные" состояния он описывает удивительно некритически.
а) Из его описаний проявлений Духа (особенно в Книге Деяний) ясно, что
он, по крайней мере отчасти, разделял исступленную жажду драматизма в духовном опыте, стремление к тому, чтобы божественное стало непрозрачным и осязаемым. Для Луки
воздействие Духа очевиднее всего в необычных и даже сверхъестественных явлениях. В Книге Деяний этого больше, чем где бы то ни было. Дух — это сила, которая проявляется шумом как бы от сильного ветра в виде как бы огненных языков (2:3), которая ясно выражается в глоссолалии (2:4,10:46,19:6). Воздействие Духа на принимающих Его вызывает изумление и зависть даже у волхва (8:18–19). Когда в повествовании Луки кем‑нибудь овладевает сила Духа, это обычно сразу выражается в экстазе. Именно поэтому он описывает нисхождение Духа столь драматически — "крещены Духом Святым" (1:5, 11:16), "нисшел" (1:8,19:6), "излил" (2:17–18, 33,10:45), "сошел" (8:16,10:44, 11:15). Отсюда и заданный в 19:2 вопрос — "приняли ли вы Духа Святого, когда уверовали?" (КП) — ибо получение Духа — это что‑то осязаемое, что нельзя ни с чем перепутать. Поэтому проявление "обещанного Духа Святого" (2:33, КП) описывается как "то, что вы и видите и слышите", где экстатическое поведение и речь учеников
отождествляются с излиянием Духа!
Понимание Духа Лукой — "восторженное".
б)
Экстатические видения в Книге Деяний нередки — их там, по крайней мере, двенадцать, не считая явления Иисуса после воскресения (Деян 1) или Пятидесятницу (Деян 2) — см. выше, § 44.1. а. В Книге Деяний больше видений, чем во всем остальном Новом Завете (за исключением Апокалипсиса). Луке, несомненно, доставляет радость тот факт, что ранние церкви в своей миссионерской деятельности были направляемы (особенно в решающие моменты) непосредственно видениями (9:10,10:3–6,10–16,16:9–10,18:9, 22:17–18, 26:19–20). Кажется, ему и в голову не приходит, что значение видения можно извратить. Он словно не разделяет ни одного из предостережений Павла на этот счет (ср. 2 Кор 12:1, Кол 2:18). Эти два отрывка из Посланий Павла показывают, как мы знаем, что в течение периода, описанного в Книге Деяний, такая проблема, по крайней мере дважды, возникала в острой форме. Но Лука не выказывает беспокойства по этому поводу и не выражает предубеждения в отношении видений, которые использовались для оправдания сомнительной практики и подходов. Такое безоговорочное принятие всех видений как исходящих от Бога,
такое некритичное отношение к авторитету, опирающемуся на видения, выдает в Луке представителя "восторженного" течения.
в) То же некритичное отношение к сообщениям первых христиан о происшедших сверхъестественных событиях даже в большей степени заметно в рассказах Луки о
чудесах в Книге Деяний. Он постоянно называет их "чудесами и знамениями" (9 раз). В других местах Нового Завета это выражение часто используется в более негативном смысле — "знамения и чудеса" отличают лжепророка, свидетельствуют о неверии, похвальбе лжеапостолов и лукавстве антихриста (Мк 13:22/Мф 24:24, Ин 4:48, 2 Кор 12:12,2 Фес 2:9), то есть им нельзя безоговорочно доверять, следует проявлять осторожность. Тем не менее Лука гордится "чудесами и знамениями", происходившими в ранних церквах, как делами, подтверждающими Божье водительство в миссионерской деятельности. Конечно, в его описании чудес есть сдерживающее начало, он резко противопоставляет чудесное распространение "слова Божьего" колдовству (Деян 8:18–24,13:6–12,19:13–20). Но все же чудеса первых христианских проповедников у него более значительные, чем у их "соперников", —
"великие силы и знамения", "силы
необычайные" (8:13,19:11)
— и притом более ценные и заслуживающие доверия.
Взгляды Луки раскрываются также в том, как он описывает
взаимоотношение между чудесами и верой. Похоже, он больше думает о вере, которую создают чудеса, чем о вере, которая делает эти чудеса возможными (5:12–14, 9:42,13:12,19:13–18). В других местах Нового Завета все совсем наоборот: публичность, ценность чудес для проповеди умаляется, а к вере, основанной на чудесах, отношение сдержанное и неодобрительное (Мк 8:11–12, Мф 12:38–39/Лк 11:16, 29, Ин 2:23–24, 4:48, 20:29 — также см. ниже, § 64.3,2 Кор 13:3–4). Одним словом, Лука гордится тем, что для других авторов Нового Завета в лучшем случае двусмысленно ("знамения и чудеса"). Иисуса и авторов Нового Завета огорчает вера, основанная на чудесах, а Луку она воодушевляет.
Тот, кто некритически гордится чудесами ввиду их ценности для проповеди и высоко ставит веру, коренящуюся в чудесах, может быть вполне справедливо назван "восторженным" христианином.
г) Этот подход Луки во многом находит отражение в том, что он подчеркивает способность к
вдохновенному говорению, проявлявшемуся в ранних общинах. Для него это
важный знак исполненности Духом человека и общины (он не старается связать Дух с описываемыми "чудесами и знамениями"); см. Деян 2:4,17–18 ("и будут пророчествовать" добавлено к цитате из Иоиля для усиления); 4:8, 31, 5:32, 6:10, 7:55–56,10:44–46,11:28, 13:2, 9–11, 18:25, 19:6, 20:23, 21:4, 11. Заслуживают внимания две черты повествования у Луки. Во–первых,
он не прилагает особых усилий, чтобы отличить пророчество от экстатического говорения. В 19:6 он сводит их вместе (ср. 10:46), а в Деян 2, видимо, отождествляет:
глоссолалия (2:4) рассматривается как использование пророчества Иоиля об излиянии Духа в
пророчестве (2:16–18). Это означает, что Луку больше интересует или поражает сам факт вдохновения, чем его характер (понятное или непонятное речение — ср. выше о коринфянах, § 44.2). Во–вторых его, похоже,
не беспокоит проблема лжепророчества. Единственного "лжепророка" мы встречаем вне церкви, это ее заклятый враг (13:6). Речи о том, что лжепророчество может быть проблемой
внутри христианской общины, по сути нет. Даже когда два вдохновенных речения (убеждения) противоречат друг другу, Лука без колебаний приписывает оба Духу (20:22, 21:4).
Такое безоговорочное принятие всякого вдохновенного речения в общине как исходящего от Святого Духа есть несомненный признак "восторженности".
д) Нельзя, однако, игнорировать одно уравновешивающее соображение. У Луки много признаков "восторженности", но
нет элитарности. "Восторженность" есть для него христианство это высшая форма духовности. Но элитарности нет — он не говорит, что одни христиане духовнее других. Конечно, можно рассматривать как свидетельство христианской элитарности Деян 8:12–17: самаритяне были крещены, но на них не сходил Дух. Но этому есть альтернативное объяснение: Лука желает здесь подчеркнуть значимость дара Духа, что в сущности и делает человека христианином (об этом ясно сказано в 10:44–48,11:15–18,15:8–9,19:2–3) — в конечном счете это самое главное. Дар Духа позволяет отличить подлинную веру в Бога и преданность Христу от простого убеждения в важности слов проповедника и желания ему угодить (так следует из слов Луки в 8:12–13: они поверили Филиппу, а
не Богу или
во Христа. Отраженную у Луки в Деян 8 "восторженность" лучше всего охарактеризовать так: это не христиане, если на них еще не сошел Святой Дух; те, на кого не сошел Святой Дух, еще не христиане
[355].
Отсюда можно заключить, что
Лука принадлежит к тем верующим, для кого духовный опыт должен быть видимым, осязаемым, способным служить доказательством для других: Святой Дух нисходит на Иисуса "в телесном виде" на Иордане (Лк 3:22); три близких ученика не во сне, а в действительности видели преображение Иисуса (Лк 9:32); явления Иисуса после воскресения дали "многие верные доказательства" Его воскресения (Деян 1:3, ср. Лк 24:39), ангел, избавивший Петра из темницы, был реальным, а не видением (Деян 12:9); проявление Святого Духа можно в буквальном смысле видеть в некоторых событиях (Деян 2:33). Христианские чудеса более впечатляющи и убедительны, чем какие‑либо другие. В моменты нерешительности и напряженности указание может быть дано через видение или вдохновенное говорение. Экстаз и вдохновение в церкви — всегда проявление Духа. Освещение Лукой первоначального христианства имеет и другие особенности, к которым мы еще вернемся (см. ниже, § 72.2). Но сказанное здесь в достаточной степени свидетельствует о том, что особенности раннего христианства, обусловленные "восторженностью", более всего впечатляли Луку. Его "восторженность" сосредоточивается, однако, на христианстве в целом. В отличие от "восторженных" оппонентов Павла он не полагает, что в христианстве есть более высокие и более низкие формы духовности — тем самым создавалась бы основа для разделения и разрушалось бы единство Церкви, а это Луке совершенно не по душе (см. ниже, § 72.2). Он изображает "восторженное" христианство как таковое, черпая подробности и краски из самой действительности. Одним словом, видя в Луке евангелиста, историка и богослова, мы, исходя из вышесказанного, должны назвать его также "восторженным" христианином (см. ниже, § 72.2. г).
§ 45. Религиозный опыт Иисуса
Направление "восторженного" христианства мы видим уже в самом начале, в церквах первого поколения. Далее, во втором поколении, оно, воз–можно впервые, в классической форме зафиксировано в Деяниях Апостолов. Возникает вопрос: не принадлежал ли к этому направлению сам Иисус? Не вытекает ли оно из Его служения?
Конечно, постигнуть религиозный опыт Иисуса необычайно трудно. Многие даже скажут, что это невозможно, учитывая природу наших источников и отсутствие в них интереса к опыту Иисуса как таковому. Попытки библеистов XIX в. описать жизнь Иисуса, раскрыв его "мессианское самосознание", — живое предупреждение об опасностях на этом пути. Конечно, мы и вправду больше не можем надеяться написать современную биографию Иисуса или проследить развитие Его самосознания. Но у нас есть, по крайней мере, несколько исторических воспоминаний о Его служении и несколько текстов, где приведены Его собственные слова. То, как человек себя понимает, непременно в той или иной степени отражается в его словах и делах. Поэтому есть надежда понять представления Иисуса о Его религиозном опыте исходя из одной или двух сторон Его служения.
Сначала рассмотрим свидетельство, наиболее близкое к образу "восторженного" христианства, который мы уже нарисовали, а затем более тщательно разберем материал, отражающий представления Иисуса о сыновстве и действующем через Него Духе Божьем.
45.1. Была ли присуща Иисусу "восторженность"? Целый ряд моментов сближает служение Иисуса с вышеописанным "восторженным" христианством.
а) Вполне возможно, у Иисуса были
одно или
два экстатических переживания[356]. Предположительный пример — Лк 10:18, видение сатаны как молния с неба упавшего. Рассказы о помазании Иисуса Духом на Иордане могут восходить в той или иной форме к самому Иисусу (Мк 1:10, пар.). Причем опыт мог включать в себя как видение (Дух, нисходящий как голубь), так и слышание (голос с неба). Повествование об искушениях, вероятно, восходит к какому‑то видению, пережитому Иисусом в пустыне (Мф 4:1–11/Лк 4:1–12). Помимо этого убедительных примеров нет. Было ли "преображение" изначально видением? Если было, то скорее его пережили избранные ученики, чем Иисус (Мк 9:2–8, пар.). Другой предположительный пример — явление ангела в Гефсимании (Лк 22:43–44). Но здесь неясен текст. В общем количество "восторженности" минимальное — практически несравнимое с многочисленными видениями и экстазами в Книге Деяний.
б) Иисус, несомненно, был
чудотворцем, по крайней мере в том смысле, что Он совершил множество необычных исцелений и изгнаний бесов. Эту особенность Его служения подтверждают иудейские источники
[357]. Как бы мы ни понимали и ни объясняли происходившее (гипнотическим влиянием его личности, истерическим состоянием больных или исцеляющим действием Божественной силы), достаточно ясно, что Его служение отличалось харизматическими или "восторженными" особенностями. То есть в Его словах и делах проявлялась сила, полученная не от тогдашних властей и не в результате изучения какой‑либо науки. Он сам и окружающие люди эту силу признавали и приписывали Духу, действующему через Него (см. ниже, § 45.1. в и § 45.3).
Тем не менее два обстоятельства отличают отношение Иисуса к чудесам от отношения к ним Луки. Во–первых, Иисус, по–видимому, совершенно отвергал мысль о том, что чудеса имеют ценность для проповеди или как знамения (Мк 8:11–12, пар., ср. Мф 4:5–7, пар., Лк 16:31), хотя Свое умение изгонять бесов, несомненно, считал неизбежным проявлением царственной власти Божьей (Мф 12:28/Лк 11:20). Во–вторых, одной из наиболее характерных особенностей исцелений, совершенных Иисусом, было подчеркивавшееся Им значение веры как условия исцеления (см. особенно Мк 5:34, 36,10:52, Мф 8:10/Лк 7:9, Мф 9:28:29,15:28, Лк 7:50,17:19). С такой верой все было возможно (Мк 9:23–24,11:23, пар.). Без веры Он почти ничего не мог сделать (Мк 6:6). Это ощущение в Себе способности исцелять выявляет в Иисусе харизматического целителя. Но Он сознавал, что эта сила зависит от веры реципиента и для провозвестия значения не имеет. Поэтому мы не можем назвать Его ни "восторженным" верующим, ни колдуном.
в) Иисус почти наверняка считал Себя
пророком (см. особенно Мк 6:4, пар., Лк 13:33, и ниже, § 45.3). Ему приписываются различные случаи пророческой проницательности (см. особенно Мк 2:8, 9:33–37,10:21,12:43–44,14:18, 20, Лк 7:39–41,19:5) и пророческого предвидения (см. особенно Мк 10:39,13:2,14:8, 25,30). Более того, Его учение обладало особым авторитетом, который широко признавался и комментировался (см. особенно Мк 1:27,6:2,11:28, Мф 8:9–10,17:8–9). Наиболее выражен этот авторитет словами: "… а Я говорю" (Мф 5) и использованием восклицания "аминь" для придания авторитета Своим словам (34 раза у синоптиков)
[358]. Поразительнее всего в этом имплицитном притязании на власть то, что Он таким образом ставил Себя выше признанных авторитетов в Израиле и иудаизме прошлого и настоящего, даже выше самого Моисея (см. выше, § 16.2 и 24.5). Источником авторитета был не закон, не отцы, не предание раввинов, но Его уверенность в том, что Он знает волю Божью. Это учение можно назвать "харизматическим". Мы видим, что Иисус утверждал Свое исключительное право на авторитет, который можно было бы назвать "элитарным", поскольку Он являлся исключительным его носителем. Но изумление вызывало именно само учение, а не вдохновенное его изложение. Нет свидетельств, что Иисус ценил экстатическое говорение или испытал глоссолалию. Поэтому даже здесь Иисуса правильнее назвать
харизматиком, чем восторженным верующим.
Одним словом, соприкасаясь с религиозным опытом самого Иисуса, мы находим в Нем
вполне харизматические черты: Его служение характеризуется властью и авторитетом, которыми Он обязан не обучению в какой‑либо школе и не какому‑либо человеку, но которые проявились в Нем и через Него прямым и непосредственным образом. Однако поскольку власть и авторитет зависели не от экстаза, не от экстатического говорения, но скорее от отклика тех, кому Он служил, — их нельзя считать проявлением "восторженности". Дискуссия о "харизме" и (или) "восторженности" в служении Иисуса позволяет сделать только такие выводы. Она не позволяет постигнуть суть Его религиозного опыта. Для этого необходим более глубокий подход.
45.2.
Иисус ощущал Бога Своим Отцом. Мы можем быть уверены, что Иисус молился часто: не только в установленное время в синагоге или следуя иудейскому благочестию, но и Своими словами, изливая душу Богу (ср. выше, § 34.1. в). Свидетельств здесь не так много, как естественно было бы ожидать, но все же достаточно (Мк 1:35, 6:46,14:36, Мф 11:25–26/ Лк 10:21, Лк 3:21, 5:16, 6:12, 9:18,28–29,11:1). Можно даже надеяться найти ответ на вопрос, почему Он считал необходимым дополнять молитвы иудейского богослужения такими периодами пребывания наедине с Богом. Ответ, видимо, следующий: во время такой молитвы Он ощущал Бога Своим Отцом в очень личном, интимном смысле.
Подтверждением этого может служить одно–единственное слово —
"Авва". Опять свидетельств здесь меньше, чем хотелось бы, но все‑таки много: Мк 14:36 — "Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу эту мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты". В других молитвах Иисуса, о которых сообщают Евангелия, за греческим πάτερ, видимо, стоит именно арамейское "авва" (Мф 6:9/Лк 11:2, Мф 11:25–26/Лк 10:21, Лк 23:34,46, Мф 26:42, 9 раз в Ин). То, что перед нами действительно способ молитвы Иисуса, подтверждается тем, что она появляется во всех пяти слоях евангельской традиции (Мк, Q, Лк, Мф, Ин), причем во всех молитвах, приписываемых Иисусу, используется "Авва" — за исключением одной (Мк 15:34), но это исключение, как мы сейчас увидим, лишь подтверждает правило.
Тот факт, что Иисус называл Бога "Авва", позволяет нам с достаточной уверенностью сказать, что Он ощущал Бога Отцом в очень личном и интимном смысле. Почему? Как достаточно четко продемонстрировал И. Иеремиас (J. Jeremias)
[359], слово "авва" свойственно семейному, интимному языку. Так дети, включая совсем маленьких, обращались к отцам. То есть это выражение учтивости и уважения, но также теплой близости и доверия. Более того, насколько позволяют судить источники, современники Иисуса это слово в молитвах почти не употребляли (если вообще употребляли) — возможно, считая его слишком интимным, недостаточно благоговейным для обращения к Прославленному и Святому. Иудейские молитвы, конечно, говорили о Боге как об Отце, но гораздо более официально (как об Отце всего народа), без прямоты и простоты Иисусовых молитв. Уединенная молитва человека отражает его понимание своих взаимоотношений с Богом и духовный опыт. То, как Иисус ощущал Бога в минуты уединенной молитвы, лучше всего выражается словом "Авва". Отсюда справедливо заключить:
Иисус ощущал Бога Своим Отцом с такой непосредственностью и интимностью, которые могло выразить лишь восклицание "Авва". И это подтверждает единственная молитва Иисуса, не начинающаяся с этого слова, — Мк 15:34 — вопль оставленного на кресте; чувствуя ужас оставленности Богом, Он не мог кричать "Авва".
Вопросы еще остаются, но заключение кажется достаточно верным. Поэтому мы с неизбежностью должны заметить, что
слово "Авва" приближает нас к источнику авторитета и власти Иисуса — ощущению Своего сыновства по отношению к Богу. Это ощущение Иисуса во многом определяло Его жизнь и миссию.
45.3.
Ощущение Иисусом Духа. Один из основных моментов в преданиях об Иисусе — Он был замечательный экзорцист (ср. выше, § 45.1.6). Отметим здесь, что предания сохранили два–три высказывания самого Иисуса о Его экзорцистском служении, где Он говорит о причине Своего успеха. Эти высказывания содержатся в двух отдельных, но частично совпадающих блоках в Мк и
Q — Мк 3:22–29 (группа из трех высказываний) и Мф 12:24–28, 30/Лк 11:15–23 (четыре высказывания). Версия
Q пятого высказывания (вариация Мк 3:28–29), по всей видимости, относилась в g к иному контексту (Лк 12:10/Мф 12:32). Во всяком случае, этот материал, несомненно, восходит к полемике по поводу изгнания Иисусом бесов, и почти никто не станет отрицать, что он передает хотя бы суть аутентичных преданий об Иисусе
[360].
Ключевые высказывания ясно показывают, что Иисус видел причину Своего успеха в действии Духа, или силы Божьей: Мф 12:28/Лк 11:20 — "Если же Я Духом (Матфей) / перстом (Лука) Божьим изгоняю бесов, значит, достигло до вас Царство Божие". Тот же смысл содержится в Мк 3:27–29 и параллелях из
Q. В упомянутом высказывании акцент (по крайней мере, в греческом тексте) ставится на двух сочетаниях — "Дух Божий" и "Царство Божие". Именно
благодаря Духу или силе Божьей Иисус достиг успеха, хотя тогда часто думали, что Дух от Израиля отнят (ср. Пс 73:9, Зах 13:2–6; 1 Макк 9:27), а раввинские экзорцисты не упоминали Дух Божий в связи с изгнанием бесов. Успех Иисуса, обусловленный этой божественной силой, означал, что
Царство Божье уже здесь, то есть
эсхатологическое царство — то проявление божественного правления, которое знаменует последние времена. Как же Он мог предъявлять такие смелые и дерзновенные притязания? Причина не в успешном изгнании бесов, ведь и среди Его современников были такие, кто, по крайней мере отчасти, имел аналогичные способности (Мф 12:27/Лк 11:19). Тогда в чем же? Ответ, видимо, содержится в
Его собственных переживаниях, когда Он исцелял одержимых. В это время Он ощущал, что через Него действует духовная сила — та самая, которую, как считалось, Бог уже много поколений назад отнял от Израиля и которая может быть приписана лишь Божьему правлению в последние времена. Именно этой властью Он изгонял бесов, она была видимым проявлением эсхатологического владычества Бога. Одним словом, эти высказывания свидетельствуют о
ясном ощущении Иисусом эсхатологичности Своей власти, а также о том, что
Он говорил о Своем учении на основании личного опыта. Его высказывания предполагают осознание Им собственной роли.
Другую группу важных высказываний в преданиях об Иисусе составляют те, что вторят Ис 61:1–2 — Лк 4:18–19, Лк 6:20–21/Мф 5:3–6 и Мф 11:5/ Лк 7:22. Из них достаточно ясно (и это почти не оспаривается), что понимание Иисусом Своей миссии как "благовествования нищим" во многом взято из пророчества Исайи. Значимость Ис 61:1 состоит в том, что именно помазание Духом дает власть и источник благовестия. Тогда из этого (в особенности из Мф 11:5/Лк 7:22) следует, что Иисус понимал все Свое служение — и исцеления (не только изгнание бесов) и проповеди — как проявление Духа Божьего. Ощущаемая Им сила, чье проявление Он видел в экзорцизме и исцелении, ощущаемый им авторитет, чье воздействие Он видел в слушателях, — все это проистекало из
сознания или убеждения, что Он помазан эсхатологическим Духом Божьим, который сообщал Ему Божью волю и действовал через Него.
Впечатление такое, что мы добрались до второго основного корня авторитета и власти Иисуса. Таким образом, подчеркнув ощущение Иисусом Бога как своего Отца и Духа Божьего в Себе, мы, по крайней мере отчасти, продвинулись к пониманию опыта Иисуса и Его миссии. Нам незачем идти дальше, даже если бы это было возможно.
Из вышесказанного следует сделать два кратких вывода. Во–первых, даже небольшой приведенный здесь обзор показывает
значимость религиозного опыта Иисуса: ощущение Им Бога как Своего Отца и ощущение помазания Духом были
непосредственным источником тех черт Его служения, которые оказали сильнейшее влияние на Его современников. Во–вторых, ощущение Иисусом Своего сыновства и ощущение Им Духа дают нам основание говорить о
более глубоком уровне религиозного опыта, чем тот, который присущ "восторженности". Если "восторженность" обычно воспринимает Бога через видимое и осязаемое проявление (экстаз, видения, чудеса и вдохновенное говорение), то духовный опыт Иисуса был более проникновенным, отличался более непосредственным и личностным контактом, более прямым и глубоким индивидуальным раскрытием.
§ 46. Религиозный опыт Павла
Итак, проявление "восторженности" в раннем христианстве было очень сильным. Однако, несмотря на то что миссия и весть Иисуса непосредственно проистекают из Его духовного опыта и что Его можно назвать харизматиком, к "восторженным" верующим Его причислить нельзя. Но как быть с Павлом, самой значительной фигурой первого поколения христиан — насколько позволяют судить письменные источники? Какую роль отводил Павел религиозному опыту, размышляя о христианстве? Захватывала ли его "восторженность"? Или он был против укорененности христианской веры и поведения в религиозном опыте? Или находился где‑то посередине, подобно Иисусу? Ответ частично ясен из вышесказанного (§§ 44.1–44.2), рассмотрим его более полно.
46.1. Почти несомненно, что
понимание Павлом христианства и его поведение непосредственно определялись его религиозным опытом. Это можно подтвердить без особого труда. Видение воскресшего и прославленного Иисуса на дороге в Дамаск резко изменило его жизнь и направило ее в новое русло (1 Кор 9:1,15:8, Гал 1:13–16). Для Павла это была не просто вспышка интуиции или интеллектуальной убежденности, но личная встреча, начало близости, которая стала главной страстью его жизни (Флп 3:7–10, ср. выше, § 5.1). Другими словами, личное
прикосновение к благодати сделало "благодать" центральной и отличительной чертой его благовестия — благодать не просто как понимание Бога, милостивого и прощающего, но как переживание незаслуженного и свободного принятия, которое поглощает человека, перерождает его, обогащает и направляет по новому пути (напр., Рим 5:2,17,12:6,1 Кор 1:4–5,15:10, 2 Кор 9:14,12:9, Гал 2:9, Еф 1:7–8, 3:7–8). Опять‑таки образ христианства для Павла складывался исходя из его собственного опыта, в результате которого он стал способным на служение подлинное, непосредственное, из сердца (Рим 2:28–29, Гал 4:6, Флп 3:3), даже среди страданий он мог любить и радоваться (Рим 5:3–5,1 Фес 1:5–6), он ощутил свободу от ограничений, казуистики и страха (Рим 8:2,15,2 Кор 3:17), он был руководим во всех жизненных обстоятельствах (Рим 7:6,2 Кор 3:3, Гал 5:25). Все это он мог приписать лишь Духу Божьему и таким образом распознать, что Новый Завет уже вступил в силу (закон, написанный в сердцах, — 2 Кор 3:3), что "жатва" последних времен уже началась (Рим 8:23). Это ощущение Духа для него было
квинтэссенцией христианства (Рим 8:9,14). Именно о первом таком опыте или начале подобного опыта (не крещении как таковом) и говорит Павел своим читателям, когда призывает их начать новую жизнь во Христе (напр., Рим 5:5,1 Кор 12:13, 2 Кор 1:21–22, Гал 3:2–5, Еф 1:13–14). Одним словом, совершенно ясно, что в основу миссии и вести Павла лег его собственный религиозный опыт, точно так же, как в основу миссии и вести Иисуса лег Его религиозный опыт. Но была ли в Павле "восторженность"?
46.2.
Павел: "восторженный" верующий или харизматик? Павла, несомненно, можно назвать харизматиком. Фактически словом "харизма" мы обязаны почти только ему. До Павла оно по сути не встречается. В других местах Нового Завета мы находим его только в 1 Петр 4:10 (хотя и это послание попадает в "сферу влияния Павла" — см. выше, § 30.2). В позднейших писаниях характерный для Павла смысл слова был почти полностью утрачен
[361]. Иными словами, именно Павел взял это маловажное слово и придал ему ясно выраженное специфически христианское значение:
харизма — выражение, воплощение χάρις (благодати). Согласно Павлу, харизма — это
прикосновение благодати, проявляющейся в конкретном верующем каким‑то действием или словом, обычно ради других людей (также см. выше, § 29). Заметим, что в эти прикосновения благодати Павел включает и характерные для раннего христианства (по крайней мере для рассказа о нем Луки) переживания. Совершенно ясно, что у него самого они бывали неоднократно в ходе его миссионерской деятельности.
а)
Видения и откровения. В 2 Кор 12:1–4 Павел очевидным образом говорит о собственном опыте, хотя тот и имел место на четырнадцать лет ранее. Это, конечно,
был экстатический опыт с выходом из телесной оболочки и мистическими чертами, которые таким переживаниям свойственны. Из 2 Кор 5:13 и 12:7 можно заключить, что подобное происходило не только с Павлом
[362]. Не очень далеки от этих переживаний экстатических откровений были претензии партии в Коринфе на высшую мудрость и высшее знание (см. выше, § 44.2). Здесь необходимо отметить, что Павел говорит о наличии у него мудрости более глубокой, чем у его оппонентов (1 Кор 2:6–13), и об обладании их знанием (1 Кор 8:1,4, 2 Кор 11:6).
б)
Чудеса. Павел, несомненно, считал, что в ходе своей миссии сотворил чудеса (Рим 15:19, 2 Кор 12:12), причем для него само собой разумелось, что у обращенных им людей при обращении или впоследствии проявлялись чудотворные силы (Гал 3:5) или специфические харизмы внутри общины (1 Кор 12:9–10, 28–30).
в)
Вдохновенное говорение также нередко бывало у Павла. Ярко описывая воздействие своей евангельской проповеди на слушателей в Фессалониках и в Коринфе, он успех ее объяснял непосредственным вдохновением и силой Духа (1 Фес 1:5,1 Кор 2:4–5, ср. Еф 6:17). Он понимал пророчество как вдохновенное говорение и, во всяком случае отчасти, ценил его как разновидность сверхъестественного угадывания (1 Кор 14:24–25). Тем, кто сдержанно относился к пророчествам, он говорил: "Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте" (1 Фес 5:19–20). Он ценил глоссалалию как самонаставление, хотя она и оставляла ум без плода (1 Кор 14:4,14,18–19).
Таким образом,
в религиозном опыте Павла были некоторые "восторженные" черты. Но это никоим образом не все.
46.3. Павел прекрасно осознавал
опасность "восторженности". Подобно тому как Павел больше, чем какой‑либо другой новозаветный автор, подчеркивал значение религиозного опыта, он и более настороженно относится к тому христианству, которое во главу угла ставит религиозный опыт. Это лучше всего заметно по его отношению к "восторженным" верующим, о чьем присутствии в церквах мы уже кратко упоминали (§ 44.2). Хотя он разделял некоторые их взгляды (например, о христианской свободе и важности пророчеств), его основной заботой почти в каждом случае было, видимо, предупредить против неумеренной "восторженности", заключив ее поток в твердое русло.
В частности,
он подчеркивает необходимость критически подходить к религиозному опыту, с различением духов, причем предлагает некоторые критерии для проверки подлинности и ценности харизм.
а) Одним из критериев были
керигматигеские традиции и предания об Иисусе, которые Павел передавал обращенным, когда те вступали в церковь: эти предания в основанных Павлом церквах были чем‑то вроде конституции (см. выше, § 17.1–3). Именно к этим преданиям он снова и снова обращается в Первом послании к Коринфянам, чтобы разрешить спорные вопросы, касающиеся "восторженных" верующих в Коринфе (см. особенно 1 Кор 9:14,11:23,12:3,15:3). Во Втором послании к Фессалоникийцам он противостоит крайностям апокалиптической восторженности (см. ниже, § 68.1), апеллируя к основополагающим преданиям (2 Фес 2:15–3:6). В Послании к Галатам лейтмотив евангельской свободы защищает от возможной "восторженной" распущенности (Гал 5:13–25) и от большей опасности иудаизирующего законничества (2:3–5; 5:1–12). А Флп 3:16–17, 4:9 — по–видимому, еще одно высказывание об основополагающей значимости керигматических традиций и традиций об Иисусе в противовес восторженному перфекционизму, о котором упоминается в 3:12–19 (см. ниже, § 61.2. а). Это не столь прямой критерий, как может показаться на первый взгляд, поскольку для Павла предание не было чем‑то незыблемым и фиксированным, оно воспринималось им как живое, подлинное слово, которое требовалось заново истолковывать в меняющихся условиях. Павел никогда не позволяет традиции превратиться просто в закон (см. выше, § 19.3). Тем не менее все‑таки можно сказать, что для Павла
лишь тот религиозный опыт, который не расходился с основополагающими преданиями, имел источником Дух. Дух Христов должен соответствовать "закону Христа" (1 Кор 9:21, Гал 6:2).
б) Другим критерием является
любовь. Отрывок 1 Кор 13:1–13 очевидным образом направлен против такой "восторженности", при которой стремление к более эффектным харизмам (особенно пророчеству, глоссолалии и знанию) становилось причиной зависти, высокомерия, раздражительности и других подобных грехов. И тогда утрачивалось самое главное — любовь (13:4–7). Сколь угодно выдающиеся дары Павел считает бесполезными, если они оказываются поводом к пренебрежению ближним. По этой причине он не приемлет элитарность (1 Кор 2–3, 8): называющие себя "духовными" (см. выше, § 44.2. а), но занятые ревностью и ссорами, не заботящиеся о других показывают тем самым свою бездуховность (3:1–4, 8:1). Согласно Павлу, "духовными" являются все те, кто получил Духа и поступает по Духу, избегая тщеславия, злословия и зависти (Гал 5:25, 6:3).
Критерий духовности — не степень вдохновения, а любовь.
в) Третий критерий —
польза для общины. В греческом тексте ее выражает слово οικοδομή. В 1 Кор 14 Павел употребляет соответствующий глагол и существительное семь раз (ст. 3–5,12,17, 26). Этот критерий ясно показывает превосходство пророчества над глоссолалией для Павла. Обращает внимание, что при перечислении различных даров в 1 Кор 12:8–10 он называет даром не опыт откровения как таковой, а
"слово мудрости" и
"слово знания" (так в 14:6). Для Павла харизматический опыт характеризуется не столько экстазом и глубиной откровения (ср. 2 Кор 12:2–4), сколько понятным словом, которое изрекается через одного верующего для увещевания и назидания другого (1 Кор 14:3–5,16–19, 24–25). Если мнимые "духовные" из Коринфа применят этот критерий к самому Павлу, то увидят, что его указания вдохновлены Господом (14:37).
"На пользу другим" — это то, что объединяет харизмы и в соответствии с чем о них нужно судить (12:7). Вот почему служение людям, сколь недуховным оно порой ни кажется, скорее может называться харизмой, чем самое вдохновенное говорение (Рим 12:6–8). С этой точки зрения Стефана́са следует считать примером для подражания (1 Кор 16:15–16). Что не приносит пользы другим, не способствует благу церкви.
Не следует недооценивать знагение, которое Павел придает духовной интуиции. Подробно говоря о дарах, он упоминает и о необходимости различать, что есть добро и польза (см. особенно Рим 12:2,1 Кор 2:14–15, 12:10,14:29). Павел, который так радовался частым прикосновениям Духа (выше, § 46.1) и для которого тело Христово было по существу харизматической общиной (выше, §§ 29,34.3), также серьезно настаивал на необходимости соблюдать крайнюю осторожность, ибо "восторженность" чревата опасностями. Среди его ранних увещеваний по этому поводу есть самое уравновешенное, какое только можно пожелать: "Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Но всё испытывайте; доброго держитесь. От всякого рода зла воздерживайтесь" (1 Фес 5:19–22)
[363].
46.4.
Мистика Христа. Наиболее глубокий критерий испытания "восторженности", из тех, что предлагает Павел, связан со Христом — характером Его служения, как оно описано в Евангелии. Дух для Павла — по сути Дух Христов (Рим 8:9, Гал 4:6, Флп 1:19). Прикосновение Духа, которое, по Павлу, составляет квинтэссенцию христианства, — это прикосновение Духа Сына, взывающего: "Авва, Отче!" (Рим 8:15–16, Гал 4:6) — так воспроизводятся самый интимный опыт и связь, отличавшие земную жизнь Иисуса (выше, § 45.2); так верующие имеют участие в ней ("сонаследники Христовы" — Рим 8:17, Гал 4:7, см. также § 50.4). Прикосновение Духа — это переживание того, как дающая жизнь сила сообщает человеку Христовы черты (1 Кор 15:45–49, 2 Кор 3:18, 4:16–5:5). Благодать, в которой верующие находят радость и которая проявляет себя через них в дарах (харизмах), по сути именно та, что наиболее полно проявилась во Христе — "благодать Господа нашего Иисуса Христа" (Рим 5:15,2 Кор 8:9,13:14, Гал 2:21, Еф 1:6–7). Откровение, столь преобразившее жизнь Павла, как до того всю историю спасения, есть Откровение Христово (Рим 16:25–26,2 Кор 4:4–6, Гал 1:12,16, Еф 3:2–12, Кол 1:26–27). И так далее. Именно такой критерий должен быть в конечном счете применен ко всем, кто утверждает, что имеет Духа, благодать, откровение. Религиозный опыт для Павла — это главным образом единство со Христом ("во Христе" — см. выше, § 5.1).
Единение со Христом — это переживание того, как жизнь формируется Христом, обретение сходства с Его жизнью, с Его служением. Для Павла оно
состоит не в вершинах духовного возбуждения и экстаза, видениях и откровениях, необычных проявлениях высокого вдохновения, а скорее в жертвенной любви и в кресте — единение со Христом ничто, если это не единение в Его смерти (Рим 6:3–6, Гал 2:19–20, 6:14, Флп 3:10, Кол 2:11–12). Нигде Павел так не подчеркивает, что Христос был
распят, как в письмах к Коринфянам (1 Кор 1:23,2:2,2 Кор 13:4). Премудрость Божья не опирается ни на интеллектуальную софистику, ни на духовную "восторженность", она есть Христос распятый, распятие и благовестие о кресте (1 Кор 1:17–25, 30; 2:6–8).
Для Павла отличительной чертой религиозного опыта ученика Христа является участие в Его страданиях и жизни (Рим 8:17, 2 Кор 1:5, 4:10, Флп 3:10–11, Кол 1:24). Во Втором послании к Коринфянам вопреки "восторженным" верующим он утверждает, что прикосновение Духа есть не только прикосновение силы, превозмогающей немощь, но и
сила в немощи (2 Кор 4:7,12:9–10,13:3–4). Иначе говоря, религиозный опыт для Павла характеризуется
эсхатологигеским напряжением: между новой жизнью "во Христе" и прежней жизнью "во плоти" (2 Кор 10:3–4, Гал 2:20, Еф 4:20–24, Флп 1:21–24, Кол 3:9–10), между духом и плотью (Рим 7:14–23, Гал 5:16–17); ему свойственны тяготы жизни по Духу в "теле смерти" (Рим 7:24–25,8:10–11, 22–23, 2 Кор 4:16–5:5)
[364]. Даже самый глубокий духовный, вдохновенный и восхитительный религиозный опыт не освобождает верующих от ограничений их нынешнего существования. Напротив, именно такой опыт наиболее ясно выявляет парадокс силы — в немощи жизни — через смерть, славы — как служения, что и отличает христианство.
Короче говоря,
Павел — это харизматик, считающий прикосновение благодати (χάρις) основополагающим для христианской жизни, а наличие
харизмы — основополагающим для христианской общины, но
он выступает против "восторженности" на том основании, что всякая харизма должна быть испытана, причем следует приветствовать лишь ту харизму, которая несет благодать Христову.
§ 47. Расходящиеся пути
47.1. Второе поколение христиан знаменует расхождение путей — что касается важности религиозного опыта и отношения к "восторженности". Большинство верующих, по–видимому, придерживалось уравновешенной позиции, наподобие воззрений Павла — хотя их сообщения обычно либо чересчур краткие, либо чересчур (для нас) иносказательные, чтобы можно было составить полную картину. Как мы уже отмечали (выше, § 18.1), Марк, следуя Павлу, достигает равновесия, соединяя предание о сотворенных Иисусом чудесах с христологией страданий Сына Человеческого. Петр в своем Первом послании, подобно Павлу, видимо, имеет в виду, что "Дух славы (и силы) "наиболее очевидно проявляется не в могущественных делах и экстатической речи, но в страданиях за имя Христово, "участии в страданиях Христовых" (1 Петр 4:13–14). Иуда также в Иуд 19–20 поддерживает линию Павла, предупреждая против элитарной духовности и призывая к молитве "в Духе Святом" (ср. 1 Кор 14:15–17, Еф 6:18). В свою очередь Послание к Евреям снова рассматривает чудеса и дары Духа в период ранней проповеди, как свидетельство благословения Божьего (Евр 2:3–4), но тотчас напоминает тем, кто слишком смело утверждает, что испытал прикосновение Духа, что они еще не вошли в "Землю обетованную", а вследствие своей самонадеянности могут и не войти (3:7–4:13, 6:4–8,10:26–31, ср., например, Рим 8:13,1 Кор 10:1–12). Наконец, в Откровении, где больше всего говорится о проявлениях Духа через видения и экстазы (Откр 1:10, 4:2,17:3, 21:10), мы находим то же утверждение, что Дух есть Дух Иисусов (3:1,5:6), поэтому Его вдохновенные слова есть слова Иисуса (2–3), свидетельство же должно согласоваться со "свидетельством Иисуса" (19:10, 2:20).
Матфей также стремится к равновесию, но понимает и представляет его несколько иначе. Исходя из конфронтации с фарисейским иудаизмом (см. ниже, § 55.2), он, несомненно, поощряет упование веры на чудеса (особенно Мф 17:20), но также настаивает, что желаемое выражение праведности состоит скорее в законе, истолковываемом через любовь (напротив, Гал 5:18, но ср. 5:22–23), чем в харизматическом служении (ср. особенно Мф 22:34–40 и 7:15–23, также ср. 1 Кор 13). Напротив, Лука в своем повествовании о начале христианства, когда восхищается "восторженностью", куда менее сдержан и осторожен в сравнении с кем‑либо из упомянутых авторов (см. выше, § 44.3).
Совсем в другом направлении идут Пастырские послания, в то время как писания Иоанна представляют собой еще одну попытку проложить средний путь. Если мы их рассмотрим хотя бы бегло, то у нас возникнет достаточно ясная картина единства и многообразия относительно проблемы религиозного опыта в Новом Завете.
47.2. В
Пастырских посланиях поражает, что они хотя носят имя Павла, тем не менее являются лишь слабым эхом властной и яркой его мысли, о которой мы уже говорили (§ 46). Два таких отзвука мы видели в 2 Тим 2:11 и Тит 3:4,5–7, но это "высказывания верности": они не принадлежат автору, а переданы ему традицией. 2 Тим 1:7 и 8 также отражают представления раннего Павла, но используют при этом нехарактерный для раннего Павла язык. Другие свидетельства еще слабее. Другими словами, здесь
не отражено ничего или почти ничего из того яркого религиозного опыта, который столь сильно проявляется у Павла почти во всех его писаниях. Вместо этого, как мы уже видели, все словно подчинено основной задаче — сохранению традиций прошлого (§ 17.4); тогда как у Павла служение во многом вырастало из жизненности религиозного опыта и непосредственного взаимодействия харизм, в Пастырских посланиях служение уже во многом стало институционализированным, а харизмы второстепенными по отношению к должности (см. выше, § 30.1 и ниже, § 72.1).
Причины этого не вполне ясны. Возможно, после смерти Павла в некоторых основанных им церквах стало преобладать "восторженное" направление, и другие последователи апостола пришли к выводу, что его позиция не была устойчивой и не могла обеспечить долговременную защиту от опасности "восторженности". Возможно, Пастырские послания, подобно Первому посланию Климента, были написаны с целью отразить угрозу порядку и установившейся традиции со стороны группы молодых "восторженных" верующих, которые, подобно Луке, мечтали о сверхъестественных силах, столь очевидно проявлявшихся в раннем христианстве. Мы не можем утверждать ничего определенного. Во всяком случае, независимо от точных обстоятельств написания Пастырских посланий кажется достаточно ясным — они классический пример трансформации, которую претерпевают во втором поколении многие движения религиозного возрождения. Если в первом поколении жизненность свежего опыта разрушает прежние формы и формулы, чтобы выразить себя по–новому, во втором поколении эти новые пути (или некоторые из них) начинают сами считаться образцом и нормой, становясь, другими словами, новой догмой, ограничивающей религиозный опыт и предписывающей определенное его выражение
[365].
Короче говоря,
автора Пастырских посланий вполне можно считать первым служителем церкви, который полностью отверг "восторженность" и не допускал ее в церкви. Но, делая это, он серьезно рисковал обесценить религиозный опыт собственного поколения или, по крайней мере, лишить его творческой роли в церковной жизни. А это означало — опасность утратить Дух или же ограничить Его проявление прошлым.
47.3. Напротив,
писания Иоанна (Евангелие и письма) показывают, что в других местах в конце I в. было весьма положительное отношение к религиозному опыту. Жизненность религиозного опыта Иоанновой общины ясно отражается в словах типа "жизнь", "любящий", "знающий", "верующий", "видящий". Все они постоянно встречаются и в Евангелии, и в письмах: Ин 3:5–8, 4:10–14, 6:63, 7:37–39,14:17,1 Ин 2:20, 27, 3:24, 4:13 и 5:6–10. Две черты роднят богословский подход Иоанна с подходом Павла, но есть и два различия.
Подобно Павлу, Иоаннов круг ограничивает параметры религиозного опыта (а) определением Духа через Христа и (б) соотнесением опыта откровения с преданием об Иисусе.
а) В "прощальных беседах" Ин 14–16 Дух определяется как
"другой Утешитель" или Наставник (14:16), причем под
первым Наставником явно подразумевается Иисус (ср. 1 Ин 2:1). Смысл Ин 14:15–26, очевидно, в том, что сошествие Духа исполняет обещание Иисуса прийти вновь и обитать в Своих учениках (ср. 7:38–39,15:26,19:30,20:22). Другими словами, Иоаннова община не ощущала исторической отдаленности от Иисуса, а также оторванности от опыта ранних поколений, переживаемого в этом случае только через таинства и богослужение. Напротив,
каждое поколение так же близко к Иисусу, как и первое, а религиозный опыт сохраняет свою жизненность и непосредственность, поскольку Дух — это присутствие Иисуса.
б) Мы уже видели (выше, § 19.3), что в Иоанновых писаниях достигается
равновесие между нынешним вдохновением Духом и традицией прошлого (керигматические традиции и традиции об Иисусе), так же как у Павла новая истина откровения соотносится с изначальной истиной Иисуса; "помазание (которое) учит вас всему" соотносится с тем, "что вы слышали от начала" (Ин 14:26, 16:14–15,1 Ин 2:24, 27). Очевидно, здесь выражено беспокойство по поводу того, чтобы традиция не стала окаменевшей, не подавила творческую переинтерпретацию живого религиозного опыта — опасность, уже заметная в Пастырских посланиях. В то же самое время проявлена равная забота о том, чтобы новое откровение не вытеснило прежнее, — опасность, таящаяся в "восторженности".
в) С другой стороны,
отлигие подхода Иоанна к религиозному опыту от подхода Павла в том, что Иоанн не считает (или почти не считает) нужным подчеркивать общинное измерение богослужения: его индивидуализм (см. выше, § 31.1) слишком мало места оставляет взаимозависимости людей в харизматической общине и духовному различению в религиозном опыте, что Павел считал для харизматической общины обязательным (§ 46.3, но отметим 1 Ин 4:1–3).
г) Отличает Иоанна от Павла и
почти полное отсутствие в его писаниях эсхатологического напряжения, которое для Павла играет огромную роль (см. выше, §§ 5.1 и 46.4). Писания Иоанна не создают впечатления, что верующему по–прежнему угрожают плоть и смерть, которые даже могут в конце концов восторжествовать. Верующий рожден от Духа и находится под силой Духа (Ин 3:6, ср. 6:63). Он теперь от Бога, а не от мира (Ин 15:18–19,1 Ин 4:5–6). Он перешел из смерти в жизнь (Ин 5:24). Другими словами, напряжение снято, эсхатология "осуществлена", кризис суда для верующего уже позади (3:18–19, см. выше, § 6.3). Следовательно, возникает некоторый перфекционизм (наиболее четко выраженный в 1 Ин 3:6–9, 5:18), который, видимо, ближе к "восторженности" оппонентов Павла (особенно 1 Кор 4:8), чем к осторожности самого Павла (напр., Рим 8:13,1 Кор 9:27, Флп 3:12–14). Но Иоанн не "восторженный" верующий: он не является поборником осязаемой духовности. Он также не склонен к элитарности: его "осуществленная" эсхатология охватывает всех, кто "рожден от Бога". (Слова 1 Ин 2:20 — "вы
все знаете", возможно, направлены против одной из форм раннего гностицизма.) Ему более свойственна духовность пиетизма, ближайшая параллель чему в христианской истории — нецерковное Движение благочестия в XIX веке (см. выше, §§ 31.1; 32.2), подчеркивавшее роль индивидуального духовного опыта и имевшее перфекционистскую тенденцию.
§ 48. Выводы
48.1. Теперь нам достаточно ясно, что
на заре христианства религиозный опыт был фундаментально важным фактором. Многие отличительные черты христианства I века обусловлены религиозным опытом основных его последователей: ощущением Иисусом сыновства и Духа, различными "восторженными" переживаниями первых христиан, встречей 11авла с воскресшим Христом и принятием им благодати и харизматического Духа, переживанием Иоанном дающего жизнь Утешителя. Важно иметь в виду, сколь важную роль играл религиозный опыт первых христиан в их
объединении в общины. Неслучайно, возможно, слово κοινωνία (соучастие, общение) мы встречаем сразу после повествования Луки о Пятидесятнице (Деян 2:42); в Книге Деяний именно прикосновение Духа объединяет разрозненных учеников в новую общину (Деян 2:38–39, 8:14–17,10:44–48,11:15–17,19:1–6). Еще яснее основополагающее значение общего причастия Духа для жизни общины показано Павлом (см. особенно 1 Кор 12:13, 2 Кор 13:14, Флп 2:1, Еф 4:3). Что касается Иоаннова корпуса, то достаточно вспомнить, что одно из требований жизни в братской общине — переживание Духа (1 Ин 3:24, 4:13)
[366].
48.2. Становится также очевидным
многообразие религиозного опыта и подходов к нему в христианстве I в. — от "восторженности" ранних палестинских общин и повествований Луки о начале истории христианства до гораздо более строгого и формализованного подхода Пастырских посланий. Где‑то между ними располагается опыт Иисуса и большинства авторов Нового Завета, в особенности Павла и Иоанна: для всех них ключевую роль играет прикосновение Духа, но они избегают "восторженности". Хотя есть многообразие и здесь: Павел может придавать значение религиозному опыту лишь в контексте христианской общины, тела Христова, в то время как Иоанну более свойствен религиозный опыт индивидуального благочестия; Павел понимает религиозный опыт как напряжение и битву между Духом и плотью, жизнью и смертью, в то время как для Иоанна битва веры уже выиграна, а верующий живет в Духе. Что касается Иисуса, то Его, как и Павла, вполне можно назвать харизматиком в плане религиозного опыта, но Иисусу была чужда характерная для Павла эсхатологическая напряженность: Он возвещал наступление Царства, засвидетельствованное актами экзорцизма в силе Духа; и Он провозглашал приближение Царства грядущего, так как, видимо, если эсхатологический Дух уже присутствует, то сам эсхатон уже недалеко (выше, §§ 3.1, 2). С другой стороны, Иисусу было чуждо и столь важное для Павла общинное измерение — Его опыту присущи единственность и уникальность, которые мы видели в Его понимании изгнания бесов (проявление силы эсхатологического Духа и присутствия Царства Он видел в совершаемых лишь
Им экзорцизмах). Этот опыт мы более подробно рассмотрим в главе X (§ 50).
48.3.
Что же в этом религиозном опыте было специфически христианского? Ответить можно по–разному, но, во всяком случае, очевидно: должно быть
соотношение между настоящим опытом и традицией прошлого, между прославленным Христом, переживаемым в Духе, и земным Иисусом керигматических и церковных традиций. Именно "восторженность" угрожает отделить Христа, переживаемого теперь во славе, от исторического Иисуса; именно здесь мы видим "богословие славы, или триумфализма", не имеющее отношения к исторической реальности Иисуса из Назарета. Павел и Иоанн противостоят этой опасности, не позволяя двум частям распасться: следует приветствовать лишь те харизмы, которые не противоречат основополагающим преданиям; лишь тому Духу надлежит следовать, который является Духом Христовым; "другой Утешитель" — именно Тот, Кто возвещает ту же истину, что и воплощенный Логос (ср. 1 Пет 4:13–14, Откр 19:10). В Пастырских посланиях мы видим тенденцию бороться с этой опасностью, принеся нынешний опыт в жертву традиции прошлого, — на первом месте требование безопасности. С другой стороны, Лука относится к "восторженности" некритически, но в нем нет элитарности. Он пишет две книги — Евангелие и Деяния, так что отсутствие равновесия во второй из них восполняется до какой‑то степени Иисусом в Евангелии. То есть даже в случае с Лукой Евангелие об Иисусе дает определенную возможность проверить отношение "восторженности" в первоначальной церкви. Короче говоря, на важный вопрос: "Считает ли новозаветная керигма исторического Иисуса критерием собственной обоснованности?"
[367] — ответ таков: "Да!" Основные новозаветные богословы
относят особенности жизни и служения Иисуса (доступные им по преданиям об Иисусе) к основным критериям оценки самопонимания, религиозного опыта и своего поведения как верующих во Христа
[368]. Что касается того, можем ли мы определить соотношение между религиозным опытом Иисуса и таким же опытом христиан I в., то этот вопрос мы рассмотрим в следующей главе.
48.4. Во введении (§ 43) вопрос фактически ставился таким образом:
"Может ли христианство сохранить творческую роль религиозного опыта в текущей жизни и богослужении, не допуская "восторженности"?" Обращаясь к последним десятилетиям I в., мы получаем, по крайней мере, три четких ответа. Вердикт Пастырских посланий, как и, почти всегда, ортодоксии на протяжении христианской истории, по сути отрицательный: непосредственное проявление Духа должно быть твердо подчинено авторитету должности и традиции. Зачастую это провоцировало попытки найти выражение живого христианского опыта за пределами основных христианских традиций, что
приводило к "восторженности", ибо отсутствовали сдерживающие моменты, обеспечиваемые именно преданием! Противоположный ответ дает Лука в своем описании раннего христианства: прямолинейная "восторженность", конечно, воодушевляет, но оставляет слишком много вопросов. Между тем на них необходимо ответить, если мы не хотим, чтобы "восторженность" вышла из‑под контроля. Ответ Иоанна также положительный — такова альтернатива для тех, кто придает важное творческое значение своему религиозному опыту, не желая оставлять традиции. Здесь мы видим личный мистицизм или индивидуальный пиетизм; но он представляет слишком узкую основу для всей христианской общины. Возможно, нам следует, оставив второе поколение, обратиться к первому и прислушаться к голосу такой выдающейся фигуры, как Павел. Первому поколению могло казаться трудным придерживаться его равновесия между "уже" и "еще не", между настоящим откровением и прошлой традицией, между личностью и общиной. Но, возможно, именно такой ответ нам и нужен; при подобном равновесии каждое новое поколение должно находить свой ответ. Одним словом, вновь перед нами некий спектр многообразия I в.; вновь главным объединяющим фактором является объединение вокруг прославленного Христа (переживаемого через Дух) и земного Иисуса (через предания о Нем).
X. Христос и христология
§ 49. Введение
Мы рассмотрели восемь важнейших областей христианской веры и жизни в I в. В каждой из них обнаружилось определенное многообразие. Рассматривая вопрос о наличии в этом многообразии некоего средоточия или общности, мы всякий раз находили
объединяющий фактор (хотя и не везде с явной очевидностью). Этим фактором является
Христос — в особенности тождественность
прославленного Христа и Иисуса из Назарета, то есть распятый является и воскресшим. Сутью самых разных раннехристианских керигм было возвещение о воскресении и вознесении Иисуса, земного Иисуса, который одновременно является Христом веры. Различные исповедания объединяло убеждение в том, что Иисус, то есть Иисус из Назарета, и есть Мессия, Сын Божий, Господь. В формировании веры ранних общин определенную роль играло предание, и основным было предание об Иисусе, Его словах, делах и страданиях, а также керигматические традиции, истолковывавшие эти страдания и возвещавшие о воскресении. Иудейские писания играли фундаментальную роль в самопонимании христианской церкви I в., но главным все же было само "событие Христа"; в конечном счете Ветхий Завет лишь постольку являлся "основой новозаветного богословия", поскольку соотносился с "откровением Христовым", в свете которого и истолковывался. Менее ясно, что связывало различные представления о служении. Но даже здесь прослеживается общее убеждение в том, что главой общины является Иисус, служение Которого остается образцом для остальных. Подобным образом раннехристианское исповедание веры в первую очередь характеризовалось убежденностью в том, что благодаря Иисусу, Его жизни, смерти и воскресению, стало реальным новое взаимоотношение с Богом, что только Его продолжающаяся жизнь делает возможным и действительным само церковное богослужение. Более ясным было христологическое единство, выраженное в таинствах, — единство Иисуса умершего, Чью смерть они разделяют, и воскресшего из мертвых Господа, в жизни Которого они также участвуют. Ясным было и христологическое единство, выраженное в раннехристианском понимании Духа и религиозного опыта: именно сущность Иисуса (воплощенную в преданиях об Иисусе) они ощущали отражающейся в собственном опыте (Дух Иисусов), и именно она стала в той или иной степени критерием оценки их собственного опыта.
Христос — средоточие единства в христианстве I в., Христос, Который был и ныне есть. Христос предания об Иисусе и Христос веры, молитвы и опыта — один и тот же. Этот вывод не должен нас сильно удивлять: в конце концов мы исследуем именно христианство. Но дело не только в этом. Этот вывод никоим образом не решает проблему единства и многообразия в раннем христианстве; мы лишь раскрыли
центральную проблему. Между тем у проблемы две грани. С одной стороны, традиционное христианство стремится не просто подтвердить единство и преемственность между земным Иисусом и прославленным Христом. Оно стремится гораздо больше сказать о Христе, провозгласив Его уникальным откровением Божьим, а Его самого — Богом, вторым лицом Троицы, Богочеловеком. Поразительным выражением этого является простое утверждение, принятое в начале Всемирным советом церквей: для участвующих в нем церквей минимальным исповеданием является признание "Господа нашего Иисуса Христа
Богом и Спасителем".
С другой стороны, новозаветные исследования двух последних веков чрезвычайно затруднили провозглашение даже скромного тезиса о единстве Иисуса и Христа, не говоря уже о более серьезных утверждениях о Его божественности. Причем именно единство и преемственность между земным Иисусом и вознесенным Христом оказались чрезвычайно проблематичны. Во–первых, между проповедью Иисуса и верой ранних церквей обнаруживается скорее разрыв, чем преемственность, — "Иисус проповедовал Царство, первые христиане — Иисуса" (см. выше, § 7.2). Те богословы- новозаветники, которые полагали, что могут воссоздать облик исторического Иисуса, по–видимому, склонны были считать, что Иисус не рассматривал Себя как часть проповедуемой Им Благой вести. Во–вторых, среди авторов Нового Завета наблюдается такая разноголосица, когда они говорят о Христе, что никоим образом не ясно, о какой преемственности идет речь. Другими словами, требуется более тщательно рассмотреть наш вывод ("Христос — средоточие единства"), поскольку неясен облик исторического Иисуса, неясны представления первых христиан о Христе веры; неясно, насколько прочно коренится традиционная христология в раннем христианстве. Сейчас мы должны разрешить такие вопросы: как соотнести центральное положение Христа в вере и жизни ранних церквей с тем, что мы знаем о проповеди самого Иисуса и Его взгляде на Самого Себя? Как соотнести между собой различные взгляды на Христа среди первых христиан? Как соотнести различные новозаветные воззрения на Христа с христологией традиционного христианства? Короче говоря,
является ли христология христианства I в. прочным объединяющим центром разнообразных выражений и форм христианства I е.?
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих вопросов, следует повторить предупреждение, сделанное в начале главы III, — пытаясь добраться до истоков христологической мысли I в., мы не должны проецировать на то время позднейшие выводы классических христологических споров; мы не должны
предполагать, будто повсюду скрыта ортодоксия, ожидающая своего раскрытия; иначе непредубежденный подход к новозаветному материалу окажется невозможен. Если человек станет рассматривать период начала христианства, а в ушах у него будут звучать классические формулировки христианской ортодоксии, он едва ли сможет уловить подлинный характер христианской мысли I в. (если она окажется иной). Мы скорее должны поставить себя на место евреев того времени, имевших строгую монотеистическую традицию, и попытаться понять, как они воспринимали Иисуса и первых христиан.
§ 50. Преемственность между историческим Иисусом и керигматическим Христом
Какую роль отводил Себе Сам Иисус? Свидетельствовал ли Иисус о Себе как о Мессии? Одно дело утверждать, что прославленного Христа отождествляли с земным Иисусом, другое — что
Сам земной Иисус уже осознавал Свое значение, которое присуще прославленному Христу. Можем ли мы в самом деле говорить о преемственности между историческим Иисусом и керигматическим Христом и настаивать, что связующие их нити столь же крепки со стороны исторического Иисуса, сколь они крепки с другой?
50.1. Неподдельность и серьезность этой проблемы подчеркивается
неудовлетворительностью многих ответов, которые давались предыдущими поколениями. Традиционная христология воспринимала христианское благовестие следующим образом: Бог сделался человеком, чтобы человек благодаря Богочеловеку или скорее воплотившемуся Богу смог снова участвовать в божественной жизни. Традиционные догматики нашу проблему за таковую не признают: будучи Богом, Иисус знал, что Он — Бог, и знал, что увенчает Его дело. В Евангелии от Иоанна достаточно текстов для подтверждения этого тезиса экзегетическими методами. Когда в XIX в. встал вопрос о том, как же Себя видел Сам Иисус, экзегеты опять брали в качестве опоры четвертое Евангелие. Это можно сказать о классической, видимо, переформулировке традиционных воззрений в лекциях Лиддона в 1866 г.
(H. Р. Liddon, "The Divinity of our Lord and Saviour Jesus Christ", Bampton Lectures) (Лекция IV — "Божество Господа нашего, засвидетельствованное Его сознанием — св. Иоанн 10:33", где бескомпромиссно утверждается: "Христос истории" не кто иной, как "Христос вероучения"). Но это справедливо и относительно совершенно другого взгляда на Богосыновство Иисуса, высказанного Шлейермахером: в "Жизни Иисуса"
[369] он также исходит из того, что сознание Иисуса верно отражено в четвертом Евангелии. Тем не менее, по мере того как исследователи во второй половине XIX века все больше узнавали о богословском характере описания четвертым Евангелием Иисуса, для пресловутых исследователей жизни Иисуса становилось все труднее использовать речи, приведенные у Иоанна, как выражение самосознания Самого Иисуса. В лучшем случае это были размышления Иоанна о значении Иисуса в свете пасхальной веры, где за исходную точку взяты некоторые аутентичные предания об Иисусе. В худшем — они целиком были плодом воображения автора, не имея никакого исторического основания. Так или иначе, столь решающие отрывки, как Ин 8:58 и 10:30, необходимо отнести к богословию Иоанна, а не к историческому Иисусу (см. выше, §§ 6.2 и 18.4).
В последующие сто лет исследователи Нового Завета сталкивались в основном с тремя альтернативами.
а) В последние десятилетия XIX в. самой популярной была такая альтернатива: отличать исторического Иисуса от Христа вероучения, предпочитая первого. Многие либеральные протестантские богословы отчаялись найти корни раннехристианской керигмы в служении Самого Иисуса и взялись за Евангелие
Иисуса — Евангелие, где Сам Иисус играл роль иную, чем та, что приписывала Ему послепасхальная вера, где самосознание Иисуса было куда менее возвышенным, чем в описании четвертого Евангелия. Другими словами, они имели в виду Евангелие, где Иисус был первым человеком, провозгласившим идеалы, чью непреходящую ценность признал (наконец) XIX век, и жил в соответствии с ними. В такой христологии Христос был
великим образцом для подражания — по сути первым христианином
[370]. Эту альтернативу до сих пор поддерживают те, кто желает представить Иисуса первым революционером, примером для общего подражания, образцом мирянина и т. д.
б) Второй альтернативой является попытка стереть различие между Евангелием Иисуса и керигмой Павла. Один из способов сделать это таков: надо объявить, что
мы можем говорить лишь о керигматическом Христе, а выяснять, был ли исторический Иисус, невозможно и незачем. По сути именно этот взгляд отстаивал в конце XIX в. Мартин Келер (Kahler)
[371]. Его аргументы оказали серьезное влияние на все библейское богословское движение, преобладавшее в первой половине XX в. Фактически это была попытка возродить традиционную христологию на более прочной богословской и экзегетической основе. Есть и другой, не оригинальный, но все же отличный путь: истолковать керигму (керигмы) ранней церкви (церквей) таким образом, чтобы центральное положение в ней (в них) Христа было
демифологизировано. То есть роль, отводимая Христу, становится исторически и культурно обусловленным выражением какой‑то другой вести: например, возможность аутентичного существования — вести, которую считают демифологизированной вестью исторического Иисуса. Другими словами, христианская керигма превращается в несколько неопределенно–общее учение, где проповедь об Иисусе и (или) Иисуса, в конечном счете — историческая случайность. Что бы ни говорили, христологии Бультмана все время угрожает опасность пасть жертвой такого редукционизма
[372].
в) Третья альтернатива: попытаться вскрыть или проследить какую‑то связь или связи между учением Иисуса и керигмой о Христе. Здесь присутствует убежденность в том, что сегодня можно восстановить большую часть учения исторического Иисуса со всеми его характерными особенностями и акцентами. Прилагаются усилия выяснить, могут ли упомянутые особенности объяснить какие‑то характерные христологические черты ранней керигмы. Исследование в основном касается Евангелия. Так происходит последние примерно 30 лет. Причем исследователи сосредоточивались главным образом на двух гранях учения Иисуса: акценте на устремленность в будущее и элементе осуществленной эсхатологии. Оба эти момента могут быть интерпретированы как подразумеваемые права на мессианское или эсхатологическое предназначение, что позволяет нам по крайней мере увидеть какую‑то связь между христоцентричной керигмой раннего христианства и проповедью Самого Иисуса.
С одной стороны, некоторые видели в возвещении Иисусом
грядущего Царства утверждение того, что наступление Царства в некотором смысле
зависит от Его проповеди или явится
оправданием Его миссии — то ли потому, что Он считал Себя Илией последнего времени, предтечей божественного вмешательства
[373], то ли потому, что верил, что Сын Человеческий (отличная от Него небесная фигура) будет судить людей, ссылаясь на Его миссию и весть (особенно Лк 12:8–9, Мк 8:38)
[374]; или потому, что в более общем смысле Его дело имело целью и оставалось открытым для эсхатологического подтверждения Его притязаний — надежда, с которой Он пошел на смерть и которая нашла ответ в Его воскресении
[375]. Это последнее предположение особенно дает возможность исключительно прямой и реальной преемственности между возвещением Иисусом Царства и послепасхальной проповедью о воскресении Христа. Более тщательно мы его рассмотрим ниже.
С другой стороны, некоторые утверждали, что проповедь Иисуса о
наступлении Царства подразумевала
скрытое утверждение Своего мессианского достоинства, поскольку, возвещая, что эсхатологическая "смена веков" уже происходит, Он фактически заявлял, что она происходит именно во время Его служения и благодаря Его служению, или что это служение и даже Он Сам являются знамением того, что уже близко
[376]. Важную вариацию этого воззрения мы встречаем у Марксена (W. Marxsen). Он желает ослабить христологический разрыв между допасхальной проповедью Иисуса и послепасхальной проповедью об Иисусе: Того, Кто проповедует, и Того, о Ком проповедуют, разделяет не Пасха, а "появление верующих, которые проповедуют слова и дела Иисуса"; преемственность между учением Иисуса и керигмой первых христиан состоит в том, что уже до Пасхи некоторые были обращены Иисусом и возвещали слова и дела
Иисуса, тем самым проповедуя самого Иисуса
[377]. Другими словами, Иисуса–проповедника и Иисуса проповедуемого соединяет
Иисус, проповедуемый как проповедник. Этот тезис можно выразить более обобщенно: Иисус так проповедовал Бога, что Его слушатели знали, что в Самом Иисусе находит выражение Бог
[378].
Фактически подводя итог "новым поискам", Кек (L. Е. Keck) попытался синтезировать эти два подхода (Эбелинга и Панненберга — прим. 7 и 10): "Уповать на Иисуса значит видеть в Нем Бога"; "Тот, Кого Бог оправдывает, являет черты Божьи"
[379].
Из упомянутых трех альтернатив первые две фактически лишают нас всякой надежды найти корни христианской керигмы в историческом Иисусе: одна выбирает исторического Иисуса, значимость которого намного меньше, чем приписывало Ему христианство; другая выбирает керигматического Христа, который приобретает центральное значение, но с историческим Иисусом явным образом не соотнесен. Не утратила ли в I в. христология полную связь с исторической реальностью? Если да, то христианство — совсем не то, чем всегда себя считало. Если да, то единственный связующий разрозненные элементы христианства того времени фактор разобьется вдребезги у нас на глазах, оставив христианство в целом без объединяющего центра. Лишь третья альтернатива дает возможность более позитивного ответа — преемственности между учением Иисуса и раннехристианской керигмой, где утверждения ранних церквей о Христе получают основание в истории человека Иисуса из Назарета. Эта возможность отождествить керигматического Христа и исторического Иисуса — единственное, что может соединять вместе многообразные формы христианства. Третья альтернатива выглядит довольно непритязательно, но дает твердое основание, на котором можно возвести некое сооружение.
50.2.
Можем ли мы ответственно говорить о преемственности и единстве между керигматическим Христом и историческим Иисусом? В главе II эту проблему перед нами поставило
рассмотрение раннехристианской керигмы. Еще раз она возникла в связи с тем, что, как мы выяснили в главе IV, "Павел цитирует предание об Иисусе только в вопросах этических и со ссылкой на вечерю Господню, между тем керигматическая традиция как таковая использует лишь предание о смерти и воскресении Иисуса" (§ 19.4), то есть
целью керигмы не было (просто) воспроизведение учения Иисуса, и проблема соотнесения проповеди Иисуса с вестью о кресте и воскресении остается нерешенной. Рассмотрение таинств в христианстве I в. проиллюстрировало эту тему с другой стороны: имелась некоторая преемственность между братскими трапезами Иисуса и общими трапезами раннехристианской общины в Палестине, но чем скорее крещение и вечеря Господня превращались в особые обрядовые действия, изображающие смерть Христову, тем меньше они походили на ученичество, к которому, собственно, и призывал людей Иисус во время Своего служения.
В то же время в главе III мы обнаружили явную преемственность между, с одной стороны, четким самоопределением Иисуса (особенно,
bar '
enāš
ā и
abba), мнением о Нем других (Его приветствовали как Мессию; Он имел авторитет учителя) и, с другой стороны, ясным языком (вероисповедным), сформировавшимся после Пасхи (Сын Человеческий, Сын Божий, Мессия, Господь). В главе IX мы отметили отдельные особенности опыта Иисуса, близкие опыту ранних христиан, которые требуют дальнейшего анализа. В свете обрисованной выше (§ 50.1) третьей альтернативы создается впечатление, что можно выявить определенные линии преемственности, взяв некоторые факты как историческое основание для христологического богослужения. Наиболее многообещающими кажутся три момента.
50.3.
Ожидание Иисусом оправдания. Весьма вероятно, Иисус предвидел, что Его участью должно стать страдание, а служение закончится жестокой смертью. Даже помимо спорных высказываний о страстях (Мк 8:31, 9:31,10:33–34, также 2:20), есть ясное указание на это в Мк 10:38–39,14:8, 22–24, 27, 35–36. Сознательно следуя пророческой традиции (см. выше, §§ 45.1, 3), Он почти наверняка рассматривал мученичество в Иерусалиме как часть Своей пророческой функции (Мк 12:1–9 и пар., Мф 23:29–36/Лк 11:47–51, Лк 13:33, Мф 23:37/Лк 13:34). Он должен был знать: "очищение Храма" едва ли могло быть проигнорировано, это был вызов религиозному истеблишменту; в конечном счете именно это, по–видимому, подтолкнуло власти заставить Его замолчать, применив крайнюю меру
[380].
Если же Иисус предвидел Свою насильственную смерть (по крайней мере, незадолго до Своего последнего путешествия в Иерусалим),
трудно представить, что Он не связал это со Своей верой в приближение Царства и его скорое осуществление (см. выше, §§ 3.1,2). Богословское объяснение смерти Иисуса необязательно должно было быть дано лишь
после события. Как заметил Вильяму Вреде Альберт Швейцер, тот факт, что решение Иисуса претерпеть страдание и смерть есть догматическая формулировка у Марка, еще не означает его неисторичности; напротив,
эта догма может принадлежать Самому Иисусу, может быть укоренена в Его собственных эсхатологических представлениях
[381]. В таком случае Он едва ли считал Свою смерть тяжким несчастьем, крушением Своей миссии (иначе Он не пошел бы в Иерусалим). Напротив,
Он, должно быть, усматривал для Себя после смерти некое оправдание, утверждение Богом того, что Он говорил и делал.
Этот вполне правдоподобный вывод подкрепляется несколькими экзегетическими соображениями.
1) Иисус, вероятно, считал, что Его смерть исполнит чаяния Крестителя о том, что последним временам будет предшествовать крещение огненное (Лк 12:49–50 — см. выше, § 39.2,3 и ниже, § 67.2. в), то есть Его страдания и смерть ознаменуют начало
мессианских мук, которые предвосхитят и, следовательно, ускорят наступление мессианского царства (отсюда обет воздержания в Мк 14:25 и содрогание от ужаса в Мк 14:33–36).
2) Поскольку Иисус использовал выражение
bar '
enāš
ā применительно к Себе с аллюзией на Дан 7:13 (см. выше, § 9.2), сразу уместно вспомнить, что подобный человеку персонаж Дан 7 появляется как "представитель избранного народа Божьего, который должен быть прославлен через страдания".
3) Вполне вероятно, что на Иисуса повлияла устойчивая вера в оправдание страдающего праведника (см. особенно Прем 2–5)
[382] или даже богословие мученичества, согласно которому смерть праведника имеет заместительную ценность для спасения Израиля и завершается оправданием через воскресение (2 Макк 7:14,23, 37–38). Конечно, не исключается и прямое влияние на Иисуса Ис 53
— эта возможность усиливается прямой цитатой Ис 53:12 в Лк 22:37, хотя последний стих вполне может быть поздней вставкой в аутентичное (и загадочное) предание об Иисусе
[383]. Дело в том, что Ис 53 включает в себя и понятие о заместительном страдании и, более явно, об оправдании страдальца.
4) Возможно даже, что Иисус уповал на оправдание через
воскресение (ср. 2 Макк 7:11,23,14:46), то есть всеобщее воскресение, которое произойдет, когда Царство наступит во всей полноте, знаменуя начало последнего суда и мессианской эры. Эта надежда, несомненно, отражена в Мк 10:37–40,12:25,14:25, Мф 19:28/Лк 22:28–30. Соотнести такое чаяние с идеей пришествия Сына Человеческого во славе — задача трудная, но выполнимая.
Одним словом, имеются небезосновательные причины для вывода: Иисус рассматривал Свою приближающуюся смерть как заместительное страдание, которое увенчается божественным оправданием. Это значит, что, проповедуя о приближении Царства, Он тем самым указывал на
Свои права, которые должны подтвердиться в будущем. Характер этого подтверждения нам сейчас неясен; наши источники считают его уже свершившимся
[384]; но не исключено, что для самого Иисуса грядущее было не столь ясно (ср. Мк 13:32; Лк 11:29–32/Мф 12:39–42,16:4). По крайней мере, мы можем сказать, что в этом чаянии Иисуса заметно реальное преемство между проповедью Иисуса и керигмой о воскресшем Христе:
воскресение Иисуса было в подлинном смысле исполнением чаяний самого Иисуса. Отличалась ли керигма от Его собственных воззрений или нет, но именно
здесь заключалось ожидаемое Иисусом подтверждение.
50.4.
Ощущение Иисусом Своего сыновства. Мы уже видели, какую основополагающую роль в понимании Иисусом Себя и Своей миссии играло Его восприятие Бога как Отца (§ 45.2). Необходимо отметить, что Иисус хотел этого и от учеников. Он учил их обращаться к Богу с тем же дерзновением и доверительностью — "Авва" (особенно Лк 11:2/Мф 6:9). Более того, очевидно, лишь Своих учеников Он призывал жить, исходя из этого опыта (Мк 11:25 и пар., Мф 5:48/Лк 6:36, Мф 6:32/Лк 12:30, Мф 7:11/Лк 11:13, Лк 12:32). Нет свидетельств, что Он проповедовал более широкое представление о небесном отцовстве и человеческом братстве — оно присуще скорее вневременным идеалам либерального протестантизма XIX века, чем эсхатологическому "либо‑либо" учения Иисуса. Другими словами,
Иисус, по–видимому, усматривал связь между сыновством Своих учеников по отношению к Богу и ученичеством у Него. Использование ими слова "Авва" в определенном смысле
зависело от их близости к Нему, оно
вытекало из "Авва" Иисуса. Их сыновство следовало из сыновства Иисуса.
Если мы правильно охарактеризовали допасхальное ученичество, то обращает на себя внимание, что после Пасхи мотив сыновства возникает вновь как важный способ описания отношений верующего с Богом (Мф 23:8–9, Рим 8:14–17, 29, Гал 4:6–7, Кол 1:18, Евр 2:11–17,1 Ин 3:1–2, Откр 1:6) — постоянное использование арамейского "Авва" в грекоязычных церквах (Рим 8:15, Гал 4:6) показывает, сколь глубоко коренились такой опыт и переживание в первоначальной общине. Более существенно, что
переживаемое таким образом сыновство понималось как определяемое сыновством Иисуса: подобно Ему они взывали "Авва", сознательно желая принять Дух Христов (Рим 8:9,15–17, Гал 4:6–7). Ясная аллюзия на сыновство Иисуса (вследствие этого они выказывают себя "наследниками Христовыми" — Рим 8:17; именно "Дух Сына" взывает "Авва, Отче!" — Гал 4:6) подразумевает, что молившиеся таким образом возводили опыт и его выражение к способу молитвы и опыту Иисуса, когда Тот жил на земле.
Здесь перед нами немаловажный момент: такое широко распространенное в раннем христианстве выражение молитвенного опыта показывает явное единство и преемственность между земным Иисусом и прославленным Христом, причем связь эта одинаково крепка
с обеих сторон. С одной стороны — молитва, вдохновенная Духом прославленного Христа, молитва, которая была столь характерна для Иисуса из Назарета. С другой — молитва, которой Иисус научил Своих учеников во время Своего служения. Дело в том, что
с обеих сторон молитва и выражаемое ею взаимоотношение мыслятся как
единственно возможные только в связи с Иисусом и проистекающие из Его сыновства. Мы говорим, конечно, не об общественных проповедях Иисуса или первых христиан, а скорее об их основе — взаимоотношении, из которого эти проповеди выросли в том виде, как они разъяснялись в кругу учеников. Но мы можем утверждать, что на этом, более глубоком, уровне самосознания (Иисуса и ранних христиан) роль Иисуса была в равной мере центральной и до и после Пасхи. Таким образом, мы находим еще одну линию преемственности между допасхальным призывом к ученичеству и послепасхальным призывом к вере.
50.5.
Переживание Иисусом Царства и Духа Божьего или, точнее говоря, Его
понимание Царства и Его переживание Духа, дает нам другой момент истории Иисуса, который стал исходным для одного из элементов христианства I в. Ибо несомненно, что Иисус переживал и понимал Царство, как
эсхатологическое напряжение — между уже наличной эсхатологической реальностью и Царством грядущим и желаемым, которое пока еще не наступило (ср., напр., Мф 11:5/Лк 7:22, Мф 13:16–17/Лк 10:23–24 с Мф 6:10/Лк 11:2, Мк 14:25 и пар. — см. выше, § 3.1,2). Более того, это эсхатологическое напряжение было
следствием проявления Духа: именно потому, что Он переживал полноту Духа, считая Свою способность изгонять бесов проявлением в Нем и через Него божественной силы, Он заключил, что это является проявлением вмешательства Божьего последних времен, проявлением Царства (Мф 12:28, см. выше, § 45.3), а поскольку Дух последних времен уже действует, Конец не может надолго задержаться, поражение сатаны уже близко, хотя пока еще не совершено (Лк 10:18, Мк 3:27). Это также означает, что Иисус считал Свое переживание Духа и служение в силе Духа чем‑то
уникальным: не просто пророческим вдохновением, но помазанием Духа последних времен (Ис 61:1–2 — см. выше, § 45.3); лишь в изгнании
Им бесов проявлялось Царство, ибо Его способность это делать была от эсхатологического Духа, то есть силы, которую переживал только Он один (Мф 12:27–28). Но это в свою очередь устанавливает определенную взаимозависимость и взаимосвязь между Иисусом и эсхатологической силой Его миссии: противление этому служению было противлением Духу (Мк 3:28–29 и пар.); Он Сам в Своей миссии являлся частью эсхатологического действия (Мф 11:5–61/Лк 7:22–23, ср. Лк 12:8–9 и пар.).
Считая себя в уникальной степени наделенным Духом, он также считал Дух исключительно Своим.
В христианстве I века, наиболее ясно представленном у Павла, мы видим то же эсхатологическое напряжение — между "уже" полученной благодатью, и "еще не" унаследованного, но пока не осуществленного в полной мере Царства. Послепасхальное эсхатологическое напряжение также понимается как следствие проявления Духа: в церквах, основанных Павлом, Дух мыслится именно как первая часть наследия Царства, которая служит залогом его полного осуществления в воскресении тела (Рим 8:10–11,15–23,1 Кор 6:9–11,15:45–50, 2 Кор 4:16–5:5, Гал 4:6–7, 5:16–24, Еф 1:13–14). Более существенно, что Дух переживался как Дух Иисусов — сила распятого и воскресшего, которая проявляется так же, как и в Нем, как сила в немощи, жизнь через смерть (см. выше, § 46.6). Происходит слияние, совмещение роли Духа с вознесенным Христом (1 Кор 15:45), так что присутствие и действие Духа определяется через Его отношение ко Христу: соответствует ли Его суть сути служения Иисуса
[385].
Опять мы видим параллель между тем, как понимал Себя Иисус, и тем, как себя понимали первые христиане. Более того,
видение своего опыта первыми христианами вырастает из видения Своего опыта Иисусом. Уникальная взаимосвязь между Иисусом и Духом, лежащая в основе евангельской проповеди первых христиан, есть не что иное, как переработка и разработка (в свете Его воскресения) понимания Иисусом уникального вдохновения эсхатологическим Духом. Конечно, у нас нет ясных свидетельств, что Иисус ожидал излияния Духа на Своих учеников, источником чего Он станет, — хотя, возможно, именно такое предание лежит в основе отрывков о Параклете (Ин 14–16), имеющих параллель по крайней мере в завещательном распоряжении о Царстве в Лк 22:29; по–видимому, Он включал и другой аспект предсказания Крестителя о служении Грядущего (см. выше, § 50.3)
[386]. Как бы то ни было, перед нами опять линия преемства, проходящая
герез Пасху, — опыт, приписываемый прославленному Христу, который подобен опыту Иисуса (в Его собственном истолковании) и отличительные черты которого предопределены характером миссии Иисуса (в Его собственном понимании).
Я должен также коротко добавить, что подобную вещь мы увидим, сравнивая отношение к
закону Иисуса и Павла
[387]. Взгляд Павла на Иисуса как на "конец закона" (Рим 10:4) коренится не только в его понимании смерти и воскресения Иисуса, но также в убежденности в свободном отношении Иисуса к закону и высшем авторитете истолкования Иисусом закона (см. выше, §§ 24.5 и 45.1. в; ср. особенно Мк 7:196), отметим также главенство заповеди о любви у обоих (Мк 12:31 и пар., Рим 13:8–10, Гал 5:14)
[388]. То есть суверенное истолкование Иисусом Закона в свете грядущего Царства и как выражение Его эсхатологического (само) сознания дает нам другую опорную точку в служении исторического Иисуса для учения Павла о праведности Божьей в свете Страстной пятницы и Пасхи.
50.6. В итоге получается, что, по–видимому, правомерно говорить о единстве и преемственности между историческим Иисусом и керигматическим Христом. Единство и преемственность не являются исключительно плодом послепасхального богословского творчества. Они обусловлены целым рядом важных моментов в допасхальной истории Иисуса. Это
не означает, что проповедь Иисуса и керигмы первохристианства суть одно и то же или что их предпосылки одинаковы. Это не означает, что послепасхальные ученики просто возродили и повторили учение Самого Иисуса, не внеся в него существенных изменений (см. выше, § 50.2). Ничто из вышесказанного не умаляет
центральной значимости Пасхи в определении и формировании послепасхальной керигмы. Оправдание, которое получил Иисус, было не совсем таким, которого Он ожидал (общее воскресение и последующий суд), — хотя Его чаяния и не были четко сформулированы. Что же касается двух других моментов преемственности, то первые христиане были убеждены: их опыт не только
походил на опыт отношений с Богом Иисуса, их опыт не только был
предопределен служением земного Иисуса, но он и возможен стал лишь благодаря воскресшему Иисусу и непосредственно проистекает из Его воскресения.
Другими словами, единство и преемственность, которые мы обнаружили между историческим Иисусом и керигматическим Христом, не устраняют значимости Пасхи в формировании керигмы и самоощущения раннего христианства. Но подобным образом
важность Пасхи не умаляет центральной роли, исполненной Иисусом еще до Пасхи, в Его проповеди и самопонимании. Уже до Пасхи эсхатологическая близость Бога как Отца считалась в некотором роде зависящей от Иисуса. Уже до Пасхи близкое завершение ставилось в зависимость от Него. Уже до Пасхи эсхатологический Дух и напряжение между "уже" и "еще" не мыслились как связанные с Ним. Уже до Пасхи свободное отношение к закону считалось отличительной чертой и следствием Его служения. Короче говоря,
в самопонимании Иисуса мы видим достаточно ясные предзнаменования центрального положения керигматического Христа, позволяющие утверждать: керигма ранних церквей является разработкой провозвестия Самого Иисуса в свете Его воскресения. Подобно тому как христианство возглашает свое право истолковывать Ветхий Завет в свете Иисуса, керигматического Христа можно по праву считать законным истолкованием исторического Иисуса в свете воскресения Иисуса.
§ 51. "Иисус — один, много ли Христов?"
Если мы признаем преемственность между историческим Иисусом и керигматическим Христом, то должны признать наличие
многих керигматических Христов. После Пасхи мы не встречаем какого‑либо однообразного представления об Иисусе. Выражение "керигматический Христос" — всего лишь краткое удобное обозначение, позволяющее отделить Иисуса как объект исторического исследования от Иисуса как объекта веры, исторического Иисуса от проповедуемого Христа. Но если чрезмерным упрощением является понятие "новозаветной керигмы", то таким же является и понятие "керигматического Христа". Если мы должны говорить о новозаветных керигмах (см. выше, глава II), то должны говорить и о керигматических Христах — разнообразных представлениях о "Христе веры" в христианстве I в. Мы уже видели нечто подобное в III главе, где прослеживали основные отличительные черты развивающихся в христианстве I в. вероисповедных представлений об Иисусе как Сыне Человеческом, Мессии, Сыне Божьем и Господе. Мне хотелось бы проиллюстрировать это многообразие, рассмотрев, видимо,
основной контраст в новозаветной христологии — между христологией самых первых христиан и той христологией, которая начала развиваться по мере усвоения христианством философско–религиозных представлений того времени. Мы кратко сопоставим различные оценки масштабов и стадий "события Христа". В этой области есть много текстов, обстановка и цели написания которых остаются спорными. Но даже не вынося по большинству из них окончательного суждения, можно получить достаточно четкую картину.
51.1.
Христология первоначального христианства, по–видимому, была, существенно
устремлена вперед. Это следует из самых ранних послепасхальных случаев использования четырех основных христологических титулов (см. выше, глава III). Основной, вероятно, была надежда на скорое возвращение Иисуса как Сына Человеческого: высказывания о "пришествии Сына Человеческого" составляют наибольшую однородную группу среди логий Сына Человеческого. Лишь эсхатологический пыл первых лет позволял сохранять (или создавать) и распространять Мф 10:23. Ни одно из высказываний о Сыне Человеческом не было, видимо, предметом стольких размышлений (на очень ранней стадии), как Лк 12:8–9/ Мф 10:32–33/Мк 8:38/Лк 9:26 (см. также ниже, § 67.3). Что касается мессианства Иисуса, то текст Деян 3:19–21, очевидно, воплощает фрагмент раннехристианской проповеди, выражая ясную надежду на то, что, если люди покаются и обратятся, Господь (=Бог) снова пошлет с небес Иисуса Христа. Что касается Сына Божьего, то одна из ранних формулировок связывает поставление Иисуса как Сына Божьего (в силе) с "воскресением из мертвых" (Рим 1:3–4, см ниже, § 51.1, ср. 1 Фес 1:10). Самым ранним послепасхальным определением Иисуса как Господа, сохраненным в посланиях Павла, является 1 Кор 16:22 — призыв, полный жажды возвращения Христа: "Господь наш, гряди!" (ср. Откр 22:20; здесь нет следов подразумеваемого смысла о приходе Христа на Тайную вечерю или во время ее
[389]).
В то же время мы не должны игнорировать центральную роль, которая отводилась воскресению Христа особенно в ранних керигматических традициях (см. выше, § 5.1, а также §§ 11.2 и 12.3). Оно, несомненно, рассматривалось как доказательство подлинности Его служения и Его прав (ср. выше, § 50.3 и ниже, § 51.1), в частности как Его поставление и принятие Им нового прославленного статуса (Деян 2:36,13:33, Рим 1:3–4, Евр 5:5, ср. Флп 2:9–11, см. также выше, § 11.2, и ниже, § 54.3). Но оно мыслилось как
событие эсхатологическое, предзнаменующее завершение, начало конца, первый акт во всеобщем воскресении. Это ясно показывает очевидно, раннее описание воскресения Иисуса как "начатка", то есть части и начала всеобщего воскресения (1 Кор 15:20,23). Подобное понимание отражено в ссылке на воскресение Иисуса как на воскрешение мертвых (Рим 1:4), а также в древнем предании, сохраненном в Мф 27:52–53. Поскольку уже началось воскресение в Иисусе, "последние дни" уже наступили. Воскресение возвестило и Его прославление, и близкое завершение. Если вообще справедливо предположение, что надежда на парусию обусловлена верой в вознесение Иисуса
[390], это должно было произойти в очень короткий промежуток времени, поскольку в других отношениях свидетельства ясны: надежда на парусию составляла неотъемлемую часть пылких эсхатологических ожиданий ранней общины (см. ниже, § 67.3). Короче говоря,
воскресение Иисуса было важно для первых христиан и тем новым значением, которое обрел после него Иисус, и тем, что воскресение предзнаменовало. Воскресение Иисуса и предвосхищало будущее, и указывало место Иисуса в этом будущем, и являлось началом того, что должно скоро завершиться
[391].
Не приходится удивляться тому, что на этой ранней стадии
серьезно не обдумывалась роль прославленного Иисуса между Его воскресением–вознесением (нисхождением Духа) и парусией. Даже в Книге Деяний единственное, что приписывается Иисусу между Пятидесятницей и Его последней ролью в качестве судьи (10:42,17:31), — это Его появление в ряде видений (7:55–56, 9:10,18:9, 22:17–18, 23:11, 26:16,19). И хотя использование имени прославленного Иисуса приводит к проявлению Его силы, само по себе имя служит больше как
заменитель Иисуса (подобно тому как в современном иудаизме заменяют имя Божье), тем самым подчеркивая
отсутствие Его лично (Иисус присутствует только в Своем имени — ср. особенно 4:10,12, см. также выше, § 4.4). Кроме того, вероятно, играет роль и то, что тогда традиция высказываний Иисуса еще не сложилась: еще не было попыток заполнить пробел между надеждой Иисуса на воскресение и Его обещанием парусии; эти два элемента остаются в предании об Иисусе не связанными между собой. Возможно также, что здесь отчасти отражен тот период, когда промежуток между вознесением и парусией еще никак не привлекал внимание: говорить о воскресении Иисуса и о Его парусии означало более или менее альтернативными способами выражать одно и то же — Иисус был прославлен чтобы излить Дух и чтобы возвратиться в эсхатологической полноте.
Все это не подразумевает, что ранних христиан не интересовали другие аспекты, касающиеся Христа. Как мы уже видели, скоро они стали пытаться разрешить проблему распятого Мессии (§ 10.2). Но когда именно смерть Христа стала средоточием сотериологических размышлений — неясно, ибо свидетельства допускают различную интерпретацию. С одной стороны, представление о смерти Иисуса как о (новой) жертве завета вполне может быть частью ранней традиции слов, сказанных на Тайной вечере (см. выше, § 40.4), хотя эсхатологические ноты, видимо, громче всего звучали в совместных трапезах ранней общины (выше, §§ 40.2 и 40.5); и в очень ранней традиции, (1 Кор 15:3), смерть Иисуса объясняется как жертва "за грехи наши", хотя в более пространной формулировке 1 Кор 15 основной акцент сделан на явлениях Иисуса после воскресения, а сам отрывок 1 Кор 15 является толкованием воскресения Иисуса как прообраза всеобщего воскресения. С другой стороны, в высказываниях
Q практически отсутствует какой‑либо интерес к страданиям Иисуса, а в проповедях Книги Деяний смерть Иисуса упоминается только как часть темы страдания–оправдания, как предшествующее воскресению отвержение Христа, причем не в смысле страдания заместительного — хотя это в той же мере может быть и отражением богословских акцентов Луки (см. выше, § 4.2). Возможно, проще всего этот конфликт свидетельств разрешается тем, что смерть Иисуса сначала получила
христологическое осмысление (как предшествующее оправданию уничижение Иисуса), а потом уже
сотериологическое, причем сперва близкая парусия виделась как решающий акт спасения (ср. Деян 3:19–20,1 Фес 1:10, 5:8–9)
[392].
Интерес к земному учению и служению Иисуса мы видим в преданиях о Нем. В приведенных в Книге Деяний проповедях этот интерес минимален (2:22,10:36–39, см. выше, § 4.1), но он, несомненно, лежит в основе компиляции Q, хотя следует вспомнить сильную устремленность в будущее его христологии (см. ниже, § 62.2.6). Павел очень серьезно относится к этическим традициям, которые, как мы видели, возможно, восходят во многом к жизни и учению Иисуса (выше, § 17.3) — хотя здесь интересно отметить, что он апеллирует в 2 Фес к этому преданию об Иисусе, выступая
против эсхатологического пыла, должно быть отличавшего раннюю палестинскую общину (2 Фес 3:6–12, ср. Деян 2:44–45,4:32–35). Уместно вспомнить и то, что в Коринфе интерес к Иисусу как к
чудотворцу, вероятно, соединялся с
осуществленной эсхатологией, не оставлявшей места надежде на будущее воскресение (см. выше, § 44.2, и ниже, § 61.1. д). Все это опять наводит на мысль о том, что первоначально интерес к земному учению и служению Иисуса был обусловлен упованием на парусию, а предание об Иисусе служило противовесом излишне восторженному ожиданию надвигающегося события.
Короче говоря, насколько мы можем судить, христология (и сотериология) первых христиан была во многом устремлена в будущее.
51.2.
Разработки в христологии после этого раннего периода могут быть охарактеризованы как
начало сдвига решающего "христологигеского момента"[393] назад во времени по отношению к эсхатологическому двойному событию воскресения/прославления — парусии. Возможно, нечто подобное мы видим уже в допавловой формулировке Рим 8:34, где увеличивающийся период между прославлением и парусией Иисуса мыслится как время служения Иисуса в качестве ходатая. В еще большей мере это относится к Посланию к Евреям: прославление Иисуса по–прежнему находится в центре (Его вход как Первосвященника в небесное святилище), но заметное внимание уделяется и
настоящему продолжающемуся служению Иисуса в качестве предтечи и ходатая на небе, куда верующие уже могут иметь доступ (1:3, 2:10, 4:14–16, 6:19–20, 7:25, 8:1–2, 9:24, 10:19–22, 12:22–24). При этом надежда на парусию, все еще ощутимая, занимает мало места.
Определенный сдвиг христологического момента, по–видимому, связан с
кристаллизацией описания встречи Иисуса с Иоанном на Иордане и Его помазания Духом. Явное использование Пс 2:76 (частично в Мк/Мф, целиком в предположительном оригинале текста Луки и, возможно, в
Q) предполагает, что, по крайней мере для некоторых, это и был момент, когда Иисус стал Мессией и Сыном. Здесь этот стих (Пс 2:7 — "Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя"), который, вероятно, выражал принятую в ранней общине адопционистскую концепцию воскресения Иисуса (Деян 13:33, Евр 5:5; см. выше, §§ 11.2 и 51.1), стали относить к началу служения Иисуса. В основе этого, возможно, лежит стремление включить и все земное служение Иисуса в историю спасения, события которой теперь рассматривались как решающие и для статуса Христа, и для спасения человечества. С этим может быть связан и интерес к Иисусу как к чудотворцу, который, как мы уже видели, возможно, присутствовал в ситуациях, описанных в 2 Кор 10–13, а также у Марка и в использованной четвертым евангелистом книге "Источники знамений" (Ин 2:1–11 и 4:46–54; выше, §§ 18.1,44.2, и ниже, § 63.3). При таком подходе ко Христу особое значение должно было придаваться крещению Иисуса как моменту наделения Его этими сверхъестественными силами (по крайней мере коринфяне, видимо, воспринимали крещение именно так — см. выше, § 39.5). Мы уже видели, что Павел и Марк решающий сотериологический момент отводили смерти и воскресению Иисуса, они подчеркивали не чудеса, творимые Иисусом, а его страдания (выше, §§ 18.1 и 46.4). Иоанн порицал веру, зависящую от знамений (2:23–25,4:48), в его Евангелии чудеса значимы постольку, поскольку предзнаменуют час смерти–прославления Иисуса (см. ниже, § 64.3). Матфей и Лука решительно противостоят ошибочной христологии, основанной на крещении и чудесах Иисуса, помещая повествование Q об искушениях Иисуса между крещением и началом служения, что смягчает акценты.
Гораздо более существенный сдвиг в христологическом моменте обозначает введение в повествование о Христе
упоминания о предсуществовании. Когда впервые это произошло, неясно. Хотя представление о предсуществующих сущностях более характерно для эллинской, чем для еврейской мысли, оно не было чуждо дохристианскому иудаизму — особенно в размышлениях о Премудрости (Притч 3:19, 8:22–31, Прем 7:22–8:1, 9:1–2, Сир 24:1–22). Поэтому не нужно полагать, будто категория предсуществования вошла в христианское богословие, лишь когда новая секта соприкоснулась с эллинистической философией. Вполне возможно, что она возникла как естественное следствие оценки важности воскресения и прославления Иисуса
[394]. В этом случае представляется, что
идея о предсуществовании проникла в раннюю христологию благодаря применению ко Христу характеристик Премудрости. Насколько можно судить, Иисус думал о Себе как о
Послаще Премудрости — такое самопонимание особенно очевидно отражено в Q (Мф 11:25–27, Лк 7:31–35, 11:49–51). То есть нет свидетельств, что Иисус считал Себя предсуществующей Премудростью — ни у Иисуса, ни в Q или у Марка
[395]. Идея о предсуществовании впервые стала подразумеваться, когда произошло
отождествление Христа с
самой Премудростью. Оно, несомненно, было осуществлено Матфеем (см. ниже, § 57.1); но еще раньше об этом недвусмысленно высказался Павел (1 Кор 1:24,30), который уверенно соединил Христа и предсуществующую Премудрость (особенно 1 Кор 8:6, Кол 1:15–17).
Здесь необходимо вспомнить, что в иудаизме Премудростью называли действия Божьи в творении, откровении, искуплении, когда непосредственно Сам Бог не упоминался. Премудрость подобно имени Божьему, Духу Божьему, Логосу и т. д. обозначает
имманентную деятельность Бога, не принижая Его трансцендентность. Для дохристианского иудаизма Премудрость не была ни подчиненной небесной сущностью (из числа ангелов), ни божественной ипостасью (как в поздних тринитарных богословских концепциях); в строгом иудейском монотеизме такие разработки были бы (и по сути были) неприемлемы. Фактически Премудрость — это
персонификация имманентности Божьей; ее нельзя считать ни отдельной личностью внутри Божества, ни предсуществующей Торой (как в раввинистических истолкованиях). Возможно, применяя определения Премудрости ко Христу, Павел просто хотел сказать: то, что вы до настоящего времени приписывали Премудрости, мы видим наиболее полно выраженным и воплощенным во Христе; та сила и премудрость, проявления которых вы видите в божественном творении, откровении и искуплении, теперь полностью и исключительно проявилась в Господе нашем Иисусе Христе
[396]. Это также объясняет, почему Павел никогда не употребляет имя "Иисус" для обозначения предсуществующего: Сам Иисус не был предсуществующим — Он был человеком, которым стала предсуществующая Премудрость
[397].
Тем не менее, как вытекает из последнего предложения, с использованием понятия о предсуществовании учение о
воплощении стало частью христологии. Таким образом, открывается путь христологии, которая не только видит в Иисусе воплощение божественной Премудрости или божественного Логоса, но и рассматривает воплощение как решающий момент в спасении — человечество приобщается к божественному и освящается. В таком случае смерть, воскресение и парусия Иисуса становятся утверждением того, что в принципе уже достигнуто. И тогда христология становится не вопросом осмысления прославленного Христа в свете преданий об Иисусе из Назарета, а вопросом осмысления Иисуса–человека в свете представлений о предсуществующем Логосе. Конечно, в новозаветных писаниях все это еще не отражено, однако
уже в Новом Завете появляется тенденция рассматривать безличную предсуществующую фигуру как личностную предсуществующую божественную сущность, чье желание воплотиться предопределило спасение человечества и средства для этого. Возможно, такую тенденцию можно обнаружить уже в гимне Флп 2:6–11, хотя я подозреваю, что в последнем случае на Павла оказала сильное влияние
параллель Адама со Христом[398]. Тогда земная жизнь Иисуса тесно соотносится с жизнью первого человека: подобно Адаму Он был сотворен по образу Божьему (ср. Быт 1:26–27, 2:7), но в отличие от Адама — Он не возжелал быть равным Богу (ср. Быт 3:5); подобно Адаму — Он отказался от выгод Своего статуса и принял его человеческую противоположность (ср. Быт 3:17–19), но в отличие от Адама Христос сделал это добровольно, а не в качестве наказания, свободно уничижившись даже до позорной смерти на кресте — и таким образом обрел славу большую, чем та, что изначально была предназначена человеку. Если это истолкование адекватно передает ход мыслей Павла в Флп 2:6–11 (и согласуется с Рим 5:146–19), то мы должны усомниться — действительно ли здесь идет речь о личном предсуществовании
[399]. Для Павла решающими событиями и в христологии, и в сотериологии, несомненно, были смерть и воскресение Иисуса (см. Флп 2:8–9; отметим, что слова о Боге, пославшем Сына к людям, в Рим 8:3 и Гал 4:4) — они немедленно дополняются упоминанием о смерти Иисуса — Рим 8:3в, Гал 4:5а)
[400]. До самой смерти Иисус был един с человеком, первым Адамом (Рим 8:3, Флп 2:7–8); лишь с воскресением Он сделался представителем нового человечества, последним Адамом (Рим 8:29, Кол 1:18; и особенно 1 Кор 15:20–23, 45).
Если мы ищем первое проявление идеи о личном предсуществовании применительно к Иисусу, то более серьезным кандидитом является Послание к Евреям. Подобно Павлу, его автор описывает Иисуса в категориях предсуществующей Премудрости (1:2–3); но помимо этого понятие о личном предсуществовании может подразумеваться в 7:3 (Иисус определяется как священник по чину Мелхиседека, потому что подобно Мелхиседеку не имеет "ни начала дней, ни конца жизни" или, точнее говоря, потому, что Его воскресение показывает неразрушимость Его жизни — 7:16), а также в 10:5 (ср. 1:8, 2:14 и 13:8 — см. ниже, § 57.2). При этом следует отметить, что здесь мы находим одни из самых
серьезных адопционистских формулировок в Новом Завете (см. ниже, § 57.2), и несомненно, что и в Послании к Евреям христологический момент четко обозначен смертью Иисуса и Его вхождением в небесное святилище (1:3–4,2:9–10,5:5–10,6:20, 7:15–16, 26–28, и др.). Важно и истолкование в этом Послании отрывка Пс 8:4–6: Иисус представлен как Человек, исполнивший божественный замысел о человеке, до сих пор остававшийся невыполненным. При этом Иисус оказывается впереди, во главе, и дает возможность людям, Своим братьям, благодаря этому замыслу прийти к предназначенному им уделу (2:5–18) — христология, не очень далекая от сопоставлений Павлом Христа с Адамом (Рим 8:3 и 1 Кор 15)
[401].
Настоящий сдвиг в христологическом моменте мы видим лишь в Евангелии от Иоанна, то есть к концу I в. Согласно Иоанну, Иисус
сознавал личностное пред существование (особенно 8:58). Упоминание о восхождении уравновешивается упоминанием о предшествующем ему схождении (3:13, 6:33, 38, 41–42, 50–51, 58, 62). Но даже здесь (как и у Павла) Иисус представлен скорее как Человек, которым сделался предвечный Логос (1:14), то есть как Человек, в котором Бог нашел наибольшее выражение по сравнению с тем, как это было раньше (1:18). Божественная слава, открытая очам веры в земного Иисуса (1:14), — это главным образом прославление смерти–воскресения–вознесения (7:39,12:16, 23,17:1, 5). Более того, сотериологический момент по–прежнему сосредоточен на этом спасающем венце служения Иисуса; плоть, которой стал Логос (1:14), не приносит пользы (6:63, ср. 3:6), поэтому лишь Иисус, преданный смерти, вознесенный на кресте и воскресший, становится источником дарующего жизнь Духа, жизни для мира (3:13–15, 6:51, 62–63, 7:38–39,19:30, 34, 20:22).
Кратко говоря, ближе к завершению I в. мы, видимо, уже
недалеко от христологии, сосредоточенной на воплощении. У Иоанна решающим
сотерилогическим моментом по–прежнему является
смерть–воскресение–вознесение. Но христологический момент разделен между схождением предсуществующего Логоса в воплощении и Его восхождением туда, где Он был прежде, во славе креста и вознесения. Это еще далеко от представления об искуплении через воплощение, которое мы находим позже, особенно в трудах Григория Нисского
[402], где, несмотря на значимость смерти и воскресения Христа, основным сотериологическим и христологическим моментом является воплощение. Но также отличается от христологии, существовавшей на 40–50 лет ранее христологии, устремленной в будущее, к воскресению Иисуса, ставшего Мессией, Сыном Божьим, Господом, которому надлежит скоро возвратиться.
51.3.
Многообразие христологии I в. можно показать очень просто, взглянув на вопрос более кратко под другим углом. Прослеженное нами выше (глава III и §§ 55.1,2) развитие христологии I в. отражено в
различных оценках разных стадий "события Христа" в рамках Нового Завета. В проповедях Книги Деяний и у Павла
служению Иисуса почти не уделяется внимания. В то же время некоторые элементы эллинистического христианства, по–видимому, сосредоточивались на Иисусе как великом чудотворце (так называемая христология "божественного мужа"). В Новом Завете отчетливо видна линия
"подражания Христу", которую так упорно развивал либеральный протестантизм, хотя и менее убедительно (напр., Мк 8:34, Лк 9:57–58, Ин 13:13–16,1 Кор 11:1, Евр 12:1–2,1 Петр 2:21). Что касается
смерти Иисуса, то Сам Он, вероятно, рассматривал ее как начало мессианских страданий, предшествующих эсхатону, окончательному правлению Бога; первоначальные церкви и (или) Лука, по–видимому, считали ее малосущественным сотериологическим фактором; в то же время Павел особенно разрабатывал богословие страдания и смерти Христа — возможно, им, по крайней мере отчасти, двигало желание ответить на "евангелие" о Христе как чудотворящем Сыне Божьем (то же мы находим у Марка и Иоанна).
Распространенные взгляды на
воскресение Иисуса во многом обусловлены приведенным в Лк 24 и Деян 1 повествованием Луки. Но "воскресение" — лишь одно из описаний того, что произошло с Иисусом после Его смерти, лишь одно из истолкований послепасхального опыта. Рассказ Марка о пустой гробнице мог быть истолкован как взятие Иисуса с земли на небо (подобно рассказам об Енохе и Илие). В других местах Нового Завета воскресение, прославление и вознесение являются равноценными способами выражения (в Послании к Евреям нигде не говорится о воскресении Иисуса как таковом; самое близкое к этому
— 13:20). Лука же описывает две стадии, отличая воскресение от вознесения. По–разному истолковываются и явления после воскресения: у Павла речь идет о духовном теле с небес, а представления Луки весьма материальные, земные (Лк 24:39).
В чем же заключалось
служение Иисуса после Его вознесения/прославления? Первоначальное христианство, синоптическая традиция и Книга Деяний едва ли отвечают на этот вопрос. В то же время Послание к Евреям именно на этом сосредоточивает свое внимание: Иисус теперь является первосвященником, ходатайствуя за нас перед Самим Богом (ср. Рим 8:34,1 Ин 2:1). Павлу свойственна странная двойственность, поскольку он одновременно говорит о прославленном Господе, как о прославленном существе на небесах (напр., Рим 8:34,1 Кор 15:25, Флп 2:9–11), о Духе, который животворит людей на земле (1 Кор 15:45), и как об общине верующих (1 Кор 12:12). По сути до конца не ясно, как Павел представляет себе прославленного Христа и Его нынешнее служение по отношению к верующим ("во Христа").
Что касается
парусии, то грубая реальность такова, что близкая парусил, на которую надеялись Иисус и первые христиане, не осуществилась. Иисус не вернулся во славе при жизни Своего поколения
[403]. Большинство тех, кто изучает Новый Завет, без труда распознают проблемы, которые создала для Луки, Иоанна и автора 2 Петр задержка парусии (см. ниже, §§ 71.2–4). Конечно, можно уйти от христологической проблемы возможной ошибки Иисуса по поводу близкой парусии, сказав, что изначальные чаяния были вовсе не о парусии, то есть они были о пришествии (парусии), но о пришествии на облаках небесных к Ветхому днями (Дан 7:13), а не о возвращении на землю — надежда скорее на прославление, чем на возвращение (Мк 14:62)
[404]. Если это так (а меня лично это не убеждает), то упование на парусию оказывается вторичной идеей, и у нас есть еще один важный элемент многообразия.
Как, наконец, быть с
предсуществованием и
божественностью? У нас нет четких свидетельств того, что Иисус мыслил Себя пред существующей сущностью
[405]. Конечно, первоначальная христология представляется отчетливо "адопцианской" по своему характеру (даже если этот термин несколько устарел); уйти от этого вывода мне очень трудно (см. выше, §§, 4.5,11.2,12.3, 51.1, 2). Возможно, лишь когда традиция об Иисусе сложилась как "жизнь Иисуса", акцент в апологетическом использовании Пс 2:7 переместился с воскресения Иисуса на Его опыт на Иордане. Представление о предсуществовании впервые вошло через христологию Премудрости, где Иисус понимался как воплощение и наиболее полное выражение Премудрости. Вначале понятие пресуществования, возможно, относилось только к Премудрости как таковой, а человек Иисус был тем, кем Премудрость стала. Но в четвертом Евангелии уже начинает возникать понятие о личном предсуществовании Самого Иисуса. Не вполне ясно, как это увязывается с представлением о непорочном зачатии, которое мы встречаем у Матфея (и Луки); хотя представления о воплощении и о непорочном зачатии необязательно несовместимы
[406]. Как бы то ни было, не будет упрощением утверждать, что началом христианской истории для Марка является Иоанново крещение (Мк 1:1), для Матфея и Луки — зачатие Иисуса Марией, а Иоанн считает, что она началась даже прежде самого творения (Ин 1:1–2).
Представление о
божественности Иисуса, по–видимому,
появилось относительно поздно, в I в. Для Павла
воскресший Христос — еще не
объект поклонения: Он является темой богослужения, Его прославляют, присутствие воскресшего в Духе и через Духа объединяет молящуюся общину,
герез Него молитвы достигают Бога (Рим 1:8, 7:25, 2 Кор 1:20, Кол 3:17), но Он не объект поклонения и молитвы. Павел воздерживается от того, чтобы именовать Иисуса Богом. Даже титул "Господь" вводится скорее для отличения Иисуса от Бога, чем для отождествления их (Рим 15:6,1 Кор 8:6, 15:24–28,2 Кор 1:3,11:31, Еф 1:3,17, Флп 2:11, Кол 1:3). Павел был и оставался монотеистом (см. выше, § 12.4). Лишь к концу I в. в Пастырских посланиях Иисуса начинают называть Богом (Тит 2:13); это же относится и к четвертому Евангелию (Ин 1:1,18, 20:28)
[407].
Таким образом,
"Керигматический Христос" — это не единая или простая формулировка, а довольно широкое многообразие формулировок, охватывающее широкий спектр различных пониманий "события Христа", которые не всегда полностью совмещаются друг с другом и которые с течением времени меняются и развиваются.
§ 52. Выводы
52.1.
Многообразие. После приведенного выше обзора (§ 51.3) возникает искушение спросить: "А возможно ли вообще реконструировать действительную христологию?" Ведь в
христианстве I в. была не единая христология, а многообразие христологий. Не существует единой христологии, на которую можно было бы указать: "Вот тот взгляд на Христа, который считали правильным церкви I в." Конечно, есть формулировки, которые отвергают и Павел, и авторы Иоанновых писаний (2 Кор 11:4,1 Ин 4:2–3 — см. ниже, §§ 62.3,64.3), но единой ортодоксальности нет, во всяком случае единой всесторонней ортодоксальности. Собственно говоря, то, что многие христиане прошлого и настоящего считали ортодоксальной христологией, можно назвать (не совсем несправедливо) причудливой смесью разных элементов, заимствованных из различных христианских источников I в.: личное предсуществование — у Иоанна, непорочное зачатие — у Матфея, чудотворчество — из так называемой христологии "божественного мужа", присущей некоторым эллинистическим христианам; смерть как искупление — у Павла, характер воскресения — у Луки, нынешнее служение — из Послания к Евреям, а надежда на парусию — из сочинений ранних десятилетий. Современный автор вполне может озаглавить свое сочинение "Иисус — один, много ли Христов?"
[408], хотя правильнее говорить: "Иисус один, христологий много".
52.2.
Единство. Тем не менее в этом многообразии можно ясно различить объединяющий элемент:
отождествление человека Иисуса с воскресшим Господом, убежденность в том, что небесная реальность, проявившаяся в керигме и Писании, в общине, в богослужении и религиозном опыте, — Тот Самый Иисус, о котором сообщает традиция об Иисусе. Так, для Павла воскресший именно Тот, Кто был распят, последний Адам, имеющий плоть, подобно первому; Дух — именно Дух Иисуса, дающий возможность верующему повторить молитву земного Иисуса — "Авва, Отче". Для Марка Евангелие — о Сыне Божьем, но оно и о страдании Сына Человеческого. Менее ясно единство у Луки, но и для него человек Иисус и Господь Иисус — одно и то же лицо, ибо он называет Иисуса своих повествований Господом (напр., Лк 7:19,10:1), а свою вторую книгу он, очевидно, считает дополнением к первой (Деян 1:1–2)
[409]. Отождествление Иисуса из Назарета с небесным присутствием в молитве мы видели у Матфея (особенно в 11:28–30 и 18:20)
— возможно, это слова прославленного Христа, приписанные без ощущения несообразности земному Иисусу (см. выше, § 18.3). Ключевой момент аргументации в Послании к Евреям заключается в следующем: Иисус
теперь является первосвященником в небесном святилище только потому, что
был и
остается человеком, знает человеческую немощь изнутри и "усовершен через страдания" — в силу этого Он назван священником и может служить как священник (2:6–18, 4:14–5:10). В Первом послании Петра людей, терпящих преследования, ободряют примером Иисуса, который достойно претерпел страдания (2:21–23, 4:1, 13–14, 5:1) и Своим воскресением подал надежду на грядущую славу (1:7, 11,21,4:13, 5:1,4,10). В Откровении центральным образом Христа является Агнец, "стоящий, словно закланный" (5:6, ср. 5:9); прославленный Христос — именно тот агнец, который был заклан и который все еще носит следы роковой раны (см. также ниже, § 68.3. в).
Но выше всего Иоанн. Его вдохновенный гений ярче всего проявляется в том, как он сплетает воедино два основных христологических направления — Тот, Кто был,
есть — или, может быть, точнее, Тот, Кто есть, был. Таким образом, он представляет земного Иисуса
уже с позиций славы. В замечательной беседе о хлебе жизни (Ин 6) хлеб жизни — Тот, Кто воплощен, но также Тот, Кто умер, был прославлен и теперь осуществляет служение (6:51, 62–63). На протяжении всего этого Евангелия нам указывают на вершину служения Иисуса — это именно единство смерти и прославления: единый порыв вверх воздвигает Иисуса на крест в вознесение и прославление (см. выше, § 18.4, и прим. 22). Дух представлен как другой Утешитель,
alter ego воплощенного Логоса, Чей приход есть возвращение Иисуса, чтобы пребывать в учениках. Поэтому будущая жизнь, суд и воскресение уже предвосхищены в Христовом "здесь и теперь" (3:18–19,5:24,11:25–26) — прошлое, настоящее и будущее связаны в славное единство.
Конечно, необходимо добавить, что с очень раннего периода первые верующие считали важным говорить о предсуществовании Христа. Реальность Христа не может быть адекватно постигнута только благодаря событиям воскресения и прославления. Иисуса надлежит воспринять не просто как проповедника эсхатологического Царства Божьего или как человека, с помощью которого люди приходят к Богу, но как выражение откровения Божьего и искупительного замысла, как воплощение божественной Премудрости, которая всегда проявлялась во всех деяниях Божьих. Это убеждение развивалось от использования более традиционных формулировок о Премудрости у Павла и в Послании к Евреям к смелому учению Иоанна об Иисусе как воплощенном Логосе, знающем о Своем предсуществовании. Поэтому можно подытожить: христологический момент стал все больше и больше сосредоточиваться на воплощении, в то время как сотериологический момент колебался между воплощением и искуплением. В конечном счете все эти размышления исходят из того соображения, что человек, таким образом прославленный, должен превосходить обычного человека — не только представляя и воплощая человека (Адама, "человека" из Пс 8), но и каким‑то образом представляя Бога, воплощая Премудрость Божью. В конце концов, все это проистекает из исходного утверждения, что человек Иисус был после смерти прославлен.
52.3. Мы также можем утверждать
единство между историческим Иисусом и керигматическим Христом. То есть тождественность человека Иисуса проповедуемому Христу объединяет не только разнообразные керигмы в одну, но и
допасхальную проповедь Иисуса с послепасхальной керигмой первых христиан. Две прочные линии преемственности связывают обе стороны Пасхи. 1) Наблюдается близкое сходство между тем
отношением с Богом, которое Иисус стремился привить Своим ученикам, и тем, которое пыталась создать керигма ранних верующих (обращение "авва" благодаря действию эсхатологического Духа). Более того, по обе стороны Пасхи мы находим осознание того, что эта близость каким‑то образом
зависит от Иисуса — сыновство, которое Иисус желал разделить со Своими учениками (Лк 11:2), и стремление первых христиан разделить сыновство Иисуса (Рим 8:15–17); Дух/сила, которые первые христиане видели в Иисусе ("Дух Иисусов"), были таковыми уже в представлении Самого Иисуса (Мф 12:28). 2) Служение Иисуса отличает
устремленность в будущее, которое простирается и за Пасху, в то время как первохристианскую проповедь характеризует
ориентация на прошлое, охватывающее период до Пасхи. Эти две линии тесно соединяются. Другими словами, Иисус ожидал будущего оправдания, и оно было не очень далеко от того оправдания, которое, как верили первые христиане, Он получил через воскресение. В то же время христиане I в. оглядывались на земного Иисуса, на Его жизнь и служение, считая это, наряду с вестью о Его смерти и воскресении, основным критерием испытания новых откровений и своего понимания и обычаев "веры Христовой" (§ 48.3).
Итак,
тождественность исторического Иисуса керигматическому Христу является той основой и скрепляющим цементом, которые превращают в единый сплав грезвычайное многообразие христианства I в. Преемственность между проповедью Иисуса и послепасхальным провозвестием, согласие различных керигм в том, что Иисус из Назарета и прославленный Христос — одно и то же лицо, — вот сердцевина, вокруг которой группируется все многообразие новозаветного христианства. Можно поставить этот вопрос иначе, что пробуждает прежние споры: даже в представлениях Самого Иисуса и в Его служении, Он не является всего лишь человеком перед Богом, а в послепасхальной христологии Он никогда не предстает просто как Бог перед человеком. Даже в Его собственном служении есть какой‑то элемент божественной отмеченности, подобно тому как ни для одного из новозаветных авторов прославленный Христос никогда не переставал быть Иисусом из Назарета. В Иисусе и божественное, и человеческое тесно соединены и до Пасхи, и после нее, по–разному, в разных пропорциях, но всегда вместе.
52.4. Важно снова подтвердить сказанное в конце II главы (§ 7.1):
эта объединяющая сердцевина является абстракцией. Если мы обратимся к любой из рассмотренных в предыдущих главах областей, то увидим, что выражающееся в провозвестии, исповедании, апологетике, богослужении и т. д. самопонимание всегда более полно, чем сама объединяющая сердцевина. Основные новозаветные богословы (Павел и Иоаннова школа) вполне четко сознают то главное и объединяющее, что служит критерием веры и поведения. Но когда им приходится обозначать те или иные конкретные вопросы христианского учения, то они используют гораздо более красноречивые формулировки. Оно и неизбежно, коль скоро им приходилось ясно и вразумительно объяснять какие‑то ситуации своим потенциальным читателям. Но это значит, что, как только мы удаляемся от объединяющего стержня, выражения христианской веры, молитвы и жизни становятся все более многочисленными и разнообразными. Собственно говоря, многообразие более свойственно началу христианства, чем единство. Более того, многие из проявляющихся особенностей фактически неотъемлемы от этих различных самовыражений. Итак,
христианству I в. присуще и многообразие, и единство. В Новом Завете нет единого четкого определения христианства или христологии. Если мы признаем наличие в христианстве I в. основной христологической нити, то должны признать и наличие в нем множества других различных нитей, в разных местах переплетающихся с основной и образующих самые причудливые узоры. Ниже, в заключительной главе, мы более подробно рассмотрим все эти переплетения.
52.5. Из трех основных вопросов, поставленных в предпоследнем абзаце § 49, мы подробно рассмотрели только два. В отношении третьего можно сделать лишь несколько замечаний, ибо он затрагивает темы, далеко уходящие за рамки нашего предмета. Но очевидно, что проблема чрезвычайно важная:
мы обнаружили в новозаветной христологии единство и многообразие. А ч
то можно сказать о традиционной христологии? Как их соотнести? Насколько укоренена последняя в Новом Завете? Проблему можно проиллюстрировать, вспомнив, как первоначальное исповедание Всемирным советом церквей "Господа нашего Иисуса Христа Богом и Спасителем" было в 1961 г. расширено Ассамблеей в Нью–Дели добавлением слов "по Писаниям" и ясной тринитарной формулировки. Совершенно правильно здесь Писания рассматриваются как источник нормативного определения христианской веры (см. ниже, гл. XV). Но как быть с
многообразием новозаветной христологии? А если действительно лишь в позднейших произведениях Нового Завета Иисуса стали называть Богом? Если зрелая тринитарная концепция Бога — лишь одно из возможных истолкований гораздо более неоднозначного языка и подходов Павла, Иоанна и других авторов? Как относиться к тому, что во всем Новом Завете лишь Пастырские послания и Второе послание Петра восторженно именуют Иисуса: "Спаситель"?
[410] Что, если сдвиг в христологическом моменте от воскресения–прославления к воплощению, сделавший возможным расцвет в последующие века христологии Логоса и александрийской христологии, лишь намечался в последнем из четырех Евангелий и в одном из последних писаний Нового Завета? Конечно, в этом случае традиционная христология может претендовать на то, что у нее имеется какая–то точка опоры в Новом Завете — по крайней мере одно из различных направлений, группирующихся вокруг объединяющего стержня, прямо приводит к формулировкам последующих веков. Но как быть с другими направлениями, с первохристианским "адопционизмом", с нежеланием Павла молиться Иисусу и называть Его Богом, с центральной христологической и сотериологической значимостью для авторов Нового Завета в целом именно смерти и воскресения Иисуса, нежели представления о воплощении предсуществующего божества? Как быть с гораздо более скромной ранней христологией Премудрости и тем фактом, что Иисус, видимо, считал Себя лишь посланцем Премудрости; с достаточно скромным самопониманием исторического Иисуса — был ли Иисус гораздо большим, чем Сам Себя ощущал? Иначе говоря, сколь типичным для христианства I в. является сформулированное Всемирным советом церквей исповедание Христа? Насколько оно действительно "по Писаниям"? Не следует ли оставить место большему многообразию выражения или, по крайней мере, большей осторожности и неуверенности, чем позволяют эти жесткие определения?
[411] Конечно, можно сказать, что первые Вселенские соборы указали, какое из направлений новозаветной христологии действительно важно — из разнообразных наполовину сформировавшихся представлений и исповеданий веры христианства I в. они взяли и развили те, что наиболее правильно отражали реальность, которая была (и есть) Христос. Но тогда это христология не просто "по Писаниям", а
по одному конкретному истолкованию Писаний — восторжествовавшему над другими истолкованиями, так же приемлемыми, но заклейменными победившей ортодоксией как ересь. Конечно, иудей может такой же критике подвергнуть истолкование иудейских писаний Новым Заветом. Но это поднимает важные вопросы о месте и норме откровения и авторитета. Некоторые из них нам удастся прояснить во второй части книги, и к ним мы еще вернемся в XV главе
[412].
Часть вторая.
Разнообразие и единство?
XI. Иудеохристианство
§ 53. Введение
Как мы выяснили, многообразие христианства I в. означало единство. Теперь необходимо рассмотреть диапазон этого многообразия. Иначе говоря, насколько разнородным было многообразие христианства I в. Если представить христианство I в. в виде круга, то его центр мы уже нашли. После этого зададимся вопросом: существовала ли окружность, обозначавшая его пределы? Если да, то четкая ли или едва различимая? Может быть, она стала возникать только во втором, третьем и последующих поколениях христиан?
Что касается второй части вопроса, то, видимо, проще всего исходить из более поздней ситуации. Нам известно, что со второй половины II в. возникающая великая Церковь начинает четко отграничиваться от конкурентов — в особенности от различных иудеохристианских сект, разновидностей гностического христианства, маркионитов и восторженного апокалиптизма монтанистов. Вопрос можно поставить следующим образом: были ли похожие или аналогичные границы уже в новозаветный период? Или некоторые черты и акценты христианства I в. лежали в областях, позднее исключенных развивающейся ортодоксией? И где приемлемое многообразие становилось неприемлемым?
Сложившееся в последние десятилетия II в. положение позволяет выделить четыре основные области, в которых можно надеяться найти ответы на эти вопросы. За неимением лучшего я озаглавил соответствующие главы следующим образом: "Иудеохристианство", "Эллинистическое христианство", "Апокалиптическое христианство" и "Ранняя кафоличность". Поскольку все эти названия не очень удовлетворительны и спорны, сразу подчеркну:
1) они обозначают не взаимоисключающие сегменты первохристианства, а скорее величины и акценты в нем, которые частично совпадают и в определенной степени взаимодействуют, но все же могут быть подвергнуты раздельному анализу без излишнего упрощения;
2) они не предполагают какой‑либо особенной связи и преемственности между этими величинами и акцентами и ясно выраженными сектами и "ересями" II, III и последующих веков.
Терминологическая сложность связана с самим словом "иудеохристианство". Иудеохристианскими вполне справедливо можно назвать все книги Нового Завета, которые в большей или меньшей степени выражают наследие обратившихся в христианство иудеев (см. выше, § 20). Термином "иудеохристианство" можно определить первое поколение христиан, оставшееся в Иерусалиме (и Палестине), и особенно тех, кто, согласно Евсевию Кесарийскому
(Церковная история, III. 5.3), бежал из Иерусалима через Иордан в Перей (как и их преемники). Наконец, с термином "иудеохристианство" можно связать примерно четыре ясно выраженные иудеохристианские секты II и III вв., считавшиеся некоторыми ранними Отцами Церкви еретическими (см. ниже, § 54.2, прим. 5)
[413]. В настоящей работе я использую слово "иудеохристианство" в общем смысле; оно особенно охватывает два последних значения, но скорее для постановки вопроса об их взаимном соотношении, а не для указания на какую‑то конкретную взаимосвязь.
Подобным образом все христианство I в. можно отнести к "эллинистическому христианству", поскольку и вся палестинская, и вся иудейская жизнь и мысль в той или иной степени находились под влиянием эллинизма
[414]. Например, Евангелие от Матфея точнее было бы охарактеризовать не как иудеохристианский, а как эллинистическо–иудеохристианский памятник. Здесь нам придется использовать выражение "эллинистическое христианство" в более узком смысле: применительно к христианству за пределами Палестины и вне иудаизма; применительно к христианству, распространившемуся среди язычников и испытывавшему воздействие философских систем, мистериальных культов и гностических движений восточно–эллинистического синкретизма Восточного Средиземноморья (включая влияние иудаизма). Такие альтернативные краткие наименования, как "языческое христианство" или "гностическое христианство", слишком узки и даже обманчивы.
Не менее спорны последние два названия. "Апокалиптическое христианство" обозначает влияние на христианство I в. иудейской апокалиптики. Здесь возникают такие вопросы: в какой степени был присущ христианству I в. апокалиптизм? Насколько в нем была развита апокалиптическая эсхатология? Достаточно ли она была защищена от фанатизма, по вине которого апокалиптический энтузиазм впоследствии приобрел дурную репутацию в глазах ортодоксии? "Ранняя кафоличность" ставит вопрос противоположным образом: присутствуют ли (и в какой степени) отличительные признаки возникающей кафоличной ортодоксии уже в Новом Завете? В какое время начинают создаваться бастионы поздней ортодоксии?
Конечно, эти четыре названия не претендуют на окончательное или исчерпывающее описание всего феномена христианства I в. Можно придумать и другие названия, по–иному расставляющие акценты. Перед нами же стоит ограниченная задача: определить степень разнородности первоначального христианства, сфокусировав внимание на тех его областях и направлениях развития, где многообразие достигло наибольшего выражения. Так мы можем надеяться определить, где проходила грань между приемлемым и неприемлемым многообразием.
Сначала в этой главе мы сопоставим первоначальную форму христианства и то иудеохристианство, которое во II и III вв. стали считать ересью: каковы их сходство и возможная преемственность? Затем перейдем к рассмотрению промежуточного периода, постаравшись определить отличие приемлемого многообразия новозаветного иудеохристианства от неприемлемого многообразия эбионитов.
§ 54. Насколько "ортодоксальным" было раннее палестинское христианство?
54.1.
Первые христиане были иудеями. Даже если принять рассказ Луки о числе народов, присутствовавших на Пятидесятнице, все они были "иудеи и прозелиты" (Деян 2:10). Хотя они верили, что Иисус — Мессия и воскрес из мертвых, по положению и взглядам они оставались иудеями. При этом, конечно, их вера в
распятого Мессию и
уже начавшееся или свершившееся воскресение казалась большинству остальных иудеев странной (ср. 1Кор 1:23). Это было небольшое тайное мессианское собрание, эсхатологическая секта в иудаизме. Но во всем, что было существенным для иудаизма, они по–прежнему думали и действовали как иудеи. Это можно показать с достаточной вероятностью.
а) Очевидно, они считали себя венцом иудаизма — тем, что Павел позднее назвал "Израилем Божьим" (Гал 6:16). "Двенадцать", вероятно, составляли ядро ранней общины, выступая в роли представителей эсхатологического Израиля (Мф 19:28/Лк 22:29–30, Деян 1:21–22, Шор 15:5, см. выше, § 28.2)
[415]. Первоначально вечеря Господня, возможно, была трапезой Нового Завета (см. выше, § 40.4 и ниже, § 67.3).
б) Очевидно, они не считали слова и действия Иисуса враждебными закону и, несомненно, продолжали его соблюдать. Поэтому фарисеи не видели в почитании ими Иисуса никакой (или почти никакой) угрозы (Деян 5:33–39). Многие присоединились к христианам, оставаясь при этом фарисеями (Деян 15:5,21:20). Именно по этой причине иерусалимских верующих так потряс эпизод с Корнилием: им и в голову не приходило, что вера в Иисуса может упразднить закон очищения (Деян 10:14,45; 11:2–3; см. выше, § 16.3).
в) Они, видимо, не отказывались от посещения Храма, молясь там каждый день в определенные часы (Деян 2:46, 3:1). Они собирались там регулярно — и для того, чтобы взаимно поддержать друг друга, и для того, чтобы учить и благовествовать (5:12, 20–21,25,42). Рассказ Луки о самом раннем периоде жизни новой общины заканчивается сообщением о том, что они не отлучались из Иерусалима, а Храм по–прежнему играл для них важнейшую роль (5:42). Более того, поскольку предание сохранило слова Иисуса в Мф 5:23–24, для первых христиан они, видимо, еще имели значение, то есть христиане продолжали приносить, согласно традиции, жертвы (см. сходный подтекст Деян 21:24; см. также выше, § 34.2).
г) Их вера в близость второго пришествия Иисуса, Сына Человеческого, Мессии и Господа (см. выше, §§ 9.3,10.2,12.2,3,51.1 и ниже, § 67.3), видимо, не выходила за рамки иудейских эсхатологических чаяний. Возможно, это было основной причиной их тесной привязанности к Иерусалиму и сосредоточенности вокруг Храма, ибо, как следует из Мал 3:1, Храм играет важнейшую роль в грядущем завершении. Предание, сохранившее загадочные слова Иисуса о разрушении и восстановлении Храма (Мк 14:58,15:29; Ин 2:19 — см. выше, §18.3), с очевидностью свидетельствует: первые христиане уповали на обновленное служение в эсхатологическом храме (см. ниже, §67.3. в).
д) Это объясняет и тот факт, почему первоначальная иерусалимская община оставалась безразличной к язычникам и проповеди за пределами Иерусалима. Помыслы первых христиан по–прежнему ограничивались пределами Израиля (Деян 1:6, 21–22; 2:39 — "всех дальних" = иудеев диаспоры; 3:25,5:31, ср. Мф 10:5–6,23,15:24)
[416]. Если они и думали о язычниках, то, видимо, в рамках давних чаяний о том, как в новом веке язычники (в качестве эсхатологических прозелитов) соберутся вместе с иудеями диаспоры к горе Сион для поклонения Богу (напр., Пс 21:28; Ис 2:2–3, 56:6–8; Соф 3:9–10; Зах 14:16; Тов 13:11; Зав Вен 9:2; Пс Сол 17:33–35; Сив Ор 111:702–718, 772–776). Эту перспективу и надежду, возможно, разделял и Иисус (Мф 10:5–6, 23,15:24 — также Мф 8:11–12/Лк 13:28–29 и Мк 11:17 = Ис 56:7 — слова, сказанные во Дворе язычников)
[417].
Итак, по–видимому,
первоначальная община никоим образом не считала себя новой, отличной от иудаизма религией. Ее члены не ощущали разницы между собой и ближними иудеями. Они просто рассматривали себя как исполнение иудаизма, начало эсхатологического Израиля. По–видимому, и иудейские власти тоже не считали, что они очень сильно отличаются: с точки зрения властей, им были присущи (подобно другим иудейским толкам) некоторые странности, но в остальном они были полностью иудеями. Более того, поскольку в иудаизме орто
праксия всегда была важнее орто
доксии (то есть правильные
дела важнее правильных
взглядов), первые христиане не просто были иудеями, но по сути оставались вполне "ортодоксальными" иудеями.
Отметим, что именно с этой группы началось собственно христианство. От большинства остальных иудеев их отличала только вера в воскресшего Мессию Иисуса, а также в близость последних дней. Еще не было характерных для христианства черт, которые оно приобрело позже благодаря Павлу. Гимны, которые мы находим у Луки, очевидно, использовались в этой общине с самого начала. Мы уже видели, как мало в них специфически христианского (см. выше, § 35.1). В целом это было такое христианство, которое мы сегодня могли бы и не узнать, — иудеохристианство или — что, вероятно, точнее — иудейский мессианизм, мессианское возрождение, характеризовавшее иудаизм до 70 г.
54.2. Оставим на время первоначальное христианство и заглянем на 150 лет вперед. Во II веке мы увидим совсем иную картину: иудеохристианство не только не единственная форма христианства, а его подчас считают неортодоксальным и еретическим. Существовало не менее четырех иудеохристианских групп
[418], чьи взгляды отличались от возникающей великой Церкви. По крайней мере одна из них сохранила название первых христианских общин — назареи (ср. Деян 24:5). Возможно, это название свидетельствовало о желании оградить истинное предание от антиномизма, присущего, по мнению иудеохристиан, остальным христианским общинам. Лучше всего известна группа
эбионитов, неоднократно упоминавшаяся в полемике великой Церкви с иудеохристианской ересью
[419].
Насколько можно судить, еретическое иудеохристианство отличалось тремя важными особенностями (хотя, конечно, в неодинаковой степени присущие различным общинам — см., напр., ниже, § 57.1).
а)
Верность закону. Иустин Мученик знал об иудеях, веровавших во Христа и соблюдавших закон, но не настаивавших на том, чтобы так поступали и прочие христиане. Знал он и тех, кто не только сам соблюдал закон, но и принуждал к этому верующих из язычников: либо те будут "жить во всех отношениях по Закону, данному Моисеем", либо верующие иудеи удержатся от полного общения с ними
[420]. О назареях Епифаний говорит:
Лишь в этом отличны они от иудеев и христиан: с иудеями они не согласны из‑за веры во Христа, с христианами — потому что научены соблюдать закон, обрезание, субботу и прочее[421].
Похожи на назареев и эбиониты (согласно Иринею):
Они совершают обрезание, блюдут обычаи, соответствующие закону, ведут иудейский образ жизни, так что поклоняются Иерусалиму, будто бы он был домом Божьим[422].
Иудеохристианский подход наиболее сильно выражен в псевдо–Климентинах и основополагающем произведении, известном как
Kerygmata Petrou ("Проповедь Петра", ок. 200 г. н. э.?). Согласно ему, Иисус был величайшим из "истинных пророков", последним в ряду, восходящем к Адаму и включающем, конечно, такую важную фигуру, как Моисей. Истинный пророк был носителем божественного откровения, а именно закона. То есть Иисус не только не стремился запрещать или отвергать закон (в этом обвиняли Павла), но даже и придерживался его, привнося изменения, способствующие выявлению истинных идей Моисея
[423].
б)
Возвеличивание Иакова и принижение Павла. Менее важная черта, чем верность закону, — возвеличивание Иакова. Оно выражено в псевдо–Климентинах, где Иаков появляется как первый глава Иерусалимской церкви — "Господом рукоположенный епископ"
(Bcmpeчu, 1.43). Петр и другие апостолы рассматриваются как подчиненные по отношению к Иакову. Они держат ответ перед ним (см., напр.,
Bcmpeчu, 1.17,72; IV.35;
Гомилии 1.20; XI.35). Климентинам предшествует послание, в котором Петр обращается к Иакову как к владыке и епископу святой Церкви. Подобным образом Климент адресует послание:
Иакову, владыке и епископу епископов, правящему Иерусалимом, святой церковью еврейской и церквами повсюду, превосходно основанными промыслом Божьим…
Иероним приводит важный для нас здесь фрагмент Евангелия евреев, который идет "после повествования о воскресении Господа":
И когда Господь отдал льняные одежды слуге священника, Он пошел к Иакову и явился ему. Ибо Иаков поклялся, что не будет есть хлеб с того часа, как он выпил чашу Господа, до тех пор, пока не увидит Его восставшим…[424]
Отметим, как подчеркивается особое положение Иакова: он присутствовал на Тайной вечере, воскресший Иисус явился сначала ему (а не Петру или Двенадцати). Очевидно, что Евангелие происходит из общины, где наиболее почитаемой фигурой первоначальной Церкви был Иаков. По сути именно через Иакова достигалась неразрывная связь с Иисусом (Иаков был на Тайной вечере). Иаков выступал в качестве авторитетного свидетеля воскресения Иисуса, в первую очередь явившегося именно ему. Заслуживают упоминания два других отрывка. Согласно Епифанию, эбиониты писали книги, которые выдавали "за книги Иакова, Матфея и других учеников" (отметим два названных имени). Наконец, Марий Викторин связывает происхождение (иудеохристианской) секты симмахиан с Иаковом
[425].
Возвеличиванию Иакова сопутствует принижение Павла. Ириней, Ориген, Евсевий и Епифаний упоминают отрицание Павла в качестве одной из особенностей эбионитов и других иудеохристианских сект
[426]. В псевдо–Климентинах содержатся нападки на Павла (объединенного с образом Симона–мага). Петр называет его своим врагом
(Послание Петра, 2:3), отрицает, что Павлу явился воскресший Христос: происшедшее с Петром в Кесарии Филипповой (Мф 16:16–17) научило его, что "откровение — это знание, которое не получишь в процессе обучения, во время видений и снов".
С другом говорят лицом к лицу, открыто, а не через загадки, видения и сны, будто с врагом. Поэтому если наш Иисус явился тебе в видении, открылся тебе и говорил с тобой, это больше, как если бы кто столкнулся с врагом
(Гомилии, XVII.18–19)[427].
В целом иудеохристиане считали Павла нечестивцем, по вине которого остальные христиане отвергли закон и который сам был отступником от закона.
в)
Адопцианство. Часто упоминается о такой особенности христологии эбионитов: вера в абсолютно естественное (от Иосифа и Марии) появление на свет Иисуса
[428]. В связи с этим следует отметить, что они пользовались только Евангелием от Матфея
[429], причем, согласно Епифанию, неполным и искаженным (без первых двух глав). То есть эбиониты отвергли генеалогию Иисуса и рассказ о его рождении от девственницы
[430]. У Епифания наиболее четко говорится об адопцианстве эбионитов:
Христа они называют пророком истины и "Христом, Сыном Божьим", поскольку Он сделался праведником и Бог Его прославил… Они хотят, чтобы Он был только пророком и человеком, Сыном Божьим и Христом — простым человеком, как мы уже сказали, который праведной жизнью достиг права называться Сыном Божьим[431].
То есть Иисус звался Христом и Сыном Божьим потому, что Дух/Христос на Иордане на Него сошел, и потому, что Он соблюдал закон
[432]. Таков, видимо, смысл рассказа эбионитского Евангелия от Матфея о крещении Иисуса:
И когда Он выходил из воды, небеса раскрылись, и увидел Духа Святого, сходившего как голубь, и Он ниспустился на Него. И раздался голос с неба: Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение. И снова: В сей день Я породил Тебя[433].
Возможно, существенно и то, что в этой версии Иоанн Креститель узнает Иисуса (Мф 3:14) после схождения Духа и гласа с неба
[434].
Соотношение между Христом и Иисусом у эбионитов не вполне ясно, и его еще предстоит исследовать более глубоко. Епифаний сообщает, что, согласно эбионитам, Христос "был не рожден Богом Отцом, но создан как один из архангелов… и что Он — Господь над ангелами"
[435]. Это соответствует взгляду псевдо–Климентин, по которому Дух Христов был явлен в повторных воплощениях пророка истины от Адама и дальше (см. особенно
Гомилии псевдо–Климента, 111.20). Возможно, Иисус был последним воплощением: теперь они уповали на второе пришествие Иисуса как Христа
(Встречи, 1.49,69)
[436].
54.3. Три основные отличительные черты еретического иудеохристианства сразу выявляют поразительную вещь:
еретическое иудеохристианство весьма похоже на веру первых обращенных иудеев.
а) Как мы уже сказали, первые христиане хранили верность закону (см. выше, 54.1.6). Когда христианское благовестие начало распространяться за пределами Палестины, христиане из иудеев пожелали сохранить обрезание, субботу и законы очищения, что явилось причиной многих серьезных проблем и споров (ср. Деян 15:1–3; Рим 14:1–5; Гал 2:4–5,12–13, 4:10, 5:2–4, 6:12–14; Флп 3:2; Кол 2:16–17, 20–22). Отметим также, что раннехристианская проповедь, видимо, включала взгляд на Иисуса, как на пророка, подобного Моисею, приход которого был предсказан самим Моисеем (Втор 18:15–16; также Деян 3:22, 7:37, ср. Лк 1:68–79 — см. выше, § 35.1.6).
б) Когда мы впервые встречаем в раннехристианской литературе упоминание об Иакове, брате Иисуса, он уже входит в руководство Иерусалимской церкви (Гал 1:19). Очень скоро он становится во главе общины, затмевая по важности самого Петра (Гал 2:9,12; Деян 12:17,15:13–15 — см. выше, § 28.2). Что касается враждебности Павлу, то из письма самого Павла к галатам мы знаем о его непопулярности среди верующих иудеев. Антагонизм был столь острым, что Лука даже попытался его слегка смягчить (Деян 15:1–2, 21:20–21 — см. ниже, § 56.3).
в) Адопцианская христология эбионитов, по–видимому, прочно коренится и в попытках первых христиан выразить веру в Иисуса Христа (Деян 2:36,13:33; Рим 1:3–4; Евр 5:5, ср. Флп 2:9–11 — см. выше, §§ 11.1–2,51.1). Отметим и Деян 2:22 — "Иисуса Назорея, Мужа, Богом отмеченного для вас…" и 10:38 — способный благотворить и исцелять, "потому что Бог был с Ним" (см. выше, § 4.5). Может играть роль и то, что авторам ранних произведений Нового Завета (Павлу и Марку), кажется, ничего не известно о непорочном зачатии (по крайней мере они об этом не упоминают). Подобно евангелию эбионитов, Марк и проповедь в Книге Деяний берут в качестве исходной точки благовестия об Иисусе служение Иоанна Крестителя (Мк 1:1–2; Деян 10:36–37,13:24–25).
По–видимому, лишь одно отличает эбионитов от первых иерусалимских верующих: необычайная враждебность к храмовому культу жертвоприношений
[437]. Это едва ли отражает взгляды первых христиан (см. выше, § 54.1. в), особенно Мф 5:23–24 и Деян 3:1 (где "час молитвы" считается часом вечерней жертвы), хотя для первых христиан жертвы могли быть и второстепенны (что, возможно, нашло отражение в отсутствии жертвенной символики в понимании смерти Иисуса — см. выше, §§ 4.2, 51.1). Враждебность эбионитов скорее обусловлена происшедшим в 60–е годы бегством иудеохристиан из Иерусалима и нарастающим влиянием ессейства в Заиорданье после разрушения Храма
[438]. Менее вероятно, что она вызвана отвержением Храма Стефаном (см. ниже, § 60. д). Едва ли христиане из иудеев так осудили бы культ, в то время как центром служения для них оставался Иерусалим
[439].
Одним словом, если не считать различного отношения к храмовому культу, степень сходства между первыми иерусалимскими верующими и эбионитами поражает. По–видимому, самая близкая параллель
еретическому иудеохристианству II и III вв. — первоначальная община иерусалимских христиан. Конечно, на этом основании еретическое иудеохристианство последующих веков могло вполне справедливо считать себя более истинным наследником первоначального христианства, чем какие‑либо другие разновидности христианства.
Но это лишь фрагмент картины. Если им ограничиться, то скорее всего впечатление будет ложным. Есть еще два важных отличия эбионитов от первых христиан. Прежде всего то, что можно назвать разной
тональностью. Вероучение и практику первоначальной общины в Иерусалиме нельзя назвать сложившимися и сильно выраженными. Это была просто первая стадия перехода от одной из форм иудейского мессианизма к собственно христианству, от одной из форм иудаизма к вере собственно христианской. Отсюда и очевидное различие между двумя формами иудеохристианства: верования и обычаи первой иерусалимской общины находились в состоянии развития и изменения; не было ничего постоянного и окончательного, все было текучим. В то же время эбионитство — сознательное вероучение, противопоставляющее себя другим формам христианства (особенно той, которую олицетворял Павел), продуманное и четко сформулированное. Между этими двумя формами, несомненно, есть связь и преемственность, но эбионитство сделало изначально жесткой развивающуюся и меняющуюся традицию.
Отсюда следует и второе различие: во
времени. Верования и обычаи первой иерусалимской общины были лишь пробной попыткой выразить новизну веры в Мессию Иисуса, воскресшего и вновь грядущего, — выразить в целиком иудейской среде. Эбионитство сложилось в иных условиях: христианство уже вышло за пределы иудаизма и стало в основном языческим. Существенно и то, что произошло это после по крайней мере нескольких решающих споров о соотношении между новой верой и ее колыбелью — иудаизмом. Иными словами, справедливо будет заключить:
эбионитство было отвергнуто потому, что в процессе становления, когда христианству приходилось развиваться и меняться, эбионитство этого не сделало!
Здесь мы видим и своеобразное определение ереси. Еретическое иудеохристианство могло претендовать на происхождение непосредственно от первоначальной формы христианства. Оно могло претендовать на большее согласие с изначальной верой, чем, скажем, Павел. Если первоначальная церковь — норма ортодоксии, то эбионитство соответствует этой норме. Если первоначальность означает чистоту, эбионитство может претендовать на большую чистоту веры, чем остальные формы. Но эбионитство было отвергнуто. Почему? Христианство развивалось, а взгляды эбионитов — нет. Эбиониты оставались верны той форме христианства, которая возникла в самом начале, еще в контексте иудаизма. В изменившейся ситуации II и III вв., когда основные христианские книги уже были написаны, примитивный иудейский мессианизм уже не воспринимался. Одним словом,
еретическое иудеохристианство — это остановившееся в своем развитии христианство, негибкое и не соответствующее задачам благовестия в новую эпоху
[440].
54.4. До сих пор мы рассматривали иудеохристианство двух видов: то, которое существовало в первые годы после своего возникновения в Палестине, и секты II и III веков. А что происходило в промежуточный период? Как менялось в процессе развития первоначальное иудеохристианство, образовывая неиудейские его разновидности на исходе I века? Какие события и споры приготовили путь эбионитству? Как и почему оказался несостоятелен примитивный иудейский мессианизм? Если ответ вообще существует, его следует искать в Новом Завете. Далее мы будем сравнивать различные книги и отрывки Нового Завета с упомянутыми тремя особенностями иудеохристианства II и III вв.
§ 55. Иудеохристианство в Новом Завете:
1) верность закону
Послание к Галатам и Книга Деяний Апостолов отчетливо показывают нам: вопрос об обязательности соблюдения закона для всех верующих стоял в центре споров в христианстве I в. Вопреки многим, если не всем, иерусалимским верующим Павел утверждал, что христиане освобождены от рабства закону. Мы вернемся к этому позже (§ 56). Петр утратил свое влияние в Иерусалиме, возможно, во многом потому, что был гибок и открыт в данном вопросе (ср. выше, § 28.2, и ниже, §76.6).
Более интересно, что в самом Новом Завете мы находим две книги, ясно выражающие иудеохристианское отношение к закону (вопреки взглядам Павла): Евангелие от Матфея и Послание Иакова.
55.1.
Отношение Матфея к закону наиболее ясно выражено в 5:17–19. Возможно, это три независимые логии, собранные Матфеем, хотя ст. 18–19 могли быть уже связаны в традиции (более консервативной?), на которую он опирался. Каково бы ни было их изначальное значение, Матфей, несомненно, понимает их в смысле
верности закону, что для него означает —
закону в интерпретации Иисуса[441]. Что бы ни имел в виду Иисус, говоря об исполнении закона, здесь нет речи об его упразднении. Напротив, "исполнить" определяется через антитезис "разрушить". Иисус пришел не упразднить (об этом сказано несколько раз), а исполнить — то есть, очевидно,
осуществить, выполнить закон,
таким образом поставив его на более прочную основу (5:17). Утверждение усиливает ст. 18 с объяснительным "ибо": Иисус пришел не разрушить, но исполнить, "ибо… пока не пройдут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет в Законе, пока все не сбудется". То есть предполагается, что закон останется незыблемым и нерушимым до конца времен или до полного исполнения воли Божьей. Смысл этого ясно виден из ст. 19: "Поэтому кто упразднит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет назван в
Царстве Небесном" (заметим: не исключение из Царства, но гражданство второго сорта); тогда как "кто исполнит и научит, тот великим будет назван в Царстве Небесном". Отсюда ясно, что закон, "исполняемый" Иисусом,
безусловно действителен для принадлежащих к Царству Небесному. Присутствует и настойчивый упрек другим членам церкви (другим христианам — Мф 8:11), более либеральным в своем отношении к закону. Похожий акцент виден в 23:3: "все, что они [книжники и фарисеи] скажут вам, исполняйте и храните"; и в 23:23: важнейшее в законе (правосудие, милосердие и верность) надлежит исполнять наряду с менее важным (десятина с мяты, аниса и тмина).
Высокое почтение Матфея к закону характеризуется частым употреблением следующих двух слов. Безбожие, против которого он в Евангелии выступает, обозначено у него понятием ανομία
— "беззаконие", "отрицание Закона". Это слово встречается у Матфея чаще, чем в других книгах Нового Завета, и другие евангелисты им не пользуются (у Мф — 7:23,13:41, 23:28,24:12). Он формулирует и воспринимает весть Иисуса как провозглашение верности Закону. Другое характерное для Матфея слово — δικαιοσύνη — "праведность", которое встречается у него семь раз
[442], а в других Евангелиях — только у Лк 1:75 и Ин 16:8,10. Его использование в Мф 5:20 показывает, что для Матфея "праведность" — это соблюдение заповедей (отметим опять "ибо", соединяющее ст. 19 и 20): "если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете вы в Царство Небесное" (ср. 6:1 и, напротив, Лк 18:9–14). Упомянем также подчеркивание Матфеем слова "делать" (ποιείν) применительно к ученикам: этот глагол 40 раз встречается в специальном материале Мф и 22 раза в одной Нагорной проповеди — только
делающий волю Отца Иисуса войдет в Царство Небесное (см. особенно 5:19, 7:21, 24; 12:50,19:16–17, 25:40,45)
[443].
Утверждение Матфеем иудеохристианского отношения к закону можно найти и в двух его редакциях Марка. Например, вопрос о разводе. В Мк 10:2 он звучит так: "Можно ли мужу отпускать жену?" Матфей переформулирует его: "По
всякой ли причине можно отпускать жену свою?" То есть он перефразирует общий вопрос, вводя его в контекст раввинистических споров между школами Гиллеля и Шаммая. Вопрос в формулировке Матфея по сути подразумевает обычную тогда практику разводов и ставит целью узнать мнение Иисуса о преобладавшем подходе Гиллеля (развод дозволен по любой причине). Если Мк 10:11 ничего не говорит об условиях, у Матфея в качестве возможной причины развода называется блуд — такова была более ригористическая позиция Шаммая (19:9; также 5:32). Таким образом, этот отрывок показывает Иисуса принимающим участие в происходивших тогда раввинистических спорах и защищающим более строгий подход последователей Шаммая
[444].
Интересна предлагаемая Матфеем редакция слов Иисуса об истинной чистоте (Мф 15:17–20/Мк 7:18–23). У Марка: "Не понимаете, что ничто, извне входящее в человека,
не может осквернить его? Потому что входит не в его сердце, но в чрево и выходит вон
(тем самым Он объявляет чистой всякую пищу)" (КП). Матфей явно не соглашается здесь с Марком, потому что опустил две ключевые фразы: "Не понимаете ли, что все, входящее в уста, в чрево проходит и извергается вон?" Он не мог избежать давления самого предания (15:11 — "не то, что входит в уста, оскверняет человека…", но 1) смягчил версию Марка (Мк 7:15), будучи не готов принять утверждение Иисуса о
невозможности оскверниться нечистой пищей; 2) полностью исключил интерпретацию Марка, согласно которой отменяется закон о чистой и нечистой пище; 3) добавив 15:12–14 и особенно 15:206 (суммирующее сказанное), он попытался направить силу речей Иисуса против раввинистического истолкования закона (а не самого закона — "есть неумытыми руками не оскверняет человека"). Отсюда можно заключить, что сам
Матфей совсем не собирался оставлять пищевые запреты и не считал, что слова Иисуса означают их отмену[445].
Обращает на себя внимание такая черта Евангелия от Матфея: Иисус изображается как исполнение ветхозаветного откровения. Это особенно хорошо видно в столь характерных для Матфея "интерпретирующих цитатах" (1:22–23,2:5–6,15,17–18,23,4:14–16,8:17,12:17–21,13:35,21:4–5,27:9–10; также отметим 5:17,26:54,56) и в его взгляде на учение Иисуса как на вершину пророческого истолкования закона ("Закон
и Пророки" — 5:17, 7:12,11:13, 22:40). Здесь, видимо, правомерна параллель со взглядом иудеохристиан II‑III вв. на Иисуса как на вершину пророческого откровения (см. выше, § 54.2. а). Если это так, то параллель может быть усилена довольно четко выраженными в Евангелии от Матфея элементами типологии Моисея. Прежде всего я имею в виду (сознательно обозначенную) параллель между убийством невинных младенцев в Мф 2:16–18 и Исх 1:22, аллюзию на египетский плен и исход в Мф 2:13–15, на скитание в пустыне и "сорок дней и сорок ночей" Моисея на Синае в Мф 4:1–11
[446]. Подобно Моисею, Иисус изрекает благословения и проклятия (5:3–5,23:13–15). Поразительнее всего, что Матфей, видимо, намеренно объединил учение Иисуса в пять блоков (5 — 7; 9:36 -10:42; 13:1–52; 17:22 -18:35; 23 — 25). Каждому из них предшествует повествовательный материал, а заключение представлено в виде формулы: "Когда окончил Иисус слова эти (притчи, наставления)…" (едва ли это случайное обстоятельство — 7:28,11:1,13:53,19:1,26:1). Вполне вероятно, что Матфей проводил параллель между учением Иисуса и Пятикнижием Моисеевым
[447]. Едва ли может быть совпадением тот факт, что у Матфея первая часть учения произносится Иисусом на горе (у Луки — "на ровном месте") — здесь опять явно заметна аллюзия на дарование закона на горе Синай
[448].
Все это укрепляет мнение, согласно которому
Матфей был представителем основного направления иудеохристианства. Не вполне ясно, считал ли он, подобно эбионитам, Моисея и Иисуса двумя величайшими пророками
[449], но несомненно,
что он понимал откровение, данное Иисусом, как продолжение и правоверное исполнение Закона, провозглашенного через Моисея.
55.2. Отношение Матфея к закону станет яснее, если мы примем во внимание следующие два обстоятельства. Дело, видимо, в том, что
Матфей стремится защитить закон от искажений с двух сторон. С одной стороны, он вел полемику с беззаконием (ανομία) — в особенности с тем, что считал харизматическим антиномизмом (7:15–23, 24:10–12). Отметим
контраст: Матфей опирается на пророческое вдохновение и духовные силы, но одновременно подчеркивает важность исполнения воли Божьей. Полагающиеся на собственную харизму названы "делающими беззаконие". Вполне возможно, что в общинах, для которых писал Матфей (или поблизости от них), были какие‑то восторженные христиане, полагавшие, будто благодаря своему духовному опыту и харизме они достигли очень высокого уровня и уже полностью свободны от закона. Вопреки им Матфей настаивает, что соблюдение Божьей воли состоит именно в исполнении закона.
С другой стороны, Матфей, по–видимому, выступает против
формального истолкования закона, которое, возможно, имело место в современном ему раввинистическом иудаизме. Именно отсюда могут проистекать сильные нападки на фарисеев за то, что они, согласно Матфею, по сути не соблюдают закон (3:7–10,5:20,15:12–14,16:12,21:28–32,33–46 и особенно 23:1–36). Полемика здесь обусловлена истолкованием закона. Матфей показывает, как новое и глубокое истолкование закона Иисусом часто противостоит фарисейству. Выделяются три особенности. 1. В противовес иудейскому формализму Матфей наиболее четко из всех евангелистов подчеркивает: сущность и средоточие закона — в заповеди
любви (5:43–48, 7:12, 12:1–8,9–14 — именно любовь определяет пути следования закону; 18:12–35,22:34–40). 2. В отличие от других евангелистов Матфей представляет истолкование закона Иисусом как продолжение и вершину выступления пророков против ханжества; особо отметим повторяющуюся ссылку на Ос 6:6 в спорах с фарисеями (Мф 9:13,12:7, акцент на "Законе и Пророках" в 5:17,7:12,11:13, 22:40). 3. Другие отрывки показывают убежденность Матфея в том, что Иисус выступал не против закона, а против раввинистической традиции, умножающей мелочность устного предания. В этом заключается смысл противопоставлений в 5:21–48: Матфей явно желает убедить своих читателей, что учение Иисуса отвергало не сам закон (см. 5:17–19), а устное предание. Резкие высказывания Иисуса возвращают к изначальному смыслу заповедей, раскрывая их глубинный смысл. То же в 5:20: смирение выше фарисейской казуистической приверженности устному преданию (см. также 15:1–20). Одним словом, Матфей соглашался с раввинистическим иудаизмом в том, что соблюдать весь закон необходимо, но, в отличие от раввинов, толковавших закон через разработку заповедей, он показывает Иисуса в русле пророческой традиции: закон истолковывается через любовь и таким образом "исполняется"
[450].
Поэтому получается, что Матфей желал предостеречь своих читателей от двух крайностей: антиномизма и фарисейства.
Весь закон по–прежнему существует, но он выражает волю Божью только тогда, когда истолковывается через любовь. Только так постигается его истинный смысл.
Здесь
Матфей полностью находился в рамках иудеохристианства, которое порождено первой иерусалимской общиной. Его позиция не слишком отличается от позиции первых христиан, хотя она более сознательна и более глубоко продумана. Его отношение к закону, несомненно, намного консервативнее, чем у Павла (или, скажем, у Марка), хотя нет свидетельств, что он выступает против Павла как такового
[451]. Очевидно, что Матфей представляет одну из групп иудеохристианства, которую Павел считал еще не свободной от закона, хотя и имеющей право на существование. По–видимому, лишь в одном вопросе его взгляды отличаются от расплывчатых представлений первых обращенных ко Христу иудеев — отношение к миссии. С одной стороны, он делает уступку более ограниченному представлению о задачах миссии, когда приводит предание о том, что (до Пасхи) Иисус имел в виду лишь проповедь Израилю (10:5–6, 23,15:24). Но с другой — смягчает эту ограниченность, сообщая о призыве воскресшего Христа нести Благую весть всей земле (28:18–20). То же и в отношении его редакции, которая, возможно, означает отказ от воззрения, согласно которому "все народы" в последние дни соберутся к горе Сион (см. выше, § 54.1. д), ибо сначала "всем народам" должно быть проповедано Евангелие (28:19, ср. добавление Матфея в 12:18–21,21:43,24:14).
Итак, представляет ли собой Матфей связующее звено между иудеохристианством первоначальной церкви в Иерусалиме и эбионитством? Можно отметить преемственность в отношении к закону (ср. Мф 5:18 с
Гомилии псевдо–Климента VIII.10 — "вечный Закон"). Подобно эбионитам, он рассматривает Иисуса как исполнение ветхозаветного откровения, восстановление истинного смысла закона. В то же время его "усиление" закона (Мф 5:21–48) носит иной характер, чем у эбионитов
[452], и он, в отличие от последних, предупреждает об опасности казуистического формализма. Поэтому мы, по–видимому, имеем право утверждать: сколь "эбионитским" ни был бы в этом вопросе Матфей, определяющим фактором в соблюдении закона для него была любовь, а значит, он находился в основном русле развивающегося христианства.
55.3.
Послание Иакова — самая иудейская книга Нового Завета, в которой христианские черты весьма неотчетливы.
Наименование "Христос" в этом послании встречается лишь дважды, причем в обоих случаях текст вполне может являться вставкой (1:1, 2:1). Других ясных упоминаний о жизни, смерти и воскресении Иисуса нет. В качестве примера терпения в страданиях приводится не Иисус (ср. 1Петр. 2:21–23), а ветхозаветные пророки и Иов (5:10–11). На основании иудейского и неотчетливо–христианского характера этого послания некоторые считали, что оно изначально было иудейским произведением, с отдельными изменениями, воспринятыми ранней церковью
[453]. Это не исключено, но некоторые черты все же указывают на его христианское происхождение — в особенности упоминание о рождении словом (1:18, ср. 1Кор 4:15, 1Петр. 1:23, 1Ин 3:9), отголоски учения Иисуса, как оно сохранено в (эллинистическом) иудеохристианском Евангелии от Матфея (напр., Иак 1:5,17 = Мф 7:7–9, Иак 1:22–23 = Мф 7:24–26, Иак 4:12 = Мф 7:1, Иак 5:12 = Мф 5:34–37)
[454]. Наиболее вероятно, что Послание Иакова вышло из того же иудеохристианского круга, что и гимны Луки и Евангелие от Матфея. Суть выражаемой им веры в том, чтобы жить по учению Иисуса, полностью оставаясь в рамках иудейского вероучения и обычаев
(в существенных моментах эта вера — христианская, но ее характер в целом скорее иудейский).
Поразительнее всего отрывок Иак 2:14–26, где автор выступает против учения о вере, не подкрепленной делами. По–видимому, это направлено против истолкования Евангелия Павлом, а точнее, против тех, кто воспринял лозунг Павла об "оправдании
(одной) верой". Именно Павел первым выразил так Евангелие (см. особенно Рим 3:28). Таким образом, представление, против которого выступает Иаков, восходит к Павлу. То, что имеются в виду
именно взгляды Павла, подтверждает следующее: Иаков по сути опровергает толкование Павла на Быт 15:6: "Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность". Согласно Иакову, это выражалось в
делах Авраама, а не в его вере — то есть не в "одной вере" (ср. Рим 4:3–22, особенно ст. 3–8, Гал 3:2–7, ср. выше, § 22.2)
[455].
Поэтому наверняка здесь отражены внутрихристианские споры между тем направлением иудеохристианства, которое было представлено Иаковом в Иерусалиме, и направлением, представленным "языческими" церквами, то есть эллинистическими иудеохристианами, испытывавшими сильное влияние учения Павла. Это как раз то прославление Закона — "закон совершенный" (1:25), "закон свободы" (1:25,2:12), "закон царский" (2:8) — как реакция против Павла, которое и отличает эбионитство. Тем не менее Иаков нападает не на Павла как такового, а лишь на его односторонность, на его выдернутый из контекста лозунг. И значит, в худшем случае, Послание Иакова — это выражение взглядов где‑то на полпути к эбионитству. Однако перед нами, несомненно, иудеохристианство, которое сохранило верность Закону, а следовательно, резко критически восприняло характерное для христиан из язычников представление о том, что важны не дела, но вера.
§ 56. Иудеохристианство в Новом Завете:
2) возвеличивание Иакова и принижение Павла
Верность закону дополняет следующая двойная особенность. В среде христиан из иудеев Павел имел дурную славу "отступника от закона"
[456]. Иакова же возвеличивали как раз благодаря его образцовой верности закону
[457]. В самом Новом Завете последнее не так очевидно, хотя заслуживает внимания текст Деян 15:20: именно Иаков определяет минимальный объем обязательных для христиан заповедей. Вспомним, что из всех новозаветных книг несогласие с Павлом наиболее выражено в послании, которое приписывалось тому же Иакову (см. выше, §55.3). Помимо этого имеются еще три отрывка, дающие возможность, так сказать, промерить лотом поток иудеохристианства в середине I в. и показывающие, что противостояние Павлу христиан из иудеев набрало силу еще при жизни самого Павла — Гал 2, 2Кор 10–13, Деян 21.
56.1.
Гал 2. Как мы знаем из Гал 2:4, не говоря уж о Деян 15:1; Флп 3:2–3, в палестинских церквах существовала сильная, влиятельная в христианстве Иерусалима и Палестины партия, которая настаивала на обрезании всех обращенных. Павел отзывался о них резко — "лжебратья", "притворные христиане, вмешивающиеся в чужие дела" (перевод
New English Bible — Гал 2:4), "псы" (Флп 3:2) (см. также выше, § 5.2). Из Гал 2 и Деян 15 ясно, что речь идет об иудеохристианах (то есть о силе
внутри иерусалимской общины), которые имели право высказываться от лица иудейских верующих в Иудее. Более того, очевидно, они считали своим долгом исправить зло
, которое, по их мнению, совершил Павел, проповедуя свободу от закона: они намеренно противостояли и ему, и его взглядам
[458]. Здесь мы сразу узнаем
одну из форм иудеохристианства, которая во время проповеди Павла еще была частью всего христианского спектра, но проявляла терты, очень сходные с позднейшим эбионитством.
Если спор в Иерусалиме шел относительно конкретных вещей (нужно ли обрезывать обращающихся язычников), а его разрешение было дружелюбным, то в Антиохии впоследствии получилось иначе (Гал 2:11–14). Это одно из самых сложных мест Нового Завета. Первоначальное христианство стало бы для нас намного понятнее, если бы мы располагали полной картиной происшедшего, знали предшествующие и последующие события. Вместо этого приходится удовлетвориться намеками и недоговорками Павла. Проблема же состоит в том, что мы знаем мнение только одной стороны — Павла, а поэтому не можем составить цельное представление
[459].
Кто был не прав? Возможно, прежнее согласие, подразумевающееся в Гал 2:7–10 (ср. Деян 15:22–29), включало какое‑то постановление (вероятно, не подробное), касающееся взаимоотношений иудеев и язычников в смешанных общинах — о допустимости соблюдения закона христианами из иудеев и недопустимости принуждения к этому христиан из язычников. В Антиохийской церкви язычников было много, если не большинство (Деян 11:20–24). В этом окружении христиане из иудейской диаспоры, несомненно, менее строго соблюдали правила ритуальной чистоты (Гал 2:12а, 146). Но потом из Иерусалима прибыла группа иудеохристиан "от Иакова". Тогда антиохийские иудеи, видимо, решили вести себя по–другому и соответственно ожидали, что и язычники будут соблюдать иудейские пищевые запреты на время присутствия людей от Иакова. Иначе получилось бы, что язычники побуждают иудеев "эллинизироваться", отказавшись от важного элемента их веры (их предки шли на смерть, не желая оскверняться), а значит, ставят под угрозу все иудеохристианское понимание христианства как исполнения иудаизма (см. выше, § 54.1) и даже само существование иудейских общин в Палестине. Судьба христианства в Палестине зависела от согласия христиан. Ожидалось, что христиане из язычников это поймут и поведут себя соответствующим деликатным образом, как раньше вели себя иудеи. Независимо от того, была ли это аргументация Петра или нет, мы должны считаться с этими соображениями, чтобы объяснить действия Петра и очень многих других иудеохристиан, включая даже Варнаву, который наряду с Павлом был связан с проповедью язычникам.
Неясны события, вызвавшие конфронтацию между Павлом и Петром, неясно и происшедшее потом. Обычно считают, что Павел доказал свою точку зрения и последнее слово осталось за ним: Петр признал ошибку, и были возобновлены прежние порядки. Но на самом деле Павел этого не говорит, его обвинения в адрес Петра выливаются в защиту собственной позиции перед галатами. Если бы он выиграл спор и Петр признал убедительность его доводов, Павел непременно бы об этом упомянул. Ведь подчеркивал же он свои прежние слова ссылкой на одобрение "столпов" (2:7–10). Более того, в 2:11–14 Павел занимает очень резкую позицию: Петр подвергся "нареканию", прочие иудеи, включая Варнаву, "предались лицемерию", "не прямо поступали по истине Евангелия", Петр принуждал язычников "иудействовать". Такая позиция резко контрастирует с уступчивостью Петра! При таких обстоятельствах
очень вероятно, что в Антиохии Павел потерпел поражение, что Антиохийская церковь в целом была на стороне Петра
[460]. Таким образом, этот эпизод означает конец близости Павла с Антиохией и его появление в качестве абсолютно независимого проповедника. Согласно Деян 18:22, он посетил Антиохию еще только однажды. Возможно, именно это обстоятельство развело Павла и Варнаву (ср. Деян 15:36–40). Безусловно, именно оно заставило Павла пересмотреть свою позицию по отношению к взаимным обязательствам в христианской общине, состоящей из иудеев и язычников: нельзя не заметить, что совет Павла таким общинам в 1Кор 8,10:23 — 11:1 и Рим 14:1 — 15:6 (не говоря уж о его собственном поведении в Деян 21:20–26) более согласуется с поведением Петра и Варнавы в Антиохии, чем с принципом, который он выразил в Гал 2:11–14
[461]!
Каковы бы ни были точные детали событий, очевидно, что
Павла и иудеохристианство, сложившееся в Иерусалиме, разделяли более глубокие противоречия, чем кажется на первый взгляд. Возможно, Павел был гораздо более одинок в той резкой позиции, которую он занял в Антиохии, чем представляется из его собственного описания. Более того, горячий ответ Петру в Антиохии, нашедший развитие в Послании к Галатам, вполне мог подлить масла в огонь неприязни иудеохристиан к Павлу.
56.2. Пожалуй, более серьезна ситуация, описанная в
2Кор 10–13, оттого и тон повествования более резок. Похоже, в Коринф прибыли какие‑то люди, принявшиеся недвусмысленно обличать Павла. Кто они, не вполне ясно; вероятнее всего, это были иудеохристиане из Иерусалима (см. особенно 11:22), стремившиеся наилучшим образом зарекомендовать себя в глазах коринфян, находившихся под влиянием гностицизма
[462]. Кем бы они ни были, они определенно называли себя христианами и в качестве таковых их приняли (10:7). Павел называет их "сверхапостолами" (11:5, 12:11), но здесь же и "лжеапостолами", "служителями сатаны" (11:13–15)! Очевидно, они утверждали свое превосходство над Павлом: они, мол, истинные апостолы, "апостолы Христовы" (11:13), по сравнению с которыми
Павел не апостол, а самозванец, служитель сатаны. Возможно, в их глазах лишь первоапостолы (Двенадцать?), признанные в материнской церкви (то есть Иакова?), в Иерусалиме, могли считаться "апостолами Христовыми". Павел же подобных верительных грамот не имел, а значит, не обладал авторитетом и не подходил под это определение (2Кор 3:1–2,5–6). Павел обвиняет их и в том, что они проповедуют другого Христа, другое благовестие, будучи сами другого Духа (11:4). Несомненно, что они в том же обвиняли Павла! Он проповедовал другого Иисуса (не Того, Чье учение отражено в Послании Иакова), другое благовестие, искажающее изначальный смысл слов и дел Иисуса, представляя их в антиномистском и обскурантистском духе (ср. 4:2–3).
Это свидетельствует об
углубляющемся разрыве между Павлом и Иерусалимской церковью. Каждая из сторон оспаривала авторитет другой, обвиняя ее в проповеди евангелия сатаны. Вполне может быть, что "сверхапостолы" вышли за пределы инструкций, полученных в Иерусалиме. Но при любом обстоятельстве они действовали от лица Иерусалима, причем представляли очень весомое в иудеохристианстве мнение, согласно которому Павел был выскочкой, предателем и лжеучителем. Действительно, 2Кор 2:17 предполагает, что
большинство проповедников и (иудейских) миссионеров противостояли Павлу
[463]. Есть и другое правдоподобное объяснение: "лжеапостолы" и "сверхапостолы" — это разные люди, причем под "сверхапостолами" Павел разумеет "столпов", или Двенадцать, в Иерусалиме
[464]. Если это так, то остроту антагонизма между Павлом и Иерусалимом едва ли можно преувеличить. Баррет так излагает позицию Павла: "Он [Павел] неизбежно должен был прийти к выводу, что точка, из которой христианство распространилось в мир, стала источником искажения"
[465]. Если Павел действительно это хотел сказать в 2Кор, то несомненно, что иерусалимские христиане проявляли не меньшую, если не большую враждебность (ср. особенно Шор 15:8 — "недоносок" — похоже на грубую насмешку в адрес Павла). Но если это и преувеличено, отрывок 2Кор 10–13 отчетливо свидетельствует о глубине разногласия между Павлом и Иерусалимом, во многом объясняя нелюбовь позднейшего иудеохристианства к Павлу как к отступнику.
56.3. В
Деян 21 описано, как Павел последний раз отправился в Иерусалим и как его там встретили. Если читать внимательно, то поражают некоторые подробности. В Тире пророчество в собрании указывало Павлу не ходить в Иерусалим. Оно расценивалось как непреложное слово Духа (21:4). Кесария была последним местом, где Павла приветствовали. Там он остановился у Филиппа (21:8) — одного из тех, кто возглавлял эллинистов во время первого раскола в иерусалимской общине (Деян 6–8, см. ниже, § 60). Агав изрек пророчество о том, что в Иерусалиме Павел будет встречен иудеями враждебно. Сам Агав только что вернулся из Иудеи и знал, насколько плохо относились к Павлу (21:10–11). Но Павел выразил желание умереть в Иерусалиме (21:13). А у кого он остановился во время своего пребывания в Иерусалиме? Не у Иакова, не у одного из возглавлявших иерусалимскую общину (как, по–видимому, Филипп в Кесарии), но у "Мнасона Кипрянина, давнего ученика" — то есть, вероятно, эллиниста (21:15–16). Когда Павел встретился с Иаковом и пресвитерами, ему сразу указали, какими ревнителями закона было большинство христиан, повторив ходившие в Иерусалимской церкви враждебные отзывы о Павле, и немедленно стали принуждать его к тому, чтобы он подтвердил свою верность закону, показав, что соблюдает его, и тем самым опроверг бы существовавшее мнение. Очевидно, Павла многие считали отступником от закона и, как кажется, ничего (или почти ничего) не было сделано в Иерусалимской церкви, чтобы защитить его в этом отношении (21:20–24, вопреки 16:3 и 18:18). Когда Павла схватили и привели на суд, мы не видим, чтобы иудеохристиане его поддерживали и защищали — а ведь Иаков, по–видимому, занимал высокое положение среди ортодоксальных иудеев (см. выше, § 56, прим.43). Где были иерусалимские христиане? Очень похоже, что они умыли руки, предоставив Павла самому себе. Если это так, значит,
иудеохристиане испытывали глубокую антипатию к Павлу и тем взглядам, которые он отстаивал.
Самое поразительное, что Лука не упоминает о
пожертвованиях, которые Павел собирал для церкви в Иерусалиме. Даже в 24:17 нет слова "пожертвования", и без писем Павла мы бы, наверное, не увидели здесь аллюзию — в самом деле, аллюзия могла быть только на акт благочестия в 21:26. Но из переписки Павла мы знаем, как важны были для него пожертвования (Рим 15:25–32, 1Кор 16:1–4, 2Кор 8–9). Упоминая о семи посланцах от церквей (Деян 20:4–5), Лука умалчивает о причине их путешествия с Павлом — а именно о передаче пожертвований. Очевидно, это и было главной целью путешествия самого
Павла в Иерусалим, но Лука об этом тоже не говорит. Почему? Возможно, причину следует искать в том, что Павел придавал пожертвованиям особое значение, считая их выражением единства между церквами, основанными им, и церквами иудейскими. Лука же, вероятно, это опустил, потому что
Иерусалимская церковь принять пожертвования отказалась — чего и опасался Павел (Рим 15:30–31). Если бы иерусалимские христиане их приняли, это бы означало (по крайней мере так бы выглядело) согласие с миссией Павла, одобрение его отношения к закону. И тогда неизбежно оказалась бы подорвана их собственная позиция среди собратьев иудеев, тем более что иудейский национализм возрастал. Скорее всего они решили отвергнуть пожертвования, выразив неодобрение Павлу и его методам. Возможно, это было сделано не так грубо, как может показаться поначалу: своими действиями в отношении Павла Иаков мог стремиться к тому, чтобы его дар можно было принять (в том случае, если Павел доказал бы иудеям свое правоверие). Но план не удался, в последующей конфронтации и кризисе Павла едва ли поддержали — не говоря уж о принятии местными христианами его пожертвований. Очевидно, Лука все эти подробности опускает — это не та сторона жизни ранней церкви, которую ему хотелось бы сохранить (см. ниже, § 72.2)
[466].
Если последнее столкновение Павла с иудеохристианством в Иерусалиме реконструировано верно, то, как мы видим, разрыв между иудеохристианством и "языческими" общинами стал широким и глубоким, а неприятие иудеохристианами Павла — острым и горьким.
Иудеохристианство, весьма дорожившее иудейским наследием и решительно противившееся Павлу и отрицанию закона в проповеди язычникам, уже многим напоминало эбионитство.
§ 57. Иудеохристианство в Новом Завете:
3) адопцианская христология
Итак, мы обнаружили в новозаветном иудеохристианстве черты, поразительно роднившие его с иудеохристианством II и III вв., которое возникающая ортодоксия осудила как еретическое. Но третья его особенность наконец‑то позволяет четко различить позднейшее эбионитство и иудеохристианские книги Нового Завета. Послание Иакова здесь нам помочь не может, ибо в нем не содержится ничего, напоминающего христологию. Обратимся к другим книгам.
57.1.
Евангелие от Матфея. Как мы уже видели, обнаруживается одна возможная существенная связь между христологией Матфея и христологией эбионитов: а именно то, что в построениях Матфея явно заметна типология Моисея. С другой стороны, Матфей не придает большого значения представлению об Иисусе как о пророке. Он сообщает это, ссылаясь на мнение толпы (16:14,21:11,46, см. выше, § 55.1), но это отнюдь не выражает значения Иисуса — "Христос, Сын Бога Живого" (16:15–17). Стоит упомянуть, что в четвертом Евангелии этот антитезис подчеркивается: Иисуса называют "пророком" находящиеся на пути к вере (4:19,9:17) и непостоянная, колеблющаяся толпа (6:14, 7:40), но этот титул совершенно не выражает значимость Того, Кто был прежде Авраама и пророков (8:52–59)
[467].
Еще важнее то, что у Матфея говорится о рождении Иисуса. Описание нисхождения на Иисуса Духа на Иордане определенно следует понимать в свете непорочного зачатия. Как мы уже упомянули (§ 54.2. в), именно повествование о рождении изъяли эбиониты из Евангелия от Матфея, чтобы события на Иордане имели более "адопцианский" смысл. Поэтому рассказ о непорочном зачатии довольно ясно свидетельствует:
христология Матфея уже прошла определенный путь от той точки, в которой христология эбионитов "застыла". Таким образом, искажение эбионитами Матфея означает сознательный отход от христологии иудеохристианства, нашедшей отражение у этого евангелиста.
Следует отметить еще один контраст. Согласно Оригену, некоторые эбиониты принимали догмат о непорочном зачатии, но они, добавляет Евсевий, отказывались признавать Его Богом, Словом и Премудростью"
[468]. Дело в том, что
Матфей не только рассказывает о непорочном зачатии, но и
отождествляет Иисуса с Премудростью. Это ясно видно из его редакции
Q. В Лк 7:35 сказано: "И оправданием Премудрости были все
дети ее", где детьми Премудрости, очевидно, названы Иисус (и Иоанн Креститель). Мф 11:19 видоизменяет
Q: "И оправданием Премудрости были
дела ее", где под "делами" скорее всего имеются в виду "дела" и "чудеса"
Иисуса (11:2, 20–22). Подобным образом высказывание, которое в Лк 11:49–51 приписывается "Премудрости Божьей", в Мф 23:34–36 отнесено к Иисусу. В Мф 11:28–30, видимо, к материалу
Q прибавлено типичное изречение Премудрости, где Премудрость призывает людей принять ее иго (см. особенно Сир 51:23–27), но опять‑таки Матфей представляет его как изречение Иисуса — Иисус не просто советует людям принять иго Премудрости, но Сам выступает от ее лица (см. выше, § 18.3). Иными словами, всякий раз Матфей изображает Иисуса не просто как посланника Премудрости, но как саму Премудрость
[469]. Таким образом, и здесь христология Матфея, по–видимому, ушла дальше видоизмененной эбионитской, о которой свидетельствуют Ориген и Евсевий. Похоже, учение эбионитов опиралось на зачаточную и не столь развитую христологию доматфеевского иудеохристианства.
Одним словом, рассказ Матфея о непорочном зачатии и его христология премудрости ясно обозначают линию разрыва эбионитской тенденции в иудеохристианстве I в. и того иудеохристианства, которое осталось в рамках приемлемого многообразия.
57.2. Есть все причины причислять
Послание к Евреям к "иудейским произведениям" Нового Завета. Утверждение, что смерть Иисуса и вхождение Его в небесное святилище положили конец культу в (земном) Храме (Евр 10:1–18), имеет явную параллель с враждебностью эбионитов к храмовым жертвам (см. выше, § 54.3. в). Однако, что касается нашей темы, характерная первосвященническая христология Послания к Евреям на первый взгляд почти не соприкасается с эбионитской. Но внимательное чтение текста вскоре выявляет
значительное количество адопцианской терминологии. В особенности можно отметить 1:4
— через страдание и вознесение Он
превзошел ангелов, унаследовав славнейшее перед ними имя; 1:5,5:5
— подобным же образом Он был
рожден как Сын Божий и поставлен первосвященником Божьим; 1:9 —
именно потому, что Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, Бог
помазал Его преимущественно перед общниками Его; 2:6–9
— Он единственный, в Ком исполнился Божий замысел о человечестве, только Он
увенчан славой и честью,
потому что вкусил смерть; 2:10
— Он
стал совершенным через страдания; 3:2–3
— подобно Моисею, Он был верен
Поставившему Его, но Он
удостоился большей славы по сравнению с Моисеем; 5:7–9
— именно за смирение Он был услышан, страданиями Он
наугился послушанию и, таким образом
усовершенный, был провозглашен первосвященником по чину Мелхиседека
[470]. Здесь виден целый ряд параллелей с адопцианской христологией иудеохристианства II и III вв. Кто‑то может даже заметить, что 9:14 близко к эбионитскому представлению об осуществлении миссии Иисуса через Духа, который, как вечный Дух, проявлялся ранее, например в Мелхиседеке (в случае Евр): как Мелхиседек не имел ни начала дней, ни конца жизни (7:3), так и Иисус получил первосвященство, показав через воскресение неразрушимость Своей жизни (7:15–16).
С другой стороны, мы уже говорили (выше, § 51.2), что в Послании к Евреям, как и у Павла, Иисус отождествляется с предсуществующей Премудростью (1:2–3). Более того, в Евр 1:8–9 строки Пс 44:7 отнесены к прославлению Сына, который, таким образом, именуется "Богом". Имел ли в виду это автор в переносном смысле — как обращение псалмопевца к царю — или нет (ср. Пс 81.6–7, Ин 10:34–35), неизвестно, но факт остается фактом: в самом начале Послания к Евреям Иисус более или менее определенно именуется теми самыми двумя наименованиями, которые, согласно Евсевию, эбиониты отрицали (Бог, Премудрость — см. выше, § 57.1).
Если мы внимательнее рассмотрим в этом свете изначальное развитие аргументации в Послании к Евреям, то получается, что она выглядит, как
полемика с христологией эбионитов. В то время как эбиониты считали Иисуса главным образом пророком, автор Послания к Евреям сразу отделяет Иисуса от них: в пророках Бог говорил "многократно и многообразно", теперь же говорил в
Сыне, который является "излучением славы и отпечатком сущности Его" (1:1–3). Эбиониты считали Иисуса или Христа ангелом или архангелом (см. выше, § 54.2. в). В Послании к Евреям (опять‑таки в самом начале) отвергается мысль о том, что Сын даже сравним с ангелами: "Кому когда из ангелов Бог сказал?.." (1:4 — 2:18). Для эбионитов Иисус был как бы вторым Моисеем, в послании вводная богословская часть (1:1 — 3:6) завершается сопоставлением и противопоставлением Иисуса Моисею: они были равно верны в служении Богу, но имели различное положение и различный статус: Моисей — слуга, а Иисус — Сын (3:1–6). Лишь отвергнув эти близкие к эбионитским воззрения, как совершенно не выражающие значимость Иисуса, Сына Божьего, автор переходит к изложению первосвященнической христологии.
Не вполне ясно, как автор Послания к Евреям совмещал эти две стороны христологии: адопцианскую терминологию и антиэбионитскую позицию (если так можно выразиться). Но кажется ясным следующее: Послание к Евреям находится в русле развивающейся христологии иудеохристианства; некоторые из отличительных черт позднейшей эбионитской христологии уже
входили в иудеохристианство; автор Послания, сохраняя адопцианский язык, не желал заморозить его эбионитскими ограничениями. В сущности кажется, что
Послание к Евреям, подобно Евангелию от Матфея, обозначает разделение двух основных направлений в иудеохристианстве: одно входило в приемлемое многообразие христианства, а другое трансформировалось в неприемлемое многообразие иудеохристианства II и III вв. Если эта оценка верна, то необходимо отметить, что
уже в I в., до возникновения ортодоксии, характерная для эбионитства христология была отвергнута, причем в самом иудеохристианстве.
§ 58. Выводы
58.1.
Новозаветное иудеохристианство и иудеохристианство II‑III вв., осужденное возникающей великой Церковью как ересь, очень похожи — вероятно, между ними даже есть преемственность. Все три отличительные черты последнего — верность закону, возвеличивание Иакова и принижение Павла, "адопцианская" христология — уже присутствуют в том христианстве, которое в первые десятилетия существования новой секты имело центром Иерусалим. Несомненно,
первоначальная форма христианства больше похожа на эбионитство II‑III вв., чем на что‑либо еще, хотя при этом следует помнить, что первоначальная христианская община только начинала формулировать свою веру и вырабатывать образ жизни, в то время как эбионитство было продуманной и сознательной реакцией на ситуацию в христианстве и иудаизме. Но даже в иудеохристианских произведениях и письмах Павла, относящихся ко второй половине I в., легко прослеживается направление, в котором развивалось иудеохристианство.
Даже в самом Новом Завете мы видим реакцию на упразднение закона в проповеди язычникам, а также отдельные ранние христологические формулировки, которые впоследствии отличали эбионитство. Таким образом, если имеется преемство между иерусалимским христианством и позднейшим эбионитством, необходимо заключить, что в определенной степени эту тенденцию в иудеохристианстве можно проследить по книгам Нового Завета и даже заметить
в самих книгах Нового Завета.
58.2.
Но необходимо четко разграничить иудеохристианство Нового Завета и иудеохристианство, осужденное позднее великой Церковью как еретическое. Речь идет не об отношении к закону: Иаков и Матфей в определенном смысле ближе к эбионитам, чем к Павлу, в том, что касается статуса и роли закона. Тем не менее акцент, который Матфей делает на любви (любви, явленной Иисусом) как средстве истолкования закона, более свойствен христианству, чем иудейству (точнее, фарисейству). Речь не идет также об отношении к Иакову и Павлу: и иерусалимское христианство I в., и позднейшее иудеохристианство почтительно относились к первому и враждебно ко второму. Иными словами, не эти две особенности позволяют провести границу между еретическим иудеохристианством и тем иудеохристианством, которое было приемлемой частью христианского спектра. Иудеохристианство могло очень консервативно относиться к закону, очень антагонистично — к Павлу и все же оставаться правомерным выражением веры в Иисуса Христа.
По–настоящему эти направления разделяют отношение к
Иисусу. Иудеохристианство II и III вв. считало Иисуса пророком, величайшим из пророков, который был усыновлен Богом и стал Христом через нисхождение Духа или Христа (=ангел?) и через Его верность Закону. Но уже в самом Новом Завете, в иудеохристианстве Нового Завета такие представления об Иисусе были отвергнуты как неадекватные: Он был Сыном Божьим в уникальном смысле, самой Премудростью, а не только ее глашатаем, и стоял неизмеримо выше пророка, ангела или Моисея. То есть
уже в I в. иудеохристиане отвергали характерные для эбионитства представления об Иисусе. Уже в Новом Завете христиане из
иудеев определяли рамки правомерного иудеохристианства.
Важность этого момента следует подчеркнуть: так же как
единство христианства было обусловлено Иисусом, так и многообразие иудеохристианства определялось Иисусом. Так же как прославление Иисуса, тождественность Человека из Назарета и Прославленного, с которым были связаны молитвы и служение первых христиан,
объединяли разнообразные виды проповедей, исповедания и обряды, так и прославление человека Иисуса, утверждение, что Он был Премудростью Божьей, неизмеримо превосходил пророка, ангела, Моисея и священника,
разграничивали приемлемое многообразие иудеохристианства I в. и неприемлемое многообразие позднейшего эбионитства, в котором вера в Иисуса была далеко не христианской.
58.3. Говоря об иудеохристианстве, мы говорим о
спектре. Оно не было просто точкой на спектре христианства I в. — оно само было спектром
многообразным феноменом. На одном конце этого спектра иудеохристианство переходит в неприемлемые верования, характерные для эбионитства.
Но и внутри приемлемого иудеохристианства существовало многообразие. Даже сами иудеохристианские писания Нового Завета не представляют собой единый монолит веры. Оппонентов Павла, которых мы встречаем в Гал 2, 2Кор 10–13 и Деян 21, нелегко отличить от позднейших эбионитов. Послание Иакова и гимны Луки — типично иудейские, в них нет ничего собственно христианского. Евангелие от Матфея аккуратнее и интереснее, ибо, по–видимому, выбирает средний путь между более консервативным иудеохристианством (наподобие эбионитства?) и более либеральным эллинизированным иудеохристианством: с одной стороны, оно утверждает нерушимость Закона, с другой — подчеркивает необходимость истолкования его через любовь, а не путем умножения галахических правил. В нем сохранены те изречения Иисуса, в которых Его миссия ограничивается Израилем, но при этом подчеркивается, что учение Его предназначено для всех народов. Матфей словно говорит консерваторам: "Евангелие для всех: как для иудеев, так и для язычников" — и либералам: "Помните, что Сам Иисус ограничивал Свою миссию рамками Израиля" (см. выше, §§ 55.1,2).
Заманчиво определить, какое место в иудеохристианском спектре занимает
Послание к Евреям. Видимо, оно принадлежит к тому типу эллинистического иудеохристианства, которое мы впервые встречаем у Стефана (см. ниже, § 60)
[471]. Оно не оспаривает значение закона (за исключением, возможно, Евр 13:9), но рассматривает почти исключительно вопрос о традиционном культе: священство, скиния, жертвы — продолжаются ли они в каком‑то смысле в христианском иудаизме или чем‑то заменены? В других отношениях закон, кажется, проблем не создает
[472]. В то же время на Послание к Евреям существенно повлияла
эллинская философия, в особенности теория Платона о двух мирах: идей (истинный мир) и отражений (наш мир). Автор развивает тему, комбинируя иудейское представление о двух веках с платоновским представлением о двух мирах
[473]. Это помогает понять, для какой иудеохристианской общины написано Послание. В ней не велись споры о необходимости соблюдения закона. Вероятно, это была довольно однородная иудеохристианская община, которой не коснулись проблемы, поставленные Павлом. Она могла, подобно первоначальной иерусалимской общине, стремиться к конкретности храмового культа. В ней были знакомы с философией Платона. Таким образом, вполне вероятно, что перед нами довольно специфическое направление иудеохристианства или община иудеохристиан диаспоры, стремящаяся к простоте первоначального христианства. Поэтому Послание к Евреям, возможно, представляет собой
развивающуюся форму иудеохристианства, на которую оказывали влияние факторы, способствующие эбионитству, но в которой помимо всего прочего заключались убеждения, позднее вынудившие христиан отвергнуть эбионитство. С одной стороны, автор сохраняет определенную верность традиционному культу, которую мы находим в первоначальной Иерусалимской церкви как детскую стадию веры и которую позднее вера оставила позади. С другой стороны, сохраняя во многом эбионитскую терминологию (стиль, близкий христологии эбионитов), он идет в своей вере дальше понятий, ставших основными в эбионитской христологии. В таком случае
Послание к Евреям представляет собой средний путь или поворотную точку в развитии иудеохристианства, где ставшие устаревшими формулировки и лояльность, свойственные первой стадии христианства, были отвергнуты, как и проявления консерватизма, приведшие к эбионитству.
Евангелие от Иоанна можно считать более развитым выражением примерно того же подхода. Четвертый евангелист очень старается представить Иисуса как исполнение иудаизма — его закона (4:10,14,6:27,30–32,48, 58, 63), его Храма (2:13–22,4:20–24), его праздников (особенно 1:29,7:37–39, 10:22,36,19:33–36) и его обрядов (2:6,3:25)
— и не в последнюю очередь как Того, Чье откровение превосходит Моисеево (1:17). Отметим особо, что Иоанн — единственный евангелист, приписывающий самому Иисусу слова о Храме, явно подтолкнувшие Стефана к отвержению Храма (Ин 2:19, Деян 6:14, см. выше, §§ 24.5, 34.4. в). В то же время его представление об Иисусе оставляет далеко позади пробные формулировки Послания к Евреям, не говоря уж о закостенелых категориях позднейшего эбионитства. В спектре иудеохристианства Евангелие от Иоанна так далеко отстоит от эбионитства, что правильнее его отнести к эллинистическому христианству — хотя оно и напоминает нам об условности этой классификации.
Если мы верно охарактеризовали эти тексты Нового Завета, спектр иудеохристианства можно представить как диаграмму, где широкая вертикальная полоса обозначает переход приемлемого многообразия в неприемлемое.

Но даже если в приведенном анализе еще много спорного, несомненно одно —
иудеохристианство I в. было очень многообразно: иудеохристиане, оставившие закон и культ, посвятившие себя вселенской проповеди и находившиеся в той или иной степени под влиянием эллинской культуры и мысли; иудеохристиане, сомневавшиеся в правомерности узкого взгляда на проповедь Евангелия и сохранение культа, а порой (но не всегда) в незыблемости закона; иудеохристиане, не одобрявшие упразднение закона в среде язычников и считавшие закон по–прежнему обязательным для христиан (некоторые продолжали придавать центральное значение Храму); иудеохристиане, противостоявшие язычникам, враждебные Павлу и соблюдавшие весь закон, — скорее не иудеохристиане, а христианоиудеи (во многом прямые предшественники позднего эбионитства)
[474].
58.4. Подведем итоги. В этой главе выявляются
два или даже три фактора единства и многообразия. Во–первых, согласно Матфею, закон должен истолковываться через любовь, то есть иудеохристианство становилось неприемлемым, когда
строгое соблюдение закона оказывалось важнее непосредственной любви. Во–вторых, иудеохристианство становилось неприемлемым, когда
настаивало на ограниченном взгляде на Иисуса и Его роль. О таком консерватизме свидетельствуют некоторые ранние формулировки христианской веры. Но распространение христианства за пределами Палестины и споры нескольких первых десятилетий способствовали тому, что эти ранние (более гибкие и временные) формулировки были отвергнуты как неадекватные.
Иудеохристианство II и III вв. представляет реакционную попытку ограничить христианское представление об Иисусе рамками традиционной иудейской мысли и обычаев. В–третьих, иудеохристианство становилось неприемлемым, когда оно
переставало развиваться, превращало зачаточные формулировки в косную систему, закрытую для нового откровения, которого требовали в меняющейся ситуации вопросы о законе и проповеди Евангелия, оно становилось неприемлемым в силу своей жесткости и замкнутости.
Одной из самых первых ересей был консерватизм).[475] Таким образом, неудача еретического иудеохристианства состояла в следующем: оно не берегло единства (прославление Иисуса как уникальное выражения Бога) и не допускало многообразия (через развитие христианства).
XII. Эллинистическое христианство
§ 59. Введение
До сих пор мы говорили о перекрывании между христианством и иудаизмом: о взаимодействии в иудеохристианстве элементов возникающего (раввинистического) иудаизма и развивающегося христианства, об отношении иудеохристианства I в. к тенденциям, легшим в основу позднейшего эбионитства. Однако христианство скоро вышло за пределы Палестины и вступило в контакт с верованиями и представлениями синкретической среды Восточного Средиземноморья, на взгляды и культы которой оказало то или иное влияние множество религиозных и философских традиций (включая палестинские). Именно из этих тиглей I в. во II в. вышел гностицизм, самый опасный противник христианства на протяжении по крайней мере нескольких десятилетий, хотя, как теперь считается, отдельные его взгляды и подходы существовали уже в I в. (я буду различать их как "гностические" и "догностические")
[476].
Возникают следующие вопросы: как эти разнообразные влияния и представления воздействовали на христианство I в.? Насколько раннее христианство было им открыто? Сколь велико было многообразие христианства I в. в этой пестрой среде? Включало ли христианство I в. в свое приемлемое многообразие что‑то такое, что можно было бы назвать
гностическим христианством? Вырисовывались ли границы, проведенные между христианством и гностицизмом в последние десятилетия II в., уже в I в.?
Мы начнем с "эллинистов", упомянутых в Деян 6. Уже само это наименование дает право говорить об эллинистическом христианстве, отличая его от иудейского ("евреи" в Деян 6:1 — см. ниже, § 60). Более того, эллинисты обозначают собой первое существенное расширение первоначального христианства: именно они, очевидно, стояли у истоков широкого движения христианства к "эллинам" (Деян 11:20). Именно они в сущности приоткрыли христианство многостороннему воздействию со стороны греческой религии и культуры. Затем мы сконцентрируемся на растущем влиянии христианства, становившемся все большим конкурентом для древних греко–римских религий, мистериальных культов и философских построений основных центров этой территории. Здесь мы должны будем выяснить: до какой степени эти разнообразные воздействия повлияли на первые христианские общины у язычников? До какой степени (если это вообще имело место) христианство I в. в этих районах было синкретичным, проявляя характерные для позднейшего гностицизма тенденции? Исследования в области истории религий этого периода, сделанные в XX веке, особенно побуждают нас спросить: не носят ли какие‑либо книги Нового Завета (или их непосредственные источники) гностические черты? Не дают ли они оснований для гностического истолкования и использования? Здесь мы рассмотрим синоптический источник
Q, писания Павла и четвертое Евангелие.
§ 60. "Первый конфессиональный раскол в церковной истории"
Кто такие "эллинисты"? Наиболее вероятно, что слово 'Ελληνισταί обозначает тех иудеев, чьим универсальным языком был греческий и на кого сильно повлияла греческая культура
[477]. Это, видимо, в основном обосновавшиеся в Иерусалиме иудеи диаспоры (ср. Деян 2:9–11; 6:9), хотя с ними, несомненно, были солидарны и какие‑то местные иудеи, которых привлекали более изощренные эллинистские обычаи. Под "евреями", очевидно, имеются в виду те, кто даже в диаспоре сохранил в качестве повседневного языка арамейский (или еврейский) и кто оставался целиком иудеем, вопреки давлению, призванному ослабить их верность Торе и Храму (ср. 2 Кор 11:22; Флп 3:5). Каковы бы ни были конкретно детали, из Деян 6 очевидным образом следует, что иерусалимские эллинисты сохранили отдельные синагоги, где проповедовали и молились на греческом (6:9). Видимо, многие эллинисты, обратившись, вошли в новую секту назарян.
Отсюда следует вывод:
первоначальная христианская община с самого нахала включала две довольно отличные друг от друга группы: евреев, говоривших по–арамейски (или по–еврейски) в знак своей принадлежности к иудейству, и эллинистов, предпочитавших или способных говорить только по–гречески (возможно, считая этот язык наиболее подходящим для выражения вселенской веры). Более того, эллинисты, должно быть, жили обособленно, в противном случае как могли быть пренебрегаемы христианские вдовы (6:1)
— не некоторые, а целая группа? Это может свидетельствовать о том, что евреи и эллинисты были отчасти друг от друга изолированы. Возможно, эллинисты жили в отдельном районе города, составляя отдельную социальную прослойку
[478]. Отношения между двумя группами могли осложняться тем, что строгие ортодоксы чувствовали свое превосходство над эллинистами: последние усваивали греческие обычаи, что бросало тень на их верность закону; прозелиты, стоявшие ниже рожденных в еврействе, тяготели больше к эллинистам (ср. 6:5); со времен Маккавеев наименование "эллинист" имело, видимо, "уничижительный оттенок"
[479] — если саддукеи сотрудничали с чужеземцами политически, то эллинисты шли на культурный компромисс.
Скрытое напряжение в первоначальной христианской общине достигло высшей точки в неудавшейся "общности имущества": разделенность двух общин привела к тому, что эллинские вдовы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей из общего фонда (6:1). Рассказ Луки предполагает, что единственной проблемой был временный непорядок в управлении общиной, затем устраненный. Но пренебрежение в обслуживании эллинистов с последующими жалобами последних почти наверняка было только внешним проявлением скрытого напряжения,
симптомом более глубокого расхождения. Доводов в пользу того, чтобы считать эту конфронтацию началом "первого конфессионального раскола в церковной истории" (несколько формальное определение Е. Хенхена (E. Haenchen)
[480] много, мы кратко изложим их.
а) Уже отмечалось, какой смысл несут наименования "евреи" и "эллинисты", и б) какие обстоятельства окружали жалобу эллинистов (6:1).
в) Семь человек, избранных в 6:5, были, вероятно, эллинистами: у них у всех греческие имена. Конечно, и у палестинских иудеев встречались греческие имена; в конце концов их имели двое из Двенадцати (Андрей и Филипп). Но среди семи первые двое (Стефан и Филипп), безусловно, были эллинистами, и последний в списке (Николай, "прозелит Антиохиец") тоже относился к их числу. Более чем вероятно, что и оставшиеся четверо также были эллинистами. Даже если наши выводы здесь выходят за рамки непосредственных свидетельств, поражает, что среди семи избранных нет ни одного негреческого имени. Как странно, что группа, избранная для обслуживания
всей общины, состоит (почти?) целиком из эллинистов! Думаю, более правдоподобно, что все семеро были эллинистами, и их избрали, дабы представлять верующих эллинистов на городском уровне — подобно тому как Двенадцать фактически представляли евреев. Очень вероятно, что они являлись
de facto руководителями христиан из эллинистов, возможно, они выдвинулись как руководители домашних общин
[481]. В таком случае их избрание было просто
признанием того лидерства, которое они
уже имели — что по сути и предполагается в повествовании (6:3, 5).
г) Согласно Луке, семеро были избраны "обслуживать столы", чтобы Двенадцать могли свободно проповедовать слово Божье (6:2). Но в последующем рассказе слово Божье проповедуют как раз Стефан и Филипп (6:8 — 8:13). То есть они благовествуют тем, кем евреи порой пренебрегали, — эллинистам в Иерусалиме и самаритянам. Отражен ли здесь
раз–личный подход к миссии? Как мы уже видели, местные иерусалимские христиане мало думали о распространении Евангелия, они ожидали, что диаспора и язычники придут к ним для поклонения в Храме в последние времена (см. выше, § 54.1). Вполне вероятно, что воспитанные в иудаизме диаспоры эллинисты с самого начала более открыто понимали Евангелие и его проповедь.
д) Последнее соображение подкрепляется самым поразительным свидетельством, а именно тем
отношением к Храму, которое в Деян 6–7 приписано Стефану. Вопрос осложняет проблема исторической достоверности повествования Луки и речи, приписываемой Стефану. Эта речь так сильно выделяется в Книге Деяний Апостолов, а 6–8 главы содержат такие характерные особенности, что Лука, видимо, действительно опирается на источник, довольно точно сохранивший взгляды эллинистов или даже Стефана (особенно касающиеся Храма). Весь рассказ настолько хорошо объясняет последующие преследования эллинистов, что серьезных причин ставить под сомнение его существенную историчность нет. Тогда получается, что Стефана обвинили в речах против Храма и обычаев Моисеевых (Деян 6:13–14). Обвинение подтверждается приведенной речью.
Эта речь, вопреки первому впечатлению, не скучное и бесхитростное описание истории Израиля, не имеющее прямого отношения к ситуации. На самом деле в ней есть тонкий подтекст, достигающий кульминации в
открытых нападках на Храм. Речь сосредоточивается на периоде, предшествующем поселению Израиля в земле обетованной, то есть времени, когда Иерусалим стал национальной и религиозной столицей Израиля. Тема, которая лежит в основе первой половины — присутствие Божье с Его народом вне Иудеи (см. особенно ст. 2,5,8,9,16,20,30–33). Затем быстро возникает кульминация, ее составляют две перекликающиеся темы. Первой является
контраст между скинией и Храмом: скиния обозначает период скитаний в пустыне, когда собрание (εκκλησία) получало живые слова и Ангел сопутствовал им (ст. 38); скиния была сделана по образу, показанному Моисею на Синае (ст. 44), и символизировала присутствие Божье с ними в период завоевания (ст. 45) — в этот золотой век Израиля постоянного места для поклонения не было. В противоположность этому дом, воздвигнутый Богу Соломоном, был утвержден и укоренен в одном месте (ст. 48–50). Вторая тема — линия
отступничества, которая проводится в речи, начиная с отвержения Израилем Моисея ради поклонения золотому тельцу (ст. 39–41), через идолопоклонническое служение воинству небесному, которое привело к вавилонскому плену (ст. 42–43), к вершине — настоящему идолослужению в Храме (ст. 48–49). Наиболее поразительная черта данной речи — в открытом выступлении против Храма. Ключевое слово в описании Храма Стефаном — "рукотворенный" (χειροποίητος). Его использовали более утонченные греческие мыслители для критики идолопоклонства. Более важно, что его использовали эллинизированные иудеи для осуждения язычества — со времен Септуагинты оно обозначало как самого идола, так и иудейское осуждение идолопоклонства (см., например, Лев 26:1 Ис 46:6; Сив. ор. 111:605 сл., 618, IV: 8–12; Филон "Жизнь Моисея" I; 303,11:165,168; Апок Пет 10; ср. Деян 7:41,17:24). Но Стефан называет так Иерусалимский храм —
называет Храм идолом! — и усиливает хулу, приводя Ис 66:1–2, один из немногих ветхозаветных отрывков, которые могут быть использованы для отвержения Храма (ст. 49–50 ср.
Варн, 16.2).
Нельзя не подчеркнуть важность выраженных здесь взглядов. (1) Отвержение Храма Стефаном фактически означало также
отвержение отношения к Храму местных христиан. Как мы уже видели, большинство членов новой общины, по–видимому, продолжало молиться в Храме, рассматривая его как место возвращения Сына Человеческого и центр эсхатологических деяний Божьих (см. выше, § 54.1). Речь Стефана была по сути острой критикой узкого культового национализма его собратьев, верующих в Иисуса Христа. Другими словами, эта речь подтверждает сделанное выше предположение о том, что непорядок в системе распределения был симптомом глубинного разделения внутри первоначальной христианской общины — между евреями и эллинистами. (2) Акцент на присутствии Бога вне Иудеи и заметное влияние на эту речь взглядов самаритян
[482] могут подтверждать положение (г) о том, что Стефан и эллинисты
более открыто понимали вселенский смысл благовестия и, следовательно, критически относились к еврейской сосредоточенности на Иерусалиме. (3) Обвинение против Стефана в Деян 6:14 ясно перекликается с высказываниями, приписываемыми лжесвидетелями Иисусу в Мк 14:58
[483], а также самому Иисусу в Ин 2:19. Наиболее логичный вывод отсюда, что на взгляды Стефана на Храм повлияли именно эти предания об Иисусе (см. выше, §§ 18.3 и 24.5). В этом случае мы видим здесь
первое (причем существенное) расхождение христиан в истолковании учения Иисуса. На самом деле взгляды Иисуса на Храм не были ни столь некритичными, как вытекало из обычаев иудейских христиан, ни столь враждебными, как взгляды Стефана ("дом Отца Моего" — см. выше, § 34.1). Как Его отношение к миссии, так и Его учение о Храме можно было развивать в различных направлениях. Первые верующие, очевидно, предпочитали более консервативное истолкование тех преданий об Иисусе, которые мог ли бы вызвать ненужные трения с иерусалимскими властями. Стефан же, видимо, видел важность этих пренебрегаемых моментов (см. также выше, § 34.2). Он не задумываясь подчеркивал эту сторону учения Иисуса и развивал ее, хотя это и подразумевало (острую) критику в адрес его (еврейских) собратьев–христиан и провоцировало враждебность со стороны более ортодоксальных иудеев.
е) Отметим между прочим, что из речи, приведенной в Деян 7, не видно, подвергали ли Стефан и эллинисты критике не только Храм, но и
закон: значение Моисея едва ли преуменьшается (см. особенно ст. 17, 20, 22, 36–38), как и значение закона (особенно ст. 38, 53). Здесь нет характерного для Павла противопоставления между заветом, данным Аврааму (ст. 8), и "словами живыми", данными Моисею (ст. 38). Обвинения 6:13–14, возможно, переданы Лукой в общих чертах, или "закон" и "обычаи, которые передал нам Моисей" могут относиться в первую очередь к законам о Храме и культу. Конечно, в законе очень многое связано с системой жертвоприношений, а потому отвержение Храма должно было в конце концов привести к сомнению и в законе как таковом. Очевидно, ревность к закону сделала Павла гонителем эллинистов (Гал 1:13–14, Флп 3:5–6). Но когда была поставлена под вопрос неизменность авторитета закона, неясно. Сам Стефан, возможно, не собирался порывать с иудаизмом и законом, а верил, что приход Иисуса и Его прославление как пророка, подобного Моисею (Деян 7:37), знаменует призыв к возвращению к изначальной религии Моисея, избавленной от поздних идолопоклоннических извращений и искажений (жертв, ритуала и Храма)
[484]. В этом случае выходит, что
первая попытка расширить христианство началась с разделений внутри иудаизма.
ж) Воззрения Стефана, видимо, привели к
открытому расколу в пер–воначальной христианской общине. Наметившееся в Деян 6:1 расхождение вылилось теперь в более явное и четкое разделение. Глубину его мы видим из рассказа о суде над Стефаном и его смерти. Христиане из евреев, видимо, не высказали солидарности со Стефаном и не поддержали его во время суда — и это при том, что Петр и Иоанн ранее смело вели себя перед лицом того же Синедриона (4:13). Не считали ли они, что Стефан зашел слишком далеко в своих нападках на Храм? Молчание Луки выглядит зловеще. Важным может оказаться и рассказ и о погребении Стефана — "Стефана же похоронили благоговейные (ευλαβείς) люди" (8:2). Кто такие εύλαβεîς? В других местах Нового Завета это слово обозначает только благочестивых иудеев, то есть посещающих Храм (Лк 2:25), совершающих паломничество в Иерусалим (Деян 2:5) и соблюдающих закон (Деян 22:12). Не идет ли в таком случае речь о тех, кто оправдывал казнь Стефана, — ортодоксальных иудеях, известных своим ревностным благочестием (следовавшим в данном случае Втор 21:22–23)? Если да, то почему? Почему не "верующие" или "юноши", как в 5:6,10? Почему Лука говорит, что (только) они "сделали великий плач по Стефану", а не "церковь"? Почему не "апостолы", если, конечно, их пощадили в гонениях, последовавших за смертью Стефана (8:1)? Не пытается ли Лука скрыть тот факт, что христиане из евреев попросту
бросили Стефана, будучи совершенно не согласны с его взглядами на Храм? Возможно, по их мнению, Стефан был сам виноват и получил по заслугам. Можно подумать, что взгляды Стефана по меньшей мере лишили его симпатии в глазах местных христиан из евреев: те могли счесть, что Стефан зашел слишком далеко и поставил под угрозу само существование новой секты, и молчаливо отреклись от его воззрений, обеспечив себе возможность остаться в Иерусалиме
[485]. В этом случае причины этого первого конфессионального раскола проясняются: христиане из евреев стремились остаться в лоне иудаизма, а потому кардинально расходились со своими более открытыми собратьями по вере, которые были намерены следовать учению Иисуса, даже если это означало радикальную переоценку отношения к иудаизму со стороны новой секты.
з) Наконец, можно заметить, что преследования, последовавшие за казнью Стефана, затронули только или почти только христиан из эллинистов. Изначально Стефан проповедовал и вел споры, очевидно, в эллинистических синагогах (6:9–10). Его отношение к Храму могло глубоко обидеть тех, кто, оставив свои дома в диаспоре, специально переселился в Иерусалим, город Храма. Взгляды Стефана, несомненно, отчасти объясняются как реакция "рассерженного молодого человека" на преувеличение роли храмового культа "старцами". Во всяком случае, обвинение и арест Стефана организовали эллинисты (6:11–13), и, что существенно, ведущую роль в последующих преследованиях играл Савл, иудей из диаспоры (Гал 1:13,23, Флп 3:6, Деян 8:3,9:1–3). Другими словами, гонения имеют признаки внутриэллинистского конфликта. Это вполне может означать, что
гонения были направлены в основном (или только) против отступников, то есть христиан–эллинистов, а верующих из иудеев хватали лишь случайно или на короткое время. По словам Луки, вся церковь рассеялась по разным местам — "кроме апостолов" (8:1). Но очень трудно допустить, что власти сосредоточили гонения на многочисленных последователях, а вождей запрещенного движения оставили в покое, — это противоречит явной стратегии погромов (ср. 12:1–3). Кроме того, в Иерусалиме эллинисты выделяются, и их легко узнать, лишь немногие друзья укроют там обратившихся ко Христу сторонников Стефана. Местные христиане из евреев по–прежнему верны Храму и закону, а потому находятся в относительной безопасности
[486]. Каков бы ни был настоящий размах гонений, похоже, что почти всех эллинистов из Иерусалима вытеснили (8:4–6:11:19–21), в результате чего в Иерусалимской церкви остались в основном евреи, сделав ее бастионом более консервативного иудейского христианства во время дальнейших споров о миссии к язычникам (см. выше, § 56, ср.
Гомилии псевдо–Климента, XI. 35 — Иаков, глава "Церкви евреев в Иерусалиме"). В таком случае гонения после казни Стефана просто
углубили тот раскол между двумя сторонами, который был вызван воззрениями Стефана.
Таким образом, почти
с самого нахала своего существования христианство отличалось большим многообразием', по сути
в первой христианской общине был раскол. Мы частично выявили первое разделение между двумя типами христианства: консервативным и либеральным (если использовать обычные и понятные термины). Одни держались традиции, другие в свете меняющихся обстоятельств были к ней равнодушны. Местные иудеи считали важным остаться в рамках уже существующего иудаизма — как, несомненно, и сам Иисус. Эллинисты стали большое внимание придавать тем элементам предания об Иисусе, которые выходили за рамки тогдашнего иудаизма: заплата из новой ткани стала рвать ветхую одежду, молодое вино стало прорывать ветхие мехи — как и предвидел Иисус (Мк 2:21–22).
§ 61. Гностические тенденции в христианстве I в.
Если христианство начало столь быстро распространяться вследствие воззрений эллинистов и последующего гонения на них (Деян 8:4–6,11:19–21), встает вопрос: насколько широко оно могло распространиться, прежде чем утеряло плодотворный контакт с иудейскими корнями и христоцентричностью? Насколько многообразным стало оно в миссионерских церквах, образованных трудами эллинистов
[487] и апостольской деятельностью Павла? Насколько синкретическими или склонными к гностицизму были церкви, о которых говорится в Новом Завете? Далее мы попытаемся ответить на эти вопросы, начав с рассмотрения тех христианских общин или частей христианских церквей, которые, по–видимому, были наиболее открыты и подвержены влиянию категорий и представлений, характерных для гностических систем II в. и позже
[488].
61.1.
Церковь в Коринфе. Первое послание к Коринфянам — самое ясное в Новом Завете свидетельство разделения внутри христианской общины.
Призываю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и то же, и не было между вами разделений, но чтобы вы прочно были в одном и том же умонастроении и в тех же мыслях. Ибо от домашних Хлои стало мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Говорю я о том, что каждый из вас говорит: я Павлов, а я Аполлосов, а я Кифин, а я Христов. Неужели разделился Христос? Разве Павел был распят за вас? Или во имя Павла вы были крещены?
(1 Кор 1:10–13, КП)
Комментаторы часто считали это указанием на существование в Коринфе четырех партий: Павла, Аполлоса, Петра и Христа. При этом первые три выражали верность одной из важнейших фигур раннехристианской миссии, а четвертая такие разделения осуждала, подчеркнуто выражая верность одному Христу, хотя, возможно, своей надменностью фактически образовывала отдельную партию
[489]. С другой стороны, по мнению Дж. Манка (J. Munck), в Коринфе никаких "партий" или фракций вообще не было — были только перебранки, вызванные ложным определением мудрости
[490]. Лучшее объяснение, видимо, принадлежит Н. А. Далу (N. А. Dahl)
[491]: были не четыре различные группы, а только
две — дружественная Павлу и враждебная ему. В пользу этого свидетельствуют три факта.
(1) В остальной части письма нет следов
трех различных мнений: проблемы создала, видимо, одна–единственная форма вероучения, в различных вопросах расходящаяся с учением Павла. В Коринфе, конечно, были иудеохристиане (как показывает 1 Кор 8–10), но они едва ли плохо относились к Павлу и образовали сплоченную партию, хотя кто‑то и мог провозглашать: "Я Кифин", в знак протеста против двух других позиций.
(2) В начальном отрывке, посвященном разделению, Павел фактически не говорит о различных группах: текст 1:10–4:21 — это самооправдание Павла, его поведения и служения, попытка восстановить свой авторитет вопреки нападкам на него. (3) В непосредственном ответе на различные лозунги Павел имеет в виду только две партии: заявляющие о верности ему и заявляющие о верности Христу. Если бы партии Аполлоса и Кифы отличались от партии Христа, Павел мог бы спросить также: "Разве Аполлос был распят за вас?" или: "Разве во имя Кифы вы крещены?" Аналогично в 2 Кор 10:7 — он противостоит лишь тем, кто считает Христовым только себя, о разных партиях не упоминается.
Почему в таком случае в 1:12 мы видим четыре различных лозунга? На этот вопрос Дал отвечает достаточно убедительно:
Говорившие "я Павлов" гордились им и считали его выше Аполлоса и Кифы. Остальные лозунги надо понимать как заявление о независимости от Павла. Аполлос упомянут как самый выдающийся христианский наставник, который посетил Коринф вслед за Павлом. Кифа — знаменитый первоапостол, первый свидетель воскресения. "Я Христов" — не является девизом какой‑то особой "партии Христа", а просто означает "я принадлежу Христу и не завишу от Павла[492].
Кем в таком случае были противники Павла в Коринфе? Вероятнее всего, это восторженные (см. выше, § 44.2) христиане, находившиеся под сильным влиянием идей, характерных для позднейшего гностицизма. Конечно, многие исследователи назовут их просто гностиками
[493], но в письмах к коринфянам нет указаний на завершенную гностическую систему, особенно в области христологий
[494].
а) Мы видим, особенно из 2:6–3:4, что в Коринфе Павел выступал против тех, кто называл себя духовными (πνευματικοί). Это ключевое слово в гностицизме, во всех трех случаях, когда Павел его употребляет в 1 Кор, он, видимо, пользуется языком своих оппонентов (2:13,15; 3:1; 12:1; 14:1,37; 15:44,46). С такой самооценкой было связано то, что они большое значение придавали тому, что сами называли "мудростью" (σοφία). Как духовные и мудрые, они презирали Павла за простоту формы и содержания его учения (1:17–2:5). Они оставили молоко его учения ради твердой пищи более глубокой мудрости (3:1–2). Они уже достигли полноты, уже разбогатели, уже воцарились, а потому могут свысока, с напыщенной гордостью и высокомерием взирать на собратьев–христиан и на самого Павла, как на наставника в низшем по уровню христианстве (4:6, 8,10,18). Они, несомненно, считали христианство одной из форм мудрости, а себя мудрыми и возвышенно–духовными. По сравнению с другими верующими они — зрелые и духовные. Параллели с поздним гностицизмом здесь поражают. Разновидностей гностицизма было много, но их объединяло разделение людей на две (или три) группы, причем духовные непременно рассматривались как превосходящие остальных
[495]. Премудрость (σοφία) играла важную роль в их понимании спасения
[496]. Крест же, по крайней мере для некоторых, был преткновением
[497].
б) Вопросы о безнравственности и браке, затронутые в 1 Кор 5–7, также могут отражать раннюю гностическую или догностическую мысль. Хорошо известно, что гностический дуализм духа и плоти мог привести либо к неразборчивости, либо к аскетизму. Коль скоро дух — это благо, а тело — зло, презренная "грязь" и тюрьма, держащая божественную искру в плену у материи, то с точки зрения логики безразлично, как обращаются с телом. То есть можно уйти в грубейшую чувственность (без вреда для духа)
[498] или заморить себя воздержанием
[499]. Поэтому упоминаемая в 1 Кор 5–6 безнравственность вполне могла быть естественным следствием гностических взглядов на тело, а также известной своей вольностью атмосферы Коринфа (отсюда 6:15–20). И если в 1 Кор 7:36–38 (см. КП. —
Ред.) имеется в виду аскетический или духовный брак, то это может быть результатом тех же основных гностических идей, возможно соединенных с реакцией против коринфской безнравственности и распущенности, а также ожиданием близкого конца
[500].
в) Возникшее в христианской общине напряжение между евшими мясо и вегетарианцами очень напоминает разделение между гностиками и остальными людьми (гл. 8–10). Подобно позднейшим гностикам, "люди знания", очевидно, были высокого мнения о собственном знании (γνώσις) и понимании (8:1, 7,10,11)
[501], "Мы имеем знание" — было, очевидно, их горделивое притязание (8:1,10), как, возможно, и "мы любим Бога и познаны Им" (8:3 — ср. Еванг. Истины, 19:33). Следовательно, они никакого значения идолам не придавали и свободно присоединялись к храмовым празднествам — опять‑таки подобно гностикам II в.
[502]
г) Духовное самомнение, пневматика (они бы сказали "знание истинного положения дел"), возможно, отражается в некоторых (хотя и не всех) спорах, раздиравших Коринфскую церковь. Наибольшего выражения оно достигало в их поведении во время совместной трапезы и вечери Господней (11:17–22, 33): для части общины это был повод хорошо поесть, презрев при этом бедных ее членов (у которых еды было меньше) и пришедших позже. Почти наверняка речь идет о тех самых людях, чье превосходящее знание давало им право наслаждаться жизнью — к общей трапезе и вечере Господней они относились так же, как и к идольским празднествам, которые посещали (ср. 10:19–21)
[503]. То же духовное самомнение заметно и в вопросе о духовных дарах (гл.12–14): они, несомненно, гордились своими духовными дарами (πνευματικά), особенно экстатическим вдохновением, когда они говорили "языками" (14:12,23,33) — они считали это проявлением высшей духовности и к не обладавшим столь же яркими дарами относились с пренебрежением (гл. 12:21). Не исключено, что 12:3 содержит одну из ранних формулировок типично гностической христологии:
земной Иисус значения не имеет, значение имеет только
небесный Христос
[504].
д) Позднейший гностицизм отличало убеждение, что, обретя знание об истинном положении дел и о себе, уже становишься "совершенным"
[505]. Подобным образом коринфские противники Павла подчеркивали "уже" и пренебрегали еще не наступившим эсхатологическим спасением. Отсюда язык в 4:8: "Вы уже сыты, вы уже разбогатели, без нас вы воцарились". Также и весь отрывок 10:1–12, очевидно, написан, чтобы предупредить тех, кто полагает себя уже достигшим совершенства (возможно, через участие в таинствах)
[506]. На самом деле они еще в пути и могут упасть вследствие своего напыщенного самодовольства — трагическим прообразом чего было происшедшее с израильтянами между Красным морем и Иорданом. Возможно, наиболее ясным примером подчеркнутого "уже" коринфских пневматиков было их отношение к воскресению (гл. 15). Очевидно, именно они в Коринфской церкви утверждали, "что нет воскресения мертвых" (15:12). Они могли считать, что
будущего, грядущего воскресения нет: они
уже восстановлены через участие в животворящем Духе, приобщаясь к воскресению Того, Кто, воскресши, Сам стал животворящим Духом (15:45). Отрицая воскресение мертвых, они имели в виду отрицание воскрешения (мертвых) тел: спасение не зависит от того, что случится с телом во время смерти или после нее. Воскрешение (материального) тела для гностика невообразимо, ибо противоречит его основопологающему представлению о дуализме духа и материи; напротив, спасение уже даровано, воскресение уже произошло в Духе воскресения
[507]. Таким образом, и здесь мы сталкиваемся со взглядами, типичными для позднейшего гностицизма
[508].
Одним словом, корнем проблем, с которыми Павел столкнулся в Коринфе, несомненно, было сильное влияние гностических (или догностических) идей на значительную часть христианской общины. Ситуация, конечно, была сложнее, чем может показаться из вышесказанного, но тем не менее видно: в Коринфской церкви присутствовали "гностические тенденции" в строгом смысле этого слова. Отметим, что это было
многообразие в рамках одной общины: несмотря на разделение, обе группы людей считались ее членами. Один из краев спектра коринфского христианства отличался тягой и симпатией к понятиям и категориям, характерным для синкретической смеси эллинистической культуры и религиозной философии, но из общины это их не исключало. То есть в
Коринфской церкви были гностики, но Павел не объявлял их нехристианами или ложными христианами. Он упрекал их в гордыне и недостатке любви, но признавал их членами тела Христова. Перед нами только середина I в., но на сцене уже появляется гностическое (или догностическое) христианство —
не как угроза или нападение на церковь извне, но как ч
асть самого христианского спектра[509].
61.2. Несложно обнаружить свидетельства о гностических тенденциях в эллинистическом секторе раннего христианства и в других местах Нового Завета.
а) Ситуация в
Филиппийской церкви была довольно сложной, по крайней мере с нашей точки зрения. "Зеркальное прочтение" текста позволяет прийти к выводу, что в филиппийской общине, как и в коринфской, многие верили, что уже достигли совершенства (3:12–15, ср. 1:6,11), поэтому их оставляли равнодушными разговоры о необходимости работать для спасения (2:12), а слова о грядущем воскресении они считали бессмысленными (3:10–11,20–21). Подобно коринфянам, они надмевались своими представлениями, считали других ниже себя; их интересовали только высшие предметы (2:3–4). Возможно, они делали из этого антиномистские выводы — по крайней мере, это, кажется, подразумевается 2:12,14, 3:16 и 4:8–9. Значит, филиппийцы были легкодоступной жертвой тех, против кого Павел предупреждает в 3:17–19. Кто составлял эту последнюю группу? Речь, несомненно, идет о распутниках, похвалявшихся своей (чрезмерной) чувственностью ("их бог — чрево, и слава их — в сраме"). Возможно, подобно коринфским гностикам, они считали весть о кресте безумием ("враги креста Христова, их конец — погибель" — ср. 1 Кор 1:18). Возможно, похвалялись они и знанием небесного ("они мыслят о земном" — насмешливая пародия). Скорее всего это были распутники с выраженными гностическими тенденциями
[510].
Для нас интереснее всего их отношение к Филиппийской церкви. Павел, очевидно, их членами общины не считал, проводя разделение между "многими" и "братьями" в 3:17–18, а также "ими" и "нами" в 3:19–20. Но сами они могли считать себя христианами (у них было богословие креста, а их учение очень привлекало филиппийцев — отметим параллельные глаголы в ст. 16–18). Может быть, вначале они были даже членами Филиппийской церкви (почему иначе Павел стал бы говорить о них "со слезами"?). Если так, то они могли вскоре приобрести (или принести с собой) вольность; возможно, Павел увидел исходящую от них опасность и "изъял" их, исключил (ср. 1 Кор 5:2–13). Тем не менее они долгое время пребывали в филиппийской общине или поблизости (Флп 3:18), за это время привлекательность для филиппийцев их образа жизни усилилась. Таким образом, перед нами
хороший пример влияния гностических или синкретических тенденций и их взаимодействия с одной из наиболее ценимых Павлом церквей.
б)
Послание к Колоссянам. Очевидно, в церкви города Колоссы были люди (необязательно составлявшие сплоченную партию), которые могли "обманывать" других "вкрадчивыми словами" (2:4) — сторонники того, что Павел называет "пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира" (2:8). Они могли считать Иисуса одним из многих небесных посредников (ср. 2:9; см. ниже, § 6З. З. в). По–видимому, это были строгие аскеты, требовавшие соблюдения праздников, новомесячий и суббот (2:16), вводившие пищевые запреты (2:16, 21). Целью такого самоотречения было умерщвление плоти (2:20–23). Вполне возможно, что они призывали к "почитанию ангелов" (и других духовных существ — 2:8?) и были горды пережитыми видениями, которые считали признаком достижения высокой степени духовности (2:18 — хотя точное значение стиха неясно)
[511]. Не вполне понятно, как определить этот вид учения. Восточное Средиземноморье было в то время котлом, в котором смешивалось множество религиозных представлений и обычаев. Очень похоже, что перед нами синкретическое учение, вобравшее в себя элементы иудаизма, мистериальных культов, христианства и, особенно, гностических идей. Все это соединилось в одну систему, которую ее сторонники, несомненно, считали лучшей, чем каждый из элементов в отдельности. Если это так, то мы видим хорошую иллюстрацию характера развивающегося христианства в Малой Азии; мы видим,
сколь размыта была грань эллинистического христианства и насколько притягательно для первых христиан было предать своей новой вере и культу более впечатляющие синкретические и гностические формы.
в)
Пастырские послания. Одно или два поколения спустя ситуация не очень изменилась, хотя, конечно, предостережения против лжеучений усилились и стали более частыми. Лжеучение, о котором идет речь, было своего рода иудеохристианский
гнозис, сродни упоминавшемуся в Послании к Колоссянам. По словам автора, представители этого лжеучения были "из обрезанных" (Тит 1:10); они высоко чтили закон, доказывали его действенность (1 Тим 1:7, Тит 1:14–15,3:9). Но очевидно, одним из ключевых слов был "гнозис" (1 Тим 6:20); распространяя его, они занимались "баснями и родословиями бесконечными" (1 Тим 1:4,4:7, Тит 3:9). Они практиковали аскетизм (1 Тим 4:13, Тит 1:14–15). Поразительнее всего, что они верили в то, что воскресение уже произошло (2 Тим 2:18). Вероятнее всего, это было учение, рассматривавшее искупление как духовное познание человеком истинного положения дел, касающееся космоса и себя самого, и сопровождавшееся крайним пренебрежением к вещам материальным. Но учение это не пришло из ниоткуда. Оно распространилось
внутри общины (1 Тим 1:3–4, 2 Тим 2:16–17, 3:5, Тит 1:13–14, 3:9–10) и уже увлекло некоторых настолько, что их пришлось "изъять" или исключить (1 Тим 1:19–20, Тит 3:10–11, ср. 1 Тим 1:6–7, 6:20–21, 2 Тим 2:18, 4:14). То есть даже во втором (или третьем) поколении, когда "вера" была более ясно обрисована и определена (см. выше, § 17.4),
фактические границы самих общин были обозначены менее четко. Гностическое учение было осуждено, но в некоторых церквах еще оставались его сторонники, причем многие, несомненно, считали его привлекательным. Таким
образом, и здесь, в общинах конца I в., мы видим такой же вид многообразия.
г) Церкви, упоминаемые в
Откр 2–3, были, очевидно, очень разнородными. Особенно выделяется церковь в Фиатирах, которая "попускала женщине Иезавели, называющей себя пророчицей; она и учит и вводит в заблуждение Моих рабов, чтобы они блудили и ели идоложертвенное" (Откр 2:20; также Пергамская церковь в 2:14–15, напротив Эфесская церковь — 2:6). Более того, ее последователи гордились глубоким духовным опытом — "познали глубины сатаны, как они говорят" (2:24 — хотя не исключено, что слово "сатана" добавил или изменил сам тайнозритель). Поэтому, возможно, здесь мы имеем дело с каким‑то гностическим свободомыслием, хотя нравственная строгость самого пророка (14:4) могла привести к чрезмерно консервативной реакции на то, что было просто более либеральной формой христианства. Каковы бы ни были детали, очевидно, что учение, отвергнутое пророком и Эфесской церковью, принималось во внимание (пророк говорит "попускалось") в Пергаме и Фиатирах. По крайней мере, в них
четкие границы между ортодоксией и ересью, христианством и нехристианством,
еще предстояло выработать.
д)
Послание Иуды также противостоит безнравственной духовности предшественников гностицизма: ст. 19 — "это они производят разделения; они — душевные, Духа не имеющие". Это, несомненно, пневматики, считавшие свои вдохновения (в снах или видениях) выше всяких властей (ст. 8). Они гордились своими представлениями и похвалялись своим духовным превосходством (ст. 16). Гордыне по поводу духовного знания сопутствовало несдерживаемое потакание телу: они превращали благодать Божью в распутство (ст. 4); как и коринфских гностиков, их отличал совершенный эгоизм в поведении на совместных трапезах (ст. 12); они давали волю сексуальной безнравственности и неестественным похотям (ст. 7–8); следуя своим безбожным страстям, они вели себя как дикие звери (ст. 10,18). То есть перед нами опять одна из форм гностического учения, очень похожая на упомянутые выше (§ 61.1; прим. 23, 27), где тело считалось столь мало относящимся к Духу, что ему можно было потворствовать без вреда для последнего. Для нас важен ст. 12 — "они — пятно на ваших вечерях любви". То есть гностики были не посторонними соблазнителями истинных верующих, но членами общины, которые участвовали в совместных вечерях любви
[512]. Более того, в Послании Иуды, как и в Пастырских посланиях, не делается никакой реальной попытки ответить на вызов, брошенный этим учением. Автор угрожает им судом Божьим (ст. 5–7,13,15), но не призывает исключить их из общины. Другими словами,
христианство, которому было адресовано Послание Иуды, не было чистым и непорочным; оно содержало в себе гностические (или догностические) элементы. Подобный вывод можно сделать из
Второго послания Петра, поскольку его ключевая глава (2 Петр 2) находится в сильной зависимости от Послания Иуды.
61.3. Таковы были христианские общины в I и, возможно, во II в. Они включали широкий спектр многообразия, переходивший в отвергнутые позднее Церковью взгляды и обычаи. Перед нами траектория (если такая метафора уместна), конец которой уходит в гностические верования и обычаи, которые позднейшая ортодоксия не задумываясь осудила как еретические. Авторы писем неоднократно делают попытки внести ясность: что является допустимым многообразием и какие мнения и поведение
следует считать неприемлемыми. Но
в самих общинах значительная часть спектра многообразия явно считалась приемлемой. Такое многообразие включало в себя элементы, типичные для позднейшего гностицизма. Гностики участвовали во внутренней жизни церкви как полноправные ее члены. Другими словами, на этой стадии мы еще не видим Церкви, то есть
знакомой нам Церкви, где вероучение полностью разработано, а лжеучители являются лишь извне и легко распознаются как таковые. Напротив, тот факт, что даже в Пастырских посланиях речь идет только о дисциплине и изгнании, свидетельствует, что
гетко определенные или единодушные взгляды на ортодоксию и ересь еще не сформировались. Эти представления к концу I в. только начинали вырабатываться
[513].
§ 62. "Гностицизирующий уклон" Q?
Дж. Робинсон, развивая некоторые идеи Бультмана, указал, что ближайшими параллелями литературной форме Q являются, с одной стороны, собрание речений Премудрости (например, Книга Притчей), а с другой — собрание речений Иисуса, которые мы находим в оксиринхских папирусах и Евангелии от Фомы. Он определяет
Gattung, Λόγοι Σοφών — "Речения мудрых", или "Слова мудрых", и высказывает предположение, что Q — это отражение гностицизирующего уклона, промежуточная стадия между иудейской литературой Премудрости и эллинистическим гностицизмом. X. Кёстер (H. Koester), следовавший тезису Робинсона, видоизменил его. По мнению Кёстера, Евангелие от Фомы происходит от преданий, предшествующих Q (некоторые логии Фомы кажутся более примитивными, чем версия Q). В этих преданиях "отсутствовало апокалиптическое ожидание Сына Человеческого". Q вставил этот апокалиптический элемент, "чтобы сдержать гностический уклон речений в этом Евангелии"
[514]. Правомерно ли говорить о "гностицизирующем уклоне" Q? Должны ли мы расположить Q на "гностической траектории"?
62.1. В пользу положительного ответа на этот вопрос говорит несколько соображений.
а) Около четверти из 114 изречений в Евангелии от Фомы имеют полную или частичную параллель в традиции
Q[515]. Соотношение возрастет до одной трети, если мы включим в рассмотрение только ту часть традиции
Q, которая представлена только Матфеем или только Лукой, или ту часть Евангелия от Фомы, которая предположительно соответствует
Q (или предшествующему источнику). Таким образом, есть
преемственность между традицией, сохраненной Q, и Евангелием от Фомы, причем последнее необычайно от этой традиции зависит. Примером может служить лишь незначительная модификация текста
Q в логии 86(90)
[516] (интересна эта логия и тем, что только в ней в Евангелии от Фомы упоминается Сын Человеческий): "Иисус сказал: (Лисицы имеют свои норы), и птицы имеют (свои) гнезда, а Сын Человеческий не имеет места, чтобы преклонить Свою голову (и) отдохнуть" (ср. Мф 8:20/Лк 9:58) — добавлены только последние два слова (ср. логии 50, 51, 60, 90).
б) Одной из наиболее примечательных особенностей
Q является
отсутствие упоминаний о страданиях или смерти Иисуса: нет не только повествования о страстях (что не удивляет в собрании речений), но и пророчеств о них, занимающих столь важное место во второй половине Евангелия от Марка (Мк 8:31,9:31,10:33–34,45). Как мы уже говорили выше (§ 9.2, прим. 19), нельзя сказать, что
о страстях и отвержении в Q вообще не говорится, но соответствующие высказывания трудно понять, и они могут быть истолкованы иначе. Можно упомянуть лишь логию 55(60) (Мф 10:38/Лк 14:27) и логию 86(90) (только что процитированную), но они, вероятно, понимались в гностическом смысле: София и духовный человек в этом мире бездомные странники, не имеющие покоя и не принятые в материальном творении.
в) Наконец, отметим, что
в самом Q сильно влияние Премудрости. Видимо, Иисус еще не отождествляется с Премудростью
[517]. Но
Q, несомненно, представляет Его как Учителя Премудрости
[518]. Учитывая все вышесказанное, похоже, что для
Q учение Иисуса является скорее не керигмой, а руководством для живущих в последние дни, где словам Иисуса придается эсхатологическое значение независимо от Его смерти и воскресения. В Евангелии от Фомы мы находим важную параллель: и эти, и другие речения представлены как слова "живого Иисуса", дающего жизнь
через Свое учение (ср. логия 52(57)); "вера понимается как доверие словам Иисуса", открывающим "вечную мудрость об истинном Я человека"
[519].
Таковы аргументы в пользу того, чтобы размещать
Q ранее на той же гностицизирующей траектории литературы премудрости, к которой принадлежит и Евангелие от Фомы.
62.2. С другой стороны, нельзя пренебрегать по крайней мере двумя другими факторами.
а) В то время как
в Q нет ничего явно гностического, Евангелие от Фомы имеет типично гностические черты. См. особенно:
Логия 29 (34) — Иисус сказал: Если плоть произошла ради духа, это — чудо. Если же дух ради тела, это — чудо из чудес. Но Я, Я удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой бедности.
Логия 50 (55) — Иисус сказал: Если вам говорят: Откуда вы произошли? — скажите им: Мы пришли от света, (от) места, где свет произошел от самого себя…
Логия 77 (81) — Иисус сказал: Я — свет, который на всех. Я — все: все вышло из Меня и все вернулось ко Мне. Разруби дерево, Я — там; подними камень, и ты найдешь Меня там[520].
Более того, Фома использовал материал раннего
Q–типа, прочитывая его в гностическом ключе и разрабатывая в гностическом направлении. Как мы уже видели, у Фомы сохранились лишь два из немногих речений
Q, которые могут быть отнесены к страданиям и отвержению Иисуса, причем в одном случае была сделана небольшая, но существенная вставка с целью придать ему более гностический оттенок (логия 86(90)). Вот два других примера:
Логия 2(1) — Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет (ср. логия 92(98); Мф 7:7/Лк 11:9), и, когда он найдет, он будет потрясен, и, если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем.
Логия 3(2–3) —…Но царствие внутри вас и вне вас (ср. Лк 17:21). Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы — дети Отца живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы — бедность.
б) Самое поразительное различие между
Q и Евангелием от Фомы лежит в области
эсхатологии. Источник
Q полностью эсхатологичен и в значительной степени характеризуется ожиданием скорого пришествия Сына Человеческого
[521], в Евангелии от Фомы интерес к эсхатологии почти полностью отсутствует, а сходный с синоптическим материал, сохраненный в нем, тщательно деэсхатологизирован. Например:
Логия 10(10) — Иисус сказал: Я бросил огонь в мир (отметим прошедшее время — ср. Лк 12:49), и вот Я охраняю его, пока он не запылает.
Логия 18(19) — Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец. Иисус сказал: Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, будет стоять в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти.
Логия 46(51) —…Тот из вас, кто станет малым, познает Царствие и будет выше Иоанна (ср. Мф 18:3,11:11/Лк 7:28).
Отметим акцент на осуществленной эсхатологии в логиях 1,3,11,19,35,37,51, 59,111,113; как мы видим, притчи о суде из призыва бдительно ждать конца превратились в призыв к благоразумию (21,103), а притчи о Царстве — в речения Премудрости (8,76,109). По мнению Кестера, Евангелие от Фомы отражает ту стадию традиции
Q, когда акцент делался именно на реализованной эсхатологии. Но мне не кажется, что можно так же быстро избавиться от будущей эсхатологии в учении Иисуса (см. ниже, § 67.2), а поэтому
Q — несомненно, более ранняя версия, которая ближе к учению Иисуса, чем другие, неэсхатологические варианты. Более того, логии Евангелия от Фомы более походят на
деэсхатологизированную традицию, чем на доэсхатологическую: эсхатология логии 57(62) выглядит скорее как неустраненный остаток, нежели как предшественник более разработанной эсхатологизации.
62.3. Таким образом, роль премудрости в
Q нельзя преувеличивать. Если эсхатологический элемент действительно был таким сильным, каким он кажется, то определенно
Q не изображает Иисуса просто как учителя премудрости, высказывающего различные мысли. Напротив, христология и смысл
Q подразумевают скорое пришествие Иисуса как Сына Человеческого. В то же время мы должны отметить, что раннехристианские церкви не сохранили
Q, оставив другой источник для Матфея и Луки — Евангелие от Марка.
Q сохранился лишь постольку, поскольку его сохранил Марк, прочно связав с повествованием о страстях и поместив в контекст общего служения Иисуса, Его жизни, смерти и воскресения.
Ранние церкви отказались от того, чтобы сохранять и использовать учение Иисуса обособленно от Его смерти; очевидно, что большинство ранних христиан источник Q сам по себе Евангелием не считало. Вполне возможно, что они осознавали опасность описания Иисуса только как носителя откровения и учителя премудрости. Не исключено, что некоторые даже боялись вовлечения
Q в траекторию гностицизирующей премудрости — хотя в этом случае по крайней мере метафора траектории предполагает более прочную связь и преемственность с
позднейшим развитием, чем предполагают сами факты. Одним словом, в самом
Q нет ничего явно гностического, даже узнаваемого "гностицизирующего уклона". Но также необходимо отметить, что, не включив в повествование предчувствия Иисуса о собственных страданиях и смерти (если не считать пяти–шести косвенных ссылок), составители
Q открыли дорогу тем толкованиям, которые с увяданием чаяний второго пришествия стали неизбежными и достигли наиболее полного выражения в Евангелии от Фомы и которые стали невозможными, когда традиция
Q была тесно привязана к рассказу Марка о страстях.
Это опять‑таки означает, что даже
на самой ранней стадии использования предания об Иисусе вопрос преемственности и отождествления человека Иисуса с прославленным Христом был решающим для христианства. Первые христиане ценили не одного лишь земного Иисуса и Его учение само по себе, но учение Того, на Чье скорое пришествие как Сына Человеческого они надеялись (так в 0. Но даже то, как предания были изложены в
Q, было, по зрелом размышлении, найдено неадекватным выражением христианского благовестия: в нем отсутствовал упор на то, что Иисус — одновременно Тот, Кто был распят и воскрес, и Учитель мудрости, и Сын Человеческий, грядущий во славе.
Следует отметить еще одно. Христианские гностики обычно приписывали свое тайное учение Иисуса тем беседам, которые он якобы вел в течение длительного времени после воскресения (так в "Книге Фомы Атлета" и "Пистис Софии"). Евангелие от Фомы поэтому необычно: оно пытается использовать предание об Иисусе как средство передать Его учение. В самом деле, похоже, что в гностических кругах отсутствовала потребность рассматривать учение Иисуса как "изречения мудрых" — несмотря на свободу, с которой гностики подходили к редактированию и исправлению предания. Они предпочли полную свободу, которую предполагал литературный жанр "диалогов после воскресения"
[522]. Возможно, гностицизм отказался от стиля Евангелия от Фомы потому, что в какой‑то степени такой материал мог быть соотнесен с преданим об Иисусе, зафиксированном в другом месте, и чем тщательнее они его редактировали, тем менее правдоподобным он становился. В то же самое время "диалоги после воскресения" такому пересмотру не подвергались. Во всяком случае,
гностицизм мог представлять свои идеи как учение Иисуса в течение длительного времени, лишь отделяя воскресшего Христа от земного Иисуса и не пытаясь показать связь Иисуса из преданий с небесным Христом их веры.
Короче говоря, "критерий" отождествления человека Иисуса с прославленным Христом отчасти объясняет уязвимость
Q для гностической редакции, a
Q отчасти объясняет, почему этот критерий обрел такую форму у Марка не только как отождествление учителя Иисуса и грядущего Сына Человеческого, но и как непрерывную жизнь Сына Человеческого, который должен пострадать и умереть, прежде чем Он будет воскрешен и прославлен.
§ 63. Павел — "величайший из гностиков"?
63.1. В церковной традиции Павел является непоколебимым защитником ортодоксии. Именно такой образ Павла чтила великая Церковь примерно со времен Иринея. Для тех, кто знаком только с этой традицией, вынесенная в заглавие параграфа характеристика Р. Райценштайна (R. Reitzenstein)
[523] может вызвать шок. Но на самом деле
в ряде вопросов Павел поддерживал взгляды, свойственные скорее еретикам–гностикам, чем Отцам Церкви. Позвольте мне подтвердить это на некоторых ключевых примерах.
а)
Валентиниане неизменно утверждали, что их богословие основано на Павле и что он
в своих письмах использовал основные понятия их системы образом, достаточно ясным для любого, кто умеет читать… Учение Валентина невозможно без писем Павла точно так же, как и без пролога к четвертому Евангелию. Неслучайно все валентиниане предпочитали Павла — как проповедника тайной мудрости, который высказывался наиболее ясно[524].
Они могли ссылаться на Гал 1:12,15–16, где Павел утверждал, что получил Евангелие в непосредственном откровении от Бога, а не от людей. Подчеркивание Павлом того, что его благовестие получено не от иерусалимских апостолов и их традиции, использовалось гностиками II в. для оправдания расхождения их взглядов с церковной традицией ортодоксальных Отцов (ср. Еф 3:3). Подобным образом валентиниане могли оправдывать свое разделение людей на πνευματικοί и πσυχικοί ссылкой на Павла (1 Кор 2:13–14). Более того, они могли привести слова Павла о том, что, вопреки насмешкам коринфских оппонентов, он проповедовал мудрость среди совершенных (1 Кор 2:6, ср. 2 Кор 12:4) как оправдание тайной мудрости, которой они обучали посвященных
[525]. У. Шмитальс (W. Schmithals) поэтому не так уж не прав, когда пишет о Гал 1:12: "Это типично гностический довод. Гностический апостол характеризуется не неразрывностью традиции через апостольское преемство, но непосредственным духовным призванием"
[526], и об отрывке из Первого послания к Коринфянам: "В 2:6 -3:1 мы находим точное выражение гностического подхода"
[527]. Таким же образом валентиниане ценили Послание к Ефесянам за то, что оно раскрывает "тайну духовного искупления"
[528]. По–видимому, они возводили свое представление об зонах к Посланиям к Ефесянам и Колоссянам
[529].
б) Величайший паулинист первых веков нашей эры —
Маркион. Некоторые даже называют его величайшим паулинистом всех времен, по крайней мере в том смысле, что наибольшее значение он придавал Павлу. Во всяком случае, он был "первым систематическим собирателем наследия Павла"
[530]. Ключевым элементом богословия Маркиона, возможно ключом ко всей его системе, была антитеза между законом и Евангелием
[531].
Эту антитезу он заимствовал непосредственно у Павла. Несомненно, Павел иногда очень остро противопоставлял закон и Евангелие, веру и дела: особенно в 2 Кор 3:6 — "буква убивает, а Дух животворит" (см. также Рим 5:20, 7:6, Гал 3:2–3). Именно этот контраст между ветхим законом, как символом осуждения и смерти, и новым законом благодати и жизни послужил отправной точкой для радикальной враждебности Маркиона к Ветхому Завету, его закону, религии и Богу (ср. 2 Кор 4:4 — "бог мира сего")
[532]. Не нужно удивляться и утверждению Дж. Дрейна (J. W. Dräne) о том, что "выраженное в Послании к Галатам отношение Павла к закону можно вполне справедливо назвать явно гностическим"
[533].
в) Мы уже отождествили враждебную Павлу партию в Коринфе с гностически настроенной группировкой внутри христианской церкви этого города (выше, § 61.1). Следует отметить, однако, такой поразительный факт: в некоторых вопросах
Павел явно симпатизирует коринфским гностикам. В частности, он соглашается с теми, кто "имеет знание" о том, что идолы — ничто и христиане свободны есть все (10:26, ср. Рим 14:14,20), хотя и желает ограничить свою свободу ради "немощных" (1 Кор 8:13, 10:28–29, ср. Рим 14:13–21). Он высоко ценит духовные дары (πνευματικά), хотя предпочитает слово χαρίσματα и считает, что коринфяне сильно преувеличили важность глоссолалии (1 Кор 12–14). Себя он желает называть πνευματικός, как подтверждение того, что проповедует мудрость среди совершенных, отрицая право так называть других членов общины, хотя и по иным, чем гностики, причинам (2:6–3:4). Заметим и то, что сам Павел был строго аскетичен в отношении к браку и своему телу (1 Кор 7, 9:27) Этот аскетизм, возможно, принимали и некоторые коринфские гностики. Наконец, вспомним, что, хотя Павел явно не разделял принятый в Коринфе взгляд на крещение (см. выше, § 39.5), он не спорит с ним и не осуждает его (см. выше, § 5.3). Он вполне готов говорить о вечере Господней как "приобщении" к телу и крови Христовой (10:16). Первое послание к Коринфянам дает основание Дж. Херду (J. С. Hurd) утверждать, что коринфские оппоненты Павла, с которыми он спорит, просто оставались верны энтузиазму первых проповедей Павла, когда он представлял благовестие как "знание" и "мудрость" и более высоко ценил глоссолалию
[534]. Даже если это заключение выходит за рамки непосредственных свидетельств мы, по крайней мере должны согласиться, что коринфские ошибки во многом были односторонним развитием идей самого Павла
[535].
г) Если мы рассмотрим выраженное в 1 Кор 15 и 2 Кор 5
учение Павла о воскресении тела, учитывая перспективу II в.,
оно будет выглядеть более гностическим, чем ортодоксальным. Возможно, различие между естественным (душевным) и духовным (пневматическим) телом (1 Кор 15:44–45), а также решительное утверждение, что
"плоть и кровь Царства Божьего наследовать
не могут" (15:50), было как шагом вперед по отношению к более раннему и более физическому пониманию воскресения тела Иисуса, так и сознательной уступкой эллинистической неприязни материальной плоти — попыткой сделать христианское понимание воскресения более приемлемым для греческой мысли, не оставляя при этом более иудейского утверждения о целостности спасения: таким образом,
телесное воскресение (а не бессмертие души) — это воскресение всего человека как
духовного тела (воскресает не физическое тело, не плоть)
[536]. Еще более поразительно, что в последующие десятилетия в спорах о воскрешении тела
гностики часто оставались более верны взглядам Павла, чем ортодоксальные Отцы: когда христианские гностики пришли к выражению своего понимания духовного способа существования после освобождения от плоти, они зачастую использовали язык, обозначающий какой‑то вид духовного тела
[537]; в то же время ранние Отцы отошли от взглядов Павла и стали утверждать, что, напротив, воскресает именно физическое тело, плоть (см. ниже, § 63.2)
[538].
д) Наконец, отметим, что
христология Павла в ключевых вопросах была уязвима для гностического истолкования. Я имею в виду взгляды Павла о земном Иисусе, Иисусе как человеке. Во–первых, его, кажется, не интересует земная жизнь Иисуса: он полностью занят прославленным Христом. Более того, его утверждение о том, что отныне (то есть после явления Иисуса Христа Павлу недалеко от Дамаска) он больше не знает Христа "по плоти" (2 Кор 5:16), было в сущности открытым приглашением к гностическому определению Христа "по Духу"
[539]. Во–вторых, Павел дважды говорит о приходе Иисуса в "подобии" (ομοίωμα) плоти или человека (Рим 8:3, Флп 2:7), что гностики цитировали как свидетельство того, что Спаситель принял лишь вид человеческого тела
[540].
Неудивительно, что Тертуллиан назвал Павла "апостолом еретиков"
[541].
63.2. Проиллюстрировать возможность гностического истолкования Павла можно и с другой стороны: из
подхода Отцов к Павлу, который был ответом на гностические истолкования. Столкнувшись с реальной угрозой того, что маркиониты и валентиниане "приберут к рукам" Павла, они должны были продемонстрировать в споре его ортодоксальность. Но в реальности получилось так, что использовать Павла для защиты ортодоксии они могли, лишь
искажая его в большинстве этих вопросов.
а) Как мы уже видели, гностики использовали Послание к Галатам для утверждения своего отмежевания от церковной традиции возникающей ортодоксии. Они ссылались, в частности, на Гал 2:5: "им мы не уступили и не подчинились ни на час, чтобы истина Евангелия сохранялась у вас". Пытаясь опровергнуть еретическое истолкование этого отрывка, Ириней и Тертуллиан отвергли обычное его прочтение и следовали редкому вариантному чтению,
опускающему отрицание: "им мы уступили и подчинились на время…" Другими словами, с этим истолкованием они могли построить свое утверждение о том, что Павел в конце концов подчинился авторитету иерусалимских апостолов
[542] — утверждение, которое, как мы уже видели, является неверным истолкованием истории и самих писем Павла.
б) Отцов обычно поражала сила контраста, проводимого Павлом между законом и Евангелием, делами и верой. Они были готовы идти на любые экзегетические средства, сколь бы натянутыми те ни были, чтобы предотвратить истолкование Павла в маркионитском смысле. Кирилл Иерусалимский, например, объявил, что Павел оставался гонителем Церкви, пока считал, что христианство отменяет закон, а не исполняет его. Пелагий же доказывал, что Павел написал десять писем (включая Послание к Евреям, но исключая письмо к Филемону и Пастырские послания), чтобы показать свое согласие с законом Моисеевым
[543]. Намного чаще, однако, Отцы пытались одержать верх, подчеркивая (мы бы сказали, иногда чересчур) мысль Павла о законе как наставнике до прихода Христа (Гал 3:24). При этом они вводили различение между мнением Павла о нравственном и об обрядовом законе (которое у самого Павла отсутствует)
[544]. Большинство Отцов смягчает остроту проводимой Павлом антитезы между верой и делами, прочитывая Павла глазами автора Послания Иакова — в результате понимание Павлом проблемы благодати и веры лишалось богатства и силы
[545].
в) Гностический дуализм между Богом и миром с последующим разобщением между творением и искуплением мог во многом опираться на представление Павла о воскресении тела. Видя это, Отцы пытались истолковать Павла в согласии со своей собственной верой в воскресение плоти — но опять‑таки при этом были неизбежны некоторые экзегетические искажения. Например, Ириней и Тертуллиан явно были огорчены местом, на которое могли опереться их противники (1 Кор 15:50), но их попытки перетолковать его в свою пользу едва ли убедительны
[546]. То, что говорит против валентиниан Епифаний, в этом отношении несколько забавно:
Они отрицают воскресение мертвых, высказывая вещи загадочные и смешные, будто не это тело восстает, а какое‑то другое, называемое ими духовным[547] (ср. 1 Кор 15:35–50).
Короче говоря, во всех этих важных моментах спора между гностицизмом и возникающей ортодоксией
Отцы могли сохранить Павла в рамках великой Церкви лишь путем неправильного его истолкования.
63.3. Итак, оправдана ли та характеристика, которую Райценштайн дал Павлу? Находится ли Павел на гностической траектории, той, что роднит его больше с еретиками, чем с ортодоксами? Может быть, Маркион просто довел взгляды Павла до логического завершения, и великая Церковь поступила бы справедливо в историческом плане, если бы отвергла его наряду с Маркионом, вместо того чтобы удерживать его, давая собственное истолкование? К счастью, есть и другая сторона вопроса.
а) Если Отцы истолковывали Павла с экзегетическими натяжками, то
то же делали и гностики. Валентиниане, например, поступали просто: читая различные отрывки символически, как указания на демиурга или плерому, психиков или пневматиков (или хиликов), они в любом случае достигали желаемого. В результате получалось очень правдоподобное истолкование таких мест, как Рим 7:14–25 и Гал 4:21–26
[548], но в отрывках типа 1 Кор 1:1–2,1:22,15:20–33 и Еф 5:22–33 различение на психиков и пневматиков выглядело очень натянутым и искусственным
[549]. Интересно, что, истолковывая 1 Кор 4:8, они игнорировали явную иронию и вычитывали здесь обоснование своего критерия, по которому пневматики могут распознать свое избранничество
[550]. Еще проще поступал Маркион. Хотя он ссылался только на Павла, исключая из канона все с ним несогласное, были у Павла места, которые он не принимал, считая фальсификацией иудаистов. Свою задачу он видел в том, чтобы эти вставки убрать, восстановив таким образом изначальный паулинизм, который он считал истинным Евангелием. Неудивительно, что изымались как не принадлежащие Павлу именно те стихи, которые показывают, что противопоставление закона и Евангелия у Павла не следует понимать как противопоставление между Ветхим Заветом и Новым, между творением и искуплением (например, он вычеркивал Рим 1:19–2:1, 3:31–4:25, 8:19–22, 9:1–33, 10:5–11:32; выражения "то, что и принял" и "по Писаниям" в 1 Кор 15:3–4; а Кол 1:15–17 стал читаться просто как "Он есть образ Бога невидимого, и Он есть прежде всего")
[551].
б) Для нас более существенно
разграничение, которое проводил сам Павел между собственной проповедью и поступками и тем, что проповедовали и как поступали его оппоненты–гностики. Основное, в чем Павел упрекает коринфскую фракцию в 1 Кор — это
отсутствие любви, недостаточная забота о верующих собратьях и о наставлениях всей общины. Всякие претензии на мудрость, знание или дары, побуждавшие верующих думать о себе с чувством превосходства над другими, он резко отвергает: "Знание надмевает, а любовь назидает" (1 Кор 8:1; ср., напр., 3:3–4; 10:23; 12:21–23; 13). Связь Павла с его общинами была сильна именно безмерной любовью. Если любовь Христова побудила его стать как бы не знающим закон, чтобы приобрести не знающих закон, то она же подтолкнула его быть как бы подзаконным, чтобы приобрести подзаконных (1 Кор 9:20–21). Благополучие
всей общины было предметом его заботы — как о сильных, так и о слабых (Рим 14:1–15:6; 1 Кор 8–10; Гал 5:13–6:5). Он не мог допустить, чтобы иудеохристиане ограничили христианскую свободу, свели ее к законничеству (Гал 5:1–3; Флп 3:2–4.); равно не мог он допустить, чтобы христиане из язычников извратили христианскую свободу, подменили ее распущенностью или чувством избранничества (Рим 16:17–18; 1 Кор 5–6,8–10, ср. 2 Фес 3:6,14–15)
[552].
в) Другая очень важная линия разграничения, проводимая Павлом, —
христологическая. Очевидно, если почитающие себя мудрецами коринфяне большое значение придавали опыту общения с Христом духовным и уже свершившемуся воскресению (ср. 1 Кор 1:12, 2:16; 4:8; 15:12, 45), то Павел подчеркивает, что его керигма — это безумие Христа
распятого, проповедуемая в той же немощи (1 Кор 1:18–25, 2:1–5, 86). Павел настаивал, что печатью Духа является исповедание человека Иисуса Господом (12:3). В противовес лжеапостолам (2 Кор), которые, как мы уже предположили (§§ 18.1,44.2,56.2 прим.47), изменяли проповедь и миссионерский стиль, чтобы они звучали более убедительно для коринфских гностиков, Павел доказывал, что признаком духовной зрелости является не просто жизнь, подобная жизни Христа, но участие в Его смерти (2 Кор 4:10–11). Зрелость эта отмечена не только силой, силой воскресшего Христа, ей свойственна и немощь, немощь Христа распятого (12:1–10; 13:3–4). Подобным образом стремление к самосовершенствованию в Филиппах (выше, § 61.2. а) он противопоставлял познанию Христа, которое есть не только познание Его воскресения, но и участие в Его страданиях, уподобление Ему в смерти (Флп 3:10) (см. также выше, § 46.4).
Во многом иную картину мы видим в Послании к Колоссянам. Это может говорить либо о другом авторе, либо, что более вероятно, о том, что противостоявшая Павлу в Колоссах синкретическая ересь включала другие гностические элементы. Я имею в виду здесь, с одной стороны, гораздо более сильный акцент на реализованной эсхатологии в 1:13, 2:12, 2:20–3:3 (см. ниже, § 71.1), который могли бы приветствовать его оппоненты–гностики из Коринфа и Филипп. И с другой стороны, подчеркивание первостепенного значения прославленного Христа, отличающее гимн в Послании к Колоссянам: отметим повторяющееся использование слова "все" — "Первородный всей твари… в Нем было сотворено все… все чрез Него и для Него сотворено. И Он Сам есть прежде всего, и все существует в Нем… чтобы быть Ему во всем первым… чтобы в Нем обитала вся полнота… чрез Него примирить с Собою все" (1:15–20). Очевидно, здесь подвергается критике (по крайней мере имплицитно) другой аспект догностического учения, рассматривавший Иисуса как одного из посредников в том, что в сформировавшемся гностицизме стало целой иерархией божественных существ, отделяющих плерому от человечества
[553]. Тогда мысль Павла вырисовывается довольно четко: связь верующего с Богом через Христа — непосредственная, полная и только через Христа. Павел выражает это в словах: "…во Христе сокрыты все сокровища и премудрости и знания… в Нем обитает вся полнота Божества телесно… Он есть глава всякого начала и власти" (2:3,9–10). Помимо этого Павел сохраняет христологический акцент более ранних писем и отбрасывает всякий потенциальный гностический дуализм между бесстрастным небесным Христом и смертным человеком Иисусом: он добавляет, возможно, к гимну фразу "кровью креста Его" (1:20) — тот, кто "есть образ Бога невидимого", и был распят. Павел подчеркивает, что Сын осуществил примирение "в теле плоти Его чрез смерть Его" (1:22); а 1:24 перекликается с представлением об (апостольском) служении как участии в страданиях Христовых (2 Кор, Флп, см. также Кол 2:11–12 20).
Итак,
именно последовательно проводимое Павлом[554] утверждение, что Господь Иисус есть распятый Христос, не оставляет места христианскому гностицизму. Именно это предохраняет Павла, при всей его открытости к эллинистической мысли, от вовлечения в христианский гностицизм. Именно поэтому гностическое истолкование Рим 8:3 и Флп 2:7 нельзя считать адекватным выражением мысли Павла: Тот, Кто пришел "в подобии плоти греха",
пришел по причине греха (то есть, возможно, как жертва за грех), чтобы осудить (к смерти и смертью) грех во плоти (Рим 8:3); Тот, Кто "был в подобии человеческом",
уничижил Себя до смерти, и смерти крестной (Флп 2: — 8)
[555]. Опять тождественность человека Иисуса с прославленным Господом очерчивает границу приемлемого разнообразия. Опять
от христианства, возвещаемого и проповедуемого Павлом, гностицизирующее христианство отделяет отсутствие в нем единства между прославленным Христом и исторической реальностью человека из Назарета.
63.4. По–видимому, было неизбежно то, что Павла стали ассоциировать с гностическим антииудаизмом. В первые десятилетия существования христианства он играл основную роль в процессе отделения веры во Христа от иудаизма. Но после его смерти и после 70 г. н. э. иудаизм стал замыкаться в себе, и опасность того, что христианство останется зависимой иудейской сектой или смешается с иудейским национализмом, стала уменьшаться. Теперь основная опасность была с другой стороны — угроза отделения христианства от его иудейского наследия и его чрезмерной эллинизации. Процесс отхода от иудаизма и ветхозаветного закона мог быть и был приостановлен. Церковь, теперь преимущественно языческая, сознательно принялась усваивать иудейское наследие более глубоким образом — его организационную структуру (см. выше, § 30.1), его богослужение
[556] и практику постов (см. Дидахе 8:1) и, особенно, Ветхий Завет (см. 1 Клим; Варнавы; "
Диалог с Трифоном иудеем" Иустина)
[557]. В этом обратном процессе Павел неизбежно должен был предстать в неправильном свете, а его акценты и гибкость — показаться связанными и отождествимыми с силами гностицизма. Не следует удивляться тому, что во II в. влияние Павла лучше прослеживается у Валентина и Маркиона, чем у богословов великой Церкви. Лишь с Иринея ортодоксия стала предпринимать решительные усилия к тому, чтобы вырвать богословие Павла из рук еретиков
[558]. Но при этом вырисовался Павел Пастырских посланий и Деяний
[559]. Павел, противостоящий ереси силой церковного предания, с готовностью признающий авторитет Двенадцати, не знающий разрыва с Иерусалимом. Павел, чья антитеза закона и благодати была приглушена, а центральное учение об оправдании благодатью через веру еле заметно. "Цена, которую должен был уплатить апостол язычников за право остаться в Церкви, состояла в полном отказе от своих личных особенностей и исторического своеобразия" (Бауэр)
[560].
Дело в том, что
Павел не принадлежал полностью ни к одному из направлений II‑III вв., боровшихся за право именоваться христианскими: его совершенно отвергли иудеохристиане и извращали при толковании гностики и ортодоксы. Автор Павловых посланий не вмещался в суживающиеся категории II в.; его богословие было слишком динамичным и открытым, чтобы вместиться в узкие рамки поздней ортодоксии. У Павла был лишь один Господь — Иисус Христос, который был для него центром единства. Величие Павла в том, что он был верен лишь одному Христу. Но тем сложнее ему пришлось: в спорах последующих веков представлявшие те или иные партии богословы не могли получить его голос на его условиях и захватывали на своих собственных.
§ 64. "Повинен" ли Иоанн в "наивном докетизме"?
64.1. Если Павел был гностическим апостолом, то Иоанн — гностическим евангелистом. Как мы уже видели, гностики II в. почти полностью взяли на вооружение Павла. Четвертое Евангелие постигла практически та же участь. В то время как эбиониты использовали сокращенный вариант Евангелия от Матфея, а Маркион — искаженный вариант Евангелия от Луки, гностики (особенно валентиниане) сосредоточили свое внимание на Евангелии от Иоанна, которое активно использовали
[561]. Первый известный нам комментарий на это Евангелие принадлежит валентинианину Гераклеону
[562]. Четвертое Евангелие до такой степени можно было отождествить с воззрениями гностиков, что бессловесные (вторая половина II в.) и римский пресвитер Гай (начало III в.) приписывали его гностику Керинфу. Но опять‑таки, как и в случае с Павлом, именно Ириней оказал противодействие и уберег Иоанна для ортодоксии, так что с III в. Иоанн все больше становится источником и библейским краеугольным камнем ортодоксальной христологии
[563].
Тем не менее вопрос о соотношении Иоанна и гностицизма был далеко не закрыт и приблизительно в прошлом веке снова вышел на первый план. В середине XIX в. последователь тюбингенской школы Хильгенфельд (А. Hilgenfeld) отстаивал взгляд, согласно которому Евангелие от Иоанна было плодом гностицизма, полно гностического учения о сынах Божьих и сынах дьявола (см., в частности, 8:44), насквозь пропитано гностическими представлениями о мире
[564]. Более экстравагантную точку зрения высказал другой тюбингенский ученый, Фолькмар (G. Volkmar). По его мнению, это Евангелие пошло от "дуалистического и антииудейского гнозиса Маркиона"!
[565] Все это включало тезис тюбингенской школы о датировке Евангелия приблизительно серединой II в. (сам Хильгенфельд отстаивал дату между 120 и 140 гг.). Эта датировка вскоре оказалась ошибочной: авторы II в. знали Евангелие от Иоанна (вполне вероятно, уже Игнатий), и, наконец, в Египте был найден папирус Райленда № 457 (р
52), относящийся к началу II в. и содержащий несколько стихов из Ин 18 (впервые опубликован в 1935 г.).
Но это не решило вопрос о соотношении четвертого Евангелия и гностицизма. Исследователи истории религии принялись доказывать, что гностицизм — не просто христианская ересь II в.: он представляет собой гораздо более древнее явление — возможно, в своих ранних формах такое же древнее, как само христианство, или даже еще древнее. Отсюда вытекала возможность того, что это Евангелие было зависимо от одной из форм дохристианского гнозиса или, во всяком случае, находилось под ее влиянием. В частности, Р. Бультман впервые попытался применить мандейские писания для реконструкции гностического мифа, который, по его мнению, использовал Иоанн
[566]. В своем комментарии (1941 г.) он даже написал, что гностическое влияние на четвертое Евангелие проникло через источник речей–откровений, взятый Иоанном как основа для речей Иисуса. Этот последний взгляд также нашел мало сторонников. Сейчас гипотезу об источнике речей почти никто не принимает: в четвертом Евангелии характер речей всецело Иоаннов, поэтому доказать наличие такого источника невозможно. Теория о дохристианском гностическом мифе об искупителе слаба тем, что целиком основывается на документах, датируемых временем после I в. н. э. (часто гораздо позже). Похоже, что основным источником при реконструкции такого мифа для Бультмана послужили сами речи, приведенные у Иоанна!
[567] Более вероятно, что, какие бы элементы мифа ни предшествовали появлению христианства, сам синтез, строго говоря, был
постхристианской разработкой, в которой решающую роль играла отчетливая христианская вера во Христа как в искупителя
[568].
Открытие кумранских свитков и рукописей из Наг–Хаммади дало спору новый поворот. С одной стороны, кумранские свитки показали, что некоторые черты четвертого Евангелия, которые раньше считались характерными для восточного гностицизма (особенно дуализм Иоанна), были глубоко укоренены в Палестине времен Иисуса, хотя и в форме учения одной из иудейских сект (см. ниже, прим. 95). С другой стороны, рукописи из Наг–Хаммади обнаружили ряд существенных параллелей с мыслью Иоанна. Например, формула "Я есмь", приход в мир Сына от Отца и Его возвращение обратно
[569]. Более важно то, что обе серии открытий усилили доводы в пользу того, чтобы рассматривать фон четвертого Евангелия не просто как или
палестинский иудаизм, или гностицизирующий эллинизм, но как крайне
синкретическую среду, усвоившую особенно размышления о Премудрости в эллинистическом иудаизме и мифологическую сотериологию, типичную для раннего или протогностицизма. Исследователи Нового Завета все более склонны считать, что для объяснения и понимания четвертого Евангелия необходимо признать влияние синкретического (или гностицизирующего) иудаизма (хотя о точной природе этого влияния еще много споров)
[570].
Отсюда вытекают очевидные вопросы. Если в синкретической "смеси" того периода была тенденция движения к гностицизму, входил ли туда Иоанн? Принадлежит ли четвертое Евангелие гностицизирующей траектории наряду с эллинизированной иудейской премудростью, рукописями Мертвого моря, герметической и мандейской письменностью, а сейчас и коптскими документами из Наг–Хаммади (хотя, возможно, они и не прямо связаны)? Если положительный ответ допустим, то
увеличивает ли четвертое Евангелие гностицизирующую тенденцию или
противостоит ей? Или, быть может, Евангелие от Иоанна зависело лишь от избранных им по разным причинам представлений и форм? Иными словами, утверждение Кеземана о том, что четвертый евангелист преподносит свое представление о Христе "в форме наивного докетизма", лишь заостряет
вопрос, который и без того ставит перед нами всякая попытка объяснить четвертое Евангелие, не учитывая его исторического фона.
64.2.
Так "повинен" ли Иоанн в "наивном докетизме"? Не начали ли у него стираться отличительные особенности христианской вести через соединение с ней языка и идей синкретического иудаизма, через уступку словам и концепциям, которые он практически не мог контролировать? Не принадлежит ли ему решающий шаг в мифологизации традиций об Иисусе?
Большая часть самых древних указателей нам здесь не поможет. Параллели с эллинизированной иудейской премудростью и кумранскими свитками, с одной стороны, и мандейскими, герметическими текстами, а также текстами из Наг–Хаммади — с другой, свидетельствуют о принадлежности Иоанна тому же широкому культурному контексту.
Но они не указывают нам его точное место в этом контексте: одни параллели явно "гностические", другие — явно "иудейские". Глагол γινώσκειν ("знать") наиболее часто встречается именно в Иоанновом корпусе (56 раз в Евангелии и 26 раз в посланиях). Но это мало нам помогает, тем более что полное отсутствие существительного γνώσις ("знание"), видимо, также преднамеренно. Как показал Бультман (выше, прим. 88), можно провести ряд параллелей между отдельными местами откровений у Иоанна и одами Соломона или мандейской литературой. Но по общему содержанию лучшие параллели можно найти в литературе премудрости
[571], а по своей форме речи ближе всего к иудейскому мидрашу (наиболее явно это в Ин 6 — см. выше, § 22.2). Опять‑таки Иоаннову дуализму между светом и тьмой, вышними и нижними, духом и плотью и др. (1:5,3:6,19,31,6:63,8:12,23,12:35,46) можно легко найти гностические параллели
[572], хотя у Иоанна дуализм не столько космологический (особенно см. 1:3, 3:16), сколько связанный с выбором, и здесь более тесные параллели имеются с Кумраном
[573]. С дуализмом Иоанна тесно связан некоторый элемент предопределенности, детерминизма (напр., 8:42–44,10:26–28,12:39–41,17:22–23 — см. также выше, § 6.3), который был свойствен разным направлениям
[574]. Логос из Иоаннова пролога можно сопоставить с по–разному именовавшейся фигурой посредника в развитом гностицизме
[575], но у Иоанна этот образ более прочно и непосредственно укоренен в эллинистическо–иудейских размышлениях о Премудрости (ср. Прем. 1:4–7, 9:9–12,18:14–16, Сир 24; 1QH 1:7–8)
[576]. Ближайшие параллели упоминаниям Иоанна о нисхождении и восхождении Сына Человеческого (3:13; 6:62; 20:17) можно найти как в литературе премудрости (отметим особенно 1 Ен 42:1–2), так и в позднем гностическом мифе об искупителе
[577].
Тем не менее доводы в пользу присутствия у Иоанна наивного докетизма основываются не столько на специфических особенностях четвертого Евангелия, сколько на общем влиянии христологии Иоанна. Их сила связана не столько с большим количеством конкретных параллелей в позднейшей литературе, сколько с
остротой контраста между тем, как описывает Иисуса Иоанн, и тем, как это делают синоптики. Для любого человека, знакомого с четвертым Евангелием, достаточно вспомнить некоторые из упомянутых выше моментов (§§ 6.2; 18.4; 51.2) — возвышенное самосознание в формулах "Я есмь", утверждение Своего полного и нераздельного единства с Отцом, явное
(некенотическое) сознание Своего божественного предсуществования, пародия молитвы в 11:42 и 12:27–30 (ср. 6:6). Может ли это говорить человек, или мы здесь скорее видим Сына Божьего, полностью осознающего Свое божественное происхождение и славу, в споре с остальными говорящего с позиции небес, полностью руководящего событиями и людьми? Не столь уж далек от истины Кеземан, когда восклицает:
Не только из пролога и не только из уст Фомы, но из всего Евангелия осознает он (читатель) исповедание "Господь мой и Бог мой". Как все это согласуется с пониманием реальности воплощения? Означает ли высказывание "Слово стало плотью" больше, чем то, что Оно низошло в мир людей и там вошло в соприкосновение с земной реальностью, так что встреча с Ним стала возможной? Не затмевается ли это высказывание полностью исповеданием "мы увидели славу Его", которое и определяет его смысл?.. Сын Человеческий не является ни одним из людей, ни изображением народа Божьего или идеального человечества; речь идет о Боге, сошедшем к людям и явившем среди них Свою славу[578].
Все это убедительно подсказывает, что
Иоанн так разработал предание об Иисусе, что исторический Иисус оказался во многом скрыт за образом небесного Сына Божьего. Если это так, Иоанн движется в направлении к докетизму, изображению Иисуса как Того, Кто при всех Своих человеческих проявлениях (вроде голода и скорби) в конце концов больше божество, чем человек, — по сути Божество, которое лишь внешне представляется человеком.
Однако суждения Кеземана в нескольких местах односторонни. Приведу лишь два основных недостатка
[579].
а) 1:14а — "Слово стало плотью". Это
ясное указание на историчность и реальность воплощения. Невозможно ослабить его силу ссылкой на явление божества среди людей (как это сделал Кеземан). Античный мир был хорошо знаком с этой идеей и мог выразить ее по–разному, но Иоанн ни одним из этих путей не идет. Вместо этого он просто и подчеркнуто заявляет: "Слово (то самое Слово, что и в 1:1–3)
стало плотью" — не казалось и не "сошло в нее", а "стало" ей — исповедание, которое "можно понять лишь как протест против всех других религий искупления в эллинизме и гностицизме"
[580]. Силу утверждения 1:14а невозможно ослабить и ссылкой на божественную славу, явленную в Слове и через воплотившееся Слово, ибо существительное также выбрано намеренно — Слово стало именно
"плотью", а для Иоанна "плоть" обозначает человеческую природу в противопоставлении Богу (1:13,3:6,6:63,8:15). Иоанн усиливает это утверждение в 6:51–53: верить в Иисуса — значит "жевать" Его плоть и пить Его кровь. Иоанн хорошо понимал, что это — "соблазнительное" утверждение (6:60): сама мысль о том, чтобы достичь жизни вечной, питаясь плотью, ужаснула бы эллинистических читателей Иоанна и большинство докетистов. Но слова здесь выбраны целенаправленно: в 6:51,54 он подставляет "плоть" вместо "хлеб" и "жевать" вместо "есть". Такой вызывающий язык трудно объяснить иначе чем целенаправленным противостоянием докетической "спиритуализации" человеческой природы Иисуса,
попыткой отбросить докетизм через подчеркивание реальности воплощения во всей его оскорбительности (6:51–58), тем самым заостряя скрыто выраженное в 1:14 (ср. опять‑таки 3:6, см. выше, § 41. в).
б)
Центральное значение для богословия Иоанна имеет смерть Иисуса: воплощенный Логос
умирает — нечто совершенно недопустимое для докетистов (см. выше, § 61.1. а, прим. 22). Кеземан пытается ослабить силу этого утверждения доводом, что "за исключением некоторых реплик, предрекающих страдания, тема страданий возникает у Иоанна лишь в самом конце" (р. 7). Это совершенно неправильное истолкование четвертого Евангелия. Иоанн совсем не дожидается конца повествования, чтобы начать говорить о страстях. Напротив, он
постоянно имеет в виду предстоящую кульминацию в виде смерти, воскресения и вознесения Иисуса. Мы уже отмечали тот драматический, нагнетающий напряжение эффект, которого он достигает, непрестанно вводя упоминание Иисуса о "часе" или "времени" — подобно неустанному барабанному бою возвещают они час Его страданий (см. выше, § 18.4). Упомянем лишь различные высказывания, начинающиеся с первой же главы и постоянно направляющие мысли читателя к этой кульминации, — 1:29, (51), 2:19–21, 3:13–14, 6:51,53–55, 62, 7:39,8:28,10:11,15,17–18,11:16, 50,12:7,16, 23–24, (28), 32 и т. д. Особенно отметим, что в этом драматическом крещендо существенную роль играет мотив прославления Иисуса. Именно через
смерть Иисуса и Его воскресение/вознесение (а не только через воскресение/вознесение) Иисус должен быть прославлен: час величайшей славы есть час Его страданий! Особенно ясно это видно в 12:23–24,17:1. "Мы увидели славу Его" (1:14) нельзя поэтому понимать в том смысле, что плоть Иисуса была лишь иллюзорной оболочкой, прикрывающей Его небесную славу (в таком случае вся Его жизнь предстает постоянным преображением).
Согласно Иоанну, слава Иисуса раскрылась не столько в Его жизни, сколько в Его смерти–воскресении–вознесении; и проявлялась в Его знамениях и словах лишь постольку, поскольку они указывали на эту кульминацию (2:11,7:37–39,11:4).
Особенно выделяется текст 19:34–35, где Иоанн прилагает все усилия к тому, чтобы подчеркнуть историческую достоверность рассказа о крови и воде, истекшей из ребра распятого Иисуса после удара копьем. Достаточно тесная параллель с 1 Ин 5:6 объясняет причину этого. Иоанн желает привести убедительные доказательства тому, что воплощенный Логос действительно умер, что Его тело не было призрачным, а смерть — сложным скрытым трюком — смотрите, настоящая кровь!
[581] Иными словами, как мне кажется, чрезвычайно трудно избежать вывода, что
здесь имеет место целенаправленная антидокетическая полемика. Поскольку Кеземан считает 6:51–58 и 19:34–35 делом рук церковного редактора, добавлю лишь, что, по–моему, это ненужная и неоправданная гипотеза. У этого тезиса нет ни литературного, ни текстуального обоснования. Это Евангелие цельно с
богословской точки зрения: в частности, стих 6:63 создает больше проблем, если 6:51–58 приписать церковному редактору, чем если его рассматривать в связи с 6:51–58, как выражение намерения того же автора (хотя бы и в окончательной редакции). И поскольку можно показать, что весь текст имеет единое содержание и смысл, связанные с особым интересом автора к докетизму и таинствам (§§ 41, 64.2), то эти стихи (6:51–58,19:34–35) нельзя исключить без риска исказить смысл целого (что и показывает тезис Кеземана).
Не нужно показывать, что антидокетическая полемика — главное в четвертом Евангелии. Этого нет. Но текст дает твердое основание для следующего вывода:
в двух вопросах Иоанн желал предотвратить докетическое истолкование — в реальности воплощения вечного Слова и реальности Его смерти (именно это отвергал докетизм).
64.3. Можем ли мы примирить эти две черты четвертого Евангелия — яркое описание небесного Сына Божьего на земле (так легко поддающееся гностическому истолкованию) и решительный отказ от докетических выводов? Напрашивается следующий вывод:
Иоанн намеренно попытался изобразить Иисуса способом, как можно более привлекательным для пресловутых (христианских) гностиков, в то же самое время огергивая границы такого понимания. Это предположение правдоподобно в свете приведенных выше свидетельств, но нужно еще сказать о связи Иоанна с предполагаемой книгой
"Источники знамений" и с
Первым посланием Иоанна.
а) Из различных письменных источников, которыми, как предполагали, пользовался Иоанн, наиболее вероятно существование лишь книги
"Истогники знамений"[582]. Ее объем точно неизвестен (реконструкции Фортна и Типла (R. T. Fortna, Н. М. Teeple) чересчур смелы), но по крайней мере отрывки 2:1–11,4:46–54 и, возможно, 6:1–21 дают достаточные основания предполагать наличие за ними какого‑то источника, который почти наверняка не включал повествование о страстях. Примечательно, что Иоанн, по–видимому, не только использовал этот источник, но и видоизменил или
исправил его. Наиболее ясно на это указывает стих 4:48 — неуклюжая вставка, предназначенная, очевидно, противодействовать цели, которую ставил перед собой источник (описание чудес Иисуса как побуждение к вере — ср. 2:11, 4:53 и особенно 2:23–25, 4:48 и 6:25–36)
[583]. Это в свою очередь предполагает, что для данного источника Иисус был преимущественно чудотворцем, который творил чудеса для того, чтобы люди в Него уверовали, — отношение, против которого, видимо, возражали Павел (2 Кор) и Марк, пытаясь его опровергнуть своими богословскими построениями относительно креста (см. выше, §§ 18.1 и 44.2). В таком случае Иоанн мог учесть подход книги
"Источники знамений" и попытаться представить Иисуса привлекательным образом для тех, кто рассматривал Его в основном как творящего чудеса Сына Божьего. В то же время он стремился противопоставить их неадекватному богословию и евангелию свое утверждение, что основным предназначением знамений было предуказать животворное действие смерти–воскресения–вознесения Иисуса. Рассматриваемые таким образом знамения давали основание для веры (ср. 2:11, 6:26, 9:35–39,12:37, 20:30–31); но вера в сами знамения/чудеса была ущербной, поверхностным откликом изменчивой толпы, верой в Иисуса как в простого чудотворца (2:23–3:2,4:48,6:2,14,30,7:31,9:16, ср. 20:29). Другими словами, если в четвертом Евангелии мы и находим следы наивного докетизма или гностицизирующей тенденции, то
это скорее отличительная черта не самого Евангелия, а использованной Иоанном книги "Источники знамений". Иоанн воспользовался этим источником (и в этом смысле был под его влиянием), но, несомненно, хорошо осознавал его уязвимость для докетического истолкования, поэтому постарался в данном вопросе
уберечъ именно свое произведение, внеся в источник исправления[584].
б) Для нас особенно важны две особенности Первого послания Иоанна. Во–первых, оно содержит гораздо более жесткое и явное опровержение докетической христологии (4:1–3; 5:5–8). Во–вторых, оно свидетельствует о расколе в общине: многие первоначальные ее члены из нее вышли (2:19). Эти два факта, несомненно, связаны — те, кто "вышли", отождествляются с "антихристами", отрицающими, что Иисус есть Христос и что Иисус Христос пришел во плоти (2:18,22; 4:3,2 Ин 7). Иными словами, в результате "обмена мнениями" о христологии, очевидно, был выявлен докетизм, что привело к непримиримой конфронтации
[585]. Заметим также, что, с точки зрения автора, вышедшие также виновны в отсутствии
любви: слова "любовь" и "любить" встречаются в 1 Ин чаще, чем где‑либо еще в Новом Завете, — 46 раз. Возможно, автор считал их претензию на высшее помазание и полное знание (подвергаемое критике в 2:20) свидетельством отсутствия любви и уважения к своим братьям — а как человек может говорить, что любит Бога, если ненавидит брата своего?
Это предполагает, что ч
етвертый евангелист имел дело с общиной, по крайней мере часть которой была увлечена гностицизирующим пониманием Христа. Поэтому он написал Евангелие, в большой степени имея это в виду и стремясь представить Иисуса таким образом, который привлек бы и удержал подобных верующих внутри общины (Ин 20:30–31). Он использовал язык и идеи, исполненные значимости для гностиков. Он написал образ земного Иисуса в таких тонах, какие они могли оценить и на которые отзывались бы. Он взял максимум возможного из их представлений об Иисусе, но
не пошел с ними до конца. Мы не знаем, насколько он добился успеха. Но если это послание было написано после Евангелия и для той же общины (что вполне вероятно), то его апологетические усилия, видимо, потерпели неудачу или же удались только отчасти. Положение ухудшилось, приемлемое многообразие перешло в открытый разрыв. Если многие из тех, для кого он писал, были готовы не переходить установленных четвертым евангелистом пределов, то другие в своем докетизме не останавливались на полпути и ушли из общины. Имея это в виду, автор Первого послания мог
отойти от гораздо более открытой христологии четвертого Евангелия и установить границы приемлемого многообразия ясно и подчеркнуто.
64.4. Если в нашем последнем предположении (§ 64.3) есть правда, то четвертое Евангелие следует рассматривать как классический пример вызова и опасности перевода благовестия Иисуса Христа на язык и образ и мыслей других культур. Вызов состоит в самом переводе, вносящем иной смысл по сравнению с изначальным. Опасность в том, что благовестие будет целиком поглощено другой культурой и утеряет свое своеобразие и силу воздействия. По–видимому, именно с этими проблемами столкнулся четвертый евангелист. Чтобы дать надлежащий ответ синкретической среде, ответить на вызов со стороны христианской общины, находившейся под влиянием гностицизирующих тенденций, он представил Иисуса как воплощеннго Логоса, небесного Сына Божьего, полностью осознающего свою божественную сущность и полное единство с Отцом. Но за это Иоанну пришлось заплатить тем, что, дойдя до самой грани, отделяющей его от раннего гностицизма, он почти с ним слился! Он приблизился к возникающему гностицизму вплотную и почти оказался в его власти! Чтобы приобрести гностиков, он сам почти сделался гностиком — настолько, что возникающая ортодоксия чуть не обвинила его в ереси!
Но — и это следует помнить — он сам видел опасности. Он не во всем соглашался с теми (некоторыми из тех), для кого писал. Он мог бы сделать уступки, но не сделал. Напротив, в решающем вопросе он противостоял развивающемуся (прото)гностицизму. Он вступил во взаимодействие с разнообразными гностицизирующими тенденциями своего времени, но
в главном он был от них далек. И этим главным опять является Иисус, главное — это
отказ порвать связь между историческим человеком Иисусом и прославленным Христом, отказ растворить историчность Иисуса в разъедающих категориях межкультурного мифа. Несомненно, в четвертом Евангелии говорится о божественности Иисуса. Но Он также Логос, Который
стал плотью, на Его
плоть и кровь уповает человечество, Он
на самом деле умер на кресте и лишь поэтому является источником животворящего Духа. Опять идентификация земного Иисуса и прославленного Христа
определяет как единство, так и границы приемлемого многообразия в христианстве I в.
§ 65. Выводы
65.1. Если иудеохристианство отличала верность традициям материнской для христианства веры, то для эллинистического христианства была характерна готовность освободиться от них, желание отойти от ранних формулировок новой веры и, исходя из своей встречи с прославленным Христом, выражать свою веру и строить свою жизнь, как того требовали различные ситуации и общества. Именно таким был Стефан, считавший для себя необходимым развивать и проповедовать толкование учения Иисуса, резко расходясь с действующей практикой своих собратьев по вере. Такими были и различные церкви, кратко рассмотренные выше, в § 61, доходившие иногда до крайностей — очевидно, по мнению многих их членов, христианское Евангелие возвещало прежде всего свободу, в растущем христианстве не было четкой грани между самим христианством и окружающей его синкретической средой. Должно быть, немало людей исповедовали веру, подобную вере Именея и Филита (2 Тим 2:17–18), и были при этом активными членами местной церкви. Таков был Павел, который настаивал на важности бывшего ему откровения Христова и сыграл огромную роль в высвобождении христианства из‑под опеки иудаизма. Павел не желал подвергать осуждению взгляды, с которыми был не согласен, лишь грубая чувственность неизменно вызывала его осуждение (Рим 16:17–18,1 Кор 5–6,2 Кор 12:21, Флп 3:18–19). Таким был и Иоанн, готовый изображать земного Иисуса в ослепительном свете Его славы как небесного Сына Божьего — пусть даже с риском мифологизации предания об Иисусе. Стоит отметить, что, скажем, Павел нигде так яростно не спорит с гностицизирующими тенденциями, как с иудействующими —
настаивание на строгом подчинении единому авторитету и традиции (Иерусалиму) он, очевидно, считал опаснее радикальной открытости разнообразных групп. Не подлежит сомнению, что и Павел, и Иоанн, и Стефан были христианами и центром христианства для них был Иисус Христос. Но они были открыты по отношению к новым и иным путям подхода к этому центру, к взаимодействию с иными сферами и культурами. Такая политика всегда рискованна, чревата непониманием, открыта нападкам со стороны тех, для кого предание важнее свободы, и искажению со стороны тех, для кого свобода важнее любви; но в конечном счете она, наверное, наиболее христианская.
65.2. В то время как в церквах I в. отчетливо заметны гностические тенденции и понятия,
ни одну из книг Нового Завета нельзя назвать гностической. При всей открытости к новым подходам наиболее занятые расширением христианства новозаветные авторы сознавали, что где‑то
необходимо установить границу дозволенного. Вокруг центра христианства может быть и должно быть многообразие — широкое, но не бесконечное, некоторые формы выражения христианства следует исключить. Как мы видели, некоторые пробные формулировки христианской вести были сочтены
не вполне адекватными, легко дающими повод для злоупотребления. Таков в сущности вердикт Матфея и Луки по поводу
Q. Все церкви сохранили
Q лишь постольку, поскольку он вошел в Евангелия от Матфея и от Луки, но не сам по себе. Других обвинили в том, что они упорствуют в
заблуждениях: их представление о благовестии было в некоторых отношениях привлекательно, но самого главного им недоставало. Таков вердикт Павла (особенно в 2 Кор и Флп), Марка и Иоанна (по отношению к использованным ими источникам чудес). В обоих случаях критерий одинаков:
объединяет ли новая формулировка распятого Христа с прославленным Господом и Сыном Божьим? Иными словами, уже в I в. эллинистические христиане выступали против особенностей, которые будут характерны для сложившихся гностических систем II в. Подобно тому как более иудеохристианские книги Нового Завета отделяли приемлемое многообразие иудеохристианства от взглядов, свойственных неприемлемому эбионитству, — и критерием был Христос, объединение исторического Иисуса с истинно прославленным
Господом, воплощением Премудрости, обретшего ни с кем не сравнимый статус перед Богом; так и разнообразные эллинистические христианские новозаветные книги отделяли приемлемое многообразие эллинистического христианства от черт, характерных для неприемлемого позднейшего гностицизма — и критерием тоже был Христос, объединение прославленного Господа, единственного посредника между Богом и человеком, с
Иисусом, восшедшим в славу через распятие на кресте.
Пожалуй, стоит отметить, что, насколько известно,
первым сформулировал этот основополагающий христологигеский критерий Павел. Именно акценты, расставленные Павлом, отобразил Марк в жанре евангелия: столкнувшись, видимо, с учением, подобным коринфскому, против которого выступал Павел (оппоненты видели в Иисусе главным образом обладателя и источник силы), Марк сосредоточил в своем Евангелии внимание на Иисусе как страдающем Сыне Человеческом (см. выше, §§ 9.2. В, 18.1 и 44.2.6). Марку следовали Матфей и Лука. Причем вставка материала
Q наиболее эффективно нейтрализовывала возможность гностического истолкования. С той же проблемой, что и Марк, столкнулся, видимо, четвертый евангелист (книга
"Источники знамений" изображала чудеса Иисуса как основание для веры). В конечном счете он вышел из положения сходным образом — соединил рассказы о чудесах Иисуса с повествованием о страстях. Наконец, отметим, что именно влиянию Павла, очевидно, обязаны соответствующие акценты, появляющиеся в Послании к Евреям и Первом послании Петра. В этом отношении христианство в огромном долгу перед Павлом
[586].
Опять становится очевидным, что
для новозаветных авторов не только единство, но и многообразие христианства определялось через Христа. Средоточием и решающей особенностью христианской веры был прославленный Господь и единство распятого Иисуса с прославленным Сыном Божьим.
65.3. Как в случае с иудеохристианством, так и в случае с христианством эллинистическим перед нами
многообразный феномен, или, проще говоря, спектр. На одном конце этого спектра эллинистическое христианство переходит в неприемлемый гностицизм. Но
и приемлемое эллинистическое христианство во многом отличается многообразием — от распутников, терпимых в церквах, к которым обращались тайнозритель, автор Откровения, и Иуда, с одной стороны, и Павел (и Марк) — с другой. Приемлемое эллинистическое христианство I в. не было однородным. Если упростить картинку (то есть свести многообразие к одной прямой линии), то легче всего, наверное, изобразить это многообразие следующим образом (широкая вертикальная линия опять обозначает переход приемлемого многообразия в неприемлемое):

65.4. Подведем итоги сказанному. Мы снова видим
два критерия, отделения приемлемого многообразия от неприемлемого. Во–первых, эллинистическое христианство становилось неприемлемым там, где прекращалась
любовь к своим собратьям по вере, уважение к их знанию и духовному опыту и провозглашалось собственное духовное превосходство. Если не находился под угрозой какой‑то христологический вопрос (как, по–видимому, в 1 Кор), Павел считал правильные взаимоотношения важнее правильной веры. Во–вторых, эллинистическое христианство становилось неприемлемым, когда его либерализм уводил от главного, когда многообразие начинало умалять значимость прославленного Христа или разбивать единство земного Иисуса с прославленным Господом. Христианская свобода небезгранична: пределы ей полагает поведение, исполненное любви к другим людям, и вера во Христа — человека и Господа. В противном случае свобода перестает быть
христианской.
XIII. Апокалиптическое христианство
§ 66. Что значит "апокалиптическое"?
66.1. С исторической и богословской точек зрения апокалиптическое христианство всегда было одним из самых поразительных и важных выражений христианской веры. Несмотря на это, основное направление христианской традиции феномен апокалиптического христианства в основном игнорировало: "великую Церковь" смущала его сильная духовная восторженность, а вследствие склонности к фанатизму основные церкви его даже обычно подавляли. Тем не менее, как теперь считается, христианство впервые возникло именно в контексте апокалиптической мысли. Более того, мы далее увидим, что вначале само христианство было в большой мере эсхатологическим и восторженным движением, имевшим ряд явно апокалиптических черт. От I в. до середины Средних веков появилась масса апокалиптической литературы. Никакая "траектория" так не заметна в историческом христианстве, как та, что ведет от апокалиптических чаяний поздних иудейских пророков, через раннеиудейскую апокалиптическую литературу, Кумран, Иоанна Крестителя, Иисуса, первоначальную палестинскую общину, раннего Павла, Книгу Откровения, ранний монтанизм, различные иудейские и христианские апокалипсисы первых двух–трех веков христианской эры и далее — к средневековым хилиастическим сектам, яснее всего выразившись в 1534 г., в "мессианском" правлении Иоанна Лейденского в Мюнстере. Далее влияние апокалиптической мысли прослеживается в различных направлениях. С одной стороны, это религиозные движения типа свидетелей Иеговы и пятидесятничества, с другой — тоталитарные коммунистическое и национал–социалистическое движения. Осознание исторической значимости апокалиптического христианства послужило одной из причин, по которым апокалиптическая перспектива опять оказалась в центре внимания библеистов и богословов
[587].
Но что значит само слово "апокалиптическое"? В спорах XX века многое перепуталось, и смысл этого ключевого понятия стал неясен. Может ли оно использоваться как существительное (апокалиптика) или только как прилагательное? Обозначает ли оно только литературный жанр? Или может также описывать верования и идеи, характерные для такого жанра, но присутствующие и в других местах? Или это главным образом социологическая категория — апокалиптическое (то есть хилиастическое) движение? В последнее время специалисты по сути отказались от прежнего словоупотребления и различают понятия
"апокалипсис" (литературный жанр),
"апокалиптизм" (социальная идеология) и
"апокалиптическая эсхатология" (определенные идеи, присутствующие и в других жанрах и социальных условиях)
[588]. Более существенен вопрос: следует ли употреблять слово "апокалиптический" главным образом или исключительно для обозначения
вида откровения (άποκάλυψις — раскрытие небесных тайн) или же для обозначения
содержания такого откровения. В частности, Роулэнд (С. Rowland) отметил, что то, что часто называли "апокалиптикой" (откровением о грядущих событиях), лучше считать "эсхатологией". Хотя "события в конце времен" обычно играют в апокалипсисах роль важную, но никоим образом не исключительную; "апокалиптика" и "эсхатология" — не синонимы
[589].
Последующий анализ отражает некоторые прежние затруднения и путаницу. Не существует стандартного типа апокалипсиса, поэтому выделенные далее черты — не описание жанра, а освещение наиболее ярких особенностей, нередко встречающихся в "апокалипсисах". Перечень богословских особенностей также больше сосредоточивается не на "апокалиптике" вообще, а на апокалиптической
эсхатологии[590]. Все вместе образует достаточно ясную картину того, что мы уже (за неимением лучшего) назвали "апокалиптическим христианством". Вопрос прост. До какой степени Иисус и первые христиане были "апокалиптичны" в своих воззрениях и проповеди? До какой степени апокалиптическая эсхатология неотъемлема от раннего христианства, чтобы без нее оно качественно отличалось от этого движения, зародившегося около двух тысячелетий назад в Палестине?
66.2.
Литературные особенности апокалипсисов. Апокалипсисы — это "писания, которые содержат откровения о потустороннем, и особенно о конце времен"
[591]. Основные их особенности следующие:
а)
Псевдонимия. Автор апокалипсиса обычно не ставил свое имя, а выпускал свое сочинение под именем какого‑либо знаменитого человека из прошлого (например, Петра или Павла, Моисея или Ездры, Еноха или Адама). Возможно, этим он хотел подчеркнуть, что является преемником и авторитетным истолкователем того, кто, по общему признанию, получил божественное откровение
[592].
б)
Видения и символизм. Автор апокалипсиса обычно получал откровения в видениях, иногда в снах, часто наполненных странными символами и небесными предзнаменованиями. Например, у Даниила был пророческий сон о четырех зверях, выходивших из моря (Дан 7). Или вспомним сон Ездры: "…и вот, поднялся с моря орел, у которого было двенадцать (?) крыльев пернатых и три головы" (3 Ездр 11:1). В других случаях видения являлись, когда автор апокалипсиса бодрствовал — это был опыт пророческого экстаза; именно так получал откровения, к примеру, один из авторов Нового Завета — "После этого я увидел, и вот дверь отверстая на небе… И тотчас я был в Духе; и вот, престол стоял на небе…" (Откр 4:1–2, КП). Часто выступают в качестве посредников ангелы, объясняющие и истолковывающие видение. То, насколько форма изложения в виде видения вытекала из подлинного религиозного опыта или была просто литературным средством, в большинстве случаев остается открытым вопросом.
в)
Обзор истории представлен как предвидение будущего. Псевдонимия позволяла автору апокалипсиса изобразить себя как человека, жившего ранее. Так он описывал исторические события, начиная от времени жизни того, чье имя он выбрал в качестве псевдонима, до современного ему периода — обычно в форме аллегорического пророчества. Например, в Дан 2 и 7 использован образ различных металлов и четырех зверей. Видение во сне сложной картины мировой истории мы встречаем в 1 Енох 85–90. Аллегорическое пророчество затем продолжалось и в будущее реального автора, изображая события конца времен, решающее вмешательство Божье в ход истории, которое, как он верил, вот–вот наступит. Баррет (С. К. Barrett) указывает: "Этот метод часто позволяет датировать апокалипсисы; момент, в который описание истории теряет точность и аккуратность, и есть момент написания"
[593].
г)
Эзотеричностъ — естественное следствие причудливой символики и пророческой аллегоричности. Не всегда ясно, что означают сны и видения и какую датировку подразумевает деление истории на дни и недели. Описание истории шифровалось, сведения о будущем, ввиду их особого характера, следовало держать в тайне. Например, Даниилу указано "запечатать видение", "сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам" (8:26). В конце этой книги мы читаем: "Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени" (12:9). Подобным образом Еноху в начале говорится, что он будет писать не для своего поколения, но для родов отдаленных (1 Енох 1:2).
д)
"Подпольная литература"[594]. Очень часто апокалиптическая литература была откликом веры на ситуацию кризиса
[595], надеждой на вмешательство Божье там, где человеческие средства исчерпаны, и верующим грозит уничтожение со стороны врагов их веры. Например, Даниил, видимо, писал с целью побудить к сопротивлению Антиоху Епифану, который пытался вынудить иудеев соблюдать эллинистические обычаи (ок. 167 г. до н. э.). Кумранский свиток "Войны" содержит указания по поводу грядущей битвы сынов света с сынами тьмы (1QM). В 3 Ездр отражен кризис, в котором оказался иудаизм после падения Иерусалима (70 г. н. э.). Написание Откровения Иоанна, видимо, по крайней мере отчасти, было вызвано угрозой гонений при императоре Домициане (ок 95 г. н. э.).
е)
Этические увещевания. Апокалипсисы обычно призывают своих читателей к покаянию и обращению ввиду близкого конца и грядущего суда. Включаются также и более традиционные поучения — предупреждения и проклятия против нечестия и убеждение вести праведную жизнь. Всей траектории апокалиптизма свойственна нравственная суровость.
66.3.
Богословские особенности апокалиптической эсхатологии.
а)
Два века. "Всевышний сотворил не один век, а два" (3 Ездр 7:50). Апокалиптическая эсхатология принимает еврейское видение истории (практически уникальное для античности): история мыслится линейно, а не в виде круга, не как повторение самой себя, а как движение вперед к определенному концу и цели. Отличает ее от еврейской мысли предвидение резкого разрыва в историческом процессе — между этим веком и веком грядущим. Эти два века не просто последовательные отрезки одной и той же исторической линии: в конце этого века линия прерывается, а новый век начинается как новая линия, нечто совершенно иное. Часто этот век делится на некоторое число периодов (4,7,10,12,70). Век грядущий абсолютно другой.
Дуализм учения о двух веках не знает преемственности между временем этого мира и временем мира грядущего. "Ибо, вот, приходят дни, когда все существующее будет разрушено. И будет, как если бы его и не было" (2 Вар 31:5). Два века качественно различны, что яснее всего выражено в Дан 7, где выходящие из моря звери противопоставляются "человеку", сходящему с небес (ср. также 3 Ездр. 7:52–61)[596].
б)
Пессимизм и надежда. Разрыв между двумя веками также явно выражен разным отношением к ним авторов апокалипсисов. На нынешний век они смотрят с безысходным пессимизмом: он выродился и отжил свое, в нем властвуют сатана и враждебные силы, он развращен злом, полон печали и скорби — здесь уже нет надежды. Мрачной картине настоящего противопоставляется слава века грядущего — новое творение, новое небо и новая земля, небесный Иерусалим, возвращенный рай. Одно из наиболее грандиозных, даже гротескных, выражений этой надежды содержит текст 2 Вар 29:5:
Земля будет плодоносить в десять тысяч раз больше, на каждой лозе будет тысяча ветвей, на каждой ветви по тысяче гроздей, а в каждой грозди по тысяче виноградин. И каждая виноградина будет приносить кор вина (450 литров!).
в)
Эсхатологическая кульминация — мессианские страдания, суд (над врагами Божьими), спасение (для Израиля) и воскресение. Для апокалиптической мысли характерно, что конец прежнего века и наступление века грядущего знаменуется периодом тяжелых бедствий, каких никогда не знал мир. Иногда они мыслятся как усиление обычных скорбей или как образ родовых мук. Иногда речь идет о войнах или сверхъестественных космических знамениях и катастрофах. Часто сочетаются различные метафоры и образы. Ранним подобным предвещением является текст Юбил 23:13 -
…Бедствие следует за бедствием, рана за раной, горе за горем, злые вести за злыми вестями, болезнь за болезнью, и злые напасти, подобные этим, одна за другой — болезнь и погибель, снег и мороз, и лед, и жар, и холод, и оцепенение, и голод, и смерть, и меч, и плен, и всякие бедствия и страдания…
[597]
Мессианские страдания достигают высшей точки при вмешательстве Божьем, приносящем новый век — век блаженства для Израиля, или, по крайней мере, для праведного остатка. В отношении язычников мнения расходились. Некоторые, особенно ранние, писания содержат предвидения того, что язычники будут приведены к совместному блаженству с Израилем. Например, в Сивиллиных Оракулах:
И скажут все острова и города: Сколь велика любовь Вечного к этим людям… Пойдем в Храм Его, ибо Он — единственный Владыка… Из каждой земли принесут ладан и дары в дом Бога Великого
(111:710–711,718,772–773).
Но более характерны (особенно для поздних произведений) другие интонации: все народы, выступавшие против Израиля, будут уничтожены — мечом или непосредственным вмешательством Божьим. Есть некоторая надежда для народов невинных или раскаявшихся; но, хотя они и пощажены, их роль в новом веке — служить Израилю
[598].
Частично эта эсхатологическая надежда связывается с воскресением. Представление о воскресении мертвых происходит из апокалиптической эсхатологии. Умершие праведники будут возвращены к жизни для блаженства в новом веке. Реже встречалась вера в то, что грешники тоже воскреснут, чтобы быть судимыми. Раннюю формулировку этого чаяния мы находим в Книге пророка Даниила 12:2: "Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление"
[599].
г)
Близость конца. Апокалиптическая эсхатология порождена кризисом. Ее отличает жажда Конца, конца нынешнего злого мира с его страданиями и огорчениями, и жажда начала нового века. Эту тревожную тоску отражает нетерпеливое вопрошание: "Как долго? Как долго?" (Дан 8:13, 12:5–6; 3 Ездр 4:33–34,6:59,2 Вар 26,81:3 и др.). По крайней мере некоторые из апокалиптиков сознавали, что Конец не может быть ускорен — Божий замысел должен свершиться полностью (см. особенно 3 Ездр 4:33–37)
[600]. Но более характерно убеждение, что Конец не замедлит и наступит вот–вот. Уже то, что тайные откровения, которые мужи прошлого запечатывали до конца времен, теперь становились известны, было ясным признаком близкого Конца. Обзор событий прошлого в форме пророчеств вырос из убеждения, что конец истории не за горами: камень, оторвавшийся от горы без содействия рук, должен скоро разбить железные и глиняные ноги идола (Дан 2). Век нынешний можно разделить на периоды, потому что его завершение близко — и автор, и читатель, и иудей, и язычник находились уже в последнем периоде, предшествующем Концу. Конечно, замысел Божий должен быть прежде исполнен, но и это уже почти свершилось, а потому завершение на подходе (3 Ездр 4:33–50, 8:61,11:44).
Ибо молодость мира прошла, и сила творения давно на исходе, и смена веков почти наступила и даже позади. Ибо кувшин близок к источнику, корабль к пристани, караван к городу и жизнь к своему завершению
(2 Вар 85:10).
д)
Сверхъестественное и космическое измерения. Для автора апокалипсиса характерно то, что его представления не ограничиваются Израилем, но охватывают весь мир, причем не только всю землю, но даже небеса и преисподнюю. Даже те апокалипсисы, сильно окрашенные иудейским национализмом, считают, что события Конца затрагивают все человечество. Воскресение, суд над миром и конец мира в частности — все имеет космические размеры. Поскольку сценой является космос, актеры — не только люди, но и небесные существа — ангелы, духи. За злом на земле стоят падшие ангелы и бесы, представленные в первую очередь сатаной, или антихристом (см. особенно 1 Енох 6–11,16,21,54–56 и т. д., Сив. Ор. III:63–65). Поэтому святые Всевышнего беззащитны перед лицом зла, поэтому они должны ждать вмешательства Бога и полагаться на Него. В пророческой литературе Божий замысел осуществляется обычно посредством Мессии, который является человеком. Но апокалиптические писания традиционно говорят о Сыне Человеческом — трансцендентном, почти божественном
существе (Дан 7:13–14,1 Енох 48, 69:26–29, 71:14–17, Мк 13:24–27, Откр 14:14–16, возможно, 3 Ездр 13).
е)
Божественное владычество и руководство. Венчает все вера в то, что Бог управляет ходом истории, которая движется к
Его цели. Особенно заметна эта вера в образе свитка, в котором уже записана вся будущая история (Дан 8:26,12:4, 9, Откр 5–8)
[601]. Смысл понятен: все происходящее предопределено и известно заранее. Согласно апокалиптику, лишь один Бог может установить новый век. Новый век не вырастает из прежнего, и его нельзя достичь человеческими усилиями. Это может быть только делом рук Божьих, сверхъестественным божественным вмешательством. Потому‑то надежда преодолевает пессимизм. Апокалиптик не останавливается подробно на внешних явлениях или на реальности настоящего. Его внимание сосредоточено на Боге, и свою задачу он видит в том, чтобы передать читателям свое понимание более полной, космической реальности и предвидение близкого вмешательства Божьего.
66.4. Мы можем подытожить сказанное и, возможно, более полно разъяснить особенности апокалиптической эсхатологии через сравнение ее с пророчеством, из которого она, вероятно, выросла. Конечно, частично они совпадают. Например, согласно пророчеству Исайи, в будущем между людьми будет мир, природа преобразится, волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и вся земля наполнится ведением Господа (Ис 2; 11). Иезекииль переживал видения и использовал фантастические образы, которые мы обычно ассоциируем с апокалипсисами — "четыре живых существа", четыре колеса, ободья которых "полны были глаз" и т. д. В послепленный период особенно заметно развитие в пророчестве тенденции к апокалиптике с картинами божественного суда над народами, избавления и оправдания праведного остатка, наступления нового золотого века справедливости, мира и бесконечного блаженства. Но в апокалиптической эсхатологии полотно шире и мазки смелее. В каждой из основных особенностей апокалиптики присутствует гораздо более выраженная, по сравнению с пророчеством, эсхатологичность. Разрыв между прежним веком и веком грядущим гораздо сильнее здесь, чем где‑либо в пророчестве. Полный пессимизм по отношению к настоящему гораздо более радикален. Страдания при конце времен страшнее, суд и спасение окончательны, Конец гораздо ближе, надежда на вмешательство Бога, Который пошлет Своего посланца, полнее. Это же относится к эзотеричности многих апокалипсисов, развитию представления о предопределенной истории, космическим масштабам… Все это можно рассматривать как расширение пророчеств, но здесь также проходит граница между пророчеством и апокалипсисом. Роули (H. Н. Rowley) подытоживает это различие следующим образом: "Вообще говоря, пророки предсказывали будущее, которое должно
вырасти из настоящего, в то время как апокалиптики предсказывали будущее, которое должно
вторгнуться в настоящее"
[602].
Определив особенности "апокалиптики", перейдем теперь к рассмотрению истоков христианства и его писаний, чтобы установить, можно ли — и в какой степени — говорить о христианстве I века как о христианстве "апокалиптичном".
§ 67. "Апокалиптика — мать всего христианского богословия"?
Иудейская апокалиптическая литература относится к периоду от конца III в. до н. э. до II в. н. э. Она распадается примерно на две равные части: до и после Иисуса. Отсюда следует, что Иисус жил в то время, когда апокалиптизм был одной из важнейших составляющих иудейской религиозной мысли. Огромную значимость этого впервые довела до сознания библеистов на рубеже XIX‑XX столетий работа Вейса и Швейцера (J. Weiss, Α. Schweitzer), которые доказывали, что на Иисуса сильно повлияла апокалиптическая эсхатология и что Его проповедь о Царстве и понимание Им Своей миссии носили сильный отпечаток апокалиптизма и вне его помяты быть не могут. Очень важно, что
с тех пор почти все исторические исследования личности Иисуса представляли собой попытку уйти от такой ее оценки или по крайней мере смягчить ее. Очень часто это делалось, чтобы избежать тех христологических выводов, которые в этом случае последуют. Лишь немногим чаще называли "апокалиптической" раннехристианскую общину, несмотря на отсутствие соответствующих свидетельств в Книге Деяний Апостолов. Так или иначе, невозможно уйти от вывода Кеземана: "Апокалиптика была матерью всего христианского богословия"
[603]. В таком случае важность апокалиптики для нашего понимания христианства I века еще требует должной оценки. Если христианство зародилось в апокалиптической среде как одна из апокалиптических сект, что это говорит нам о христианстве?
67.1. Скудость наших сведений об
Иоанне Крестителе не позволяет точно реконструировать его дело и проповедь. Однако имеющиеся свидетельства, достаточно ясно говорят о
сильном влиянии на его проповедь апокалиптической эсхатологии. Он предвещал главным образом наступление суда (Мф 3:7–12/Лк 3:7–9,15–18), более того,
последнего суда — окончательный приговор о винограднике (всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь), окончательная жатва (пшеницу собирают в житницу, а солому сжигают "огнем неугасимым"). Кроме того, суд является
близким: пришедшие послушать Иоанна бегут от (эсхатологического) гнева, который вот–вот разгорится: "
Уже лежит топор при корне дерев"; лопата уже в руке, готовой провеять зерно.
Образы, которые Иоанн использует для описания суда, характерны для апокалиптической эсхатологии. Образ жатвы встречается и в пророчествах, и в апокалипсисах (ср. Иоил 3:13, 3 Ездр 4:30). Но представление об
огненном суде, которое является доминирующей чертой того, что осталось от учения Крестителя (Мф 3:10,11,12), более свойственно апокалиптике (см., например, 1 Енох 10:6,13, 90:24–26,100:9,102:1, Зав. Иуд 25:3, Сив. Ор III:542–544, IV:176–178, 2 Вар 48:39, 43, 59:2, 3 Ездр 7:36–38,1 QH 6:18–19). Еще поразительнее, что Иоанн использует
крещение (обряд, который был характерен именно для него) как образ божественного суда — "Он будет крестить вас Духом Святым и огнем" (Мф 3:11/Лк 3:16). Видимо, здесь Иоанн исходил из апокалиптического символа суда как огненной реки (Ис 30:27–28, Дан 7:10,1 Енох 14:19,17:5, 67:7,13, 71:2, 2 Енох 10:2, Сив. Ор III:54, 3 Ездр 13:10–11,1 QH 3:29–31). Поскольку он явно говорил о крещении в этом потоке огненного Духа (πνεύμα)
как нераскаявшихся,
так и раскаявшихся, то он, должно быть, считал, что первые из них будут таким образом уничтожены (ср. Мф 3:10,12/Лк 3:9,17), а вторые — очищены (см. выше, § 39.1, прим. 6). Другими словами, его метафору лучше всего понимать, как вариацию апокалиптической темы "мессианских страданий": горести и катастрофы последних времен будут одновременно и разрушительными, и очистительными при смене старого века новым (выше, §§ 39.1 и 66. З. в).
Отметим также сочетание в проповеди Иоанна
пессимизма и
надежды. Насколько можно судить, он не придавал значения взгляду, будто, верно следуя закону, можно обрести милость Бога. Он открыто выступал против сходного воззрения, будто происхождение от Авраама (включая обрезание) может как‑то удовлетворить Бога. Лишь те, кто искренне и всем сердцем покаялись, могут надеяться выдержать крещение Духом и огнем, но и тогда только ценой сожжения каждого пятна и клейма века нынешнего в потоке огненного Духа. Раскаявшиеся и выжившие при очистке гумна во время "мессианских страданий" будут как доброе зерно в житнице нового века.
Неясно, через кого, по мнению Иоанна, должен был осуществиться суд Божий. Мы слышим только то, что "идет за мною Сильнейший меня" (Мк 1:7, пар.). Возможно, он имел в виду человека, наделенного властью свыше. Но более вероятно, что он говорил о небесном существе, возможно в образе человека. Здесь на Иоанна мог повлиять апокалиптический образ подобного человеку существа или Сына Человеческого
[604]; отметим особо, что в видении Дан 7:9–14 сходятся и Сын Человеческий (человек), и огненная река. Еще более близкая параллель — видение в 3 Ездр 13:10–11 (ср. также Откр 14:14, где использована метафора Крестителя о жатве).
Таким образом, несмотря на недостаток материала, у нас достаточно свидетельств в пользу принадлежности Иоанна Крестителя апокалиптической мысли I в.
67.2. Что можно сказать об
Иисусе? Выше (§ 3) мы уже анализировали Его проповедь. Поэтому заострим внимание лишь на некоторых особенностях. Проще всего следовать грубой схеме отличительных богословских признаков, обрисованных в § 66.3.
а) Вполне вероятно, что Иисус использовал понятие двух веков (Мк 3:29/Мф 12:32, Мк 10:30/Лк 18:30, Мк 11:14/Мф 21:19, ср. Мк 4:19/Мф 13:22, Мф 13:39–40,49, Лк 16:8, 20:34–35). Но более характерно для него упоминание о "Царстве Божьем". Это нетипичное апокалиптическое выражение, но его можно считать вариацией на тему двух веков, то есть описанием Иисусом века грядущего. Несомненно, именно это значение Иисус имел в виду (Мф 6:10/Лк 11:2, Мф 8:11/Лк 13:28–29, Мф 10:7/Лк 10:9,11, Мк 9:1, пар.). Здесь справедлив подход Вейса: Царство Божье не возникает в этом мире, не развивается из него, "оно — абсолютно надмирная реальность, диаметрально противоположная миру сему"
[605]. Хотя Иисус считал, что сила последних времен уже проявляется в Его служении (см. выше, §§ 3.2,50.5 и ниже, § 67.2. е), это была именно
сила века грядущего — настолько сверхъестественная и эсхатологически иная, что она ни с чем не сравнима, а сопротивление ей чревато лишением места в веке грядущем (Мф 12:27–28/Лк 11:19–20, Мк 3:28–29). На разрыв между грядущим Царством и веком нынешним указывает и иной способ питания и взаимоотношений (Мф 6:11/Лк 11:3 — эсхатологический хлеб, Мк 12:25 и пар. — "как ангелы на небесах"), и полная переоценка ценностей этого мира (Лк 6:20/Мф 5:3, Мк 10:29–30,31, пар., Лк 12:16–21), и иной вид Храма (эсхатологический — ср. Мк 14:58, Ин 2:19, ср. выше, § 10.1), а особенно то, что начало века Царства ознаменует Судный день (Мф 19:28/Лк 22:29–30).
б) Характерный для апокалипсисов дуализм между пессимизмом и надеждой у Иисуса менее выражен главным образом потому, что Иисус видел начало осуществления эсхатологических чаяний в Своем служении (см. ниже, § 67.2. е). Осуществление состояло в том, что сила
будущего Царства уже
врывалась в век нынешний, она не возникала из века нынешнего. Напротив, подобно Иоанну Крестителю, Иисус видел мало обнадеживающего в веке нынешнем: в нем господствовали злые духи и бесы, царство, противоположное Божьему (Мк 1:23–27, 34, 3:22–26 и т. д. ср. Мф 4:8–10/Лк 4:5–8, Мф 6:10б), без покаяния не было надежды ни для отдельных людей, ни для городов, ни для иудеев, ни для язычников (Мф 11:21–24/Лк 10:13–15, Мф 12:41–42/Лк 11:31–32, Лк 13:1–5). Израиль в целом был подобен одному из тех бесплодных деревьев, о которых говорил Креститель (Мк 11:12–14, пар., Лк 13:9), даже Иерусалим, "город великого Царя", подлежал божественному осуждению (Мф 23:37–39/Лк 13:34–35).
в) В представлениях Иисуса о событиях Конца тоже заметно апокалиптическое влияние. Он предвидел наступление перед Концом периода страданий и горя,
эсхатологических испытаний (Мф 5:11–12/Лк 6:22–23, Мф 6:13/Лк 11:4, Мк 10:39, Мф 10:23, 24–25, Мк 13:7–8,14–20), который, вероятно, будет отмечен неестественной враждой (Мф 10:34–36/Лк 12:51–53, Мк 13:12/Мф 10:21 — как в 1 Енох 100:2,3 Ездр 5:9), а также космической катастрофой (Мк 13:24–25, также Возн. Моис 10:5). Как и у Иоанна Крестителя, в проповеди Иисуса образ огня обозначает не только Судный день (Мк 9:43, 48, пар., Мф 5:22, 7:19,13:40, 42, 50, 25:41), но и огненное очищение, через которое должны пройти кающиеся, если они хотят войти в Царство (таков смысл различных "логий об огне" — Мк 9:49, Лк 12:49, Еванг. Фомы 10(10), 16(17), 82(86)
[606], ср. Лк 9:54). Кроме того (как мы уже видели выше, §§ 39.3 и 50.3), Иисус мог осмысливать через использовавшийся Крестителем образ огня Свою предстоящую смерть, претерпевание Им мессианских мук (Лк 12:49–50/Мк 10:38–39 так и образ чаши гнева Божьего — Мк 10:38–39,14:36, ср. 14:27). То есть Он скорее всего считал Свою смерть необходимой для наступления Царства (ср. Мк 14:25, пар.).
Отметим, что для Иисуса эсхатологическое спасение, по–видимому, преимущественно
сосредоточено на Израиле (Мф 10:5–6, 23,15:24), хотя Он ожидал, что в Конце времен в Царство войдут и язычники, причем на равных правах с Израилем (Мф 8:11–12/Лк 13:28–29, Мк 11:17, пар. = Ис 56:7). Типичная для апокалипсиса надежда на последние события в учении Иисуса также менее выражена. Тем не менее ввиду явного влияния апокалиптической мысли на чаяния Иисуса в отношении будущего нет серьезных причин отрицать, что Он мог выражать надежду на Свое скорое оправдание после смерти именно через воскресение (Мк 8:31,9:31,10:34, см. также выше, § 50.3), которое должно стать началом воскресения из мертвых в конце времен перед наступлением нового века (см. также ниже, § 67.3. а).
г) По всей видимости, Иисус считал, что Конец уже
близок (Мк 1:15, Мф 10:7/Лк 10:9,11) и наступит при жизни Его поколения (Мк 9:1, пар., 13:30, пар. — где "род сей" может относиться только к современникам Иисуса) — до того, как Его ученики завершат проповедь Израилю (Мф 10:23)
[607]. Отсюда чувство безотлагательности и кризиса во многих высказываниях и притчах Иисуса (Мк 13:28–29,13:34–36, пар, Мф 5:25–26/Лк 12:58–59, Мф 8:22/Лк 9:60, Мф 24:43–44/Лк 12:39–40, Мф 24:45–51/Лк 12:42–46, Мф 25:1–12, Лк 9:61–62,10:4,12:36,13:1–5,18:7–8, см. выше, § 18.3) и обет воздержания в Мк 14:25 (см. выше, § 40.1. а). Нельзя все это исключить из рассмотрения без серьезного искажения предания об Иисусе. Высказывания Мк 13:10 — наиболее ясный пример вставки, истолковывавшей традицию ввиду изменившейся перспективы, какой можно ожидать у синоптиков (см. выше, § 18.3).
д)
Сверхъестественное и космическое измерения последних событий также менее заметны в учении Иисуса, чем в апокалиптике. Тем не менее примечательно, что в единственной ясной ссылке на видения Иисуса Он "видел сатану как молнию с неба упавшего" (Лк 10:18). Также могут считаться видениями Его опыт на Иордане, рассказ о котором использует апокалиптический образ разверзающихся при откровении свыше небес (Мк 1:10–11, пар.), а также повествование об искушениях, где Иисус опять видит сатану и борется с ним и побеждает его (Мф 4:1–11/Лк 4:1–12, см. также выше, § 45.1). Более того, с точки зрения Иисуса, события на земле отражают сверхъестественное противостояние. По крайней мере Свою способность изгонять бесов Он считал началом эсхатологической победы над сатаной (Мк 3:27, пар.). Кульминацию последних событий Он, видимо, видел в пришествии с небес (себя как) Сына Человеческого, явно имея в виду апокалиптический язык Дан 7 (Мк 8:38, пар. и др.). Отметим также язык Мк 13:24–27, вероятно принадлежащий самому раннему слою речений так называемого "малого апокалипсиса" (Мк 13).
е) Отметим, наконец, что сам используемый Иисусом термин "Царство
Божье" подчеркивает не только Его веру в трансцендентный характер Царства, но и Его веру в божественное руководство событиями, которые приведут к установлению этого Царства (ср. также, напр., Мф 6:9–13/ Лк 11:2–4, Мк 14:36, пар.).
Напрашивается вывод, что
ожидание Иисусом будущего Царства носило апокалиптический характер. Тем не менее две особенности Его проповеди отличают апокалипсис Иисуса от более типичных современных Ему апокалипсисов. Во–первых, Его учению о будущем свойственна какая‑то
предостерегающая нота. Подобно некоторым другим апокалиптикам, Он ожидал, что до наступления Конца должен пройти определенный период, во время которого произойдут важные события — в частности, Его собственная смерть и оправдание, последний призыв Его учеников к Израилю, их преследования и страдания последнего времени
[608]. Но в отличие от свойственной апокалипсисам черты указывать (в днях или неделях) время Конца Иисус подчеркивал невозможность его рассчитать: "О дне же том или часе
никто не знает… только Отец" (Мк 13:32). Другими словами, для Иисуса в отношении Конца был элемент неизвестности, а потому и неопределенности. Наступление Конца у Него не так жестко предопределено, как у большинства апокалиптиков. Бог может сократить период эсхатологических бедствий (Мк 13:20, пар., Лк 18:7–8), но Он может и увеличить отсрочку как милость и последний шанс для покаяния (Лк 13:6–9)
[609]. Это не отменяет вывод, что Иисус ожидал Конца в ближайшем будущем, но несколько его смягчает.
Второе, что наиболее ясно отличает учение Иисуса от прочей апокалиптической эсхатологии, — это важность
эсхатологии осуществленной: представление о том, что эсхатологическое Царство в определенном смысле уже присутствует и действует в Его служении. Это — серьезный разрыв с апокалиптикой того времени. По мнению Кеземана, эта особенность
настолько яркая, что она вообще выносит Иисуса
за пределы апокалиптической мысли: "Его собственное учение по своему характеру не было апокалиптическим. Оно возвещало непосредственную близость Бога". Отрывки у синоптиков, говорящие о близком Конце, — это не высказывания самого Иисуса, а проповедь первоначальной христианской общины, которая отражает "восторженное" послепасхальное упование на парусию, в ней эта община возвращается к апокалиптическому языку и "в некотором смысле" вытесняет проповедь Иисуса о "близости Бога"
[610].
Кеземан, несомненно, преувеличил. Такое полное отсутствие преемства между
апокалиптиком Иоанном Крестителем,
неапокалиптиком Иисусом и
апокалиптичностью первоначальной общины трудно представить
[611]. Как мы уже видели, апокалиптические язык и образность столь глубоко свойственны преданию об Иисусе, что их практически невозможно удалить. Невозможно было их и вставить, не изменив учение Иисуса полностью (а не просто "в некотором смысле"). Кеземан не понял природу напряжения между настоящим и будущим в учении Иисуса. "Непосредственная близость Бога" — это присутствие Царства в эсхатологическом блаженстве, а присутствие Царства — это проникновение в век нынешний силы последних времен, предзнаменовывающее близкое наступление Царства во всей эсхатологической завершенности (см. также выше, §§ 3.2 и 50.5).
Одним словом, не следует обращаться в бегство при виде вызова, который бросили богословию XX в. Вейс и Швейцер. Не будем поддаваться неолиберализму, подчеркивающему лишь то в учении Иисуса, что легче всего перевести на современный язык. Ни догматическое богословствование, ни современная апологетика не должны диктовать выводы исторических исследований. Напротив, они должны делать свои выводы, исходя из результатов этих исследований. Таким образом, нам не уйти от следующего вывода:
Иисус возвещал уже нагавшееся действие эсхатологической силы Божьей и близкое завершение исполнения замысла Божьего о мире, причем Он делал это на языке апокалиптической эсхатологии. В этом смысле учение Иисуса — часть траектории, соединяющей иудейскую и христианскую апокалиптику.
67.3.
Первоначальная христианская община. Большинство историков согласны, что ранние дни христианства отмечены высокой степенью эсхатологического пыла. Подтвердить это документально сложнее, чем эсхатологический характер учения Иисуса (§ 67.2) или ранней проповеди Павла (§ 68.1). По своим причинам Лука предпочел проигнорировать или подавить этот важный аспект раннего христианства (см. ниже, § 71.2): в первые несколько лет было много провидцев и видений (часто ангелов), но в рассказе Луки лишь немногие повествования оправдывают название "апокалиптика" (Деян 1:9–11, 7:55–56, ср. 2:2–3,10:10–16, 26:13–19). Тем не менее мы имеем достаточное количество других указаний на апокалиптическую восторженность первых христиан
[612].
а) Отметим, что
для выражения своей новой веры они использовали апокалиптическую категорию воскресения (см. выше, § 51.1). Очевидно, они верили, что воскресение Иисуса положило
начало воскресению мертвых и первый сноп эсхатологического урожая уже пожинается (Рим 1:3–4,1 Кор 15:20, 23, ср., Мф 27:52–53). Не может быть, чтобы эту веру и этот образ (первые плоды) впервые придумал Павел спустя 20 лет после самого события. Они, несомненно, были частью первоначального вдохновения: Иисус был воскрешен из мертвых — воскресение из мертвых началось
[613]. Они также верили, что живут в "последние дни", приготовляющие Последний день, как предсказано Иоилем (Деян 2:17–18, Иоил 2:28–32). Они достигли высшей точки в Божьем замысле об Израиле: они — эсхатологический Израиль, народ нового завета, начало которому положили смерть и воскресение Иисуса (Мк 14:22–25, пар., 1 Кор 11:23–25), их представители, Двенадцать (вместо Иуды избран Матфий — Деян 1:15–26), вскоре будут судить Израиль при наступлении Судного дня (Мф 19:28/Лк 22:29–30).
б) Видимо, они жили в
каждодневном ожидании второго пришествия Иисуса. Это ясно выражено: об этом говорит и сохраненный Павлом в 1 Кор 16:22 первоначальный призыв на арамейском: "Господь наш, гряди!" (ср. Иак 5:7–8, Откр 22:20)", и вставленная в рассказ Луки о второй проповеди Петра первоначальная керигматическая формулировка — если его слушатели покаются, Бог пошлет с небес Христа (Деян 3:19–21), и упование на скорое пришествие Иисуса как Сына Человеческого, сохраненное в Q (Лк 12:8–9/(Мф 10:32–33), Лк 11:30/(Мф 12:40), Мф 24:27/Лк 17:24, Мф 24:37/Лк 17:26, Лк 17:30/(Мф 24:39), Мф 24:44/Лк 12:40). Степень переработки, которой подвергалось предание о Сыне Человеческом (ср. выше, §§ 9.1 и 51.1), указывает на то, что оно было предметом жизненного интереса в ранних церквах. Отметим, что, согласно преданию, и Стефан, и Иаков (брат Иисуса) в критический момент выразили всю свою веру высказыванием о пришествии Сына Человеческого (Деян 7:56, Евсевий Кесарийский,
Церковная история, 11.23.13). Подобным образом, чем более вероятно, что Мк 13 — результат длительного развития (а это преобладающий взгляд в современных исследованиях по истории редакций)
[614], тем труднее уйти от вывода о важной роли в раннем христианстве постоянных эсхатологических размышлений. В контексте такой эсхатологической восторженности "общность имущества" (Деян 2:44–45., 4:32–37) необходимо понимать не как безответственное начинание (люди отдавали не только доход, но и основное имущество) со стороны тех, кто предвидел предстоящие долгие годы благовествования, но как следствие презрения к нуждам нынешнего века ввиду близкого Конца.
в) Вспомним, наконец, что обычная жизнь первоначальной общины сосредоточивалась на Храме (выше, § 54.1). Очевидно, упование первых христиан на эсхатологическое обновление концентрировалось на горе Сион и эсхатологически обновленном или перестроенном Храме (как в Тов 14:4–5,1 Енох 90:28–29, 91:13, Зав Вен 9:2, Сив Ор III:718, 722–724, Возн Моис 1:17–18,2 Вар 4:2–7,6:7–8,3 Ездр 7:26,8:52,10:25–57, и в Кумране)
[615]. Они приписывали Иисусу важную роль "очищения Храма" (Мк 11:17 = Ис 56:7, Мал 3:1). Именно поэтому первые христиане сохранили загадочные слова Иисуса о разрушении и восстановлении Храма (Мк 14:58,15:29, Ин 2:19) — эти слова были важны для их самопонимания как представителей эсхатологического Израиля. По этой причине они в первые месяцы не уходили из Иерусалима, а альтернативные истолкования этих высказываний Стефаном встретили так враждебно (см. выше, § 60. д). Центральное место Израиля в их эсхатологических размышлениях также отражено в вопросе: "Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?" (Деян 1:6). В контексте деэсхатологизированной истории Луки это звучит странно. Но это звучит правдиво в свете указанных выше обстоятельств; отметим опять Мф 10:23.
Таким образом, перспектива раннехристианской церкви (церквей) кажется довольно узкой: они жили уже в последние дни (приуготовляющие Последний день), находились в заключительном и кульминационном периоде истории, вблизи самого Конца, на последнем взмахе маятника. В той мере, в какой они видели начавшееся с воскресения Иисуса всеобщее воскресение и Самого Иисуса как Мессию и Сына Человеческого уже в Его земном служении, в их проповеди присутствовали черты столь характерной для Иисуса осуществленной эсхатологии
[616]. С другой стороны, насколько можно судить, сдерживающая нотка, присутствовавшая в учении Иисуса, была полностью заглушена эсхатологическим пылом ожидания близкого Конца. Полезно вспомнить, что мы сейчас говорим о церкви материнской по отношению ко всему христианству.
Христианство возникло как одна из иудейских эсхатологических сект, где апокалиптика была тесно связана как с проповедью Иоанна Крестителя, так и с проповедью Иисуса. Поскольку отсюда началось все христианство, в определенном смысле Кеземан прав: "Апокалиптика
была матерью всего христианского богословия".
§ 68. Апокалиптическая литература в Новом Завете
Траекторию апокалиптического христианства в I в. легче всего проследить на книгах Нового Завета. Она особенно отразилась в трех местах — Первом и Втором посланиях к Фессалоникийцам, так называемом апокалипсисе Марка (Мк 13) и апокалипсисе Иоанна (Откровении).
68.1.
Первое и Второе послания к Фессалоникийцам. Ввиду сказанного в § 67 не вызывает удивления, что (вероятно) самые ранние книги Нового Завета, не являясь апокалипсисами как таковыми, имеют характерные апокалиптические черты (см. особенно 1 Фес 1:9–10, 4:13–5:11, 23, 2 Фес 1:4–10,2:1–12). Не подлежит сомнению, что,
по крайней мере в Фессалониках, проповедь Павла была отмечена апокалиптической эсхатологией. Об этом сам Павел напоминает фессалоникийским верующим 2 Фес 2:5 (см. также ниже). Яркой особенностью является упование на
близкую парусию: было хорошо известно, что фессалоникийцы обратились к Богу в ожидании парусии, пришествия Иисуса, Который избавит их от эсхатологического гнева и осуждения Божьего (1 Фес 1:9–10). Очевидно, проповедь Павла привела обращенных им людей к вере в близость эсхатологического завершения. Поэтому смерть некоторых фессалоникийских христиан после посещения Павла вызывала некоторое смущение. У самого Павла этих проблем не возникало, и он все так же верил в близость Конца: он был убежден, что многие из них доживут до возвращения Христа (1 Фес 4:15,17, 5:23).
Саму парусию он описывает характерным апокалиптическим языком — как схождение с небес, с архангелами и облаками, громкими кличами и звуком трубным
[617], с воскресением мертвых (1 Фес 4:16–17). Пришествие произойдет без предупреждения и принесет неожиданную и страшную гибель неготовым, муки родов нового века, которых "никак не избегнут" (1 Фес 5:2–3). Отметим, что это апокалиптическое предчувствие, видимо, во многом основывалось на пророчестве (1 Фес 5:19–20), а "слово Господне" из 4:15 было само, по всей вероятности, пророческим изречением в Павловой общине, прорицанием, разъясняющим апокалиптическую надежду в отношении умерших верующих. Итак, самый ранний текст Нового Завета не только имеет ряд ярких апокалиптических черт, но и показывает, насколько апокалиптичны были по своему характеру учение и чаяния ранних Павловых церквей. Если Первое послание к Фессалоникийцам здесь не вполне типично, то и полностью нетипичным его не назовешь;
апокалиптическая эсхатология была неотъемлемой чертой ранней христианской проповеди за пределами Палестины.
Еще интереснее Второе послание. Павел (а я не вижу веских причин отрицать его авторство)
[618] снова подтверждает свое упование на близкую парусию и снова описывает ее в апокалиптических красках (2 Фес 1:4–10). Он, похоже, считает, что
уже претерпеваемые фессалоникийскими верующими страдания являются частью или
началом мессианских испытаний (также в 1 Фес 3:3–4). Эти испытания верующие должны претерпеть, прежде чем полностью явится Царство, новый век, когда Господь откроется с неба с Его могущественными ангелами в пылающем огне, принесет освобождение верующим и отмщение их гонителям, отвергшим познание Бога и послушание Его Евангелию.
Для нас наиболее интересно место 2 Фес 2:1–12, показывающее, до какой степени Павел в этот период мыслил и излагал учение апокалиптическим языком, а также насколько он осознавал опасность выхода из‑под контроля эсхатологической восторженности. Очевидно, сделанные в фессалоникийских общинах пророчества, полученные сообщения и письма говорили, будто День Господень уже настал (2:2). Далеко не ясно, что под этим имели в виду фессалоникийцы, а первоначальный ответ Павла много не дает, ибо является незаконченным предложением (2:3). Но результатом, очевидно, было лихорадочное неистовство и тревога (2:2), многие новообращенные бросали работу и занятия (чтобы быть готовыми? — 3:6–12). Павел отвечает по трем пунктам. Во–первых, он предупреждает, что пророчества могут обманывать, а письма могут быть подделаны — не принимайте на веру все, что слышите и читаете, сколь бы вдохновенно это ни звучало и сколь бы авторитетно ни было написано! Во–вторых, он напоминает им, что говорил раньше — должен быть какой‑то
промежуток перед Концом: противление Богу, с которым они уже столкнулись (1:5–7), должно достичь высшей точки с появлением "человека беззакония" (2:3–4). "Тайна беззакония" ("тайная сила греховности" — NEB) уже присутствует (2:7), последнее восстание против Бога уже происходит — Конец
близок. Но противление Богу еще должно достичь вершины — существует "то, что удерживает" (το κατέχον) и не позволяет беззаконию и бедствиям последнего времени проявиться в полной мере (2:6–7)
[619]. Лишь когда "удерживающий" будет взят от среды, "человек беззакония" откроется во всей своей силе и лукавстве (2:9–10) и будет уничтожен вторым пришествием (2:8). В–третьих, Павел настаивает, что в ожидании парусии следует продолжать делать обычные дела: кто не хочет работать (видимо, в ожидании Конца), не должен получать поддержки из общего фонда (3:10).
В этом отрывке влияние иудейской апокалиптической образности особенно заметно.
а) "Человек беззакония", "сын погибели" отражает иудейский апокалиптический взгляд на мир, где эсхатологическое противостояние Богу часто представлено одной фигурой — сатаной, драконом или (в человеческом облике) тираном и лжепророком (самая близкая параллель — Сив Ор III:63–70). Во 2 Фес "человек беззакония" — это христианский эквивалент. Отметим, что он в собственном смысле слова не антихрист, противник и противоположность Христа: в 2 Фес 2 он противостоит Богу. Здесь христианская мысль приходит на смену иудейской, но еще не развивается в характерное представление об антихристе, которое появляется как таковое лишь в Иоанновых посланиях и в Откровении (1 Ин 2:18, 22, 4:3, 2 Ин 7, ср. Откр 13:17).
б) Высшее богохульство "человека беззакония" в том, что он сядет в Храме Божьем и назовет себя Богом (2 Фес 2:4). В иудейской мысли классическим типом противления Богу было осквернение Храма Антиохом Епифаном (Дан 9:27,11:31,12:11,1 Мак 1:54). Видимо, именно это имел в виду Павел, что подтверждает вероятная аллюзия на Дан 11:36. Таким образом, перед нами христианство, уже распространившееся на Европу, но все еще изображающее последний бунт против Бога в образах иудейских апокалиптических опасений относительно Иерусалимского храма.
в) Ярко выражена эзотеричность, которая, как мы отмечали выше (§ 66.2), является одной из основных стилистических особенностей апокалипсистов. Что такое "человек беззакония", достаточно непонятно, а "то, что удерживает" (το κατέχον) и "удерживающий" (ό κατέχων), — очевидно, намеренно завуалированные ссылки, легко расшифровываемые читателями, но для нас неясные.
г) Наконец, отметим этические увещевания ввиду близкой развязки (1 Фес 5:1–11,2 Фес 2:15, 3:6–13) — еще одна особенность иудейских апокалипсисов (§ 66.2). Эсхатологическая надежда
не должна приводить к ослабеванию нравственных усилий; напротив, она призывает к еще большей бдительности.
Именно это сочетание ожидания близкого Конца и нравственной ревностности четко отделяло "восторженность" апокалиптического христианства от "восторженности"христианства эллинистического.
Итак, перед нами христианское произведение, которое появилось спустя приблизительно 20 лет после первой вспышки апокалиптической восторженности, положившей начало существованию в Иерусалиме новой секты. Уже полным ходом шла проповедь язычникам, а надежда на близкий конец еще горела ярко и по–прежнему находила свое выражение на языке и в образах, свойственных иудейской апокалиптике.
Но в то же время обозначились и собственно христианские особенности. 1) Божий посланец, который принесет Конец, отождествляется с
Иисусом. Это отличает христианскую апокалиптическую эсхатологию от иудейской, в которой неясность окутывает как видение апокалиптиком Божьего посланца, так и видение им противящихся Богу. Но в апокалиптическом ожидании 1 и 2 Фес видение как бы наведено на резкость и не оставляет сомнений: тот, кто возвестит начало суда, уничтожит "человека беззакония" и спасет свой гонимый народ, есть некто, сходящий свыше, но уже известный как Тот, Кто некогда ходил по этой земле, "Господь Иисус". 2) Не очень заметен элемент осуществленной эсхатологии, возможно, его заглушило ожидание близкой парусии, хотя в последующих произведениях Павла он приобретает все большую значимость (см. ниже, § 71.1). Но есть и свойственная учению Иисуса
предостерегающая нота: το κατέχον еще действует; зло и бедствия последнего времени еще не достигли апогея; Павел отказывается размышлять о временах и сроках последних событий (1 Фесе 5:1). Эта трезвая тональность неизменно присуща апокалиптической мысли Нового Завета. В то же время отметим, что, несмотря на неверный подход фессалоникийцев к эсхатологии, Павел от нее не отказывается, но еще более настойчиво провозглашает апокалиптическую надежду. На этой стадии, примерно 20 лет после его обращения,
апокалиптическая эсхатология была неотъемлема от его учения и надежды[620].
68.2.
Тринадцатая глава Евангелия от Марка — также не апокалипсис. Это собрание отдельных речений Иисуса с интерпретирующими и редакторскими вставками, содержащими апокалиптическую эсхатологию (см. выше, § 67.3.6, прим. 21). Вокруг вопроса о том, какая их часть восходит к Самому Иисусу, много споров (ср. выше, § 67.2). В данном случае нас интересует этот отрывок в целом. Марк представляет эту речь, как разработку пророческого речения Иисуса о разрушении Храма: "Не останется здесь камня на камне, который бы не был опрокинут" (13:2). Ученики спрашивают: "Когда это будет, и какое будет знамение, когда всему этому должно совершиться?" (13:4). Речь является ответом Иисуса.
а) Отметим
типичные апокалиптические элементы: ст. 4 — "когда всему этому должно совершиться (συντελεΐσθαι)?", где использован глагол, эквивалентный появляющемуся в Мф 24:3 характерному апокалиптическому обороту συντέλειας (του αιώνος), который встречается особенно в Книге пророка Даниила и Завещании двенадцати патриархов для обозначения Конца
[621]. В ст. 7–8 описывается всемирное смятение, войны и естественные катаклизмы, "начало мук рождения" (нового века), т. е. мессианские бедствия
[622]. В ст. 9–13 говорится о предстоящих ученикам несчастьях и гонениях, включая характерное апокалиптическое предвещание смертельной вражды со стороны членов семьи (см. ссылки в § 67.2). Ст. 14 содержит эзотерический знак, "мерзость запустения", что опять является аллюзией на кощунственное сооружение Антиохом Епифаном в Храме алтаря Зевсу в 168 г. до н. э. (см. ссылки в § 68.1.6) — отметим загадочный призыв Марка к пониманию ("читающий да разумеет"). Ст. 14–20 предрекают внезапность и беспрецедентную горечь последних бедствий. Ст. 24–27 рисуют картину мессианских катаклизмов космического масштаба: все творение участвует в рождении нового века, включая приход Сына Человеческого "на облаках с силою великою и славою" (ср. Дан 7:13–14). Далее ст. 28–30 содержат упоминания о близости этих событий Конца, "при дверях", при жизни этого поколения, а ст. 33–37 увещевают быть готовыми.
б) Из этой главы ясно, что Марк считал разрушение Иерусалима и Храма частью мессианских страданий, родовых мук нового века. Возможно, это отражало и разрабатывало представление Самого Иисуса о Конце (выше, § 67.2). Датировка Евангелия неясна, но, вероятнее всего, Марк писал это до падения Иерусалима, хотя когда угроза уже нависла, то есть где‑то в середине 60–х годов. В таком случае
он, очевидно, считал, что грядущее осквернение Храма ознаменует наголо Конца. Отметим к примеру, сколь важную роль в данном повествовании играют предупреждения против лжепророков и лжемессий (ст. 5–6, 21–22). То, что Марк с этих предупреждений начинает, а потом их повторяет, означает, что это было реальной и большой опасностью. Иосиф Флавий сообщает, что в 50–е и 60–е годы немало таких людей создавало волнения в Палестине
[623]. Подобным образом за ст. 9–11, видимо, стоит антагонизм между различными партиями в иудаизме, возросший с обострением национального кризиса. Мы не знаем, какую роль во всем этом играли христианские общины в Палестине (если они вообще играли какую‑то роль), но, вероятнее всего, они оказались между двух огней. Конечно, кто‑то поддержал воинственно настроенных, но другие спокойно ожидали возвращения Иисуса, делая себя уязвимыми для обвинений в непатриотизме. Особенно отметим ст. 13б — в изложении Марка описываемое страдание продлится до самого Конца; стих фактически говорит: "Держитесь! Конец близок!" Стихи 14–16 явно относятся к неизбежному нападению на Иерусалим. Наконец, ст. 24 тесно связывает все это с космическими катаклизмами самого Конца: "Но в те дни (несомненно, относящиеся к событиям, описанным в первой половине главы, — особенно в ст. 17,19–20), после скорби той солнце померкнет…" и придет Сын Человеческий. Таким образом, Марк, типичным для апокалиптики образом, пишет в ситуации возрастающего кризиса, который он считает прелюдией к последнему кризису Конца. Свою цель он видит в том, чтобы предупредить своих читателей об истинной природе кризиса и воодушевить их терпеть до Конца.
в) Вместе с тем присутствуют и те две характерные христианские особенности, которые мы отметили во 2 Фес. Во–первых, апокалиптические чаяния связаны со
Христом. Это
Его пророчество; важную роль играют повторяющиеся предупреждения о лжемессиях; Сына Человеческого, Марк, несомненно, отождествляет со Христом; "мерзость запустения" он, возможно, связывает с антихристом. Этот стих, очевидно, повествует о враге, текст титанической мощи, что в сравнении с ним лжемессии (ст. 21–22) просто "предтечи"
[624].
Во–вторых, апокалиптическая восторженность удерживается в прочных рамках; всей речи сопутствует
определенная осторожность в высказываниях, предназначенная не позволить читателю слишком увлечься надеждами. Ст. 7 — "… но это еще не конец"; ст. 8 — "Это — начало (мессианских) мук рождения" — последние события только
начинаются; ст. 10 — "во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие" (эта задача уже исполняется, но она еще не завершена); ст. 24 — "после скорби той"; ст. 32 — "О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы на небе, ни Сын, но только Отец". Конец наступит при жизни этого поколения (ст. 30), но не обязательно немедленно. После того как мы обнаружили эти предостерегающие интонации, нам легче понять назначение различных "знамений Конца" в Мк 13. Они даны
не с тем, чтобы читатель смог рассчитать день и час возвращения Сына Человеческого, а чтобы ободрить его в скорби, уверить, что его страдания являются частью мессианских испытаний и что скоро придет Конец — "Держитесь! Терпите до Конца!"
Важность этого мотива сдержанности особенно выступает в свете того, что Иерусалим пал и Храм был разрушен (70 г. н. э.), а Конец все еще
не пришел. Это, несомненно, создало проблемы для более поздних евангелистов, использовавших Мк 13. Далее мы увидим, как, например, Лука переинтерпретировал Марка: то, что для Марка (и, возможно, для Иисуса) было неразрывно связано (разрушение Храма и парусия), он разделил на два разных события (§ 71.2. а). У него получилось, что ранняя апокалиптическая надежда частично уже
исполнилась, Иерусалим пал, Храм разрушен — "мерзость запустения" была расшифрована через это событие как осада Иерусалима (римскими) армиями (Лк 21:20). В то же время апокалиптическая надежда
по–прежнему остается: присутствующие уже у Марка сдерживающие нотки получают развитие с целью разделить разрушение Иерусалима и парусию и обновить надежду на парусию (21:27–28, 31–32; отметим также 17:22–18:8)
[625]. Отметим, что, хотя апокалиптические чаяния Марка (и Иисуса) не исполнились,
Лука не убирает апокалиптическую речь. Он лишь переинтерпретирует ее в свете несбывшихся ожиданий, не оставляя выраженную ею надежду.
68.3.
Откровение, а) Апокалипсис Иоанна явно принадлежит апокалиптической традиции. Он представляет собой запись
видений Иоанна и построен вокруг трех семеричных видений — семь печатей (5:1–8:1), семь труб (8:2–9:21,11:15–19) и семь чаш (15–16). Отметим неоднократную фразу "в Духе" (1:10, 4:2,17:3, 21:10). Много здесь
фантастических образов, типичных для апокалипсисов: например, 1:16 — "как бы Сын Человеческий" (Дан 7:13), держащий в руке семь звезд, из уст Которого исходит меч обоюдоострый; 4:6 — вокруг престола четыре живых существа, полные глаз спереди и сзади; 5:6 — агнец с семью рогами и семью глазами; 9:7–9 — ужасающая саранча; 9:17–19 — апокалиптические всадники и т. д. Выделяются также видения всемирного смятения и космической катастрофы — особенно видения труб (гл. 8) и чаш (гл. 16). Важную роль играют
числа, особенно число семь — семь печатей, семь труб, семь чаш и т. д.; а также три, четыре и двенадцать; 666, число зверя (13:18); и 1260 дней = 42 месяца = 3,5 года (11:2–3,12:6,14,13:5) — стереотипное апокалиптическое число, восходящее к Дан 12:7.
Откровение Иоанна прочно укоренено в традиции апокалиптической литературы еще и потому, что родилось в момент
кризиса. Иоанн верил, что уже пришла последняя скорбь: уже было немало жертв (2:13, 6:9), а вскоре скорбь достигнет всемирных размеров (3:10, ср. 2:10. 6:10, 16:6,18:24,19:2, 20:4). Возможно, он имел в виду все более острую конфронтацию между христианством и культом императора, ознаменовавшую последние годы правления императора Домициана (93–96 гг. н. э.). Почитание императора практиковалось в Малой Азии со времен Августа, но лишь при Домициане, относившемся к своей божественности серьезнее своих предшественников, начались систематические гонения на христиан (и не только на них) за отказ воздавать ему божественные почести, чего он требовал от своих подданных
[626]. Большинство комментаторов считают, что именно на этом фоне писалось Откровение, в котором Рим и император изображены в облике
страшного зверя, требующего от людей поклонения ему (13:4,12–15,14:9,11,16:2,19:20). Имеется ли в виду под восьмым царем в 17:11 Домициан — вопрос более спорный, но на общий смысл он в данном случае не влияет. Иоанн пишет во время все усиливающихся гонений, которые, как он верил, должны были привести к заключительной кульминации зла и бедствий.
От более ранних апокалипсистов Откровение отличает то, что автор пишет не под псевдонимом, а под своим собственным именем (1:1,4,9, 22:8). Возможно, это объясняется тем, что, в отличие от своих предшественников, он не стремится дать обзор прошлой истории, встав на более раннюю точку, — хотя в 17:10 можно увидеть попытку преподнести свое произведение как современное правлению более раннего императора, возможно, Веспасиана (69–79 гг. н. э.), а основная масса книги как будто состоит из трех или четырех обзоров конца времен, начиная от первого пришествия Иисуса до Его окончательного торжества (6:1–8,8–11,12–14,15–16). Но Иоанн, очевидно, считал, что приближается к самому Концу, и не собирался это скрывать. Поэтому нет указания запечатать откровение "до последнего времени", как в Дан 8:26,12:9, — кризис был настолько сильным и окончательным, что необходимость в этом отпадала, ибо Конец уже близко (Откр 22:10). Он не старается прикрыть значение написанного сложной символикой видений, доступной лишь посвященным. Конечно, мы сейчас не можем быть вполне уверены в отношении точного значения зверя, чье число 666 (13:18), но женщина на звере — несомненно, Рим, и Иоанн этого не скрывает (17:9,18).
Тем не менее другие особенности апокалиптической литературы настолько выражены, что было бы непоследовательно отрицать принадлежность Откровения к апокалиптическому
жанру[627].
б) Основные
богословские особенности апокалиптики в Откровении также присутствуют. Из приведенных выше деталей это достаточно ясно. Упомянем некоторые другие. 1) Отметим
апокалиптический дуализм. Истинная борьба происходит не столько между церквами и языческими силами, сколько между Христом и сатаной. Более того, у Иоанна нет надежды на мир сей, он предчувствует его разрушение. Его надежда сосредоточена на небесах, новом небе и новой земле, новом Иерусалиме, который сойдет с неба (гл. 21–22). Эта тема знакома апокалиптической эсхатологии (см. выше, § 67.3. в), но у Иоанна ярче, чем у других апокалиптиков, сосредоточенность упований на горе Сион преображена в видение небесного Иерусалима, символизирующего возрождение всего творения. 2)
Мессианские страдания, скорбь святых составляют еще одну особенность, о которой мы уже упоминали (§ 68.3. а). Те гонения, которым Иоанн и его читатели подвергаются или вот–вот подвергнутся, есть "великая скорбь" (7:14; см. также, напр., 11:7–8,13:7), великая скорбь последних времен. Но Иоанн призывает верующих не бояться, ибо на них печать Божья (7:1–8, 9:4). 3) Ожидание
близкого Конца особенно подчеркивается тем, что о нем говорится вначале и в конце: 1:1 — "чему должно произойти вскоре"; 1:3 — "ибо время близко"; 1:7 — "Он грядет с облаками"; 3:11 — "Иду скоро"; 22:10 — "время близко"; 22:20 — "Свидетельствующий это говорит: да, гряду скоро. Аминь, гряди, Господи Иисусе!" 4) Поразительнее всего то, как Иоанн выражает
свою веру в Божье руководство. "Божий замысел об истории зафиксирован в "книге с семью печатями", и после раскрытия этой книги замысел осуществляется без помех"
[628].
Таким образом, учение Иоанна очень простое. Тем, кто гонения уже терпит или кому они угрожают, он говорит: "Пусть вас не смущает происходящее на Земле. Конец близок, все в руке Божьей. Ваша нынешняя скорбь предзнаменует вмешательство Божье. Враги будут полностью разбиты и уничтожены, а вас ждет небесная радость жизни в новом творении".
в) Характерные христианские особенности здесь более заметны, чем в Мк 13 и 1 и 2 Фес. Во–первых, это
христоцентричностъ, 5:5 — никто не достоин открыть свиток Конца, кроме Льва из колена Иудина, Корня Давидова, Который завоевал право открыть свиток и снять семь печатей. Лишь Он один может завершить Божий замысел, положить начало событиям Конца. Отметим, как это право связано со смертью и воскресением Иисуса: именно Агнец, Который был заклан, раскрывает свиток и печати (5:6, 9, 12). Также "Первородный из мертвых" — Тот, Кто был мертв, а теперь жив во веки веков (1:5,18), дает Иоанну откровение о том, что есть и чему должно произойти. Весь апокалипсис по сути протекает между победой воскресшего Иисуса и Его вторым пришествием: как победа дает Иисусу право раскрыть свиток и начать последние события, так Его парусил является завершением всего — "гряду скоро. Аминь, гряди, Господи Иисусе!" (Откр 22:20). Одним словом, подобно любому другому автору Нового Завета, тайнозритель апокалипсиса считает исторического Иисуса, прославленного Христа и вскоре грядущего Господа одним лицом (также см. выше, § 52.2).
Во–вторых, сохраняется свойственный христианской апокалиптической эсхатологии
элемент сдержанности. Упоминания о близости Конца нигде не превращаются в конкретное предсказание. Говорится о 42 месяцах (=3,5 года), но это скорее символическое число, не предназначенное для точного определения времени событий Конца. Письма в Откр 2–3 содержат увещевания, из которых следует, что Конец еще не совсем наступил — например, грядут десять дней скорби (2:10), и постоянные призывы терпеть и побеждать. Иоанн, несомненно, считает начало гонений при Доминициане началом последнего периода скорбей, но его продолжительность он не оговаривает. У него нет неистовых апокалиптических призывов. Для Иоанна достаточно знать, что нынешние страдания предшествуют скорому возвращению Господа.
§ 69. Выводы
69.1. В этой главе мы следовали иному методу, чем в предыдущих двух главах — главным образом потому, что апокалиптическое христианство часто представлялось в ином и неясном свете. Никто не сомневается, что попытки христианства понять себя в контексте иудейского наследия и противостоять различным видам синкретизма того времени были важнейшими и основополагающими аспектами христианства I в. — поэтому наша задача состояла в том, чтобы исследовать масштабы этого стремления к самопониманию, показать, насколько многообразие христианства I века перекрывалось с окружавшими его верованиями, выяснить границы и центр христианства I в. Но апокалиптическое христианство обычно считалось чем‑то по определению периферийным. Такое отношение к нему было в прошлом, таково оно и в современном богословии
[629]. Поэтому нашей задачей в данном случае было скорее показать центральное значение, какое имела апокалиптическая надежда в первоначальном христианстве, основополагающую роль апокалиптической эсхатологии в многообразии христианства I в.: как для Матфея и Иакова, так и для Коринфа и Иоанна.
После того как мы это показали, не остается сомнений, что
апокалиптическая эсхатология была неотъемлемой частью христианства I в.[630] Ее можно проигнорировать или удалить, лишь исказив историческую реальность истоков христианства, а значит, и все христианское богословие
[631]. Христианство появилось в среде, сильно ориентированной на апокалиптическую перспективу. Учение Крестителя было апокалиптическим по своему характеру. Нельзя не назвать апокалиптическими и чаяния самого Иисуса в отношении будущего. Характер и самопонимание раннехристианской общины в Палестине были апокалиптическими. Керигма ранней миссии язычникам имела ярко выраженные апокалиптические черты. Одно из самых ранних (если не самое раннее) собраний речений Иисуса, вошедшее в эсхатологическое повествование Мк 13, указывает на то, что апокалиптические ожидания Иисуса были предметом серьезных богословских размышлений в первые десятилетия существования христианства. Откровение Иоанна показывает, что на закате I в. огонь апокалиптического ожидания почти не уменьшился и легко возгорался сильнее, когда перед христианами вставал трудный выбор: подчиниться культу императора или подвергнуться жестоким гонениям.
69.2. Если раннее христианство и некоторые книги Нового Завета продолжают апокалиптическую традицию, идущую от апокалипсисов раннего иудаизма и продолженную монтанизмом II в. и далее, то в чем состояли отличительные или характерные особенности раннего апокалиптического христианства? В настоящей главе мы выявили три такие особенности, отделяющие раннехристианскую апокалиптическую эсхатологию от предшествующих ей учений.
а)
Христоцентричностъ. В то время как чаяния иудейской эсхатологии были неопределенными или выраженными чисто символическим языком, апокалиптическая надежда христианства сосредоточивалась на конкретном человеке, с которым многие из первых христиан уже встречались в прошлом. Эта надежда получила классическое выражение в ожидании второго пришествия этого, ныне прославленного, Иисуса. Если ее демифологизировать, то можно сформулировать так: трансцендентная сила, которая создает историю и приведет ее к концу, имеет "форму" и образ Иисуса из Назарета. Или, выражаясь более традиционно: прославленный Иисус вмешается в ход будущей истории, как Он уже сделал это в прошлом, но на этот раз Его вмешательство будет иметь
непосредственное и окончательное значение для мира в целом.
б)
Напряжение между "уже" и "еще не". Будущая надежда была связана с событиями в прошлом; завершение Богом истории связывалось с
Иисусом, грядущее воскресение — с воскресением Иисуса. Надежда на будущее вырастала из событий прошлого. Христианский апокалиптик взирал
и в прошлое,
и в будущее. Эта особенность выражалась также в вере христиан в то, что они живут на рубеже веков, что "событие Христа" (Его жизнь, смерть и воскресение) было
решающим для будущего, что уже наступили последние дни, а дарование Духа явилось началом эсхатологического спасения. Другими словами,
вмешательство Бога в прошлом уже предопределило Конец. Сколь бы ни задержался Конец, сила, которая его вызовет, уже действует в верующих, приближая его.
в)
Нота сдержанности. Христианские апокалиптические произведения I в. никогда не позволяли восторженности выйти из‑под контроля. Они решительно противились вычислению времен и сроков. Непременный мотив "еще не" не позволял увлечься в своих надеждах деталями, быть уверенным в подробностях определяемого Богом будущего. Насколько можно судить, такими были и апокалиптические чаяния Иисуса в отношении будущего, хотя ранняя иерусалимская община в своих надеждах была менее сдержанной и некоторые фессалоникийские христиане, очевидно, несколько неосмотрительно предавались этим надеждам. Но в целом внимание не только к будущему, но и к прошлому, тому, что уже осуществилось, препятствовало чрезмерной восторженности в упованиях, а значит, и неизбежным разочарованиям. По словам Кульмана:
Надежда Павла не ослабла и не потеряла твердой основы, ибо с самого начала ее исходная точка состояла в том, что средоточие, точка ориентации, лежит не в будущем, а в прошлом, в твердом факте, на который не могла повлиять задержка парусии[632].
Из этих особенностей христианской апокалиптики лишь третья находит явную параллель в иудейской апокалиптике (см. выше, § 66.3). Поэтому именно в христоцентричности, акценте на уже осуществленном, сосредоточенности на человеке из Назарета, Его жизни, смерти и воскресении, состоит отличие христианской апокалиптической эсхатологии от иудейской. Природу раннехристианской апокалиптической эсхатологии определяет отпечаток осуществленное™, который наложил на иудейскую эсхатологию Иисус, и центральное место в ней Самого Иисуса. То есть христианская апокалиптическая эсхатология — это не только приложение иудейских апокалиптических чаяний к Иисусу, но скорее переинтерпретация этих чаяний в свете "события Христа" — Его проповеди и воскресения
[633]. Другими словами, опять
своеобразие христианства — в отождествлении человека из Назарета с грядущим вскоре Христом, в преемственности между учением Самого Иисуса (его осуществленной и неосуществленной эсхатологией) и верой первых христиан в воскресение и второе пришествие.
69.3. Стоит обратить внимание на то,
как выделяется в раннем христианстве апокалиптическое направление. Апокалиптическое христианство было по сути
одной из форм иудеохристианской "восторженности", сочетанием иудейской апокалиптики и расширяющейся христианской перспективы. Поэтому оно сохранило свой пыл, даже когда христианство вышло за пределы Палестины и иудейское начало в нем было разбавлено элементами более широкого спектра. Например, Лука сохранил апокалиптические чаяния Иисуса и Марка, но отделил их от падения Иерусалима. Откровение Иоанна сохранило представление о том, что главную роль в завершении играет Иерусалим, но, будучи написано в Малой Азии, говорило об Иерусалиме
небесном, новом Иерусалиме, сходящем от Бога с небес — иудейская национальная апокалиптика была интернационализирована, переинтерпретирована в космических масштабах.
В то же время в христианской апокалиптике иудейское начало преобладает над другой важной формой "восторженности" — гностической, явно проявившейся в Коринфской церкви. Это видно из двух моментов. Во–первых, апокалиптическая восторженность по сути ориентирована на
будущее, в то время как отмеченное гностическим влиянием христианство подчеркивает
осуществленный аспект (см. выше, § 61.1. д). Если гностическая восторженность делала акцент на "уже", для апокалиптической было важно "еще не" (и близость завершения). Здесь Павел ближе к иудеохристианской апокалиптике, чем к гностической восторженности
[634]. Во–вторых, апокалиптическую восторженность отделяла от гностической ее
нравственная строгость. Упор гностических христиан на уже достигнутой свободе нередко легко приводил к нравственной распущенности и своеволию. Апокалиптическая эсхатология, с ее надеждой на наступление Конца, четко указывала, какую жизнь должен вести христианин ввиду этой надежды. Так, например, Матфей сохранил апокалиптические чаяния Мк 13, но добавил к ним резкую критику антиномистского энтузиазма (отметим особенно Мф 7:23, 24:11–12, см. выше, § 55.2). Автор Откровения решительно выступил против нравственной распущенности некоторых церквей, к которым он обращался. Этому сочетанию этической строгости и апокалиптической восторженности суждено было стать одной из отличительных черт многих апокалиптических движений в последующие века, от монтанизма до классического пятидесятничества
[635].
69.4. Апокалиптической ортодоксии никогда не было, нет и быть не может. Ее видения и чаяния слишком относительны и обусловлены вызвавшим их историческим периодом, чтобы они допускали стандартное истолкование и выражение. Отсюда неизбежно следует, что
апокалиптическая эсхатология всегда плохо сочеталась с ортодоксией "великой Церкви". Апокалиптическая христианская традиция все время была на обочине ортодоксии, оставляя слишком большой простор необузданной восторженности, поэтому церковные деятели типа Дионисия Александрийского или Мартина Лютера не хотели включать Откровение в новозаветный канон. Тем не менее в апокалиптическом христианстве удивляет его
исключительная жизнестойкость. Неоднократные разочарования не угасили апокалиптический пыл первых поколений. Матфей и Лука не отказались полностью от апокалиптических чаяний Иисуса и Марка, хотя те и не сбылись, но перетолковали их и обрели возрожденную надежду. И хотя новое небо и новая земля не явились "скоро", Откровение
вошло в канон Нового Завета.
Это значит, что апокалиптическая эсхатология занимает в христианстве
прочное и
важное место — несмотря на все опасности и неудачи. Попытки исключить ее из более разработанного учения "великой Церкви" лишь приводили к появлению анологичных течений
вне церкви, а это лишало церковь жизненных сил и энтузиазма. Поскольку неприязнь либерального протестантизма XIX в. к апокалиптике по–прежнему влиятельна, стоит напомнить о значимости и актуальности апокалиптического христианства.
а) Оно видит реальность в широкой перспективе — история, прошлое, настоящее и будущее, которые включают не только людей и народы, но и
Бога. Оно провозглашает, что Бог не удален от мира, но заботится о нем, проявляясь в духовных силах, действующих "за кулисами", и Его участие — решающее
[636]. Отсюда неизбежно следует, что человечество в определенном смысле ответственно перед Богом — вера, находящая классическое выражение в апокалиптическом видении Страшного суда. "Поддерживать чувство того, что в жизни мы несем ответственность, ответственность перед Богом, — значит оказывать постоянную услугу человечеству"
[637].
б) Оно видит в истории
замысел, цель. Оно не только
теоцентрично, но и ориентировано на
будущее. В основе христианской апокалиптической эсхатологии лежит
надежда, основанная не на наивном оптимизме по поводу человеческого прогресса, а на вере в конечное руководство Бога над всеми силами в истории, движущейся к
Его цели. Эта надежда, выражающаяся в Новом Завете как вера в Иисусово второе пришествие, неотъемлема от христианского благовестия I в.: "отвергать эту надежду — значит искажать новозаветную весть о спасении"
[638].
в) Эти два верования приводят к двум следствиям. Прежде всего они помогают верующим
правильно оценивать настоящее. Они не питают иллюзий в отношении настоящего и его возможностей. В частности, они делают возможным положительное отношение к
страданию. Нынешнее страдание есть неизбежная часть движения истории к установленной Богом цели, необходимое приуготовление к предстоящему великому и богатому будущему, определенному Богом. По словам Беркита (F. С. Burkitt): "Евангелие — это сильный протест против современного взгляда, что единственная важная вещь — жить удобно"
[639].
г) Во–вторых, апокалиптическая надежда рождает в верующих
новое чувство ответственности по отношению к миру. Их ценности и надежды уже не зависят от этого мира, но их ответственность за него повышается — жить и работать
в этом мире ради приближения задуманного Богом Конца. Отметим, что апокалиптическая надежда как таковая
не игнорирует мир и не поворачивается к нему спиной — хотя именно так ее часто в течение веков и истолковывали. Конечно, она не ищет в этом мире своего оправдания и пессимистически смотрит на его будущее. Но она не отстраняется от этого мира: родившись из его страданий, она считает себя ответственной за то, чтобы возвещать ему правду, правду о реальности и о ходе истории, изо всех сил трудясь
в этом мире ради приближения Царства Божьего извне. Более того, невзирая на гонения и разочарования, она держится стойко в своем служении — именно потому, что не ждет здесь признания и оценки. Вот почему в апокалиптической эсхатологии содержится
семя революции и почему она была основой вдохновения многих революционных движений в истории Европы.
Таким образом, роль апокалиптического христианства в том, чтобы противиться искушению оставить надежду ради "реальности" настоящего или оставить настоящее ради видений будущего. Оно соединяет эти два момента друг с другом,
осмысливая настоящее в свете будущего и будущее в его отношении к настоящему. Это непрестанная задача, постоянная ответственность каждого поколения. Новое поколение не должно смешивать свою надежду на будущее с конкретными формулировками прежних поколений. Оно не должно оставлять надежду, из‑за того что конкретные ее выражения были слишком обусловлены прошлыми событиями и их участниками. Оно должно осознать относительность
всякого выражения апокалиптической надежды, переинтерпретировать настоящее в свете прошлого ("уже") и будущего ("еще не"), не теряя надежды и устремляясь к определенному Богом будущему.
Одним словом, проблема апокалиптического христианства в том, как его
сохранить и как его
ограничить: сохранить надежду на близкое вмешательство Бога и связанную с ним "восторженность", но оградить от излишних деталей и сосредоточенности на тех или иных конкретных выражениях, чрезмерной зависимости от выполнения этой надежды. Апокалиптическому христианству все время грозит опасность со стороны "ускоряющихся ожиданий"
[640], перед ним стоит проблема сохранить надежду, не позволяя ей выйти из‑под контроля. Эти противоборствующие течения составляли неотъемлемую и важную часть этого широкого направления в христианстве с начала его существования и до сих пор.
XIV. Ранняя кафоличность
§ 70. Что такое "ранняя кафоличность"?
В какой степени черты, характерные для кафоличного христианства, начиная с (конца) II в. присутствуют уже в Новом Завете? Когда стало неизбежным превращение западного христианства в кафоличную ортодоксию Киприана и Льва? Возникла ли кафоличность после апостолов, знаменуя собой отход от изначальной чистоты и простоты I в., как говорили некоторые протестанты? Или она — естественное раскрытие черт, составляющих суть христианства с самого начала, как утверждали многие католики? Или ответ лежит где‑то посередине? Возможно, в каком‑то решающем событии (событиях) I в.; возможно, в победе одного взгляда над другими к концу первого столетия; возможно в медленном срастании различных элементов в единое целое, имевшее бо́льшую жизнестойкость, чем альтернативные взгляды и структуры; возможно, в реакции на другие течения I в. Если какая‑то из перечисленных возможностей лучше соответствует фактам, можно ли тогда говорить о "ранней кафоличности" в Новом Завете? Есть ли в нем произведения, в первую очередь представляющие возникающую кафоличную ортодоксию?
Термин "ранняя кафоличность" (
Frühkatholizismus), видимо, появился примерно на рубеже XIX‑XX вв. Но затрагиваемая им тематика берет исток по крайней мере в середине XIX в., в тюбингенской школе Фердинанда Баура (F. С. Baur)
[641]. Баур и особенно его ученик Швеглер (A. Schwegler) доказывали, что "кафоличность" впервые появилась во II в., как
компромисс между двумя соперничающими группировками, доминировавшими в I — начале II в., — иудеохристианством (христианством Петра) и языческим христианством (христианством Павла). Этот компромисс впервые появился в таких примирительных документах, как Книга Деяний, Послание к Филиппийцам, Первое послание Климента Римского и Послание к Евреям (Малая Азия), где делалась попытка посредничать между двумя партиями и затушевать значение разногласия между их представителями; закрепился же компромисс в более поздних произведениях II в., — Пастырских посланиях, посланиях Игнатия (Рим) и Евангелии от Иоанна (Малая Азия)
[642].
Начало конца тюбингенской школы обозначила публикация второго издания работы Ричля (А. Ritsehl)
Die Entstehung der altkatholischen Kirche[643]. В ней он показал, что раннехристианская история не представляла собой просто два враждебных друг другу монолитных блока: Петра (и первоапостолов) следует отличать от иудеохристиан (иудействующих), и существовало языческое христианство, отличное от Павла и мало подверженное его влиянию. Интересно, что, по мнению Ричля, кафоличность была не следствием примирения иудейского и языческого христианства, но "лишь одной из стадий языческого христианства", развитием независимого от Павла народного языческого христианства.
Этот тезис подхватил его протеже Адольф Гарнак (A. Harnack), понимая кафоличность как
эллинизацию христианства. По определению самого Гарнака,
кафоличность — это христианская проповедь, подвергшаяся влиянию Ветхого Завета, вырвавшаяся из своей первоначальной среды и попавшая в эллинистическую среду синкретизма того времени и идеалистической философии[644].
Согласно этому взгляду, движение к кафоличности было в значительной мере
присуще языческому христианству:
…ибо греческий дух, элемент, наиболее проявившийся в гностицизме, был уже скрыт в раннем языческом христианстве… Сам великий апостол язычников в Посланиях к Римлянам и к Коринфянам переводил Евангелие на греческий образ мыслей…[645]
Но "существенный приток эллинизма, греческого духа" произошел лишь во II в. (Гарнак датировал его примерно 130 г. н. э.), а кафоличность как таковая, Церковь с установившейся доктриной и закрепившейся формой, появилась только в борьбе с гностицизмом, в конфликте между эллинизацией и "радикальной эллинизацией"
[646].
Этот взгляд был поставлен под сомнение сразу с двух сторон. В школе истории религии эллинизация, являющаяся основой "кафоличности", была определена как
сакраментализм, проникший из религиозной среды языческой миссии в раннехристианское понимание крещения и вечери Господней. Здесь характеристика кафоличности дана с точки зрения использования внешних и видимых ритуалов и обрядов — взгляд, присутствующий уже в посланиях Павла (отсюда
ранняя кафоличность), хотя и расходящийся с пониманием веры самим Павлом
[647].
С другой стороны, Зом (R. Sohm) взял за исходную точку не эллинистическую мысль, общество и религии, а лютеровское разделение между церковью видимой и невидимой. Он определил "сущность кафоличности", как
…отказ проводить различие между Церковью в религиозном смысле (Церковью Христовой) и Церковью в юридическом смысле (Церковью, как юридическим образованием). Учение о видимости Церкви Христовой… есть основная догма, на которой с самого начала основывалась история кафоличности[648].
В таком случае кафоличность возникла, когда харизматическая организация, отличавшая раннюю церковь, уступила место
институционализации, где институт и церковь были отождествлены со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане авторитета и церковной власти и права. Решающим шагом, обозначившим возникновение кафоличности, оказалось Первое послание Климента. В последующих спорах о соотношении харизмы и церковной власти те, кто считает, что произошел переход от первого ко второму, будут утверждать, что случилось это еще в рамках Нового Завета, о чем свидетельствуют Пастырские послания в качестве основного источника и Книга Деяний — в качестве возможного.
Остается обратить внимание еще на один момент для дискуссии — "задержку парусии". Если первоначальное христианство было по своему характеру восторженно–апокалиптическим, то "раннюю кафоличность" можно определить как признание Церковью, что Конец еще не наступил и необходимо приготовиться к долгому периоду ожидания, причем иметь более стабильные формы организации, чтобы сохранить тождественность с прошлым и продолжать существовать в будущем. По мнению Вернера (М. Werner), последовавшее за задержкой парусии изменение предпосылок оказалось "поворотной точкой", направившей христианство в русло ранней кафоличности.
Развитие христианской доктрины, то есть превращение изначальной христианской веры в раннекафолическую доктрину, произошло вследствие деэсхатологизации первоначального христианства в ходе его эллинизации[649].
В послевоенные десятилетия наибольший вклад в этот спор внес Э. Кеземан. Вот его определение ранней кафоличности:
Ранняя кафоличность означает переход от первоначального христианства к так называемой древней церкви, завершенный с исчезновением надежды на близкое пришествие… это характерное движение к той "великой Церкви", которая сознает себя, как Una Sancta Apostolica[650].
Таким образом, он фактически переформулирует более ранний тезис Хайтмюллера (Heitmüller): кафоличность не возникает из "восторженно–мистического" сакраментального благочестия эллинистического христианства, а представляет собой
реакцию против всякой "восторженности" — как эллинистической, так и (это уже мой термин) апокалиптической.
В свете этого становится довольно ясно, чего мы ищем. Можно выделить три основные черты ранней кафоличности
[651]:
а)
Угасание надежды на парусию, "исчезновение ожидания скорого пришествия
(Naherwartung)"', ослабевание эсхатологического напряжения между "уже" земного служения Иисуса и "еще не" Его близкого второго пришествия, приносящего Конец.
б)
Рост институционализации: сюда входят некоторые или все из следующих особенностей — появление понятий церковной власти, разделения между духовенством и мирянами, священнической иерархии, апостольского преемства, сакраментализма, отождествления церкви и соответствующего института.
в)
Кристаллизация веры в фиксированные формы, возникновение "правила веры" с целью соорудить бастион против восторженности и лжеучений — чувство того, что основополагающая эра откровения уже позади и, следовательно, необходимо сохранять для будущего веру отцов, причем заявления о новом откровении от пророческого Духа становятся большей частью характеристикой не церкви, а восторженности и ереси
[652].
Именно эти особенности отличали возникающую кафоличную ортодоксию во II в., когда она противостояла угрозе со стороны гностицизма и монтанизма (см. также выше, § 26). Теперь возникают такие вопросы: насколько эти черты видны уже в самом Новом Завете? Насколько правомерно говорить о раннекафоличном элементе в новозаветных книгах? Когда впервые появляется направление (ранней) кафоличности? Мы ранее уже затрагивали эти темы, поэтому в данной главе мы сможем свести все воедино.
§ 71. Угасание надежды на скорую парусию
Как мы уже видели в главе XIII, ожидание близкой парусии было неотъемлемой частью первоначального христианства и одной из важных черт христианского самосознания первого поколения христиан. В этом смысле появление ранней кафоличности можно отнести в лучшем случае ко второму поколению, но никак не к первому. Ведь ранняя кафоличность — это не просто организация. Речь идет об организации, которая
собирается продолжать существовать. По крайней мере отчасти,
ранняя кафоличность была реакцией на исчезновение надежды на парусию. Где в Новом Завете мы можем найти следы угасания этой надежды?
[653]
71.1.
Поздний Павел и Пастырские послания. В § 68.1 мы уже отметили, как сильно выражены апокалиптические категории в (ранней) проповеди и учении Павла, когда он обращался к язычникам. Что касается ожидания близкого Конца, мы могли бы сослаться на 1 Кор 7:26–31 и 15:51–52 или на твердую убежденность Павла в эсхатологичности его апостольства — в том, что его миссия к язычникам была последним актом в истории спасения перед Концом (Рим 11:13–15,15:15–17,1 Кор 4:9)
[654]. Есть, однако, свидетельства в пользу того,
что эта надежда на скорую парусию начала понемногу угасать перед концом его жизни.
Самым ранним свидетельством такой перемены перспективы может быть 1 Кор 15:51–52 — хотя парусия еще ожидается при жизни данного поколения, смерть до нее уже стала более чем нормой. Еще менее определенно выглядит Рим 13:11–12, — при всей интенсивности выраженной в нем надежды — близко? Да, но насколько близко?
[655] В более поздних письмах Павла контраст с эсхатологической восторженностью 1 и 2 Фес уже ясен. В
Послании к Филиппийцам упование на парусию по–прежнему сильное (Флп 1:6,10, 2:16, 3:20, 4:5), но Павел сомневается, что сам он будет жив, когда наступит "день Христа" (Флп 1:20–21), хотя был уверен в этом в 1 Фес 4:15–17 (см. также выше, § 5.4).
В
Послании к Колоссянам есть только одно ясное упоминание о пришествии Христовом (Кол 3:4), причем нет ощущения близости и безотлагательности (ср. 1:5,12, 23, 27, 3:6, 24). Более того, как мы уже отмечали выше (§ 6З. З. в), в 1:13 и 2:12, 2:20–3:3 ставится сильный акцент именно на осуществленной эсхатологии: если в своих более ранних посланиях Павел говорит, что унаследовать и войти в Царство Божье еще предстоит (1 Кор 6:9–10,15:50, Гал 5:21,1 Фес 2:12,2 Фес 1:5), то в Кол 1:13 он сообщает, что верующие уже перенесены в Царство Сына (при обращении); если в Рим 6:5 и 8:11 Павел говорит о воскресении со Христом как о будущем событии (части еще не наступившего Конца), то в Кол 2:12 и 3:1 воскресение со Христом мыслится как нечто уже свершившееся, часть "уже". Разве не достаточно ясно, что в Послании к Колоссянам мы видим отход Павла от свойственных ему прежде упований на близкую парусию и подход к более спокойной надежде, считающейся с отсрочкой парусии и более длительными человеческими взаимоотношениями (3:18–4:1), а потому сосредоточивающей внимание на том, что уже сделано Христом? Таким образом, можно справедливо заключить, что перед нами первое движение к ранней кафоличности у самого Павла.
В
Послании к Ефессянам то же ощущение отсрочки исполнения надежды проявляется более сильно. Ожидание грядущего завершения еще есть (Еф 1:14,18, 21, 4:4, 30, 5:5), как и напоминающая раннего Павла настойчивость в увещеваниях (5:16). Но о близости Конца не говорится, парусил даже не упоминается (ср. 5:27). Вместо этого Павел, по–видимому, говорит о гораздо более длительном периоде на земле, длящемся несколько поколений, прежде чем наступит Конец (2:7,3:21, 6:3). Сильно подчеркивается "уже" новой жизни и спасения (2:1,5–6,8,5:8), а надежда на завершение во Христе в 2:19–22 и 4:13–16 не имеет апокалиптических черт (хотя остатки апокалиптизма еще видны в 1:10, 20–23). Независимо от того, произошел ли этот сдвиг в перспективу самого Павла, или сделан после него, именно из такой перемены возникает ранняя кафоличность.
В
Пастырских посланиях мы видим почти то же самое. По–прежнему сильна вера в день Господень (2 Тим 1:12,18, 4:8) и в "явление Господа нашего Иисуса Христа" (1 Тим 6:14,2 Тим 4:1, 8, Тит 2:13). Возможно даже, автор верит, что он и его читатели (всё еще) живут в последние дни (1 Тим 4:1, 2 Тим 3:1), хотя 2 Тим 4:3 может означать, что для автора последние дни еще не настали. Либо это так, либо выражение "последние дни" превратилось в формальную фразу, в которой уже нет первоначального эсхатологического пыла, ибо в 2 Тим 2:2 перспектива, несомненно, увеличилась. Другие отрывки, говорящие о будущем, напоминают позднейшее благочестие, где есть учение "о последних вещах", но нет ожидания скорого Конца (1 Тим 4:8, 5:24, 6:7, 2 Тим 2:10–12, 4:18). Опять мы видим перемену перспективы и исчезновение эсхатологического напряжения, которые отличают раннюю кафоличность.
71.2.
Евангелие от Луки — Книга Деяний Апостолов. Пожалуй, нигде в Новом Завете так ясно не выражено разочарование первых христиан по поводу ожидания скорого Конца, как в писаниях Луки. Наиболее поразительны в этом смысле редакция апокалипсиса Марка, осуществленная Лукой, и данное им в Книге Деяний описание ранней иерусалимской общины.
а) Очень похоже, что писавший после падения Иерусалима (70 г. н. э.) Лука столкнулся с проблемой, что делать с текстом Мк 13, где, как мы уже видели (§ 68.2), разрушение Иерусалима рассматривается как часть мессианских страданий, начало Конца. Если мы сопоставим Мк 13 и Лк 21, то станет ясно, что Лука эти два элемента (падение Иерусалима и парусию) тщательно разграничил, развив предостерегающий мотив в высказываниях Марка для удлинения периода времени. Например, Лк 21:8 — у Марка лжепророки говорят лишь: "Это Я" (Мк 13:6); Лука добавляет другое их прорицание: "Время близко"; проповедь о близости Конца превратилась в лжепророчество! Марк говорил о всемирном смятении как о "начале мук рождения" (Мк 13:8); Лука эту фразу целиком опускает (Лк 21:11). Марк написал: "Претерпевший же до конца, тот будет спасен" (Мк 13:13); Лука ссылку на Конец убирает (в Лк 21:19: "Терпением вашим вы приобретете души ваши") — страдания при падении Иерусалима не связаны со скорбью последних дней. Марк понимал страдания, вызванные осадой и падением Иерусалима, как эсхатологическое бедствие — настолько тяжелое, что Бог сократит его ради избранных (Мк 13:20); Лука полностью отделяет падение Иерусалима от Конца — "и Иерусалим будет попираем народами, доколе не окончатся времена народов" (Лк 21:24). Марк тесно соединил разрушение Иерусалима с космическими катаклизмами Конца — "в те дни…" (Мк 13:24); Лука эту связь не упоминает, опуская всю фразу (Лк 21:25). Как мы уже говорили (§ 68.2. в), одной из причин, по которой Лука отделил ожидание Марком близкой парусии от разрушения Иерусалима и Храма, было желание
вновь подтвердить надежду на парусию,
несмотря на несбывшуюся надежду Марка. Но
сделать это Лука мог, лишь отвергнув представление о непосредственной близости второго пришествия Иисуса, "отложив" его (на другое поколение?) до самого конца следующей исторической эпохи ("времена народов" = век церкви)
[656]. Итак, здесь исполнение надежды откладывается, и ожидание близкого пришествия угасает.
б) Как мы уже отмечали (§ 67.3), мышление и самопонимание первоначальной христианской общины в Иерусалиме имели сильные апокалиптические черты. Едва ли можно объяснить, откуда появились такие ключевые представления, как воскресение Иисуса или дарование Духа в качестве начатка урожая последних времен; или восклицания типа "Маранафа" ("Господь наш, гряди!") укоренились в языке богослужения (1 Кор 16:22); или как непредусмотрительная практика общности имущества (распродажа состояния) вызвала в новой секте воодушевление —
если только все это не было более или менее спонтанным выражением преобладающего убеждения в том, что последние времена уже наступили, парусил произойдет скоро и Конец близок. Тем не менее это чувство горячего ожидания в повествовании Книги Деяний совершенно отсутствует. В нем нет
ничего близкого к призыванию "Маранафа". О парусии еще упоминается (Деян 1:11), но внимание скорее сосредоточено на ответственности за проповедь всему миру (1:6–8), а чувство близости завершения сохранено лишь в использованном Лукой более раннем материале Деян 3:20–21. Говорится и о дне суда (Деян 10:42,17:31, 24:25), но только как об отдаленной угрозе (последние события), а не чем‑то уже нависшем. Цитируется апокалиптический материал Иоил 2:28–32, включая космические знамения (Деян 2:17–21) — но как пророчество,
уже исполнившееся в Пятидесятницу. Других следов первоначального христианского апокалиптического пыла не остается. То же верно и в отношении ожидания скорого Конца в ранних писаниях Павла, хотя Лука и сообщает некоторые детали миссионерской деятельности Павла в Фессалониках (Деян 17). Лука не мог не знать о горячих эсхатологических чаяниях первоначального христианства. Поэтому объяснение может быть лишь одно: он решил эту особенность проигнорировать или скрыть — даже ценой того, что общность имущества покажется не проявлением ревностной веры, а полной безответственностью. Подобное изображение первого поколения христиан, как полностью уравновешенных и удивительно
неапокалиптически настроенных верующих, заслуживает определения, "ранняя кафоличность".
Добавим, что, как было широко признано за последние 30 лет, сам факт написания истории первоначального христианства (а не апокалипсиса) был признанием того, что первоначальное упование на парусию было ошибочным и что само это упование угасло. Лука описал не только "жизнь Иисуса", но также и историю Церкви. Этим он фактически вставлял между воскресением/вознесением Иисуса и парусией целую новую эпоху. Смерть и воскресение Иисуса больше нельзя было считать началом Конца, (окончательной) эсхатологической кульминацией, каковыми они были для самого Иисуса и для первых христиан. Теперь они мыслились как срединная точка истории, по обе стороны которой лежат эпохи прошлого и будущего. Было бы неправильно считать, что Лука просто заменил раннюю эсхатологию на историю спасения, с целью решить эту проблему задержки парусии
[657]. Эсхатология скоро грядущего и история спасения никоим образом не противоречат друг другу и не исключают друг друга: перспектива истории спасения лежит в основе всех основных книг Нового Завета, а напряжение между "уже" и "еще не" почти неизменно присутствует в новозаветной эсхатологии
[658]. Но
в Евангелии от Луки и Книге Деяний эсхатологическое напряжение значительно ослаблено; для Книги Деяний, в частности, парусил есть реальность отдаленная, которая наступит в самом конце века Церкви. Таким образом, описывая христианство, столкнувшееся с необходимостью самоорганизации в преддверии долгого будущего, Лука, несомненно, открыл путь к ранней кафоличности.
71.3. Мы не можем игнорировать тот факт, что
наиболее сильное выражение осуществленной эсхатологии в Новом Завете содержится в Евангелии от Иоанна. Особенно его отличает убеждение, что суд
уже произошел в пришествии Иисуса как света миру и отношении к Нему людей (Ин 3:19): слушающий и верящий правде Иисусовой "на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь" (5:24), Сам Иисус есть воскресение и жизнь, знать Его — значит знать жизнь вечную, воскресение здесь и теперь (11:25–26). Когда Иоанн говорит: "мы увидели славу Его" (1:14), он фактически сжимает прошлую и будущую славу Сына Божьего в один период Его земного служения, завершающегося крестом и воскресением. Евангелие написано, чтобы люди уверовали в Того, Кто теперь незрим, — на основании свидетельства видевших славу Его, не требуя прикосновения к ее будущему проявлению (20:29–31). Когда Иисус говорит о Своем близком уходе и возвращении (14:18; 16:16–22), явно имеется в виду пришествие Утешителя (14:15–26,16:7). Фактически парусия Утешителя, жизнедательного Духа, настолько заняла место Иисуса, что о парусии еще предстоящей говорить ни к чему.
Тем не менее было бы ошибкой считать, что в Евангелии от Иоанна будущая эсхатология отсутствует; такие отрывки, как 5:28–29,6:39–40,12:48 (ср. 1 Ин 2:18,28,3:2,4:17), нельзя просто приписать редактору и тем самым оставить без внимания. Но надежда, которую они выражают, в отличие от первохристианской, не содержит идеи скорейшего пришествия. Видимо, во всем
четвертом Евангелии лишь текст Ин 14:1–3 говорит о втором пришествии Христа как таковом, но и этот отрывок скорее (справедливо) утешает сердца осиротевших, чем передает чувство вот–вот надвигающегося Конца. В эпилоге (Ин 21) последний маленький эпизод с кульминацией в ст. 23, видимо, был вставлен для разрешения проблемы смерти Иоанна до наступления парусии. Похоже, что
все дальнейшее развитие истории спасения у Иоанна сосредоточено во вневременном эсхатологическом "теперь", где важен лишь отклик человека на слова Иисуса, которые есть Дух и жизнь (4:23, 5;25, 6:63). Правомерно ли такое богословие называть "ранней кафоличностью" — другой вопрос, к которому мы вернемся ниже.
Недалеко от эсхатологии Иоанна отстоит эсхатология
Послания к Евреям. Конечно, у автора письма ожидание приближающейся парусии более пылкое (10:25, 37, ср. 1:2, 6:18–20, 9:27–28). Но его эсхатологию существенно смягчает соединение иудейского апокалиптического учения о двух веках с платоновским различением между небесным миром реальности и земным миром теней (см. выше, § 58.3 и прим. 58). Таким образом, он до какой‑то степени отделил надежду на полное участие в небесной реальности от веры в более отдаленное завершение (4:14–16; 7:19; 10:19–22,12:22–24). Это дало ему возможность воодушевить своих читателей в их борьбе и страданиях, а также "рассказать верующим о близости невидимого мира, не настаивая на близости парусии"
[659].
71.4. Необходимо также упомянуть
Второе послание Петра — вероятно, позднейшее из произведений Нового Завета. В его эсхатологии поразительнее всего отчасти нецельная "ортодоксальность". Она достаточно "ортодоксальна" в высказываниях о входе в "вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа" (2 Петр 1:11), о дне суда (2:9,17, 3:7), о насмешниках "в последние дни" (3:3), о приходе дня Господа, как вора в ночи (3:10), о будущем конце космоса, который описан в ярких апокалиптических красках (3:10,12), и наступлении новых небес и новой земли (3:13). Но задержка парусии, несомненно, стала главным камнем преткновения — "Где обещание пришествия Его?.." (3:4). Ответ автора носит в целом традиционный характер: он говорит о замысле Божьем в истории спасения (3:5–7) и о том, что задержка — это милость Божья с целью дать время для покаяния (3:9) и т. д. Несколько странное звучание имеет стих 3:8, где высказывается не совсем удовлетворительное соображение о том, что к Богу понятие времени неприменимо — "один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день". То есть автор отрицает, что христиане могут связывать свои надежды с настоящим: человеческое время и обетование Божье не так легко соотносятся. Это вносит оттенок произвольности в деяния Божьи (по крайней мере с человеческой точки зрения) и подрубает под корень апокалиптическую эсхатологию
[660]. Тот, кто приводит такие доводы, потерял всякую надежду на близкую парусию и не удивится, если до осуществления традиционных чаяний о парусии пройдут
века, а то и несколько тысячелетий. Одним словом, в этом послании изначальный апокалиптический пыл уступает место более догматическим и сухим представлениям о "последних вещах".
Если ранняя кафоличность была реакцией на неоднократные разочарования в апокалиптических надеждах, то Второе послание Петра представляет собой основной пример ранней кафолигности[661].
Поздние послания Павла и Пастырские послания, Евангелие от Луки и Книга Деяний, Евангелие от Иоанна и Второе послание Петра — книги Нового Завета, наиболее ясно отражающие перемену в акцентах и самопонимании, которой задержка парусии требовала от ранних христиан во второй половине I в. и позже. Эти примеры в достаточной мере подтверждают, что
если хотя бы отчасти
ранняя кафоличностъ характеризуется угасанием надежды на близкую парусию, то она уже прочно укоренена в Новом Завете.
§ 72. Рост институционализации
Рост институционализации — самый первый признак ранней кафоличности
[662], когда церковь все более отождествляется с институтом, когда авторитет все более соединяется с должностью, когда нарастает разделение между духовенством и мирянами, когда благодать все теснее ограничивается четко определенными обрядовыми действиями. Как мы видели выше (главы VI и VIII), этих черт в первом поколении христианства не было, хотя во втором поколении картина начала меняться.
72.1.
Послание к Ефесянам и Пастырские послания. Сильнейшим свидетельством в пользу того, что раннекафоличная перспектива проявляется уже в Еф, является использование слова εκκλησία и Еф 2:20. Если у раннего Павла εκκλησία (церковь) почти всегда обозначает всех христиан, живущих или собирающихся в конкретном месте, в Εφ εκκλησία обозначает исключительно вселенскую Церковь (1:22, 3:10, 21, 5:23–25, 27, 29, 32, ср., например, Кол 4:15–16.). В Еф 2:20 легко можно видеть почитание вторым поколением лидеров первого поколения. С другой стороны, есть тесные параллели между образом церковного устройства в Еф 4 и метафорой тела в Рим 12 и 1 Кор 12. Поэтому, исходя из одних внутренних свидетельств, нельзя сказать, принадлежит ли Еф самому Павлу, который расширяет свое видение местной церкви как харизматической общины до космических размеров (Еф 1:22–23, 2:19–22, 3:10, 5:23–32, ср. Кол 1:18,24), или оно принадлежит какому‑либо ученику Павла из второго поколения, который начинает думать о служениях как о должностях, установленных для всей вселенской Церкви
[663]. Даже в последнем случае отсутствие упоминаний о епископах и пресвитерах ставит вопрос о том, что автор может
противиться раннекафоличным тенденциям
[664].
Яснее обстоит дело с Пастырскими посланиями. Сошлюсь хотя бы на приведенное выше (§ 30.1) свидетельство. Отметим, что уже возникло понятие
должности: пресвитеры, надзиратели (епископы) и диаконы — все это наименования сложившихся должностей (1 Тим 3:1 — "епископство"). Еще поразительнее отношение Тимофея и Тита. Они уже не просто посланцы Павла, отправляющиеся в какие‑либо его церкви, как в былые дни (1 Кор 4:17, Флп 2:19,1 Фес 3:2,6,2 Кор 7:13–14,12:18). Скорее они походят на
правящих епископов, которым
подчинены общины и их члены. Они ответственны за то, чтобы держать веру в чистоте (1 Тим 1:3–4,4:6–8,11–16 и т. д.), руководить жизнью и взаимоотношениями в общине (1 Тим 5:1–16 — Тимофей имеет право самовластно вносить в список вдов и отказывать в этом; 6:2,17, Тит 2:1–10,15 — "со всякой властью"), отправлять правосудие и налагать наказание, в том числе и на пресвитеров (1 Тим 5:19–21 — Тимофей выше пресвитеров, к нему апеллируют), возлагать руки (1 Тим 5:22 — функция, уже отведенная Тимофею?) и
ставить пресвитеров (Тит 1:5). Появляется понятие "апостольского преемства" — от Павла к Тимофею, потом к "верным людям", потом к "другим", хотя неясно, насколько важной здесь была формальная сторона (2 Тим 2:2). Неясно также, появляется ли здесь сакраментализм: "высказывания верности" в Тит 3:5–7 мало отличаются от (более раннего) понимания крещения Павлом (см. выше, § 39.6), хотя образ "омовения" может связываться автором с водой крещения. Это более вероятно, чем предполагает само высказывание, ибо в других местах Пастырских посланий мы видим появление богословия рукоположения, где
харизма уже понимается не как свободное проявление Духа через любого члена Церкви, а как должность передающаяся путем возложения рук (1 Тим 4:14, 2 Тим 1:6)
[665]. Такое свидетельство подтверждает, что Пастырские послания в какой‑то степени разрабатывают раннекафоличную традицию.
72.2.
Евангелие от Луки — Деяния Апостолов. Свидетельства в пользу раннекафоличных тенденций в Лк и Деян собрать нетрудно (ср. выше, § 28.1), хотя есть и другая сторона вопроса. Прежде всего достаточно ясно, что
Лука попытался изобразить первоначальное христианство гораздо более единым по духу и по организации, чем оно было на самом деле.
а) Рассмотрим сначала, как
он скрыл очень серьезное и глубокое разделение между сосредоточенными на Иерусалиме иудеохристианами и расширяющейся миссией среди язычников. Разделение между евреями и эллинистами он представил как простую административную заминку (Деян 6), хотя в реальности дело обстояло куда серьезнее (см. выше, § 60). Разногласие по поводу обрезания между Павлом и Варнавой и "какими‑то людьми" из Иудеи было серьезным, но дружески и
единогласно разрешилось на Иерусалимском соборе (Деян 15). При этом мы ничего не слышим в Деян о последующей конфронтации между Павлом и Петром в Антиохии (включая "некоторых от Иакова"), к которой Павел явно относился чрезвычайно серьезно (Гал 2), а также о враждебности между Павлом и апостолами из Палестины (2 Кор 10–13), не говоря уже о чрезвычайной резкости текстов Гал 1:6–9, 5:12 и Флп 3:2–4 или ее причинах. Отчет Луки о последнем посещении Павлом Иерусалима (Деян 21) совершенно игнорирует цель посещения (доставить пожертвования) и таким образом умалчивает о, быть может, самом печальном разрыве — между Павлом и руководителями иерусалимской общины (см. выше, §56). Все это придает дополнительный вес наблюдениям по поводу Деян, впервые высказанным Шнекенбургером (М. Schneckenburger,
Über den Zweck der Apostelgeschichte)[666]: параллелизм между деятельностью Петра и Павла (ср. особенно 3:1–10 с 14:8–10, 5:15 с 19:12, 8:14–24 с 13:6–12,9:36–41 с 20:9–12), изображение Павла как человека, выполнившего требования закона (отметим особенно 16:1–3,18:18, 20:16, 21:20–26, и ср. 23:6, 24:17, 25:8, 26:5, 28:17) и высказывавшего должное уважение к иерусалимским апостолам (9:27,15,16:4, 21:26); характер проповедей, приписанных в Деян Павлу, больше напоминает проповеди первой половины Деян, они почти не содержат его индивидуальных особенностей (ср. особенно 2:22–40 с 13:26–41). Ввиду этого едва ли можно считать, что Лука дал полное и беспристрастное описание даже тех эпизодов, которые он взялся освещать. Конечно, необязательно он все, или почти все, это придумал, да и отношение Павла к разгогласиям между ним и Иерусалимской церковью едва ли было полностью объективным и справедливым. Но если подход Павла был односторонним, то же можно сказать и о подходе Луки. По меньшей мере, Лука сгладил острые углы в том, что касается личности Павла и происходивших споров, чтобы без помех включить это в картину единства раннего христианства. Разве не видим мы здесь раннекафоличное заделывание шероховатостей I в.?
б) Отметим, как искусно
сосредоточил Лука единство раннего христианства на Иерусалиме как первоисточнике. Действие его Евангелия начинается в Храме. В Храме заканчивается рассказ Луки о рождестве (Лк 1–2). На Храме же сосредоточена кульминация его повествования об искушениях Иисуса (Лк 4:9–11). Более трети этого Евангелия приходится на долю путешествия из Галилеи в Иерусалим (Лк 9:51–19:46). Заканчивается евангельское действие там же, где и началось: ученики "были постоянно в Храме, благословляя Бога" (Лк 24:53). Поразительнее всего то, что все явления Иисуса после воскресения, согласно этому Евангелию, происходят в Иерусалиме. Путем простой редакции Лука опускает все упоминания о явлениях в Галилее. У Марка стоит: "Идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там вы Его увидите, как Он сказал вам…" (Мк 16:7, со ссылкой назад, на 14:28). Лука же вместо этого дает такой вариант: "Вспомните, как Он сказал вам,
когда был еще в Галилее, говоря о Сыне Человеческом, что надлежит Ему быть преданным в руки людей грешных…" (Лк 24:6–7, где реплика Мк 14:28 просто опущена). Лука, несомненно, хотел представить Иерусалим как источник благовестия, бесспорное место появления христианства и как его материнскую церковь. Неслучайно в его понимании истории Евангелие выходит из Иерусалима и кругами распространяется по земле, достигая Рима (Деян 1:8, 28:30–31). Лука показывает, что на заре христианства вожди иерусалимской общины осуществляют надзор за решающими стадиями расширения проповеди (8:14–16, 11:1–3,22–24). Во второй половине Деян, где главным действующим лицом является Павел, Лука добивается своей цели, описывая неоднократные посещения Павлом Иерусалима, а его проповедь — как ряд миссионерских путешествий из Иерусалима и обратно (9:28,12:25,15:2,18:22 — иерусалимская община названа "церковью"; 20:16, 21:17)
[667]. Все это имеет некоторое историческое обоснование в том, что Павел признавал определенное первенство Иерусалима (Рим 15:27). Но в подаче Лукой материала заметна тенденциозность. Согласно его описанию, раннее христианство представляло собой единое целое, благовестие распространялось от Иерусалима к Риму, опираясь на церковь, объединенную вокруг Иерусалима, — серьезная или длительная опасность грозила лишь извне. Такое преподнесение фактов естественно именно в устах раннекафоличного историка.
в) Лука также делает попытку
сделать центром единства первого поколения церкви двенадцать иерусалимских апостолов и показать, что ранние церкви были едины в своей организации. Как мы уже видели, изначально понятия "Двенадцать" и "апостолы" не были синонимичны (§ 28.1. а). В то время как Иерусалимская церковь вначале группировалась вокруг Двенадцати (§ 28.2), общины за пределами Палестины и "языческие" собирались вокруг апостолов, причем "апостольство", видимо, связывалось с миссией (§ 28.1). Лука эти две (не полностью совпадающие) группы фактически соединил в одну, сделав их синонимами — центром единства всей Церкви по всему миру (отметим особенно Лк 6:13, Деян 1:21–26,2:42–43,4:33,6:2,6, 8:14, 9:27,11:1,15:22–23,16:4). Это имеет два любопытных следствия. Во–первых, согласно 8:1, вся Иерусалимская церковь была рассеяна по Иудее и Самарии (ср. 1:8) — все,
"кроме апостолов". Оставляя апостолов в Иерусалиме, Лука совершенно отказывается от раннего понимания апостола как миссионера и изображает иерусалимских апостолов как представителей и даже институциональный центр всей растущей церкви. Еще важнее второе следствие. Используя 1:21–22 как определение апостола (человек, ходивший с Иисусом все время Его служения и засвидетельствовавший Его воскресение и вознесение),
он фактически исключает Павла из числа главных апостолов (Двенадцати)[668]. Возможно, именно поэтому он называет явление Иисуса Павлу на дороге в Дамаск просто "видением" (особенно в Деян 26:19), а не хорошо осязаемым явлением после воскресения, подобным тем, которые были апостолам и которые это апостольство определяли (ср. особенно Лк 24:39). Лука, апологет Павла, так страстно желает описать церковь первого поколения христианства как находящуюся в единстве и согласии, что готов уступить в одном из пунктов, на которых сам Павел горячо настаивал в споре с, по крайней мере, некоторыми иудеохристианами (Гал 1:1,15–17,1 Кор 9:1–6,15:7–9).
Лука достигает сближения с Иерусалимом, который избегал контакта с Павлом в конце. По при этом он затушевывает расхождения Павла с Иерусалимом, представляя его единым с иерусалимскими апостолами и фактически подчиненным им.
Тот же эффект достигается в области "церковного управления". Согласно Луке, Павел поставил в каждой своей церкви пресвитеров (14:23). Об этом мы не найдем никаких упоминаний в посланиях самого Павла. Это противоречит представлению Павла о церкви как о харизматической общине (см. выше, §§ 28 и 29). Но таким образом Павловы церкви приходят в соответствие с изначальной иерусалимской моделью управления (см. выше, § 28.2). В 20:28 "надзирателями" названы "пресвитеры" (20:17), что служит предзнаменованием происшедшего после Павла смешения порядка, выработавшегося в Павловых церквах, с формой церковного управления в Иерусалиме, а также подразумевает бо́льшую степень единства, чем та, что была, видимо, на самом деле (выше, § 30). Не надо думать, что повествование Луки — полная фальсификация: большинство функций, которые после Павла сосредоточились у надзирателей и пресвитеров, вероятно, сначала исполнялись в Павловых церквах разными членами общины (харизматически). Но необходимо признать, что отчет Луки — анахронизм, ему свойственно раннекафоличное соединение первоначальных разнообразных форм в одну единую форму, характерную скорее для более поздних десятилетий (ср. 1 Клим 42:4).
Отсюда вытекает поразительный вывод. Не так уж далек от истины был Фердинанд Баур (Е С. Baur) в своем понимании Деян при всем своем догматическом преувеличении.
Изображение Лукой первоначального христианства и роли Павла в нем в какой‑то степени представляет собой компромисс между иудейским и языческим христианством, сглаживание разрывов, портящих ткань первого поколения христианства — составление облика, одинаково приемлемого для обеих сторон
[669]. Компромисс, однако, не столько между Петром и Павлом, как считал Баур, сколько между
Иаковом и Павлом — Петр стоял между ними, и с ним некоторым образом согласовывались оба (Иаков — см. Деян 15:13–15, Павел — см. выше, § 72.2. а)
[670]. Разве не будет правомерно назвать это "ранней кафоличностью"? Но и этим не все сказано.
г) Вспомним, что Лука был
"восторженным" верующим (см. § 44.3). Между тем ранняя кафоличность была именно реакцией на восторженность, попыткой "преградить путь потоку восторженности"
[671]. Как понять этот удивительный парадокс?
Лука старается преподнести раннее христианство как единое целое, но он также желает продемонстрировать верховную свободу Духа над церковью. То есть еще более, чем полноты двенадцати апостолов, Церковь должна ждать нисхождения Духа (Деян 1–2). Еще более, чем официальное учение апостолов, подчеркивается пророческое вдохновение Духа (§ 44.3.2). Наставление Духом и экстатическим видением, еще важнее, чем руководство Иерусалимом церковной миссией (Деян 1:8, 8:29, 3,10:19,13:2–4,16:6–7,19:21, 20:22 и см. выше, § 44.3). Именно дар Духа — решающий фактор принадлежности к христианству, а не одобрение или принятие Иерусалимом и апостолами. Для Луки это, конечно, не противоположности (8:14–17), но где стоит основной акцент, достаточно ясно из эпизодов с эфиопским евнухом (8:38–39 — здесь утверждения Иерусалимом нет), обращения Павла (9:10–19 — Анания описан как благочестивый иудей, 22:12, но нет попыток связать его с Иерусалимом или представить как посланника Иерусалима), с Корнилием и его друзьями (10:44–48,11:15–18,15:7–9), с Аполлосом (18:25–26 — Прискилла и Акила, как и Анания, от Иерусалима независимы и ничего существенного не добавляют к христианству Аполлоса).
Эти эпизоды также подчеркивают, что в Деян нет
развитого сакраментализма. В рассказах о крещении (Деян 8,10 и 19) Дух не вторичен по отношению к крещению. Скорее создается впечатление, что Дух здесь важнее всего (8:12–17,19:2), что там, где Дух уже дан, крещение служит в основном подтверждением этого и ритуалом вхождения в церковь (10:44–48)
[672]. Конечно, Лука говорит о передаче Духа через возложение апостолами рук (8:18, ср. 5:12,14:3,19:11), но продолжение сразу исключает сакраменталистское истолкование (8:19–21). И в других местах Деян возложение рук — полностью харизматический акт, спонтанный акт идентификации, молитва о ниспослании соответствующего дара благодати (см. особенно 3:6–7, 6:6, 9:17,13:3,19:6, 28:8). Попытка Кеземана увязать эти свидетельства с собственными представлениями о Луке как полностью раннекафоличном авторе существенным образом искажает сами свидетельства
[673]. Так же обстоит дело и с его попыткой доказать, что в Деян "слово" подчинено церкви
[674]. Совсем нет: основная тема Деян — свободное и победное распространение слова Божьего. Причем не столько церковь распространяет слово от Иерусалима до Рима, сколько слово распространяет церковь (см. особенно 6:7,12:24,13:49,19:20)
[675].
Я не вижу иного выхода, как признать, что
Лука сочетает и раннекафоличный, и "восторженный" подходы, сколь бы странным и парадоксальным это ни казалось. Возможно, ему удается совмещать два противоположных направления потому, что он пишет в обстановке второго поколения, когда восторженность сильно пошла на убыль и стали преобладать раннекафоличные тенденции. Но в той мере, в какой Лука отказывался подчинять Дух таинству, а слово — церкви, не изображая раннехристианское служение как род священства, — в этой мере его нельзя назвать "ранним кафоликом". Описание Луки как раннего кафолика необходимо смягчать его описанием, как восторженного верующего, и наоборот. Конечно, можно возразить, что в его повествовании "восторженность" ограничена прошлым, истоками. Но ведь он также преуменьшает значение упований первых христиан на парусию. А это заставляет предположить, что он изображал жизнь и миссию раннего христианства как образец для своего времени. Ему ничего не стоило преуменьшить или проигнорировать и другие восторженные черты раннего периода, но он этого не сделал (скорее наоборот — см. выше § 44.3). Отсюда можно подтвердить вывод, что сам Лука был восторженным верующим. Если в Деян у него и присутствуют раннекафоличные тенденции, то его собственная восторженность их сдерживает.
72.3. Пастырские послания, Евангелие от Луки и Книга Деяний — единственные произведения Нового Завета, которые могут серьезно претендовать на наименование "раннекафоличных" в плане роста институционализации, хотя 2 Пет 1:19–21 можно понять как ограничение истолкования писаний официальным учением
[676]. Нельзя также забывать Матфея и Иоанна: у обоих есть место, где о церкви говорится как о вселенской,
Una Sancta (Мф 16:18, Ин 17:20–23). Но, как мы уже видели, их экклезиология гораздо менее институционализирована и гораздо более индивидуалистична, чем экклезиология Пастырских посланий (см. выше, §§ 30.3, 31.1), а акцент на вселенской церкви скорее напоминает Еф, чем кафоличность Пастырских посланий. То же суждение,
mutatis mutandis, следует вынести о 1 Пет, Евр и Откр (см. выше, §§ 30.2,31.2,3). Иуд в этом отношении ясного впечатления не создает (хотя Иуд 1:20–22 перекликается с рядом мест у Павла). Не видно в этих писаниях и сакраментализма. Возможно, Мф 28:19 имеет в виду более формальный обряд крещения, но намек на сакраменталистское понимание крещения здесь отсутствует. 1 Пет 3:21 определяет крещение как выражение веры (не как путь для благодати), других упоминаний о крещении в этом послании (как и в Иак) нет. Текст Евр 10:22 описывает крещение как простое омовение тела чистой водой, таким образом уравнивая его с иудейскими омовениями (также 6:2). Такие отрывки, как Откр 7:14, едва ли относятся к крещению (омовение кровью)
[677].
Индивидуализм Иоанна вполне можно понять именно как
протест против тенденций к институционализации, столь сильно проявившихся в Пастырских посланиях (выше, § 31, ср. опять Евр и Откр - §§31.2,3). Противостоит Иоаннов корпус, видимо, и сакраментализму, укоренившемуся уже в ранней кафоличности Игнатия ("врачевство бессмертия" —
Ефес 20:2) (см. выше, § 41). Особенно любопытно выступление "пресвитера" против Диотрефа в 3 Ин 1:9–10. Диотреф, несомненно, руководил по меньшей мере этой церковью: он не только мог отказывать в гостеприимстве приходящим христианам, но также "изгонял из церкви" противодействующих ему. Иными словами, Диотреф действовал с полномочиями правящего епископа (ср. Игнатий,
Ефес 6:1, Тралл 7:2, Смирн 8:1–2); именно против его "любви первенствовать" (φιλοπρωτεύων) в церкви высказывался "пресвитер". Допуская, что 3 Ин принадлежит тому же кругу, что и 1–2 Ин, лучше всего рассматривать его, как отклик со стороны обособленного христианства, антиинституционального и личного пиетизма, протестующего против возрастающего влияния ранней кафоличности
[678].
Короче говоря, в Новом Завете начинает проявляться раннекафоличный рост институционализации (частично в Лк и Деян и наиболее явно в Пастырских посланиях),
но одновременно возрастает и протест против ранней кафоличности (частично в Евр, Откр и даже в Деян, более сильно в Ин и 1–2 Ин, и наиболее явно в 3 Ин).
§ 73. Кристаллизация веры в застывшие формы
Нам нет необходимости задерживаться на этом подробно, поскольку в главе IV мы уже затронули большую часть вопроса, а сделанные выводы имеют непосредственное отношение к нашей нынешней теме. Достаточно ясно, что тенденция формулировать христианскую веру в виде конкретных положений более или менее имелась с самого начала (напр., Рим 1:3–4,10:9,1 Кор 15:3–5, 2 Тим 2:8). Изучая роль предания в христианстве I в., мы пришли к выводу, что, по крайней мере для Павла и Иоанна, предание не было чем‑то таким, что, будучи однажды сформулировано, передавалось в неизменяемых формах от апостола к новой церкви, от учителя к ученику. И для Павла, и для Иоанна вера была живой верой, традиция была вдохновенной традицией, а учение не только (и не столько) ремеслом, сколько харизмой. Например, Евангелие, которое Павел проповедовал галатам, — не серия традиционных формулировок, полученных им от иерусалимских апостолов, а керигма, которая им истолковывалась возмутительным для многих иудеохристиан образом (хотя первоапостолы это толкование принимали). В 1 Кор 15 в качестве довода он не просто воспроизводит предание о смерти Иисуса и Его явлениях по воскресении, но дает истолкование этого предания, противоречащее истолкованию (того же предания) коринфскими гностиками (1 Кор 15:12). Евангелие от Иоанна — не литературное изложение с самого начала неизменных преданий об Иисусе, а переосмысление более ранней традиции, вдохновенное провозвестие самого Иоанна. Формула осуждения докетистов в 1 Ин — не изначальная традиция, а истолкование и переформулировка ранней веры перед лицом новой опасности (см. выше, §§ 17.1, 18.4,19.3; также 47.3, 64.3). По крайней мере, отсюда можно заключить, что ранняя кафоличность коренится не в Павле и Иоанне. Ведь ранняя кафоличность отличается не просто разработкой и передачей предания, но кристаллизацией его в застывшие формы. Она отрицает свободу перетолковывать и видоизменять эти формы или ограничивает эту свободу немногими избранными. Где же в Новом Завете находятся свидетельства такого подхода к преданию?
а) Как мы уже видели, более консервативное отношение к иудейским традициям было свойственно ранней иерусалимской общине и иудеохристианству в целом (§§ 16.3,54.2,55). Возникает очевидный вопрос: проявляют ли какие‑то иудеохристианские писания Нового Завета раннекафоличные черты в отношении христианской традиции? Ни в Иак, ни в Евр реальных признаков ранней кафоличности такого рода мы не находим: самое большее — это призыв автора Евр к читателям твердо держаться своего исповедания (3:1,4:14,10:23). Несколько больше мы находим у
Матфея. Я имею в виду особенно Мф 16:19,18:18,24:35 и 28:20
[679]. Мф 24:35 говорит о непреходящести слов Иисуса, и хотя это высказывание взято без изменений из Мк 13:31, оно может быть предназначено Матфеем для утверждения неизменяемости традиции об Иисусе, подобно тому, как 5:18 закрепляет соответствующее отношение к закону. Мф 28:20 содержит последнее поручение ученикам: "научите все народы… уча их соблюдать все, что Я заповедал вам" — некоторый контраст с ближайшей параллелью у Луки (Лк 24:47). Поразительнее всего использование Матфеем (это его характерная особенность) слов "связывать" и "разрешать" в Мф 16:19 и 18:18. Вероятно, он имел здесь в виду арамейские юридические термины, когда что‑либо объявляется запрещенным (связанным) или дозволенным (разрешенным), причем решение выносится в свете устного закона
[680]. Это может означать, что учение Иисуса заняло место устного закона.
С другой стороны, как мы уже видели, изображение Матфеем учения Иисуса само по себе представляет собой разработку и истолкование предания об Иисусе (ср. §§ 18.1–3), хотя, конечно, он мог надеяться, что его версия этого предания будет определяющей и неизменной (отсюда, возможно, пятичастное деление Мф, напоминающее о Пятикнижии, — см. выше, § 55.1). Матфей, по–видимому, выступал против устного раввинистического предания, считая, что христиане должны истолковывать закон через любовь (§ 55.2). Матфей не ввел учение Иисуса в состав закона, чтобы придать ему фиксированность и нерушимость, но подробно показал, как именно христианам следует истолковывать закон через любовь. Вспомним, что для Матфея право связывать и разрешать не ограничивалось Петром или церковной иерархией. Такова была прерогатива каждого члена общины (§ 30.3). Необходимо заключить, что, хотя отдельные выраженные у Матфея подходы могут развиться в раннекафоличное понимание веры, самого Матфея "ранним кафоликом" назвать нельзя.
б) Другое наиболее консервативное отношение к преданию мы находим в
Пастырских посланиях. Собственно, это сильнейшее новозаветное проявление раннекафоличного подхода к христианскому преданию. Как мы уже видели (§ 17.4), в Пастырских посланиях согласованный корпус предания кристаллизуется в застывшие формы и служит четким критерием ортодоксальности — "вера", "здравое учение", "вверенное" и т. д. Возможность (радикального) изменения этого предания или выражение его в других формулировках нигде не рассматривается и почти наверняка исключается. Роль церковной иерархии состоит в том, чтобы сохранять, блюсти и охранять предание (1 Тим 6:14,20,2 Тим 1:14, Тит 1:9), не перетолковывая и не переделывая его. Пророчество, которое Павел всегда более ценил, чем учение (Рим 12:6,1 Кор 12:28,14:1, Еф 4:11), очевидным образом относится автором больше к прошлому, чем к настоящему, или сведено к формализованному элементу, входящему в обряд рукоположения (1 Тим 1:18,4:1,14)
[681]. Во всяком случае, здесь уже нет динамического взаимодействия пророчества с более ранним преданием (как у Павла и Иоанна). Возможность новых откровений, которые могли бы поставить под сомнение установившиеся формулировки "учения", едва ли допускается. Более того, подобные сомнения осуждаются как пустословие, лжеименное знание, глупые споры и тому подобное (1 Тим 1:4, 6:20, Тит 3:9). Даже сам Павел представлен скорее как хранитель, нежели создатель предания; Духу отводится роль скорее хранителя прежнего предания, нежели путеводителя к новой истине (1 Тим 1:11,2 Тим 1:12–14, Тит 1:3). Если в посланиях Павла была восторженность, в Пастырских посланиях ее нет совершенно (выше, § 47.2). Несомненно, это ранняя кафоличность!
в) Что касается остальной части Нового Завета, то единственные реальные свидетельства раннекафоличного "правила веры" мы находим в
Иуд, где автор не просто спорит с лжеучением, но даже противостоит ему укоренившимися формулировками веры — "веры, раз навсегда преданной святым" (Иуд 1:3, ср. 1:17)
[682], и о 2
Петр, где мы опять видим разработанное представление о четко определенной и авторитетной истине, передаваемой от пророков и апостолов более раннего поколения (2 Пет 1:12, 3:2, ср. 2:2,21, также 3:15–16 — Павел здесь — несколько неудобная часть священного боговдохновенного предания).
Вопреки утверждениям того же Кеземана
[683], в
Деян реальных признаков подобной кристаллизации веры в застывшие формы нет. В Деян 2:42 Лука говорит об "(авторитетном) учении" апостолов (ср. 1:2–22,6:2,4) и с готовностью упоминает о "вере" в 6:7 и 13:8 (ср. 14:22,16:5). Но считать, что "этот принцип предания и легитимной преемственности красной нитью проходит через всю первую часть Деян"
[684] — неоправданное преувеличение. Можно усмотреть определенное закрепление предания в трехкратном повторении ключевого эпизода с обращением Павла (Деян 9,22, 26) и Корнилия (10,11,15:7–11), подобно тому как повторение акцентов в ряде проповедей из Деян может указывать на то, что Лука считал сутью и главным содержанием евангельской проповеди его дней
[685]. В 20:29–30 появляется типичное для поздней ортодоксии воззрение (ср. выше, § 1.6), что ересь (по определению) — послеапостольское образование. Но в то же время проповеди не стереотипны, ни одна из них полностью не параллельна другой, у каждой есть свое индивидуальное лицо (напр., 2:14–21,10:34–39,13:16–25); речи в Деян 7 и 17 не похожи на все остальные
[686]. Различны в деталях и три рассказа об обращении Павла. Ни в одном случае нельзя говорить, что Лука придает преданию фиксированную, застывшую форму. Не делает Лука и попытки изобразить "апостольское преемство" или наставление в вере как передачу апостольского предания, подобно тому как это делают Пастырские послания, Иуд и 2 Пет. Этого нет даже в Деян 20:18–35
[687]. Разумеется, нет нужды интерпретировать в этом ключе Лк 1:1–3. Даже отрывок Деян 16:4 лучше понимать как попытку Луки показать единство первоначального христианства, а вовсе не как раннюю кафолизацию традиции (см. выше, § 72.2. а). Таким образом, и здесь Деян не удовлетворяют критерию, необходимому для признания этого произведения "раннекафоличным". Лишь Пастырские послания, Иуд и 2 Пет выдерживают эту проверку.
§ 74. Выводы
74.1. Едва ли можно спорить, что
ранняя кафоличность присутствует уже в Новом Завете и что в некоторых его книгах видны четкие тенденции, приводящие прямо к кафоличности последующих веков, что раннекафоличная традиция берет начало уже в I в. и ей принадлежат некоторые новозаветные произведения. Наиболее ясный пример представляют собой Пастырские послания: в них надежда на парусию — лишь слабая тень ее прежнего выражения, институционализация хорошо развита, а христианская вера воплощена в фиксированных формулировках. Вопрос о том, принадлежит ли Еф к раннекафоличной тенденции, зависит от истолкования нескольких ключевых отрывков. Собственно, здесь надо решить, принадлежит Еф Павлу или нет: если да, то эти отрывки лучше считать разработкой его понимания церкви (существенно не отличающейся от его представления о церкви как о харизматической общине), если оно написано после Павла, тогда эти же отрывки можно истолковывать как движение (невольное? — см. выше, § 72.1, прим. 22) к ранней кафоличности Пастырских посланий. Другой ясный пример ранней кафоличности в Новом Завете — 2 Пет, особенно вследствие выраженного в нем отношения к парусии и обращения к священному преданию, идущему от минувшей уже начальной поры христианства. Возможно, сюда же относится и Иуд: и для его автора "вера" является фиксированной и установившейся. Но в Иуд также есть свидетельство более живого и менее формализованного переживания Духа, чем было свойственно ранней кафоличности (Иуд 1:19–20).
Не следует считать раннекафоличеными Ин и 1–3 Ин. Хотя в них можно найти следы некоторой реакции против надежды на близкую парусию, лучше всего их считать
также реакцией против самой ранней кафоличности. Пастырские послания и Иоаннов корпус фактически представляют собой противоположные подходы к одной и той же проблеме с задержкой парусии. Наконец, Лк и Деян (самые любопытные в данном отношении книги Нового Завета) лучше понимать как попытку
объединения раннекафоличной перспективы с восторженностью первых христиан. Баур был на верном пути, рассматривая Деян как компромисс между иудейским и языческим христианством, и такой компромисс составляет основу раннекафоличного представления об
Una Sancta Apostolica. Но Лука, несомненно, осознавал опасность лишения Духа, подчинения Его церковной иерархии, ограничения Его застывшими формами и ритуалами. Поэтому он писал как человек, желающий видеть современную ему церковь единой и открытой для Духа: открытой для Духа подобно первым христианам, единой — в отличие от них.
74.2. Что касается исторических корней в I в.,
ранняя кафоличность появилась поздно. Как мы уже видели (§ 67.3), христианство возникло как "восторженное" апокалиптическое течение. Ранняя кафоличность имеет все признаки последовавшей затем реакции на разочарование и излишки подобной восторженности. Ранняя кафоличность — типичное, происшедшее во втором поколении застывание и стандартизация форм и моделей, которые в обстановке восторженности первого поколения были гораздо более стихийны и многообразны. Так, например, институционализация Пастырских посланий представляет собой постпавловскую реакцию на неспособность обеспечить длительную структуру внутри- и межцерковных отношений в рамках представления самого Павла о харизматической общине.
Это суждение необходимо смягчить в одном отношении. Очевидно, что развившаяся при Иакове (то есть еще в первом поколении) организация Иерусалимской церкви во многих отношениях лучше способствовала ранней кафоличности, чем "модель" Павла, поскольку синагогальное устройство и иудеохристианское уважение к преданию обеспечивали более легкий переход к ранней кафоличности. Именно объединение иерусалимской модели с постпавловскими формами дает некоторые из самых ярких свидетельств ранней кафоличности в Деян и Пастырских посланиях (Деян 14:23, 20:17,28 — см. выше, § 72.2. В, 1 Тим 3:1–7,5:17,19, Тит 1:5,7–9). Поэтому, учитывая также упомянутые выше (§ 70) тезисы Гарнака и Хайтмюллера, можно отметить, что
ранняя кафоличностъ более укоренена в консерватизме иудеохристианства, чем в синкретизме эллинистического христианства[688].
74.3.
Ранняя кафоличностъ не была единственным направлением или формой христианства, которые возникли в I в. Она стала преобладать в позднейшие десятилетия, но на рубеже I‑II вв. еще не была доминирующей. Если исходить только из Нового Завета то, ни из чего нельзя предположить, что она должна стать нормативным выражением христианства. К сожалению, другие основные альтернативы в конце I в. были не столь хорошо организованы, чтобы составить долговечную модель церкви. Апокалиптическое христианство, почти по определению, не способно пережить более одного поколения. Неоправдание надежды на парусию, если и не уничтожит породившую ее веру, в большинстве случаев приведет к некоему подобию ранней кафоличности. Ожидание близкого Конца не может быть традицией, передаваемой от поколения к поколению. Оно может лишь каждый раз рождаться заново в последующем поколении как нечто совершенно новое
[689]. Что касается иудейского и эллинистического христианства, то ранняя кафоличность может быть понята именно как компромисс между ними, вклинивший наиболее долговечные их элементы и поставивший христиан II‑III вв. перед выбором между обширным срединным пространством, занимаемым ранней кафоличностью, и радикальными альтернативами эбионитства и христианского гностицизма. До известной степени преуспевала Иоаннова альтернатива ранней кафоличности. Но она либо (на Западе) была ограничена мистической традицией внутри христианства, либо оттеснялась на периферию христианства, спорадически возникая в виде сект и движений, протестующих против авторитаризма "великой Церкви". Попытка Деян обеспечить длительное равновесие между раннекафоличным видением
Una Sancta и восторженностью начала христианства не удалась. Последующие толкователи, ищущие подходящую модель, обычно не замечали попытки Луки. Их увлекали либо его ранняя кафоличность (католические экзегеты), либо его восторженность (пятидесятнические экзегеты). Ранняя кафоличность в течение II‑III вв. все больше и больше становилась основным направлением в христианстве. Она сделалась ведущей линией ортодоксии. Цена, которую заплатили за свое включение в канон авторы, подобные Павлу, — подгонка под эту норму (см. выше, § 63.4).
74.4. Отсюда возникает любопытный вопрос: с точки зрения христианских истоков могла ли ранняя кафоличность иметь
еретические формы выражения? Внутри иудеохристианства, эллинистического христианства, апокалиптического христианства были тенденции, которые при неосмотрительности приводили к ереси (эбионитства, гностицизма, монтанизма). То есть широко признавалось, что каждое направление содержало элементы, которые, доведенные до крайности, могли сделать все направление неприемлемо однобоким. Не лучше было бы, если бы аналогичные тенденции (более широко) усматривались в ранней кафоличности? Не может ли быть, что те, кто в конце концов наиболее оправдывали название "ортодоксов", не придавали значения тому, что однобокой может стать и кафоличность? В частности, недооценивали неотъемлемость от живого христианства живой эсхатологической надежды
[690], важность сохранения эсхатологического напряжения. Не видели, что церковная жизнь и структура могут быть чрезмерно структурированы, проявление Духа ограничено должностью и обрядом, а вера
сведена к формулировкам, задушена в застывших формах, не просто кристаллизованных, но окаменевших. Лука и Иоанн предупреждали об этом — на них не обратили внимания. В результате единственные успешные протесты (по крайней мере в западном христианстве) можно найти в монашестве, в развитии орденов и в Реформации. Возможно, трагедия ранней кафоличности заключалась в неспособности осознать, что самая большая ересь — настаивать, что есть только одно церковное послушание, только одна ортодоксия.
Заключение
XV. Авторитет Нового Завета
§ 75. Итоги
75.1. Задача, которую мы поставили перед собой в начале этой книги, заключалась в том, чтобы исследовать единство и многообразие христианства I в. и его литературного воплощения — Нового Завета. Я полагаю, справедливо было бы сказать, что мы обнаружили
некое достаточно явное и последовательное объединяющее начало, которое одновременно и выделяет христианство как нечто
особенное, и является
объединяющим центром для различных его проявлений. Таким объединяющим элементом послужило единство исторического Иисуса и прославленного Христа, то есть убеждение в том, что, с одной стороны, вдохновенный бродячий проповедник из Назарета, Который исполнил Свое служение, умер и воскрес ради того, чтобы наконец объединить человека и Бога, а с другой — та Божественная сила, которая позволяет христианам молиться и с помощью которой они встретились с Богом и были приняты Им, — это одно и то же лицо — Иисус, человек, Христос, Сын Божий, Господь, животворящий Дух. И если мы обратимся к возвещению первых церквей, к их вероисповедным формулам, к тому, как они понимали предание и как использовали Ветхий Завет, к их пониманию служения, к их практике богослужения, к развитию таинств, к их духовному опыту, то придем примерно к такому же выводу: их объединяющим центром был Иисус — прославленный человек. Даже когда мы пристальнее рассматриваем самый важный вопрос — вопрос о том, как соотносится проповедь Иисуса с проповедями первых христиан,
— то получаем тот же ответ: неразрывность Иисуса–человека и прославленного Иисуса не является богословским построением
post eventum, но коренится в собственных представлениях Иисуса о Его взаимоотношениях с Богом, учениками и Царством. Таким образом, вряд ли можно сомневаться в существовании главной объединяющей нити, пронизывающей раннее христианство и Новый Завет, и в том, что этой объединяющей нитью был Сам Иисус.
Что же касается других объединяющих элементов, то на разных стадиях нашего исследования мы остановились на некоторых деталях, которые могли бы (или должны были) быть общими для всех или для большинства христианских общин I в. В частности, различные керигмы призывали к одной и той же вере и давали одни и те же обещания (прощение, спасение, Дух) (см. выше, § 7.1); христианство I в. было однородно–монотеистическим (см. выше, § 12.4); традиции керигмы и Иисуса были общим достоянием (см. выше, § 19.1); еврейские писания были общей основой для всех верующих I в. (см. выше, § 20); ощущение того, что христианство является продолжением и эсхатологическим завершением Израиля, народом Божьим, широко отражено в Новом Завете (см. выше, § 32.3, прим. 26); все христиане практиковали крещение во имя Иисуса и участвовали в общих трапезах, откуда, собственно, и родилась Тайная вечеря как таковая (см. выше, § 42.2); опыт в Духе служил
sine qua поп принадлежности к Христу (§ 48.1); любовь к ближнему воспринималась (от Иисуса и вплоть до Первого послания Иоанна) как пробный камень поведения, угодного Богу (§§, 58.4,65.4); все христиане I в. ожидали второго пришествия, хотя степень интенсивности этого ожидания варьировалась (§ 69.1). Было бы вполне возможно выделить одну или несколько деталей из этого комплекса, с тем чтобы сконцентрироваться на них как на центральном объединяющем элементе христианства I в. Например, это могла бы быть история спасения
[691], вера или ее понимание (см. выше, § 1), любовь к ближнему
[692]. Но фактически объединяющий элемент, присутствующий во всех проявлениях христианства, снова и снова сводится к Христу. Именно Иисус был тем, что реально
отличало христианство от его соперников в I в., Иисус–человек и Иисус прославленный, Христос распятый и воскресший, Он был в центре, Он же полагал и пределы христианству. Вера, к которой призывала керигма, была верой
в Христа, ее обещание поддерживалось обещанием благодати
через Христа. От иудейского монотеизма христианство отличало убеждение в том, что единый Бог должен осознаваться именно как
Отец нашего Господа Иисуса Христа. Традиции керигмы и Иисуса объединяются именно потому, что они
сфокусированы на Христе, на значении Его смерти и воскресения, на словах, произнесенных земным Иисусом и продолжающих выражать мысль прославленного Господа. Более того, ни одно из проповеднических направлений не обеспечило единой почвы, на которой все готовы были бы сойтись, и ни одна из конфессий не стала тем знаменем, которым все размахивали бы с одинаковым рвением. Даже традиция Иисуса по–разному интерпретировалась христианами I в. Христианский Ветхий Завет является в конце концов чем‑то отличным от еврейской Библии просто потому, что христиане, используя Ветхий Завет,
интерпретировали еврейскую Библию
в свете откровения Христа; и здесь опять применение одних и тех же герменевтических принципов приводит к различной интерпретации отдельных отрывков. Христианское понимание истории спасения отличается от еврейского убеждением в том, что кульминационным пунктом Божьего промысла об Израиле был
Иисус и что этот промысел в настоящем и будущем вращается вокруг
Иисуса — событие Христа в середине времен и парусил Христа в конце времен. Так же и язычники могли быть включены в народ Божий только в том случае, если они рассматривались как наследники Божьего обещания, выраженного
во Христе и через Христа. Кроме того, в конечном счете все эти убеждения вылились в самые разные концепции, миссионерские практики, типы служения и исповедания. Что касается таинств, то они стали объединяющей силой именно потому, что были
сфокусированы на единстве и цельности Господа, с Которым мы встречаемся теперь, с Иисусом из Назарета, распятым и воскресшим. Далее, вопрос о том, каким образом таинства фокусировались на этом и делали возможной такую встречу, остается дискуссионным. В частности, преломление хлеба и выпивание вина были общими для всех, но форма, которую впоследствии приняли эти еда и питье, складывалась как раз в этот период (как и сопутствующие этому слова). Таким образом, снова реальным объединяющим фактором были не формы или формулы, но признание того, что в подобных словах и действиях выражается и укрепляется общая вера в Иисуса–человека и Иисуса прославленного. Опыт в Духе был лишь объединяющей силой, и Дух этот осознавался именно как
Дух Иисуса; кроме того, отношение к религиозному опыту и "восторженности" быстро становилось весьма разнообразным. И христианская любовь к ближнему, ее мотивация и осуществление, характерна именно убеждением в том, что эта любовь нигде не была столь отчетливо выражена или воплощена, как
в Иисусе, в том, что эта любовь возможна в настоящем именно благодаря Духу
того же Иисуса. Единство новозаветных писаний, таким образом, заключается не просто в вере, но в вере именно в такого Христа, это не просто восприятие веры, но такое восприятие, которое измеряет себя распятием и воскресением Христа, которое понимает и принимает опыт благодати именно через Христа, как "благодать Господа нашего Иисуса Христа".
Кратко говоря, наше исследование показало,
сколь сильно различные объединяющие факторы христианства I в. снова и снова фокусируются на Христе, на единстве Иисуса–человека и Иисуса прославленного. Когда мы вдобавок спрашиваем о том, что же одновременно и объединяло христианство I в.,
и обозначало его отличительные черты, то объединяющее начало снова и снова сводится исключительно к Христу. Как только мы идем дальше, как только мы пытаемся обратиться к словам или делам, многообразие тут же становится столь же очевидным, сколь и единство. И чем более мы захотим добавить к этому единству, с тем большим количеством несогласий и споров столкнемся. Таким образом, мы выяснили, что единство христианства I в. фокусировалось (и зачастую исключительно) на прославленном человеке Иисусе, на Христе распятом, но воскресшем.
75.2. Наши изыскания привели к признанию
заметного уровня многообразия в христианстве I в. Мы более не можем сомневаться в существовании
разлитых способов выражения христианства в Новом Завете. Ни одна из форм христианства I в. не состояла целиком и полностью из объединяющего начала, описанного выше. В различных обстоятельствах и в различном окружении это начало было вплетено в более сложные системы, и когда мы сравниваем эти системы, то видим, что они далеко не всегда дополняют друг друга; напротив, они нередко расходятся, и порой весьма серьезно. Иначе говоря, словесное выражение одной и той же веры в Иисуса–человека и Иисуса прославленного должно было варьироваться в зависимости от различных индивидуумов и окружающих условий. Сами языковые формы выражения, пусть даже и сформированные преимущественно этой верой, неизбежно, хотя бы отчасти, определяются и собственным специфическим опытом каждого человека, а также и теми обстоятельствами, в связи с которыми эти слова были произнесены и повторены. Таким образом, словесные формы были различны, зачастую столь ощутимо, что слова одного верующего нельзя было использовать для выражения веры другого или даже для выражения его собственной веры, но в других обстоятельствах. Нередко эти различия были столь серьезны, что провоцировали разногласия, споры и даже конфликты. Такая картина вырисовывалась все более отчетливо в процессе нашего исследования, обращались ли мы к языку провозглашения веры, ее исповедания, традиции, культа или же к тем аспектам веры, кото–рые выражены в служении, культе или таинствах. Итак, если мы убеждены в единстве христианства I в., то вряд ли можем усомниться и в его многообразии.
Необходимо также напомнить,
сколь многообразно то многообразие, наличие которого уже доказано. Когда мы сравниваем объединяющее начало христианства с убеждениями других современных ему религий и сект, то различия между ними очевидны и несомненны. Однако когда мы сравниваем разработанные концепции внутри христианства, когда мы говорим о христианстве, реально включенном в исторический контекст I в., когда мы рассматриваем различные способы выражения христианства I в. на общем религиозно–культурном фоне, то приходится признать, что его границы весьма расплывчаты и что трудно вычленить его отчетливый облик. Раннее иудеохристианство, например, не так уж сильно отличалось от иудаизма, из которого оно выросло; иудеохристианство, о котором мы знаем из писем Павла, очевидно, старалось сохранить максимально тесную связь с иудаизмом; и большинство иудеохристиан, описанных в Новом Завете, проявляют такое же желание сохранить преемственность с религией закона и избежать того разрыва, который сделал бы христианство чем‑то совершенно отличным от иудаизма. Если мы всмотримся в многообразие эллинистического христианства, перед нами предстанет та же картина. Миссионерские церкви в языческой среде часто включали в себя смешанные воззрения, подверженные гностицизирующему влиянию; они в принципе не имели четких идеологических границ (несмотря на крещение) для того, чтобы отделить собственные верования и религиозную практику от окружающих синкретических культов. И даже такие ключевые фигуры, как Павел и Иоанн, были открыты для таких способов выражения собственной веры в прославленного человека Иисуса, которые казались другим слишком рискованными, потому что задевали самые основы веры. Иначе говоря, даже если мы обратимся собственно к писаниям Нового Завета, границу (или лучше границы) между допустимым христианством и его соперниками провести не так уж легко, они были неотчетливы и непостоянны. Объединяющее начало остается вполне явным, но чем более оно разрабатывается, тем менее однозначным кажется. Более того, при сравнении, например, иудеохристианства и эллинистического христианства мы видим, что многообразие означает также и несогласие, и чем ближе мы подходим к расплывчатым границам каждого из них с окружающим миром, тем заметнее одно отдаляется от другого, тем острее становятся их взаимные противоречия. Что касается "восторженного" и апокалиптического христианства, то их вообще по определению нельзя втиснуть в какие‑то определенные рамки, ибо высочайшего накала набожность и страстность, свойственные этим двум типам христианства, почти неизбежно приводят их к той или иной крайности, даже если они сильно тяготеют к объединяющему центру. Конечно, с другой стороны, ранняя кафоличность уже начала очерчивать четкие и твердые границы, с тем чтобы определить понятие "веры" более точно и сохранить служение в его чистоте. Уже в I в. она стремится к закрытости. Однако пока речь идет о христианстве I в. и о Новом Завете, раннюю кафоличность следует рассматривать лишь как одну из составляющих того многообразия, которое было свойственно Новому Завету и христианству I в.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что
в христианстве I в. не было единой нормативной формы. Когда мы говорим о христианстве Нового Завета, то не имеем в виду какой‑то единый организм; скорее мы сталкиваемся с различными типами христианства, каждый из которых понимается остальными как слишком крайний в том или ином отношении, например христианство, слишком сильно держащееся за еврейские корни или, напротив, чересчур подверженное влиянию антиномической или гностической мысли и практики; слишком восторженное или, наоборот, стремящееся к большей организованности. К тому же все эти "типы" христианства не были одноцветными и однородными, скорее в каждом из них заключался целый спектр. Даже если мы обратимся к отдельным церквам, то получим такую же картину: многообразие способов выражения веры и особенностей жизни, постоянные трения между консервативным и либеральным, старым и новым, прошлым и настоящим, личным и общественным.
Короче говоря, если та отчетливая объединяющая нить, которая пронизывает Новый Завет и христианство I в., достаточно тонка, то многообразие чрезвычайно широко, и его внешние границы не всегда легко распознать. Да, это было некое вполне очевидное единство, но не ортодоксия ни в теории, ни на практике.
§76. Сохраняет ли канон свое значение?
Наиболее важный вопрос, вытекающий из всего вышеизложенного, — это вопрос о новозаветном
каноне. При взгляде на всю эту переполненную острыми противоречиями картину (минимальное единство, широчайшее многообразие) зададимся вопросом:
в какой мере сохраняется ценность канона? Если Новый Завет не является однородным собранием гармонично дополняющих друг друга писаний, можем ли мы вообще говорить о существовании "новозаветного учения" по конкретным вопросам? Не является ли выражение "Новый Завет говорит" бессмысленным, за исключением тех случаев, когда речь идет о центральном объединяющем факторе? Может быть, было бы правильнее говорить:
"Иисус учит",
"Павел говорит"
[693] и т. п.? Поскольку писания Нового Завета не говорят единым голосом, должно ли это снизить их авторитет в наших глазах? Ортодоксы более позднего времени пытались вывести кафоличное предание, обряд, литургию из начального периода христианства. Ответ сектантов заключался в том, чтобы следовать чистоте первоначальной церкви, незапятнанной послеапостольским падением. Сам Новый Завет не подтверждает целесообразность ни того, ни другого, но просто свидетельствует о многообразии и разногласиях в христианстве, начиная практически со времени его появления. Однако какова роль Нового Завета в качестве "канона", в качестве некоего критерия ортодоксии, в качестве нормы для христиан последующих поколений?
[694] Эти вопросы заслуживают дальнейшего, гораздо более глубокого обсуждения, чем то, которое представлено здесь. Все, что я смогу сделать, это отметить некоторые пункты, которые подчеркнут значение данного исследования для такого углубленного обсуждения
[695].
76.1.
Канон внутри канона. Для начала мы должны рассмотреть тот исторический факт, что ни одна из христианских церквей или групп в конечном счете не рассматривала все писания Нового Завета как одинаково канонические. Вопреки теории каноничности в действительности
все христиане имеют дело с каноном внутри канона. Всякий, кто часто читает свой Новый Завет, безусловно, подтвердит, что некоторые страницы более замусолены его пальцами, чем другие (сколько, например, прослушал среднестатистический прихожанин проповедей, посвященных Евр 7, а сколько — Мф 5–7 или Деян 2?). Все христиане, без сомнения, могут истолковывать неясные места в Писании с помощью ясных, хотя, конечно, те места, которые понятны одному, могут быть совершенно непонятны другому, и наоборот. Как мы помним, то же относится и к самим христианам I в., использовавшим некоторые фрагменты, наиболее ясно согласующиеся с их собственной верой и опытом восприятия Бога в Иисусе Христе, для истолкования других, лежавших в основе иудаизма при его зарождении (см. выше, §24). Едва ли покажется чрезмерным упрощением, если мы скажем, что (вплоть до недавнего времени) Римско–католическая церковь использовала в качестве канона Мф 16:17–19 и Пастырские послания
[696]; каноном для протестантского богословия, очевидно, были (более ранние) письма Павла (для множества лютеран "оправдание верой" было настоящим каноном внутри канона)
[697]; восточное православие и мистическая традиция в западном христианстве в основном черпали вдохновение из писаний Иоанна; пятидесятники же обращаются за подтверждением истинности своей веры к Деяниям. Для либерального протестантизма XIX в. каноном был (так называемый) исторический Христос, тогда как после Первой мировой войны многие христианские богословы сконцентрировали свое внимание на "керигме", а в самое последнее время некоторые пытаются ориентироваться на "апостольское свидетельство"
[698]. Мы должны помнить о том (и это, быть может, наиболее поразительный факт), что поскольку ранняя кафоличность была лишь одним из направлений в Новом Завете, то и
сама ортодоксия основана на каноне внутри канона, и при этом темные места у Павла или Иоанна (ср. 2 Петр 3:15–16) интерпретировались в соответствии с этим направлением (см. выше, §63.4). Хотим мы того или нет, все христиане всегда имели дело с каноном, существующим внутри новозаветного канона. Иначе и быть не могло, поскольку сам Новый Завет благоговейно хранит такое многообразие христианства I в. И неизбежно кому‑то должен представляться наиболее созвучным Павел, в то время как другой отшатнется от него и отдохнет с Иоанном, а еще кто‑нибудь в смущении от них обоих обратится к простоте Деяний или упорядоченности Пастырских посланий. Осознание того, что каждый на самом деле использует некий канон внутри канона, не должно вызывать стыд или смущение. Это лишь означает признание того факта, что нынешние христиане не менее многообразны, чем их собратья по вере в I в.
Но если мы допускаем, что каждый христианин имеет дело со своим собственным каноном внутри канона, то можно ли говорить о существовании какого‑то
одного канона, который был бы нормой для всех (как, например, "исторический Иисус" для либеральных протестантов или "оправдание верой" для множества лютеран)? Принимая во внимание многообразие Нового Завета, не следует ли считать
именно единство в Новом Завете каноном внутри канона? Мы склоняемся к тому, чтобы дать положительный ответ на этот вопрос, поскольку в первой части мы установили, что общим фокусом единства была вера в прославленного человека Иисуса, а во второй части пришли к осознанию того, что это ядро веры было не только центром единства, но также и обозначало пределы допустимого многообразия. Конечно, если Новый Завет продолжает иметь
какое‑то значение для сегодняшних христиан, то оно должно быть
не меньшим, чем значение этого канона внутри канона. Христианство начинается и в конечном счете зависит от убеждения в том, что в Иисусе мы по–прежнему имеем пример для наших взаимоотношений с Богом и друг с другом; что в жизни Иисуса, его смерти и жизни после смерти мы видим наиболее ясное и полное воплощение Божьей благодати, творческой мудрости и силы, которое когда‑либо актуализировалось в истории; что христиане принимаются Богом и способны любить Бога и своих ближних благодаря той же благодати, которая теперь осознается нами как соприродная Иисусу. Подобное убеждение (выраженное таким же или иным образом)
[699] должно явиться тем предельным минимумом, без которого христианство утрачивает какие‑либо характерные черты и становится пустым сосудом, куда люди могут вкладывать любое содержание по собственному выбору. Однако требовать какой‑то особенной разработки этого минимума в качестве определенной нормы, настаивая на одинаковой значимости дальнейших утверждений или конкретной словесной формы, значит, идти от объединяющего канона внутри канона к установлению канона, который охватывает только одно или два направления внутри Нового Завете, а не весь обширный комплекс новозаветных писаний в целом. Такой подход привел бы скорее к разъединению, чем к объединению. Он сузил бы границы допустимого многообразия значительно сильнее, чем это оправдывается самими каноническими писаниями
[700].
Кратко говоря, канон Нового Завета по–прежнему сохраняет свое значение, которое заключается в том, что
Новый Завет во всем своем многообразии по–прежнему несет в себе твердое доказательство существования объединяющего центра. Его единство канонизирует прославленного человека Иисуса, как канон внутри канона, а его многообразие удерживает нас от того, чтобы настаивать на расширении или изменении канона внутри канона (см. ниже, §76.5).
Дальнейшее размышление. Внимательный критик отметит небольшой, но важный сдвиг смысла в предложенном определении "канона внутри канона" от "прославленного человека Иисуса" к более разработанной формулировке в предпоследнем абзаце. Это сдвиг от христологии, сконцентрированной только на жизни, смерти и воскресения Иисуса к христологии, включающей в себя также Воплощение: от христологии Страстной Пятницы и Пасхи к христологии, в центр внимания которой попадает также Рождество. Мой ранний и более узкий взгляд на эту проблему отражал мое восприятие того, где следует искать изначальный импульс и точку опоры в самом раннем христианском богословии. Однако я удовлетворен тем, что я даже тогда признавал необходимость расширить внутриканоническую формулировку, так как с тех пор важность Воплощения в качестве фундаментального элемента в христианском богословии, и уже в Новом Завете, становилась для меня все яснее
[701].
Дело в том, что, если Страстная Пятница и Пасха — определяющий момент для христианской сотериологии, Рождество — определяющий момент для христианского богословия ("богословия" в самом узком смысле, как "понимания Бога"). Христианское учение о Воплощении начинается с осознания того, что Иисус показал нам, каков Бог; или, пользуясь более емкими выражениями, что Бог открыл Себя самым доступным для плотской человеческой природы способом в Иисусе и через него. "Определяющий" — значит "нормативный", а значит — "канонический". Между двумя христологическими моментами (между Рождеством, с одной стороны, и Страстной Пятницей и Пасхой, с другой стороны)
[702] существует напряжение, но это напряжение — основа христианского богословия. Нелегко поддерживать равновесие между этими двумя моментами (у православных существует тенденция придать большее значение Рождеству, у протестантов — Страстной Пятнице и Пасхе), но лучше преодолевать сложности с поддержанием равновесия, чем совсем его потерять. Именно целостность события Христа и составляет канон внутри канона, фундаментальный ориентир для характерных и отличительных особенностей христианства.
Важность момента Воплощения состоит в том, что он внутренне подразумевает
непрерывность — непрерывность по отношению к религиозному и культурному наследию самого Иисуса (иудея Иисуса, а не просто мессии Иисуса), и непрерывность по отношению к творению мира (Иисус — Премудрость Божья). Чрезмерное подчеркивание момента Страстной Пятницы и Пасхи перетягивает чашу весов в сторону разрыва традиции, с одной стороны, между Иисусом и первыми христианами, а с другой стороны, их иудаистическим наследием. Так начинается долгий путь, проходящий через Маркиона, и в конечном счете ведущий в Освенцим. В течение последних 50 лет я все больше осознавал исключительную важность того, что христианство не может осознавать
себя, не воспринимая себя в контексте своего иудаистического наследия, как в некотором смысле Израиля (подобно оливковому дереву в Рим 11:17–24)
[703]. Равным образом и слишком настойчивое подчеркивание момента Страстной Пятницы и Пасхи приводит к болезненно ощущаемому разрыву в преемственности между спасением и творением, почти такому, как если бы "новое творение" совершенно уничтожало бы "ветхое творение" (и заботу об этом ветхом творении). Такой путь ведет к гностицизму, к крайностям апокалипсического мировосприятия, милленаристическому фанатизму и современной болезни экологической безответственности. Более того, на карту ставится непрерывность между Иисусом и Богом. Без этой непрерывности (выраженной, в частности, в формулах Слова Божьего и Сына Человеческого) христианство теряет, и теряет из вида, свою самую фундаментальную отличительную черту.
Коротко говоря, все событие Христа в целом — это христианский канон внутри канона просто потому, что без него христианство утрачивает свое право на существование, свое основное определение, свой единственный фактор самовыражения
sine qua non.
76.2. Новый Завет сохраняет свое значение и в том, что он
признает ценность многообразия, канонизируя самые разные способы выражения христианства. Как отметил Э. Кеземан в своей уже процитированной выше лекции (см. выше, § 32.2), оказавшей особенно сильное влияние на экуменическую мысль:
новозаветный канон как таковой вовсе не образует фундамент единства церкви. Напротив, как таковой (то есть в том виде, в каком он доступен для историка) он создает основу для конфессионального многообразия[704].
Другими словами, канон важен не только потому, что он канонизирует единство христианства, но также и потому, что он
канонизирует многообразие христианства — не только либерализм Иисуса, но и консерватизм первых иерусалимских христиан, не только богословскую изысканность Павла, но и некритическую восторженность Луки, не только институционализм Пастырских посланий, но и индивидуализм Иоанна. Можно выразить это и иначе: несмотря на эбионизм, Послание Иакова получило место в каноне; несмотря на Маркиона, каноническими были признаны послания апостола Павла; несмотря на монтанизм, был признан каноническим статус Откровения. Таким образом, если мы всерьез принимаем канон Нового Завета, то необходимо столь же серьезно признавать и многообразие христианства. Нам
не следует стремиться к некому искусственному единству — единству, основанному на нашем собственном, особом каноне внутри канона или на сложном и запутанном переплетении преданий, — надеясь на то, что мы сможем как‑нибудь уговорить остальных последовать за нами, либо претендуя на монополию Духа, либо используя средства церковного шантажа. Никогда не было такого единства, о котором можно было бы по праву сказать, что оно укоренено в самом Новом Завете; единство великой Церкви в первые века было связано в большей степени с социальными факторами, чем с богословскими построениями, и могло найти себе богословское оправдание, лишь игнорируя или подавляя альтернативные, но столь же ценные способы выражения христианства (ценные с точки зрения различных форм христианства, сохранившихся в Новом Завете). Такая "ортодоксия" является, как правило, самой худшей из ересей, поскольку ее узкая, ограниченная окоченелость и нетерпимая исключительность — это несомненное и явное отрицание любви Божьей во Христе.
Признание канона Нового Завета означает утверждение многообразия христианства. Мы не можем призывать к признанию авторитета Нового Завета, если мы сами не готовы признать ценность
любой формы христианства при условии, что можно обоснованно утверждать ее укорененность в одном из направлений, составляющих Новый Завет. Иначе говоря, мы должны заново и всерьез прислушаться к формуле П. Мейдерлина (Peter Meiderlin), столь часто цитируемой в экуменических кругах:
В существенном — единство;
в несущественном — свобода;
во всем — любовь[705].
Подводя итоги этого исследования, надо отметить, что единственный способ воспринять его серьезно — это осознать, сколь
немного есть вещей, поистине существенных, и сколь
широки должны быть рамки допустимой свободы. Мы должны понять, что пример Рим 14 о "немощном" и "сильном", консервативном и либеральном, который мы упоминали выше (§ 19.5), должен применяться не только к вопросам поведения и предания. То есть мы должны осознать, что разные богословские утверждения и церковные формы, воплощающие в себе объединяющую веру в прославленного человека Иисуса или действительно исходящие из многообразия Нового Завета, являются аутентичными и ценными выражениями христианства, даже если они пересекаются и вступают в противоречие с некоторыми излюбленными положениями и формами, также исходящими из Нового Завета. "Консерваторы", которые хотят вывести четкие линии доктрины и практики прямо из центра в соответствии с принятой в их собственной традиции интерпретацией Нового Завета, и "либералы", которые хотят освободиться от всего, кроме центрального ядра, должны научиться
принимать друг друга как равных "во Христе", должны научиться
уважать веру и образ жизни друг друга как равноценные способы выражения христианства, должны научиться
приветствовать позиции и методы друг друга, утверждающие живое многообразие веры. Консерватору не следует осуждать либерала просто потому, что мнение последнего не согласуется с его собственным каноном внутри канона. И либералам не следует презирать консерваторов лишь за то, что последние склонны включать некоторые несущественные элементы в число своих собственных, личных существенных элементов (ср. Рим 14:3). Для сохранения своей значимости "канон" должен включать в себя
весь новозаветный канон; не следует путать интерпретацию Нового Завета, принятую в собственной традиции, с самим Новым Заветом, смешивать свой канон в каноне с собственно каноном
[706]. Все это имеет совершенно очевидные последствия для нашего понимания "зримого единства Церкви", однако попытка объяснить их здесь увела бы нас далеко за рамки настоящего исследования.
Кратко говоря, тот, кто признает авторитет Нового Завета, не может принять за основу для единства что‑либо меньшее, чем собственно новозаветный единый канон внутри канона; не можем мы просить и большего, не утрачивая уважения к
каноническому многообразию христианства[707].
Дальнейшее размышление. В общем и целом я испытываю удовлетворение от содержания этой части, целью которой было подорвать в читателе его чрезмерную уверенность в том, что он понимает этот предмет — и очевидно, что в немалом количестве случаев цель была достигнута. Закрепившаяся за мной ранее репутация "здравого евангелиста" была сильно поколеблена содержанием этой части книги, хотя я должен добавить, что резкое сокращение количества тех, кто считал меня "здравым евангелистом" более чем компенсировалось теми, кто испытал освобождающее в духовно зрелом смысле воздействие на них этой части (или книги в целом).
Такая трактовка широкими мазками не была задумана для призыва к переоценке христологических споров ранней церкви; подробнее разговор об этом пойдет в §76.3. В гораздо большей степени она была обращена к участникам экуменических дискуссий XX в. Одним из приятных моментов в течение 20 лет, которые прошли со времени написания "Единства и многообразия", было признание этой книги как значительного вклада в положительные решения в экуменических спорах
[708]. И в том же духе я бы хотел вновь подчеркнуть важность соображений, высказанных мной в §76.2, для экуменизма в
более широком смысле (в чем все более ощущается необходимость) включающем не только традиционные конфессии и формы существования христианства, но также и те формы, которые возникли и развились вне традиционных конфессий: межцерковные организации, домашние церкви, независимые церкви Африки и т. д. Если Деяния Апостолов действительно чему‑нибудь учат, так это тому, что Церковь должна следовать за Духом, а не ожидать, чтобы Дух следовал за Церковью.
В период времени после написания "Единства и многообразия" я также обнаружил, что концепция тела Христова, выработанная Павлом, а также его концепция Рим 14 (так условно обозначается мысль Павла, развитая им в Рим 14:1–15:6) — это тексты, оказавшие большое влияние на экуменическое движение. Тело Христово (как представлено в 1 Кор 12) — это
как раз и есть тот образец единства в многообразии, представленный в Писании, по которому следует строить взаимоотношения
между церквами, равно как и
внутри церквей; а также совет Павла слабым и сильным (консервативным и либеральным) в Рим 14 сохраняет свою ценность, также пока еще немногими осмысленную как средство решения проблем в меж–церковных и внутри–церковных взаимоотношениях и разногласиях
[709].
76.3. Одна из функций Нового Завета как канона заключается в том, что
он обозначает пределы допустимого многообразия. Как мы уже отмечали выше, в гл. XI и XII, уже в I в. были люди, которые полагали, что далеко не все проявления христианства должны восприниматься как равноценные. Уже в самом Новом Завете были четко обозначены пределы допустимого иудеохристианства и эллинистического христианства (см. выше, §§58.2,65.2). Также были определены характер и пределы христианской апокалиптики (§69.2), но, к сожалению, этого нельзя сказать о ранней кафоличности (§74.4). Критерий, который мы видели в этих главах, был по существу двойным: многообразие, отрицавшее единство веры в прославленного человека Иисуса, было неприемлемым; многообразие, которое подразумевало отрицание единства любви к собратьям по вере, было также неприемлемым. Другими словами, если отрицалось убеждение в том, что поклонение Богу было обусловлено Иисусом из Назарета и Его воскресением и осуществлялось теперь"через" Христа, то многообразие заходило слишком далеко; если отвергалось убеждение в том, что Тот, с Кем встречаешься при богослужении, не до конца един с человеком Иисусом, то многообразие также заходило слишком далеко; и наконец, там, где многообразие подразумевало отсутствие любви к тем, кто также призывает имя Христа, оно тоже заходило слишком далеко. Таким образом,
центр также определял и периферию.
Итак, поскольку Новый Завет не только свидетельствует о том, сколь многообразным было христианство I в., но также и показывает, где это многообразие утратило связь с центром, можно сказать, что Новый Завет выступает в качестве канона, определяя равным образом широту и границы слова "христианский". Конечно, признать Новый Завет каноном — это не значит просто ограничить сферу применения прилагательного "христианский" лишь тем христианством, о котором свидетельствует Новый Завет (см. ниже, §76.4); однако это означает, что всякий, кто претендует на название "христианин", но не может продемонстрировать свою сущностную преемственность и зависимость от Нового Завета (как в его единстве, так и в многообразии), уже тем самым делает свои претензии совершенно необоснованными.
О том, сколь нелегко оценить, какое многообразие приемлемо, а какое неприемлемо, можно судить, например, по тому, с какими трудностями были признаны каноничными, с одной стороны, Послание Иакова и Послание к Евреям, а с другой стороны, писания Павла и Иоанна. Иначе говоря, великая Церковь, сознательно прорисовывая более четко линии ортодоксии, испытывала затруднения именно с теми писаниями, которые исследовали границы христианства и размывали их в то время, когда пограничная территория была в гораздо большей степени "ничьей землей". По существу мы продолжим в трех следующих параграфах исследовать все тот же двойной критерий допустимого многообразия и трудности его применения: взаимодействию между единством и многообразием веры в Иисуса будут посвящены §§ 76.4 и 76.5; взаимодействию между многообразием и единством любви — § 76.6.
Дальнейшее размышление. Проблема, которой не было уделено достаточного внимания в "Единстве и многообразии", — это проблема самого канона Нового Завета, то есть вопрос о том, почему именно эти писания были признаны каноническими. Поскольку в нашем исследовании Новый Завет принимался в таком виде, в каком он существует сейчас, и при его обсуждении я придерживался этих установленных рамок, это не было тем вопросом, который я должен был бы или имел возможность бы задавать. Моя логика была простой: если это Новый Завет, и если этот Новый Завет считается "каноном", то как это отражается на его функции в качестве канона? Вопросы, возникшие даже из этой узко поставленной проблемы, казались мне достаточно сложными и требующими ответа сами по себе, без дальнейших рассуждений о том, что такое канон и почему он сложился таким, какой он есть.
Я сожалею об этом, поскольку вопрос легитимности и ограничений канона был предметом горячих дискуссий в науке XX в., когда его поставил с точки зрения истории религий ученый Вильгельм Вреде, на которого я ссылался в начале книги
[710]. С тех пор научная работа в этой области, в особенности, Хельмута Кестера, не позволила ученым конца XX в. избежать обсуждения этой проблемы
[711]. Сейчас она стоит еще острее, чем раньше, так как раньше при ее обсуждении всегда заявлялось, что признаком каноничности была древность: Новый Завет состоит из более или менее всех доступных христианских документов I в. Но сейчас такие заявления совершенно не состоятельны и не принимаются Кёстером и другими на основании того, что существуют евангелия и другие письменные исторические памятники очень древней традиции за пределами канона, имеющие такое же важное значение, как и канонические Евангелия, особенно Евангелие Фомы
[712]. Это вызов, от которого не следует уклоняться.
Я поднимаю сейчас эту проблему просто потому, что, как мне кажется, концепция канона и его функционирования, представленная в "Единстве и многообразии", в какой‑то степени дает ответ на этот сложный вопрос. Во–первых, если результаты изысканий в этой книге вообще все еще сохраняют свое значение, то из этого следует, что Евангелие об Иисусе, о том, кто был послан Богом, кто умер и воскрес "нашего ради спасения" более или менее с самого начала было каноническим. Оно определило и идентифицировало новую "секту назаретян". Оно дало каноническую форму письменным выражениям новой веры, включая, не в последнюю очередь, Евангелия. Но оно также предопределило, более или менее с самого начала, то, что было
менее чем адекватным в качестве выражения этой веры. Если и существовал документ Q, содержавший только речения, тогда он ценился как собрание поучений Иисуса среди ранних христианских церквей, хотя и не как альтернатива Евангелию. Аргумент в пользу того, что он был задуман именно в таком виде, что существовала "община Q", признававшая только такую форму учения Иисуса и ничего из Евангелия Страстной Пятницы и Пасхи, или что она была даже враждебной по отношению к такому Евангелию, — это научная гипотеза, путающая научные спекуляции с фактами и различия с противоположностями. Все, что мы можем утверждать с какой‑либо долей уверенности, — это (а) что единственная форма, в которой Q сохранилось, представлена в виде фрагментов Евангелия от Марка с его отчетливо выраженной темой страданий; и (б) что материал типа Q был впоследствии использован теми, кто
действительно рассматривал свою форму христианства как альтернативную по отношению к канонически представленному Иисусу (Евангелие Фомы). Не существует ничего, кроме воображения ученых и придуманных ими концепций, что позволило бы доказать более широкое представление о многообразии I в., чем то, на которое указывают сами писания, составляющие Новый Завет. И если и были группы более "радикальные", чем "ученики" в Деян 19:1–7 или "духовные" в 1 Кор 1–4, в таком случае можно утверждать, что все, что это означает, так это то, что уже в самые ранние годы Евангелие о жизни Иисуса, его смерти и воскресении вырабатывало средства доказательства неадекватности таких представлений, пределы допустимого многообразия. Что если Q когда‑нибудь будет раскопано в песках Египта? Не придется ли включить его в канон Нового Завета? Нет! Никогда! Уже в I в. было принято решение, что Q в таком виде, в каком оно существовало,
не должно распространяться; оно может существовать только инкорпорированным в форму Евангелия, как мы находим это у Матфея или Луки. Ничего из того, что с тех пор было открыто, ничто, кроме покоящихся на ложном основании спекулятивных реконструкций, не требует от нас пересмотра этого решения.
Во–вторых, нам не следует забывать о динамике процесса формирования канона
[713]. До сих пор еще иногда можно слышать мнения или предположения о том, что писания, включенные в Новый Завет, не функционировали в качестве канона до того момента, когда церковь объявила их каноническими. Это просто неправильное мнение о природе канона или, можно было бы сказать, проявление еретической формы "ранней кафоличности", опасность которой не была в должной мере оценена. Скорее нам следует признать, что существовали различные писания, которые произвели на своих читателей или слушателей такое сильное впечатление как созидающие церковь и укрепляющие ее, что они были сохранены получившими их людьми, которые их вновь и вновь перечитывали, размышляли над ними и распространяли среди все новых приверженцев новой веры. В посланиях Павла уже присутствуют намеки на нечто в таком роде. Иными словами, в них ощущалось формирующее, определяющее воздействие (каноническая авторитетность) с самого начала. Не все, что было написано главными проповедниками христианства I в., стало каноническим: например, некоторые из посланий Павла не сохранились; Q не сохранилось в таком виде, в каком было создано. Тот факт, что писания, вошедшие в Новый Завет,
сохранились, сам по себе свидетельствует о
de facto канонической авторитетности, которая признавалась за ними более или менее с самого начала. Коротко говоря, канон Нового Завета не столько был результатом постановления, сколько
признания. Писания, составляющие Новый Завет, были провозглашены каноническими, потому что за ними признавалась авторитетность с самого начала, и затем она только неуклонно возрастала в среде все более распространившегося христианства. Не Церковь определила Евангелие, а Евангелие определило Церковь.
76.4. Канон Нового Завета также канонизирует
развитие христианской веры и практики. Как
необходимость для веры в прославленного человека Иисуса, принимать новые формы в новых ситуациях, так и
способы постоянного взаимодействия между новозаветным свидетельством о Христе и меняющимся миром, в котором эта вера существует. Новый Завет показывает, что христианство всегда было живым и развивающимся многообразием, и предполагает некую норму для процесса истолкования и перетолкования.
Необходимость развития очевидна. Например, как мы видели выше, исповедание веры в
Иисуса как Христа в других обстоятельствах должно быть дополнено, а по существу заменено признанием Иисуса Сыном Божьим, в то время как в следующий раз жизненным выражением живой веры станет признание того, что Иисус Христос пришел во плоти, (см. выше, § 14.2). Кроме того, те, кто создал гимны, которые были использованы в Посланиях к Филиппийцам, к Колоссянам и т. д., очевидно, считали важным и необходимым развивать такой тип культа, который осмысленно говорил бы языком и в категориях современного умозрения. Затем мы видели, что иудеохристианство не было канонизировано именно потому, что эта форма примитивного христианства
не была способна развиваться. Другими словами, лишь
более развитая христология Матфея и Послания к Евреям противостояла
более примитивной христологии, сохраненной эбионитами. Точно так же более развитое исповедание воплотившегося Иисуса Христа в Первом послании Иоанна противостояло интерпретациям, которые могли бы быть выведены из менее ясного исповедания Его Сыном Божьим. В самом деле, ни один новозаветный документ не сохранил или не воплотил христианство, каковым оно действительно было в самом начале. Скорее все они показывают нам христианство в разное время и в разных местах и, следовательно, в различных и развивающихся формах.
Что касается того,
"как" происходило это развитие, то для начала необходимо пояснить две вещи. Когда я говорю о развитии, я не имею в виду развитие в Новом Завете как прямую линию, как одну форму развития, вырастающую из другой. Я не имею в виду идею Ньюмена (Newman) об эволюционном развитии, посредством которой формы доктринального развития могут быть объяснены как нечто, органически вырастающее из Нового Завета
[714]. Я не говорю, например, о том, что христологическое учение Иоанна о личностном предсуществовании Сына — это просто более глубокое понимание того, что всегда было истинным, явное выражение того, что имплицитно присутствовало в ранних формулировках (или с тем, что ортодоксальный тринитаризм соборов был просто неизбежным поступательным раскрытием того, что уже было неотъемлемой частью всего новозаветного богословия)
[715]. Это могло бы сделать Иоанна, или отдельную доктрину об откровении, или частную доктринальную формулировку настоящим каноном внутри канона скорее, чем нечто, исходящее из историко–критической экзегезы (см. выше, §76.1). Ибо если каноном является Новый Завет как таковой, то почему же ранние, менее развитые способы выражения веры не были одинаково нормативными, нормативными в своей крайней неуверенности, нежелании или отказе пойти по тому пути, которым так смело следовал Иоанн? Утверждение о том, что только одна форма развития в Новом Завете канонична, означает неспособность осознать многообразие форм развития в Новом Завете. Поистине утверждать, что только одна форма развития в Новом Завете канонична, значит, по сути
отрицать каноничность Нового Завета (где далеко еще не исключены элементы, неприемлемые для позднейшей ортодоксии) и переносить канонический авторитет на то
истолкование новозаветных писаний великой Церковью, которое создавалось с конца II в. и далее, — это уже не канон в каноне, это
канон вне канона. В новозаветной картине каждая форма развития похожа не на звено в цепи, но скорее на радиус сферы (или сфероида), образованной непосредственным взаимодействием между объединяющим центром и подвижной периферией. Иначе говоря, многообразие форм развития в Новом Завете подобно ветвям древа (часто, разумеется, переплетенным), растущим из ствола объединяющего центра. Однако
ничто в самом Новом Завете не подтверждает претензий на то, что только ветвь ранней кафоличности должна была стать основной (а тем более нормативной) линией роста.
Второе пояснение касается того, что Новый Завет выполняет функцию как канон, показывая нам,
как осуществлялось развитие, но не
что такое развитие. Если Новый Завет не поддерживает исключительную легитимность одной из форм последующего развития (кафолическую ортодоксию), то и не ограничивает легитимность лишь формами развития, реально сохранившимися на его страницах. Мы не должны абсолютизировать те конкретные формы христианства, которые оно принимает в новозаветных источниках; мы не должны делать Новый Завет законом. Новый Завет в качестве канона показывает, как объединяющий центр христианской веры многообразно выражал себя в многообразных обстоятельствах I в. Однако он не указывает, в какой именно форме христианство должно выражать себя в каких‑то конкретных или вообще во всех обстоятельствах.
Процесс развития может быть охарактеризован как
взаимодействие моей собственной или церковной веры в новозаветного Иисуса с моим или церковным восприятием многообразных вызовов и нужд, сталкивающихся с этой верой, стремящейся к современному выражению, или, говоря короче, как
диалог между историческим событием Христа и присутствующим ныне Духом. Христианство не может быть христианством до тех пор, пока оно не переживет и не выразит в своей повседневной жизни творческое напряжение между данностью исторического прошлого эпохи своего основания и жизненной силой присутствующего ныне Духа. Чем более мы верим в то, что Дух Божий вдохновлял пишущих Новый Завет, передавая слово Божье людям, жившим в 60,70,80 или 90–е гг. I в. от P. X., многообразно переосмысляя веру и стиль жизни в соответствии с многообразным окружением, тем более принятие новозаветного канона требует от нас быть открытыми для восприятия Духа, с тем чтобы таким же или сходным образом перетолковывать Слово Божье в XX в. Следовательно, принимая Новый Завет в качестве канона, мы сталкиваемся, например, с такими вопросами: если Евангелие от Матфея канонично, то кто, как не Матфей, зашел настолько далеко в том, чтобы представить отношение Иисуса к закону столь консервативным, и что можно сказать, исходя из такой каноничности, о тех, кто хочет остаться в тесном контакте со своей собственной религиозной традицией? Если Иоанн каноничен, то кто, как не он, был настолько открыт для диалога с зарождающимся (прото)гностицизмом, и что, исходя из этой каноничности, можно сказать о тех, кто стремится вести диалог с подобными учениями или (квази)религиозными философскими системами в XX в.? Если Откровение Иоанна Богослова канонично и сохраняет апокалиптическую эсхатологию как часть новозаветного христианства, несмотря на столь долгое откладывание второго пришествия, то что можно сказать о форме и характере христианской надежды в XX в.? Если Пастырские послания каноничны и показывают нам раннюю кафоличность уже в I в., то что говорят они о необходимости формы и структуры общины, о желательности или неизбежности растущего консерватизма в ее руководстве? Я должен, видимо, подчеркнуть, что под диалогом я имею в виду такой
диалог, в котором ни одна из сторон не диктует условия другой — ни прошлое настоящему, ни настоящее прошлому; это должно быть критическое взаимодействие между Новым Заветом во всей его "первовековости" и мною вкупе с церковью во всей нашей "двадцативековости", использующее при этом все средства историко–критической экзегезы, с тем чтобы сделать нас способными услышать слова новозаветных писаний, как они были услышаны их первыми читателями, сделать нас способными целиком ухватить смысл, вложенный в них теми, кто писал Новый Завет; но мы должны быть всегда готовы и к встрече с неожиданным Словом Божьим благодаря свидетельству Нового Завета, бросающему вызов нашим современным предубеждениям и предвзятости
[716].
Дальнейшее размышление. В исправленном издании 1990 г. я уже выражал сожаление по поводу того, как я выразил свою мысль в третьем абзаце в §76.4, поскольку, как я указал в новой сноске 44 в главе X, мое мнение о точности и мудрости классической тринитарной формулы на много изменилось в положительную сторону по мере углубления моего понимания предмета жарких споров о богословии Воплощения. А когда я столкнулся с разработкой
эволюционной модели развития христологии, предложенной моим прежним ноттингемским коллегой Морисом Кезеем (Mauris Casey), я обнаружил, что необходимо вновь вернуться к разработанной Ньюменом модели органического роста
[717]. Я думаю, что, хотя я выразил свои мысли тогда довольно неадекватно, они все же имеют определенную ценность, и здесь мы могли бы заново сформулировать их двумя способами.
Во–первых, мы должны признать особенность исторических обстоятельств и связанных с ними ограничений, в которых формулировались символы веры, с их стремлением к закреплению смысла события Христа. Разумеется, особенность исторических обстоятельств и связанных с ними ограничений присущи как самому событию Христа, так и его каноническим описаниям и оценкам. Мы вернемся к этой проблеме ниже (§76.5). Здесь главное, о чем я хочу сказать, состоит в том, что существовала тенденция абсолютизировать символы веры, как если бы они были не просто достаточными для того, чтобы выразить богословские концепции, но также и до такой степени окончательными, что никакое отклонение от них или изменение в них не дозволялось. Если неукоснительное следование букве Библии превращается в идолопоклонство по отношению к Библии, то неукоснительное следование букве символов веры превращается в идолопоклонство по отношению к ним. В каждом из этих случаев важно признать неадекватность человеческого языка для выражения божественной реальности. Если слова Нового Завета или символа веры лучше всего воспринимать как иконы, то есть как окна, позволяющие заглянуть в сферу божественного, тогда важно не превращать иконы в идолов. Никакие слова не подходят для этой задачи, включая особенные слова, используемые в символах веры Нового Завета и за его пределами. В каждом из этих случаев существует реальность, превосходящая человеческие возможности адекватного способа выражения, — Слово внутри слов и выражающее себя через слова. Это не означает (и в этом смысл поправок, которые я хочу внести в мои прежние формулировки), что любые или многие альтернативные формулировки могут претендовать на адекватность или долговечность в той же степени, как классические новозаветные или конфессиональные формулы. Напротив, как и в случае с каноном, их способ выражения идей о Боге и Христе подтвердил свое право быть самым адекватным и долговечным для христианства, и в этом заключается в значительной степени их авторитетность. Но они долговечны и авторитетны как, хотя и лучшие, но все же приблизительные формулы выражения божественной реальности, насколько мы смогли к ней приблизиться с помощью слов. Они не представляют собой саму эту реальность! Только тогда, когда мы научимся признавать историческую специфику и предварительный характер таких утверждений, мы сможем оценить их по достоинству.
Я пытался выразить что‑то подобное в заключении к главе II "Керигма или Керигмы?", и я выражаю сожаление о том, что я не развил эти мысли более полно в общем Заключении (главе XV). Основные мысли, проходившие там красной нитью, были следующие: (1) изначальная керигма не может быть найдена нигде в Новом Завете в ее первоначальном виде, а (2) только в развернутых формулах, соответствующим различным конкретным ситуациям, то есть (3) в разнообразных формах, которые они приняли в различных обстоятельствах и (4) различия в формулировках неотъемлемы от них, так как они возникали внутри различных ситуаций и в ответ на них. Из этого я заключил, что любая попытка найти единую, однажды и навсегда утвержденную объединяющую керигму (мы могли бы теперь добавить, символ веры) обречена на провал, так как конкретные ситуации всегда с неизбежностью требуют соответствующих более полных выражений общей идеи, и именно в этих более полных выражениях появляется многообразие, доходящее до степени различий и разногласий. В свою очередь, это означает, что по–настоящему экуменический подход к этой проблеме всегда предполагает необходимость признания некоторого "выхода за рамки", невозможность полностью сохранять контроль в каждой конкретной группе или традиции над основным Евангелием, каноном внутри канона, Словом, содержащимся в словах; а также следует принять неизбежность различий в проповедуемых, письменных и относящихся к церковной жизни формах Евангелия. Определяющим фактором объединения здесь может быть только послушание и преклонение перед непостижимой инаковостью Духа и Евангелия и дружелюбное принятие всех тех, кто участвует в этом послушании и преклонении.
Во–вторых, другой способ изложить проблему — это признать ту степень открытости, которую мы обнаруживаем в Новом Завете, открытость керигмы по отношению к возможности ее выражения по–новому, открытость канона внутри канона по отношению ко всевозможным новым способам выражения того, что определяет сущность явления, для встречи с конкретными проблемами и ответу на вновь и вновь возникающие вызовы. То, против чего я восставал в моих прежних формулировках, я бы теперь выразил по–новому как опасность слишком поспешного прочтения разработанных формул символов веры,
опасность преждевременной закрытости; иными словами, опасность слишком поспешного закрытия формул, которые могут возникнуть из Нового Завета, как будто бы те формулы, которые в действительности возникли из споров IV и V вв., не оставили никакой возможности для возникновения иных формул. Это направление мысли отчасти было стимулировано современными герменевтическими спорами и обсуждением проблемы того, в какой степени осознается (если не сказать "создается") смысл текста в процессе его встречи с читателем или слушателем. Я подчеркиваю, что я не отступаю ни на дюйм от моей убежденности в канонической силе события Христа как смыслоопределяющего и ограничивающего уровни смысла, которые должен признать
sensus fide ium. Однако я действительно хочу указать на важность того факта, что канон способствует и требует переформулирования керигмы и символа веры по–новому, и он всегда готов предоставить аргументы для их утверждения или отвержения.
76.5. В таком диалоге новозаветный канон незаменим, поскольку
только через Новый Завет мы полугаем доступ к прошлому, к другому полюсу диалога — к Иисусу, каким Его встречали на холмах и улицах Палестины, к первым встречам с воскресшим Иисусом, которые с самого начала стали определяющими для веры в Иисуса прославленного; другими словами, лишь благодаря новозаветному канону мы имеем доступ к исторической реальности Иисуса, представляющего Собой объединяющий центр христианства, к первому и безусловному свидетельству всей полноты события Христа.
Здесь мы должны вернуться к нашему разговору о каноне внутри канона (см. выше, §76.1) и точнее определить это понятие, ибо фактически прославленный человек Иисус и есть
Иисус Нового Завета: Он неотделим от Нового Завета, нельзя отбросить как шелуху различные новозаветные свидетельства о Нем, оставляя лишь с легкостью выделяемое "зерно" Иисуса. Другими словами, рассматривая Иисуса как центр, мы видим в Нем не канон
внутри канона, но, скорее, канон
благодаря канону, канон, который воплощен в Новом Завете и лишь благодаря ему может быть воспринят.
Нельзя считать Иисуса центром, не считая таковым и новозаветное свидетельство, ибо во всем, что касается Иисуса в истории и вере I в., мы всегда, подобно Закхею, стоящему позади толпы учеников, зависим от того, что сообщают ближайшие к нам в этой толпе о том Иисусе, Которого мы могли бы видеть и сами. Невозможно услышать Иисуса из Назарета иначе чем в словах Его последователей. Невозможно встретить исторического Иисуса где‑либо еще, кроме как в словах Нового Завета.
Все это, конечно, не означает, что тексты Нового Завета сами по себе становятся событием Христа. Как мы уже отмечали, они являются продуктом уже начавшегося диалога между событием Христа и присутствующим ныне Духом. Но без Нового Завета невозможно узнать Того, Кого мы ныне встречаем как Иисуса, невозможно узнать, каков Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Мы всегда встречаемся в Новом Завете с событием Христа, облеченным в частные формы и описанным языком, культурно и исторически обусловленным (именно поэтому и необходима историко–критическая экзегеза, именно поэтому это должен быть скорее диалог, чем фундаменталистское подчинение); но без Нового Завета у нас нет никакой возможности связать свою веру с событием Христа, у нас нет способов продвигать диалог веры для нас самих.
Сказанное мной не подразумевает и того, что слово Божье не может быть выражено и не выражается нигде, кроме как в этих сочинениях — иначе стала бы бессмыслицей христианская вера в Святого Духа. Откровение имеет место всякий раз, когда Бог встречается с нами. Но если Иисус является определяющим фактором для христианской веры, тогда, повторяю, Новый Завет необходим, ибо лишь через тексты Нового Завета мы получаем доступ к историческим событиям, включающим в себя Иисуса и начальную веру в Него — воскресшего. Если мы не распознаем здесь Иисуса и характер христианской веры, то у нас не будет никакого стандарта или определения, никакого критерия, чтобы распознавать Иисуса и характер христианства где бы то ни было.
Разумеется, именно по этой причине предания Нового Завета имеют нормативный авторитет, которым не могут быть наделены более поздние церковные предания(вопреки римокатолическому догмату), ибо Новый Завет — это первоисточник оригинальных преданий, чье истолкование и переистолкование и является целью диалога; Новый Завет — это первое комплексное изложение темы, а все последующее — лишь ее вариации. Поздние предания могут и должны, конечно, играть свою роль в диалоге, поскольку они демонстрируют, как развивался этот диалог в иные века и в других ситуациях, они предоставляют многочисленные примеры того, как надо и как не надо вести такой диалог. Но сначала надо вести диалог с оригинальными преданиями, ибо лишь они могут служить нормой аутентичности того, что мы называем "христианским", лишь они могут наполнить слово "Иисус" авторитетным значением. Я мог бы выразить это следующим образом:
только с Новым Заветом и без всей остальной христианской истории и христианской письменности у нас было бы более чем достаточно материала, который служил бы картой и компасом при продвижении христианства в неведомое будущее. Но со
всеми конфессиями, догмами, преданиями, литургиями церковной истории и без Нового Завета мы заблудились бы, не имея ясного представления о том, чем должно быть христианство и куда оно должно двигаться.
Дальнейшее размышление. Здесь опять мое евангелическое почтительное отношение к Писанию и очень протестантская подозрительность к Преданию проявились слишком резко. Я не намерен отступать от первого, что, как я надеюсь, ясно из того подчеркнутого внимания, с которым я отношусь к новозаветному свидетельству об Иисусе Христе,
действительном каноне для всей христианской веры, к Новому Завету как
по существу определению того, что есть христианство. Однако по отношению к Преданию я бы хотел немного пересмотреть свои взгляды, так как со времени последнего издания этой моей книги я пришел к более адекватной оценке двух факторов.
Один из них я уже упоминал. Я имею в виду мою возросшую положительную оценку мудрости и точности в текстах многих богословов, отцов и учителей церкви в истории христианства. Всегда слишком просто составить обобщенное и (следовательно, неизбежно) упрощенное описание того, что сказал тот или иной автор, и критиковать его, не пытаясь сделать усилие, необходимое для того, чтобы добраться до глубины его мыслей, иными словами, подвергнуть его очень поверхностной критике. А ведь даже беглого ознакомления с католическим или православным богословием достаточно для того, чтобы оно произвело сильное впечатление той серьезностью, с которой верующие этих традиций принимают предание церкви (или отдельных церквей), живут в соответствии с ним, в своей литургии и своем богословии. Более того, Ханс Георг Гадамер научил многих богословов тому, что интерпретатор не противостоит традиции, а в той или иной степени включен в нее, и его взгляды заранее предопределены традицией в его способе решения герменевтической задачи
[718]. Игнорирование традиции означает увеличение вероятности неправильной интерпретации. Несмотря на мое особенное подчеркивание того, что Новый Завет был в конечном счете не требующим свидетельства, что он был "самосвидетельствующим" в качестве канона, я едва ли могу игнорировать тот факт, что именно развитие великой церкви окончательно привело к признанию канонического статуса писаний, вошедших в Новый Завет, и что именно через это Предание (в форме вероучения или богослужения) Новый Завет дошел до нас.
Второй фактор заключается в том, что Новый Завет — сам по себе предание и результат живого предания, восходящего непосредственно к Иисусу и событию Христа как первому и основному
fons et origo. Действительно, в одном из смыслов группа текстов, вошедших в Новый Завет, — это выбор, откристаллизовавшийся в процессе живого предания. Осознание этого факта вновь предостерегает нас от абсолютизации этих конкретных форм, как если бы, например, то, что Павел написал для христиан Коринфа, было бы одинаково применимо с того момента во всякое время и на всяком месте, невзирая на различия обстоятельств. С другой стороны, это не умаляет авторитета Нового Завета, если мы будем помнить и принимать во внимание конкретные исторические обстоятельства, в которых возник каждый из текстов. Не следует забывать, что именно многообразие было канонизировано в Новом Завете в той же мере, как и единство канона внутри канона. Основная мысль, здесь, поэтому, состоит в том, что непримиримое противопоставление Писания и Предания просто противоречит историческим фактам, и интерпретация в таком духе не соответствует реальности.
Высказав все это, я, однако, хотел бы подчеркнуть два соображения. Одно из них касается важности роли Нового Завета как канона в контексте сложной структуры Писания–Предания. Если Предание также в той или иной степени нормативно, это не отменяет важной функции Нового Завета как "нормы, нормативной для нормы",
norma normans[719]. Здесь нам необходимо воздать должное исторической критике, ставшей неотъемлемой характерной чертой западного христианства со времени Возрождения. Именно историческая критика предотвратила "приручение" Нового Завета, восприятие его только сквозь призму предания. Именно она сделала для нас возможным критический подход к Новому Завету, то есть такой подход, который позволил нам критически относиться к нам самим и к нашим преданиям, к чему и был призван историко–критический подход. Один из великих примеров тому в последние 50 лет — признание того, что Новый Завет, воспринимаемый в его историческом контексте, не оставляет никакой возможности для какой‑либо формы христианского антисемитизма
[720]. Без такого дистанцирования нас самих от нашего предания, которое сделало возможным восприятие Нового Завета в его историческом контексте, вряд ли была бы возможна какая‑нибудь Реформация (а также и "Контрреформация"). Именно роль Нового Завета как канона внутри предания сделала возможной самокритику, поскольку Новый Завет служит по существу нормой, по которой мы всегда должны сверять наше вероисповедание.
Второе соображение относится к непреходящей важности исторического исследования всего, что относится к Иисусу и к новозаветному периоду. Уникальность новозаветного свидетельства об Иисусе Христе — историческая. Богословие Воплощения ставит в центр своего внимания историческую уникальность Иисуса, как личности в определенном времени и месте, в котором и через которого Бог явил Себя и свою спасительную цель с наибольшей ясностью и определенностью, то центральное событие, которое с христианской точки зрения не может произойти ни с какой другой личностью, ни в каком другом времени и месте. Вследствие этого у христианского богослова и интерпретатора этих основополагающих преданий нет другой возможности, как только исследовать эту историческую уникальность настолько полно, насколько это возможно. "Поиск исторического Иисуса", иудея Иисуса — не роскошь, без которой вера вполне могла бы обойтись, а необходимость для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в веру, и для понимания того, что она собой представляет
[721]. Верующий не может испытывать действенное влияние этой веры, не обращаясь за помощью к исторической критике, совершенствовавшейся на протяжении последних четырех веков.
Эти рассуждения не предполагают сделать церковь (или церкви) слишком зависимой от исследователей Нового Завета или того, чтобы придавать слишком большое значение богословам
[722]. Здесь имеется в виду именно церковная, а не индивидуальная ответственность. В рамках этой общинной ответственности у ученых и богословов своя особая роль, свой вклад (харизма), дарованный им для их работы в церкви, для нее и через нее. Именно тогда, когда церковь (церкви) оценит важность того, чтобы услышать и воспринять Евангелие в (или лучше через) его контексте I в., роли изучения Нового Завета будет отведено соответствующее место в ее (их) служении. Второе, но столь же важное следствие состоит в том, чтобы через своих квалифицированных учителей и ученых церковь (церкви) могла бы принимать участие в академических, теоретических и практических дискуссиях за пределами только церковных кругов, способствующих формированию нашей жизни в национальном масштабе. Церкви не следует воспринимать своих ученых только как катехизаторов; напротив, их задача, рассматриваемая в контексте исторических исследований, помогает им придерживаться определенной исторической дистанции, которая, в свою очередь, помогает как им самим, так и церкви оставаться честными и заслуживающими уважения в контексте интеллектуального поиска знания, истины и мудрости в более широком смысле.
76.6. Еще одна, решающая причина, по которой новозаветные тексты сохраняют свое значение в качестве канона, становится очевидной благодаря достигнутому нами в ходе настоящего исследования более полному пониманию той роли, которую играли эти тексты в многообразии христианства I в. — особенно усиленному приведенными выше (§ 11.3) соображениями о том, что по крайней мере некоторые из документов Нового Завета
служили для наведения мостов или выступали связующими звеньями между различными течениями в христианстве I в. Другими словами, признание их каноничности не значит, что они служили основополагающим документом для одного вида христианства в противоположность другим, но означает
скорее признание их миротворческого духа и того факта, что
при всем своем многообразии они поддерживали также и единство церквей I в. Таким образом, Матфей и Послание к Евреям не столько выражают воззрения иудеохристианской партии, сколько служат мостами между иудеохристианством в более узком понимании и иудеохристианством, в большей степени подвергшимся влиянию эллинистической мысли (см. выше, §§ 11.3,58.3). Сходным образом Марк и Павел, по–видимому, выполняют такую же функцию, удерживая вместе языческое христианство и иудеохристианскую диаспору. Конечно, некоторые тексты, в частности Послание к Галатам или 2 Кор 10–13, едва ли можно назвать миротворческими, но каноничность Павла в этом вопросе зависит не столько от какого‑либо одного послания (хотя Послание к Римлянам наиболее подходит для этой цели), сколько от всего корпуса писаний Павла (особенно если включать сюда Пастырские послания); ибо здесь, в этих тринадцати посланиях, охвачена вся сфера христианства — от апокалиптической восторженности до ранней кафоличности, от глубоких иудейских симпатий до искренней приверженности язычникам, от пламенного убеждения в непосредственности откровения до полного подчинения унаследованному преданию и т. д. Опять‑таки Деяния и Иоанн по–разному служат мостами между истоками христианства и теми ситуациями, с которыми оно столкнулось к концу I в., — Книга Деяний представляет собой попытку Луки соединить первоначальную восторженность христианства с возрастающим влиянием ранней кафоличности, а писания Иоанна служат мостом между "изначальным" учением и тем испытанием, которому подверглись иудеохристиане, встретившись с широким восточно–эллинистическим синкретизмом той эпохи. Даже Откровение можно рассматривать как мост в том смысле, что оно стремится сделать интернациональной еврейскую апокалиптику, чтобы она смогла послужить вместилищем чаяний всех христиан. Возможно, самое поразительное — в частности, с точки зрения трений, возникших в христианстве II в., — это функция, которую выполняет Первое послание Петра, поскольку его богословие, если принять традиционную точку зрения на его авторство, объединяет Павла и Петра.
Объяснение этих тезисов со всеми необходимыми деталями потребовало бы намного больше времени, чем то, которым мы располагаем.
Но, возможно, я должен все‑таки отметить, что эта объединяющая функция новозаветных текстов никоим образом не означает ни отрицания многообразия христианства I в., рассмотренного выше, во второй части, ни всей той широты многообразия, которая отражена в самих текстах Нового Завета. Те, кто исследует неясные пограничные области между христианством и конкурирующими религиозными течениями и языками вокруг него и кто стремится к тому, чтобы именно центральная вера в Иисуса определяла в каждом конкретном случае то место, где необходимо провести пограничную линию, также проявляют свою заботу о том, чтобы поддерживать тесные связи со своими братьями–христианами, желающими держаться подальше от этих пограничных областей. Именно потому, что новозаветные документы в целом одновременно демонстрируют подобное многоуровневое многообразие
и возводят мосты, связывающие и скрепляющие их между собой,
весь канон Нового Завета и может служить каноном для
всей церкви.
Здесь можно упомянуть и еще об одном весьма гипотетическом соображении. Если объединяющая ("мостостроительная") функция является основной причиной каноничности многих новозаветных текстов, то это, быть может, более четко объясняет, почему именно Петр стал центральной точкой единства великой Церкви, ибо
Петр был фактически человеком–мостом, который больше, чем кто‑либо, сделал для того, чтобы свести воедино все многообразие христианства I в. Иаков и Павел, две другие лидирующие фигуры в христианстве I в., слишком отождествлялись с их собственными "формами" христианства, по крайней мере с точки зрения христиан, находившихся на противоположном конце спектра. Петр же, как это показывает, в частности, антиохийский эпизод в Гал 2, одновременно заботился о том, чтобы сохранять связь со своим иудейским наследием, которую утратил Павел, и быть открытым к требованиям развивающегося христианства, чего недоставало Иакову. Иоанн мог выступить центральной фигурой, объединяющей крайности, однако, если писания, связывающиеся с его именем, отражают его собственную позицию, он был слишком большим индивидуалистом, чтобы играть такую объединяющую роль. Другие могли связать развивающуюся новую религию столь же или даже еще более тесно с ее основополагающими событиями и Самим Иисусом. Но никто из них, в том числе и остальные из числа двенадцати апостолов, видимо, не играл роли, которая была бы одинаково значимой для всех христиан (хотя Иаков, брат Иоанна, и мог бы составить исключение, если бы он уцелел)
[723]. Именно Петр стал центральной точкой единства для всей церкви — Петр, который был, вероятно, самым знаменитым среди учеников Иисуса; Петр, который, согласно самым ранним преданиям, был первым свидетелем воскресшего Христа; Петр, который был лидирующей фигурой в самом начале существования новой секты в Иерусалиме, но который помимо того заботился и о миссионерской деятельности, и, когда христианство расширило свои пределы и свой характер, он расширил свои взгляды вместе с ним ценой утраты лидирующей роли в Иерусалиме, и в результате он стал наиболее обнадеживающим символом единства этого растущего христианства, которое все сильнее и сильнее начинало осознавать себя Кафолической церковью.
Дальнейшее размышление, кажется, едва ли здесь нужно. Целью этой части было примиряющее рассуждение, и я удовлетворен ей такой, какая она есть, без оговорок и дальнейшей разработки (за исключением сноски 33). Окончательные выводы также могут оставаться такими, как они есть, без добавлений дальнейших размышлений.
76.7. Резюмируя, можно задаться вопросом о том, насколько осмысленной является концепция канона Нового Завета и имеет ли он некое постоянное значение? Я не пытался объяснить или защитить этот канон с точки зрения традиционной "апостоличности", поскольку я не думаю, что это можно сделать
[724]. Мы не можем игнорировать неопровержимые выводы научной школы исследования Нового Завета о том, что по крайней мере некоторые из новозаветных текстов были созданы не "апостолами", а составлены во втором, а то и в третьем поколении. И если идею "апостольства" расширить до концепции, скажем, "апостольской веры", это не особенно поможет, поскольку такая концепция стремится скрыть тот факт, что апостолы вовсе не проповедовали одно и то же учение и сильно расходились в некоторых важных вопросах. Я не утверждал и не собирался утверждать, что новозаветные тексты каноничны потому, что они были
более вдохновенны, чем другие и более поздние христианские писания. Почти каждый христианин, чьи сочинения были авторитетны в первых два века существования христианства, заявлял, что его сочинения обладают такой же вдохновенностью, о какой говорил апостол Павел применительно к своим писаниям
[725]. И я склонен утверждать, что, к примеру, Мартин Лютер и Чарльз Уэсли в ряде своих произведений были столь же, если не более, вдохновенны, чем автор Второго послания Петра. Разумеется, я не пытаюсь определять каноничность Нового Завета с точки зрения какой бы то ни было
ортодоксии, ибо мы пришли к несомненным выводам о том, что в I в. еще не существовало никакой реальной концепции ортодоксии и что с точки зрения более поздней ортодоксии сами тексты Нового Завета едва ли могут быть названы полностью "ортодоксальными". Я не могу углубляться здесь и в вопрос о границах канона, который неизбежно возникает, — следует ли, к примеру, исключить из новозаветного канона Второе послание Петра и включить туда Дидахе и Первое послание Климента, — ибо это вывело бы нас далеко за рамки настоящего исследования
36.
Тем не менее если признать здравыми те выводы, которые изложены на последних страницах, то Новый Завет действительно имеет некое постоянное значение в качестве канона. 1) Он канонизирует
единство христианства. Он воплощает в себе, несмотря на различные способы выражения, объединяющий центр христианства. Он показывает, сколь малым и сколь основополагающим является в действительности этот канон внутри канона. Поистине удивительно, что все
многообразие Нового Завета можно считать допустимыми интерпретациями события Христа — как Иакова, так и Павла, как Откровения, так и Пастырских посланий. 2) Новый Завет канонизирует
многообразие христианства. Он показывает, каким образом возможно существование различных, иногда даже опасно отличающихся друг от друга, способов выражения этой объединяющей веры. Он является постоянным коррективом более ограниченного, более узкого восприятия христианства любым индивидуумом и любой церковью. Всем, кто говорит о том, что существует лишь одна форма новозаветного христианства, что "только это и есть христианство", Новый Завет отвечает: "И это, и то также есть христианство". 3) Он канонизирует не только допустимое многообразие, но и его
пределы. Он признает Евангелие от Матфея, но не Евангелие эбионитов, Евангелие от Иоанна, но не Евангелие от Фомы, Деяния Апостолов, но не Деяния Павла, Апокалипсис Иоанна, но не Апокалипсис Петра. Если убеждение в том, что Бог встречает нас сегодня благодаря Тому, Кто был Иисусом из Назарета, отмечает исток и сердце христианства, то оно отмечает также и его границы. 4) Новый Завет канонизирует
развитие христианства и предлагает образец или норму "способа" развития, того, каким образом объединяющий центр должен вступать во взаимодействие с подвижной периферией, в частности, в точках давления или возможного расширения. Он показывает нам, сколь искренним и глубоким должен быть диалог между прошлым и настоящим, не позволяющий придерживаться форм или формулировок, которые не имеют смысла для современной ситуации, но и не разрешающий современной ситуации диктовать содержание и перспективы веры. 5) Значимость Нового Завета как канона состоит и в том, что
лишь благодаря ему одному мы имеем
доступ к событиям, определившим характер христианства. Портреты Иисуса и утверждения, касающиеся Иисуса, которые мы находим в Новом Завете, являются нормативными не сами по себе, но в том смысле, что только в этих портретах и благодаря им мы можем увидеть за ними человека, только в этих утверждениях и благодаря им мы можем встретиться с подлинной реальностью события Христа. 6) Новый Завет служит каноном и благодаря
миротворческому характеру многих своих текстов, каждый из которых поддерживает двустороннее напряжение не только между общим прошлым и частным настоящим, но также и между суммарной формой христианства и различными другими его формами. Новый Завет каноничен не потому, что он содержит целый массив отдельных текстов, документирующих или защищающих различные формы развития, характерные для I в., не потому, что он содержит поперечный срез "партийных манифестов" I в., но благодаря тому, что взаимосвязанный характер отдельных его составных частей удерживает их вместе в единстве многообразия, признающем верность общим принципам.
Конечно же, Новый Завет действует по–разному в каждой из этих ролей. Например, в 1) и 5) Иаков и Иуда ничего не добавляют к Евангелиям; но в 2) Иаков и Откровение были бы важнее, чем Лука, тогда как в 3) Послание к Евреям может быть более важным, чем Матфей. Или, опять‑таки, в 4) Послание к Галатам и Иоанн в большинстве случаев были бы, возможно, важнее, чем Пастырские послания, тогда как в 6) Матфей мог бы быть более полезным руководством, чем Послание к Галатам. Конечно, дело заключается именно в том, что лишь если мы осознаем все
многообразие функций канона, так же как и все многообразие новозаветного материала, то канон Нового Завета
в целом сможет сохранить свою жизнеспособность. Или, точнее, только если мы осознаем единство в многообразии Нового Завета, его многообразие в единстве, а также и то, каким образом они взаимодействуют друг с другом, то значение Нового Завета как канона сохранится.
Приложение
Единство и многообразие в Церкви: взгляд с позиции Нового Завета[726]
1. Введение
Экуменическое движение уже далеко продвинулось вперед; позади осталось наше первоначальное возбуждение по поводу того, что мы так во многом сходимся; позади и наша удовлетворенность общими формулировками, которые объединяют нас своей удобной многозначительностью. Уже довольно давно стоит другой вопрос — каковы
фундаментальные черты общности нашей веры и жизни, каковы общие элементы, лежащие не на поверхности, а в глубине, объединяющие нас вопреки различиям в традициях и в интерпретациях, которые (различия) мы по–прежнему считаем необходимым привносить в наши общие формулировки; каков общий фундамент, на котором возвышаются разнообразной формы здания всех наших традиций?
В решение этого вопроса могут внести свой особый вклад специалисты по Новому Завету — но только в том случае, если будут всегда помнить о двойственном характере новозаветных книг: с одной стороны, это источник исторических сведений об истоках христианства, с другой — это христианское Священное Писание. Позвольте мне немного остановиться на этом в надежде хоть как‑то оправдать выбор моей темы.
а) Мы обязаны использовать Новый Завет как источник исторических сведений о собственно земном служении Иисуса и о свидетельстве тех, кто составлял ближайшее Его окружение. И не потому, чтобы мы считали, что "оригинал лучше любой копии", или чтобы нам было особенно дорого то, что не без оснований называют "мифом о происхождении христианства", — но согласно логике нашего богословия боговоплощения. Мы ведь утверждаем, что Слово Божье нашло свое наиболее полное и ясное выражение в жизни Иисуса, и это — самое решительное выражение божественного откровения, какое только возможно или какое только имело место в человеческой истории. Утверждая это, мы со всей неизбежностью берем на себя задачу исторического исследования — и исторического исследования самого Нового Завета. Ведь Новый Завет — и это простой и непреложный факт — единственный из имеющихся в нашем распоряжении подлинный источник сведений по истории этого периода, периода наивысшего напряжения божественного откровения, единственный канал, по которому мы можем проникнуть к этой критической точке, к кульминационному моменту в истории Спасения. И как это всегда бывает в исторических исследованиях, нам придется признать различия в языке и фразеологии, в способе мышления и исходных посылках, в нравах, обычаях и общественных структурах между тем давним временем и нашим. И самое главное, нам придется помнить об исторической конкретности этого откровения — о том, что слова, донесенные до нас Новым Заветом, говорились в конкретных ситуациях и, как правило, не могут быть полностью поняты, будучи вырваны из своего исторического контекста. Как учение о боговоплощении не может обойтись без "копания в бытовых подробностях", так и экзегеза не может игнорировать историческую обусловленность и конкретность любого новозаветного отрывка.
б) В то же самое время Новый Завет является также и христианским Писанием. Рассматривать эти документы как исторически конкретные и обращенные к отдельным событиям — это только часть картины. Какую бы конкретную цель они первоначально ни преследовали, какую бы узконаправленную функцию ни
несли, исторический факт остается фактом: те, кому они были первоначально адресованы, восприняли их как нечто несравненно большее, чем относящееся к известному событию. По всей видимости, эти документы были с самого начала высоко оценены — надо полагать, именно потому, что в них увидели печать авторитета и значительности, превосходящих непосредственность имевшей место конкретной ситуации. В их голосе был услышан не просто голос некого Павла или некого Иоанна, но слово Божье. Другие письма и сочинения, написанные ранними христианами, до нас не дошли. Эти же оказались сохранены именно в силу того, что люди высоко оценили их непреходящую авторитетность. Канонизация играла весьма малую роль в присвоении авторитета, если его прежде не было. Она в гораздо большей степени была процессом подтверждения авторитета, который уже испытывал на себе и осознавал все более широкий круг церквей.
Для нас суть дела состоит в том, чтобы не разделять эти два аспекта Нового Завета. Мы не должны ограничивать смысл Нового Завета в целом или любого отдельного новозаветного текста его исходным, первоначальным значением. Слово Божье, услышанное через Новый Завет и пронесенное в разнообразных формах и разработках сквозь века, — это не просто повторение того, первого слова. Много было сказано помимо того, что содержится в самом Новом Завете, и для поверки всего этого существуют каноны. Однако мы не смеем также допускать и того, чтобы вычитанный из Нового Завета смысл оказался отделен от исходно заложенного в него смысла. Смысл, вложенный в свои слова первоначальным автором и услышанный его первыми читателями, был решающей побудительной причиной к признанию их канонического авторитета. И, что еще важнее, этот первоначальный смысл есть составляющая первого свидетельства, "апостольского свидетельства" того события, того откровения Христова, которое являет собой в истории сердцевину и основание христианства в целом. Этому первому свидетельству, при всей его исторической обусловленности и историческом релятивизме, непреложно суждено служить своего рода точкой отсчета, мерилом, "каноном" всякого смысла, впоследствии слышанного теми, кто признает этот канонический авторитет
[727].
Так вот, именно здесь может надеяться христианин — специалист по Новому Завету внести свой вклад в распознание голоса Духа в тех злободневных вопросах, к которым адресуется и Новый Завет. Дело не в том, чтобы библеист противопоставлял себя авторитетному учению церкви во всем многообразии его форм. Но как специалист по основополагающим документам, по "статьям конституции" христианства, христианин–библеист участвует в учительском служении церкви, и его задача, или призвание, или божественный дар состоит в том, чтобы напоминать церквам о фундаментальных чертах христианского предания, как они засвидетельствованы Новым Заветом. Оценивая правомочность притязаний на звание слова Божьего со стороны всех прочих писаний в наше время, мы должны признавать преимущественное право на наше внимание со стороны новозаветных писаний, поскольку именно из них более или менее непосредственно проистекают притязания всех прочих письменных документов на обладание авторитетом слова Божьего. И на того, чьим призванием всегда является как можно более полное проникновение в душу и предназначение этих писаний, возложена особая задача — напоминать всем тем, кто задействован в процессе такой оценки, о том, что говорили новозаветные авторы в своих собственных выражениях и в свои собственные времена.
Сказав все это, спросим себя: что же привносит Новый Завет в вопрос единства и многообразия в церкви? Что, в частности, привносит Новый Завет в наше понимание глубоких основополагающих структур, выражающих собой единство христианства и его многообразие?
2. Фундаментальное единство
В своей книге "Единство и многообразие в Новом Завете"
[728] я, к немалому своему удивлению, прихожу к заключению, имеющему отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Его можно выразить в таких словах. Новый Завет не обладает фундаментальным единством — если под таковым подразумевать некоторую признанную словесную форму, с последовательностью применяемую по всему спектру новозаветных документов. Но он обладает некой признанной сердцевиной, ядром общей веры, которая (сердцевина) нашла свое выражение в различных терминах, применяемых в различных контекстах, на которую нанизываются другие элементы веры и исповедания, — и в них, в зависимости от контекста, могут акцентироваться те или иные различные, а порой и вовсе противоречивые, черты. В начале заключительной главы (§ 75.1) я так подытожил это положение
[729]: "Центром единения" и "объединяющим элементом" в первоначальном христианстве являлось
единство исторического Иисуса и прославленного Христа, то есть убеждение в том, что, с одной стороны, вдохновенный бродячий проповедник из Назарета, Который исполнил Свое служение, умер и воскрес ради того, чтобы, наконец, объединить человека и Бога, а с другой — та Божественная сила, которая позволяет христианам молиться и с помощью которой они встретились с Богом и были приняты Им, — это одно и то же лицо — Иисус, человек, Христос, Сын Божий, Господь, животворящий Дух.
Я считаю, что так можно выразить и принцип "фундаментального единства" в Новом Завете
[730]. Попытаюсь сейчас вкратце повторить свой анализ — это имеет прямое отношение к нашему разговору.
Что подразумеваем мы под "фундаментальным единством" в Новом Завете? Что конкретно мы ищем? По каким признакам распознаем? Я могу предложить два возможных критерия; один берет начало по большей части в Новом Завете как источнике исторических сведений об истоках христианства, другой — в Новом Завете как Писании. В первом больший упор делается на слово
"фундаментальное": фундаментальное единство — это то, которым христианство было объединено с самого начала, имеющее отношение к историческому основанию христианства. В другом имеется несколько большая склонность к ударению на слове
"единство": фундаментальное согласие есть элемент, общий для всех новозаветных писаний, основополагающая вера или исповедание, подтверждаемые или воспринятые всеми новозаветными документами. Когда мы спрашиваем, какие элементы христианства обладают обоими признаками, тогда мы и продвигаемся к тому типу ответа, что я привел выше. Его можно свести к двум словам — "Пасха" и "Пятидесятница".
а)
Пасха. Трудно сомневаться в том, что воскресение Иисуса — самое сердце христианства — фундаментальное в смысле обоих вышеназванных признаков.
По этому вопросу в источниках имеется полная ясность. Как бы далеко по времени мы ни проникали, наиболее общим элементом веры и свидетельства является именно воскресение Иисуса. О нем — центральное утверждение уже достаточно хорошо сложившегося к тому времени обобщения, символа веры, приводимого Павлом в 1 Кор 15:3,5: "что Христос умер за грехи наши… и что Он явился Кифе, потом — Двенадцати…" Это выражение Благой вести, которое, как утверждает Павел, он получил сам, то есть, надо полагать, при своем обращении. Поскольку обращение Павла произошло не позже трех лет со дня смерти Иисуса, а весьма возможно, что и того раньше, это утверждение одним махом переносит нас во времена, на два–три года отстоящие от самого события. То, что вера в воскресение Иисуса принадлежит к числу наиболее ранних формулировок, к которым по праву может быть применен термин "христианские", подтверждается подобным свидетельством в других местах у этого же раннехристианского автора, Павла. Например, некоторые элементы символа веры различаются в Павловом письме к римским церквам — приводимые Павлом вероисповедные формулировки, не в последнюю очередь призванные уверить его читателей в Риме в том, что он придерживается той же веры, что и прочие апостолы. Большинство из них имеют центром воскресение Иисуса (КП):
…родившемся от семени Давидова по плоти, поставленном Сыном Божиим в силе, по духу святости, в воскресении из мертвых
(1:3–4);
Который предан был за согрешения наши и воздвигнут для оправдания нашего
(4:25);
Христос Иисус, умерший, но и восставший… Который пребывает по правую сторону Бога…
(8:34);
Потому что, если ты исповедуешь устами твоими Иисуса Господом и уверуешь сердцем, что Бог воздвиг Его из мертвых, ты будешь спасен
(10:9).
Нет необходимости далее иллюстрировать эту мысль. Эти и другие, ставшие уже традиционными, отрывки, обнаруживаемые в самых ранних из новозаветных писаний, служат несомненным доказательством тому, что вера в воскресение Иисуса составляет самый что ни на есть глубинный фундамент христианства.
Самое раннее исповедание, к которому приложимо название "христианское", есть утверждение, что "Бог воскресил Иисуса из мертвых" [731].
То же заключение сильно напрашивается, когда мы предпринимаем исторические исследования первых описаний Пасхи. Как бы ни оспаривали это иные новозаветные библеисты, трудно не прийти к заключению, что повествования об опустевшей гробнице Иисуса основываются на фактически существовавших исторических рассказах. И уж вряд ли кто‑нибудь усомнится в центральном утверждении, содержащемся в описаниях явлений Иисуса после воскресения, — в утверждении, что Его "видели" живым после смерти многие из Его первых учеников, — причем видели так, что, к своему удивлению, вынуждены были признать, что Он был "воскрешен из мертвых"
[732]. Даже самые скептические оценки этих свидетельств едва ли в состоянии не прийти к заключению, что христианство началось с "появлением пасхальной веры". Итак, в терминах исторических оснований не приходится сомневаться, что воскресение Иисуса — один из аспектов фундаментального единства в Новом Завете.
Подобное же получается, если окинуть взглядом всю совокупность новозаветных писаний. Кульминация каждого из четырех Евангелий — обещание или сообщение о явлении Иисуса после смерти, Иисуса, воскрешенного из мертвых. Книга Деяний Апостолов начинает свой рассказ о первоначальном росте и распространении христианства ровно с этого момента, и проповеди, содержащиеся в Деяниях, уделяют больше места утверждению Христова воскресения, чем чему‑либо другому. Утверждение, что Иисус был воскрешен из мертвых, находится в самом центре христианской вести — и это настолько самоочевидно, что, например, самую раннюю проповедь Петра можно резюмировать как "проповедание в Иисусе воскресение из мертвых" (Деян 4:2), а проповедь Павла в Афинах можно ошибочно принять за провозглашение двух новых божеств — Иисуса и Анастасия (Деян 17:18). Мы уже видели, насколько фундаментальным выглядело воскресение для Павла. Приведем только два примера. В цитировавшемся выше отрывке из Послания к Римлянам, 10:9, ясно видно, что для Павла вера в воскресение Иисуса и исповедание Иисуса Господом — суть две стороны одной медали, и, как хорошо известно, "Господь" — любимое Павлово именование Иисуса. А в Первом послании к Коринфянам, там, где приводится возражение утверждающим, будто "нет воскресения мертвых" (1 Кор 15:12), скоро становится ясно, что и здесь общей почвой под ногами становится вера в воскресение Иисуса: "А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (15:14).
Не слишком углубляясь в детали, мы можем просто заметить, что Первое послание к Тимофею и Первое послание Петра содержат аналогичные вероисповедные формулы, говорящие об Иисусе как о "праведнике за неправедных… воскрешенном духом" (1 Тим 3:16,1 Петр 3:18); что Послание к Евреям, хотя и использует совершенно иную образную систему, заканчивается благословением, в котором призывается "Бог мира, воздвигший из мертвых… Господа нашего Иисуса" (Евр 13:20); что Послание Иакова, несмотря на его не вполне выраженный христианский характер, тем не менее исповедует Иисуса как "Иисуса Христа нашего Господа славы" (Иак 2:1); что смысловым центром Первого послания Иоанна служит "свидетельство… что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его" (1 Ин 5:11); что апокалипсис Иоанна развертывается из видения — "стоял Агнец как бы закланный" (Откр 5:6).
Короче говоря,
если о чем‑то можно сказать, что оно проходит золотой нитью через все писания Нового Завета, так это об убеждении, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Заметим в скобках, что ни один из рассмотренных здесь материалов не дает сколько‑нибудь надежного основания становиться на ту скорее редукционистскую точку зрения, будто утверждение о воскресении было просто способом подтверждения того, что память Иисуса и Его учение никогда не умрут. В самом сердце этой составляющей фундаментального единства находится утверждение о том, что нечто случилось с
Иисусом, а не просто с Его учениками, вера в то, что Бог именно прославил Иисуса, а не просто сделал праведным их следование за Ним, что Бог теперь имеет дело с ними
"через" Иисуса, а не только "ради Него". Это подводит нас ко второй составляющей фундаментального единства.
б)
Пятидесятница. Христианство имеет в себе две фундаментальные побудительные силы: первая — христологическая, вторая — пневматологическая, то есть убеждение, что Бог дал Духа Своего новым, более полным путем, чтобы Он был метой народу Его, эсхатологическому народу Божьему, народу Божьему конца времен, нового века.
Как с Пасхой, так и с Пятидесятницей. Здесь, как и там, вам пришлось бы хорошо постараться, чтобы в результате исторического анализа не прийти к заключению, что движение, которому предстояло быть названным христианством, с самого начала характеризовалось осознанием того, что оно было въяве осенено Божьим Духом. Именно этим отличались последователи Иисуса от последователей Иоанна Крестителя — тем, что Иоанн крестил водою, а Иисус — Духом Святым. Это противопоставление приводится в начале всех Евангелий (Мк 1:8 и т. д.), а Лука идет и дальше и использует его в описании самого события пятидесятницы и в первом решительном прорыве к язычникам (Деян 1:5; 11:16).
Что касается самого описания пятидесятницы (Деян 2), то любое критическое научное изучение его признает, что оно как минимум хранит память о первом массовом экстазе или харизматическом опыте, испытанном первыми учениками. А если подойти к рассказу Луки со всей серьезностью, то самой ранней интерпретацией этого опыта было то, что Дух излился тогда во всей эсхатологической полноте — полной мерой, полной широтой: "И будет в последние дни… излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши…" (Деян 2:17). Вопреки некоторым ученым изысканиям по этому вопросу нигде не было заявлено иного времени или иного места рождения христианской церкви
[733]. Опыт пятидесятницы в Иерусалиме положил начало новому веку Божьего Духа, обновленному завету, договору, ратифицированному смертью Христа.
Историческая оценка важности этого первоначального всепоглощающего опыта божественного Духа для зарождающегося христианства идет рука об руку с признанием фундаментальной важности опыта Духа для христианского самосознания основных новозаветных авторов. То, что ближе всего подходит к определению христианина в Новом Завете, дается Павлом как раз в терминах "обладания Духом" и "водимости Духом": "Ежели же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его"; "Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий" (Рим 8:9,14). Тот же Павел описывает Духа как "залог" того, что Бог завершит свой труд спасения — иными словами, дар Духа есть начало процесса спасения (2 Кор 1:22; 5:5, Гал 3:3, Флп 1:6). Павлу же принадлежит метафора — "начаток" или "первенец", которую он равноценно применяет к обоим случаям — и к воскресению Иисуса, и к дару Духа (Рим 8:23,1 Кор 15:20,23) — воскресение Иисуса и дар Духа в равной мере суть начало жатвы всеобщего воскресения и гарантия ее завершения.
Говоря о Деяниях, нам достаточно будет просто заметить, что именно дар и излияние Духа служит решающим фактором в решении любого спорного вопроса о приеме новообращающихся в новое движение. Именно то обстоятельство, что Бог дал язычникам тот же самый дар, что Он дал апостолам в пятидесятницу, не оставляет Петру никакого выбора: как может он отвергнуть тех, кого принял Бог (Деян 10:47; 11:17)? У Иоанна настойчиво утверждается фундаментальный и отчетливо новый характер трудов Духа с христианской точки зрения. Он может говорить о Духе, что Его "еще не было" до того, как Его вслед за прославлением Иисуса приняли верующие (Ин 7:39). А в так называемой "Иоанновой Пятидесятнице" он использует глагол, показывающий, что он понимает приятие Духа как новый акт творения (Ин 20:22): Иисус дунул на Своих учеников, и это понимается как эсхатологический эквивалент божественного дуновения в акте творения (Быт 2:7)
[734].
И снова нам нет необходимости углубляться в вопрос; хотя ударение на Духа проводится на протяжении всех новозаветных писаний не столь последовательно, как ударение на воскресение, нам не составит особого труда доказать утверждение о том, что дар Духа тоже входит составной частью в фундаментальное согласие в Новом Завете (см., напр., Тит 3:5–7, Евр 6:4,1 Петр 4:14.1 Ин 2:20,27; 3:24, Иуд 19, Откр 1:4 и т. д.).
Опыт Духа Божьего, вера в то, что они испытали не что иное, как эсхатологически новое излияние Духа Богом, составляет часть наиболее основополагающей формации христианской веры, как она исповедуется новозаветными авторами.
Итак, если мы ищем фундаментальное единство в Новом Завете в двояком смысле, в смысле тех составляющих, что входили в христианство
с самого начала и
со всей последовательностью являют себя как
центральные для христианства на всем протяжении документов, из которых состоит Новый Завет, то мы должны начать с Пасхи и Пятидесятницы, с Христа и Духа. Более того, мы не должны упускать из виду то обстоятельство, что именно
явленное взаимоотношение между этими двумя фундаментальными составляющими лежит в самой сердцевине первоначальной ясности, отчетливости, отличительности христианства и его успеха. Именно итогом провозглашенного воскресения Христова стал, судя по всему, дар Духа. А дар Духа был воспринят как доказательство того, что Бог принял этот человеческий акт — акт посвящения себя Иисусу Христу как воскрешенному Господу. Дар Духа показал, что Бог подтвердил истинность Христа и принял к Себе посвятивших себя Ему. Опыт Духа получил свое определение ссылкой на Христа — как Дух Христа, Дух Сына, взывающего "Авва, Отче!" (в части., Рим 8:9,15, Гал 4:6).
Ведя экуменические разговоры, никогда нельзя забывать, что именно взаимоотношение и взаимозависимость доктрины и опыта суть то, что лежит в самой сердцевине фундаментального единства Нового Завета.
Разумеется, существуют и другие элементы, неразрывно входящие в связь между этими двумя фундаментальными составляющими. Например, в том, что уже было сказано, подразумевается, что
посвящение себя воскресшему Христу и было тем, что свело эти две составляющие вместе в раннем опыте веры; и это тот самый Иисус, о Котором говорится в евангельском предании, — именно Он и есть прославленный Господь. Еще и другие составляющие наслаиваются на эти две основополагающие черты и начинают проявляться, как только мы начинаем их распаковывать — или, говоря исторически, проявляются с тех пор, как первые христиане начали разбираться в том, что они значат в контексте миссии, направленной на иудея и язычника. Мы посмотрим на самые важные из них в следующем разделе. Но ни одна из них не кажется столь фундаментальной в своем исходном выражении, ни одна не проходит с такой последовательностью и настойчивостью через все новозаветные документы, как эти две. Эти же, Пасха и Пятидесятница, воскрешенный Христос и излитый Дух — составляют
неделимое ядро, исходную предпосылку всего остального, пробный камень, на котором испытывается христианский характер всех остальных.
Впрочем, имеется одно исключение — еще одно свойство первоначального и новозаветного христианства, которое только недавно всплыло в экуменических дискуссиях и которое заслуживает гораздо более пристального внимания, чем то, какого оно удостаивалось до сих пор — то, что, пожалуй, лучше всего описать как фундаментальную напряженность между христианством и его иудейскими истоками
[735]. И это подводит нас к нашей следующей теме.
3. Фундаментальная напряженность
В самой сущности христианства заложено то, что оно происходит от иудаизма I в. Иисус был евреем. Самые первые христиане были сплошь евреями. Христианство началось
изнутри иудаизма, из мессианской секты в рамках иудаизма. Оно воспринимало само себя не как новую религию, а скорее как эсхатологическое выражение иудаизма. Все это достаточно хорошо известно, и останавливаться на этом незачем. Но что не было должным образом оценено, так это то обстоятельство, что это фундаментальное отношение между христианством и породившим его еврейским чревом вызвало в христианстве напряженность,
напряженность, которая внутренне присуща христианству в силу именно этих его истоков. Это напряженность неразрывности и разрыва. Эта напряженность исходит из самого факта неразрывности и разрыва, из того факта, что неразрывность и разрыв должны поддерживаться одновременно и не могут быть разрешены по сю сторону эсхатона.
Я пытаюсь здесь выразить вот что: эта фундаментальная напряженность столь же фундаментальна для христианства, как и те составляющие фундаментального единства, которые мы уже рассмотрели. В
сердце фундаментального единства лежит также и фундаментальная напряженность, неизбежная и неразрешимая до тех пор, пока еврей и христианин идут каждый своим путем. Я постараюсь документально подтвердить это положение и продемонстрировать его важность, ссылаясь на составляющие фундаментального единства, обрисованные выше, и другие элементы согласия, быстро ставшие решающими для раннего христианства.
Воскресение и излияние Духа входят в чаяния Израиля, в его надежды будущего века (напр., Дан 12:2, Иоиль 2:28–32). Но даже и здесь возникает напряженность, ибо христианство утверждает, что эти чаяния уже осуществились, да и самое надежду интерпретирует в свете ее осуществления, уже имевшего место. Воскресение Иисуса как "единичный случай", а не как начало окончательного воскресения перед последним судом, как это, похоже, полагали первые христиане (Рим 1:4 — воскресение Иисуса приравнивается "воскресению мертвых"). Излияние Духа на некий ограниченный контингент "всей плоти", а не часть последних в истории кульминационных событий, отмеченных также и природными катаклизмами, о которых говорит Иоиль. Вот этот элемент — перетолкование чаяний евреев, — проистекающий непосредственно из опыта Христа воскресшего и Духа дарованного, как раз и создает напряженность не только между христианством и его материнской верой, но и внутри самого христианства как иудаизма исполнившегося. Это напряженность между "уже" и "еще нет"
[736], напряженность исполнения лишь частичного, неразрывности, в которой содержится разрыв, достаточно глубокий для еврейского наблюдателя, дающий ему достаточное основание задаться вопросом: а исполнение ли это в конце концов?
Иными словами, для того, чтобы почувствовать смысл своего фундаментального единства, христианство должно осознать эти две базисные составляющие христианской веры как эсхатологическое исполнение чаяний иудеев. Но, утверждая это, оно должно перетолковать эти чаяния в свете того, что на самом деле произошло в Пасху и в Пятидесятницу. Проблема задержки парусии, все удлиняющийся интервал между первым и вторым пришествиями Иисуса — просто выражение этой фундаментальной черты христианства. И то же можно сказать о проблеме формулирования удовлетворительных доктрин святости, христианского совершенства, полноты Духа и так далее — в то время как христиане начали с утверждения, что они
уже перешли в новый век, уже причастны новому творению, уже вкушают Духа, излившегося в эсхатологической полноте.
Эта эсхатологическая напряженность внутренне присуща христианству, каким мы встречаем его в Новом Завете. Каковы ее последствия для выражения фундаментального единства — об этом надо еще думать и думать. Что еще более поразительно, так это то, что стоит нам расширить область фундаментального единства за пределы Пасхи и Пятидесятницы, как оказывается, что та же напряженность между неразрывностью и разрывом с иудейской матерью христианства от него неотделима и непреодолима. Объяснюсь.
а)
Христианство и народ Божий. Вера в то, что христианство есть продолжение и эсхатологическое исполнение Израиля, народа Божьего, широко распространена в Новом Завете; это убежденность в том, что верующие во Христа, язычники равно как и иудеи, составляют обновленный, или даже попросту новый Израиль. Особенно важно это для Матфея, Павла и Послания к Евреям, а также заметно выражено в различных формах в писаниях Луки, в четвертом Евангелии, Первом послании Петра и Книге Откровения. Но разрыв, или, говоря исторически, разлад появляется с утверждением, что язычники входят составной частью этого нового Израиля просто в силу своей веры в воскресшего Христа. В этот момент напряженность вступает в самое сердце нашего понимания народа Божьего
[737]. Кто это — "народ Божий"? Те, кому был дан завет патриархов? — завет, или "призвание", по словам Павла, "непреложные" (Рим 11:29). Или только те евреи, которые верят в Иисуса как в Мессию? А если язычники входят в него чисто верою, то как быть с евреями, которые (пока) не верят в Иисуса как в Мессию? Эта напряженность не находит своего разрешения в Новом Завете, несмотря даже на старания Павла (Рим 9–11), и ей суждено было разродиться антисемитизмом, этим позорным пятном на теле христианской истории. Она не разрешена и поныне, потому что находится в самом сердце христианства.
Крупнейший раскол в истории спасения — не между католичеством и протестантством, не между Востоком и Западом, а между иудаизмом и христианством. Даже если все наши теперешние экуменические усилия окажутся успешными, эта напряженность не разрешится. Даже на уровне фундаментального единства вопрос о том, как относятся друг к другу иудей и христианин в контексте Божьего промысла, остается открытым.
б) То же самое верно по отношению к
Писанию. Фундаментальный парадокс, таящийся в самом сердце христианства, состоит в его утверждении, что Ветхий Завет входит составной частью в корпус его Священного Писания. Нет нужды доказывать документально степень неразрывности, поддерживаемой Новым Заветом с Ветхим. Пусть даже, в виде исключения, Иоанновы послания ни разу не цитируют из Ветхого Завета, все равно несомненно, что последний представляет собой фундамент новозаветного богословия
[738]. Но и здесь факт разрыва между иудаизмом и христианством не только не может остаться незамеченным, но даже и проявляется особенно резко. Дело в том, что христианство воспринимает в себя иудейское писание очень избирательно. Ссылаясь на Пасху и Пятидесятницу новые, со все большим преобладанием в них язычников церкви пренебрегают целыми частями Ветхого Завета. Законы о жертвоприношении, занимающие центральное место в Пятикнижии, отбрасываются. То же происходит с законами о пище и даже с одной из десяти заповедей — законом субботы. То же — и это, может быть, самое поразительное — происходит с законом обрезания, несмотря на то что он был дан Аврааму в знак Божьего завета с ним, "завета вечного" (Быт 17:11–13). Эта тяга к Ветхому Завету как к Писанию с одновременным отбрасыванием столь многого из этого самого Писания порождает внутри христианства напряженность, которая так и не была разрешена — и, право же, не будет разрешена до тех пор, пока иудей и христианин не объединятся в общем поклонении единому Богу. И это не всё; воспринять столь много глав как Писание за счет игнорирования их очевидного смысла — значит узаконить свободу толкования, чреватую опасностями для нашей собственной интерпретации не только Ветхого Завета, но и Нового. И опять в самом сердце христианства обнаруживаются вопросы, не допускающие простого и окончательного ответа.
в) Нечто подобное можно сказать и относительно
богослужения и обряда. И здесь тоже для новозаветных авторов характерно ощущение эсхатологической новизны, новизны будущего века — реальность поклонения и богослужения, преодолевающих формы и структуры былой эпохи и принадлежащих эпохе духовной непосредственности. Богослужение уже не является принадлежностью священного места, Иерусалима например, но поклонением в Духе и истине (Ин 4:20–24). Это — поклонение как совместное, соборное действие, одно тело в богоданном единении и взаимозависимости (1 Кор 12, Рим 12, Еф 4). Поклонение не принадлежит уже старому веку, когда священник должен из года в год приносить известные жертвы, но новому — когда каждый молящийся может непосредственно предстать перед лицом Бога, а священником и посредником выступает один лишь Христос (Евр). Священническая фразеология по–прежнему в ходу, но в ее эсхатологическом исполнении — христианское молитвенное собрание как единое целое — это "священство святое… царственное священство" (1 Петр 2:5.9, Откр 1:6). О жертвоприношении и священническом поприще говорят на том же языке, но это уже жертвоприношение каждого отдельного христианина в контексте повседневных общественных отношений (Рим 12:1)
[739], это поприще — уже посвящение себя служению, каковым бы это служение ни было, как говорит об этом Павел, описывая служение свое и Епафродита (Рим 15:16, Флп 2:17, 25).
В этом случае напряженность выражается в том обстоятельстве, что, несмотря на постоянно подчеркиваемый Новым Заветом разрыв с формами иудейского богослужения, уже скоро после этого христианство начинает во все большей и большей степени возвращаться к принципу преемственности, или неразрывности, заново вбирая в себя те категории священства и жертвоприношения, которые оставили в стороне новозаветные авторы. И тут неприятный долг библеиста состоит в том, чтобы задать вопрос: не было ли новое принятие чина священства, по своей сущности отличного от священства всех верующих
[740], знамением роковой утраты того эсхатологического взгляда, что имеет столь фундаментальное значение для новозаветного христианства? Или, формулируя еще острее: не сочли бы новозаветные авторы возрождение такого чина священства, более напоминающего чин Аарона, нежели Мелхиседека, возвратом к тому, что Послание к Евреям, безусловно, считает веком тьмы и несовершенства? Очень похоже на то, что в этом вопросе напряженность сосредоточена вне Нового Завета, ибо в нем разрыв обозначен гораздо более отчетливо, чем неразрывность. Или, по–другому, похоже, что напряженность тут лежит где‑то между Новым Заветом, с одной стороны, и христианским преданием, как оно развивалось позже, — с другой. Не сочтите слишком смелым для протестантского библеиста, читающего лекцию в Риме, утверждение о том, что любая попытка христианства прийти в истинное соответствие с эсхатологическим характером своих истоков не может обойти вниманием именно этот вопрос, не может избежать глубоких размышлений о том, как соотносится концепция и практика служащего священства с концепцией и практикой служения всего народа Божьего
[741].
г) Нечто подобное можно сказать и относительно других фундаментальных черт раннего христианства. Например,
"оправдание верою". Как указал четверть века назад Кристер Стендаль (К. Stendahl), выражение "оправдание верой" стало другим способом сказать, что язычников, в той же мере полноты, как и иудеев, Бог через Христа принимает как детей Своего народа
[742]. Как провозглашение спасительной Божьей благости оправдание верой по сути входит в наследие, доставшееся христианству от Ветхого Завета (в частности, Псалтири и Второисайи). Но в своей отличительности в качестве христианской доктрины оправдание верой возникло в точности на стыке иудеохристианской неразрывности–разрыва. Точно так же более поздняя напряженность между лютеранами и католиками по вопросу о вере и делах коренится в напряженности, вызванной раннехристианским перетолкованием завета с Израилем — напряженности, присутствующей уже в Новом Завете между Павлом и Иаковом, напряженности, неизбежной в рамках христианства в силу того, что корни его — в откровении, данном Израилю.
Следует заметить, что вытекающая отсюда напряженность акцентируется на том, что
заповедь любви в христианской этике занимает центральное место. Полемика между иудаизмом и христианством состояла не в том, является ли заповедь "возлюби ближного как самого себя" правомочным резюме закона, управляющего взаимоотношениями людей. В иудаизме нашлось бы много таких, которые согласились бы с Иисусом и Павлом, что Лев 19:18 обобщает именно такие общественные отношения, а "ближним" может быть и язычник. На деле спор шел о том, является ли достойным проявлением любви к ближнему только приведение его под сень закона
[743], или ее можно предоставлять ближнему безо всяких условий. В этом коренится имевшаяся внутри христианства в XII в. напряженность между старомодным "евангелическим" евангелием и так называемым "общественным евангелием".
Сюда же мы можем включить даже и
учение о Боге. Напряженность внутри христианского понимания Бога возникает именно в силу неодолимой потребности для христиан придавать откровению Христа присущую ему значимость — но
в рамках иудейской доктрины единого Бога
[744]. Христианское учение о Троице — не столько разрешение напряженности, сколько способ жить с ней, эвристическое определение Бога, признание того, что тайна Бога не может уместиться в узких рамках неадекватных человеческих формулировок. Христианское учение о боговоплощении возникло как способ утверждения, что самооткровение Божье приняло решительное и окончательное выражение не в письменной Торе, но в лице человека, Иисуса Назорея, и это откровение допускает гораздо меньше возможностей для сведения его к любой конкретной словесной форме.
д) Наконец, назовем два (неоспоримых)
таинства. Здесь мы находимся ближе всего к составляющим фундаментального единства, ближе, чем где‑либо еще в Новом Завете. Действительно, крещение во имя Христа было, судя по всему, сугубо христианским элементом с самого начала и воспринимается новозаветными авторами как нечто само собой разумеющееся. Далее, слова, сказанные Иисусом в ночь, когда Он был предан, хранились, как святыня, передавались от одного к другому, сохранялись в памяти, повторялись регулярно — и тоже с самого начала. Но и здесь невозможно избежать фундаментальной напряженности, вызванной иудейским происхождением христианства. Является ли крещение, как обрезание, метой семейной, племенной или национальной принадлежности? Или это эквивалент обновленного завета, лучше характеризуемый как "обрезание сердца", пятидесятничный дар Духа, данный по вере в воскресшего Христа?
[745] Напряженность, которой все еще подвержено христианское понимание крещения, особенно в том, как оно соотносится с верой, рождается из непрерывности–разрыва обновленного завета со старым и как таковая неотвратима. Далее, как соотносится вечеря Господня с пасхальной трапезой и с застольным содружеством, которое было такой яркой отличительной чертой служения Иисуса, служения, не в последнюю очередь, среди "мытарей и грешников"?
[746] До какой степени являются напряженности, которым до сих пор подвержено наше понимание евхаристии, прямым результатом нашего абстрагирования ее от первоначального контекста — трапезы — и подгонки ее к обряду священника и жертвоприношения? И снова возникают вопросы, кажущиеся неизбежными в силу фундаментальной напряженности, возникающей из иудейских начал христианства.
Резюмирую:
в самом сердце фундаментального единства, которое мы находим в Новом Завете, мы находим также и фундаментальную напряженность. Христианство осознает себя в неразрывной преемственности с ветхозаветной верой и иначе осознавать себя не может. В то же время оно вынуждено идти на ту или иную степень разрыва с Ветхим Заветом — для того, чтобы придать смысл своим специфически христианским утверждениям; в частности, утверждая исполнение Ветхого Завета, оно трансформирует одни базисные иудейские категории и упраздняет другие. Эта неразрывность и этот разрыв суть силы, тянущие христианство в разные стороны и создающие внутреннюю напряженность, являющуюся его частью. Напряженности, которые в последующих поколениях грозили разорвать христианство на две, или более, части, были в нем изначально. Они внутренне присущи христианству как порождению иудаизма, каким он был до Христа.
Кратко говоря, когда мы поднимем глаза и посмотрим дальше, за коренные составляющие фундаментального единства, мы по–прежнему окажемся на фундаментальном уровне христианского самоосознания. Но при этом мы обнаружим, что это самоосознание включает в себя напряженность, которая пронизывает христианство насквозь, поскольку связана с незавершенным диалогом с иудаизмом, из которого оно выросло, неразрешенной двусмысленности, неоднозначности в продолжающихся отношениях христианства с иудейским Писанием, верой и народом, свидетельствовать перед которым оно призвано. Отсюда, мне кажется, ясно следует, что, пока этот диалог не завершен, пока эта двусмысленность не разрешена, нет христианству надежды достичь окончательного выражения своей веры и своего поклонения как народа Божьего.
Это подводит нас к последнему из главных разделов.
4. Фундаментальное многообразие
Феномен фундаментального многообразия в Новом Завете является прямым следствием тех двух отличительных черт, на которые мы уже обратили свое внимание. Одна — это многообразие ситуаций и сугубо человеческих контекстов, в которых евангельская весть изначально нашла свое выражение, и то обстоятельство, что каждое выражение евангельской вести было в той или иной степени обусловлено и сформировано своей конкретной ситуацией и контекстом. Многообразие выражения явилось неизбежным следствием этого. Другая черта — это только что описанная и проиллюстрированная фундаментальная напряженность; впрочем, последняя служит фактором многообразия не во всех случаях одинаково. Но и та, и другая черта суть, конечно же, следствие того непреложного факта, что любая попытка говорить о Боге обречена быть паллиативом, любая попытка заключить божественную реальность в рамки человеческой речи и человеческого поведения неизбежно — пусть в большей или меньшей степени, но неадекватна, сколь "адекватной" мы бы ни считали ее для практических целей общего вероисповедания и богослужения.
Это справедливо даже относительно наших
нормативных установок, находись они в Новом Завете или где‑либо еще. Как я указывал в "Единстве и многообразии в Новом Завете", не существует единственной формулировки
Благой вести, которая бы оставалась неизменной во всем Новом Завете. В различных контекстах и у разных авторов мы находим Благую весть, выраженную в различных формах, содержащую различные элементы. Пасха и Пятидесятница сохраняют большее или меньшее постоянство — призыв к вере в воскрешенного, сопровождаемый обетованием Духа. Но даже и они выражены по–разному. Чтобы достичь всеобщности формулировок, нам пришлось бы
отвлегъся, абстрагироваться от многообразия форм и резюмировать их в словах, которые, может быть, вовсе не были использованы новозаветными авторами. Даже слова "Пасха" и "Пятидесятница" служат такими лозунгами–абстракциями. Мы можем достаточно уверенно говорить об одной и той же евангельской вести, находящей свое выражение во всех этих конкретных возвещениях, но в то же время мы должны принять горькую правду — окончательного или окончательно определенного выражения этой вести не существует
[747].
Многообразие в пределах Нового Завета можно продемонстрировать без особого труда. Например, сам факт наличия
четырех Евангелий. Ни один из связных рассказов о жизни и служении Иисуса, о Его смерти и воскресении не был признан достаточным. И это многообразие достаточно широко и достаточно гибко, чтобы содержать, к примеру, два характерно различных изображения отношения Иисуса к закону — у Матфея и у Марка. Марк может спокойно допустить, что своим словом и делом Иисус подорвал или даже упразднил целый пласт закона (о чистой и нечистой пище — Мк 7:15; 18–19). Матфей же, напротив, считает необходимым изобразить Иисуса отрицающим всякое намерение такого рода (Мф 5:17–20)
[748]. Здесь фундаментальная напряженность со всей силой работает в строго противоположных направлениях — потому, надо полагать, эти Евангелия были адресованы двум совершенно разным группам христиан, которые различались также и в своем понимании и использовании закона, но
и та и другая могли искать в этом вопросе руководства в служении Иисуса.
Другим примером могут служить различные концепции
апостольства в рамках Нового Завета. Единогласно утверждается, что апостольство установлено воскресшим Христом в краткий период Его появлений после смерти (Деян 1:21–22,1 Кор 15:8). Но затем многообразие проявляется все отчетливей. Павел считает сутью апостольства успешное создание новых церквей (1 Кор 9:1–2) и, как следствие, может говорить о каждой церкви как об имеющей своего собственного апостола, то есть того, кто положил начало ее существованию (1 Кор 12:27–28). Более того, он считает, что власть апостолов ограничивается рамками данных им свыше полномочий, заключена в той сфере, на которую они назначены (2 Кор 10:13–16, Гал 2:7–9), так что он и не думает использовать свой апостольский авторитет в Иерусалиме, тогда как яростно сопротивляется ущемлению его на своей собственной территории
(Гал 1:6–9, 2 Кор 11:1–15). Лука же, похоже, полагает, что "апостолы" — в большей или меньшей степени синоним Двенадцати (напр., Деян 1:21–26; 6:2), и пытается в какой‑то мере показать иерусалимский апостолат как постоянно находящийся в Иерусалиме, тогда как лишь один или два из их числа активно задействованы в миссионерской работе или иным образом осуществляют надзор над (первоначальным) процессом распространения христианства (напр., Деян 8:1,14–15; 11:22)
[749]. И снова мы наблюдаем многообразие, напрямую исходящее из фундаментальной напряженности в рамках христианства — Лука использует концепцию апостольства, чтобы подчеркнуть преемственность христианства по отношению к его еврейским предкам, тогда как Павел подчеркивает элемент разрыва, решительно настаивая на своем апостольстве для язычников. Достаточно вспомнить, как эти различные концепции миссионерства вызвали к жизни выражения из числа наиболее яростных во всем Новом Завете, как Павел желает, чтобы требующие обрезания кастрировали сами себя (в СП — "удалены были". —
Прим. пер) (Гал 5:12), и клеймит других миссионеров как лжеапостолов и слуг сатаны (2 Кор 11:13–15). Вот уж что никак не назовешь языком дружественного экуменического диалога!
[750]
Этот момент можно иллюстрировать и дальше, сославшись на тему, которую мы обсуждали под заголовком "Фундаментальная напряженность"
[751]. А можно ограничиться упоминанием о многообразии самих новозаветных документов,
многообразии в рамках канона. Мы вправе приписать мудрости ранних Отцов Церкви признание, что христианство только и может существовать не иначе как в многообразии форм, признание важности внутреннего видения, облеченного в многообразный канон. Открытость новому откровению и харизматическая выразительность Павла; резко выраженный иудейский характер Иакова; глубокое понимание церковного служения и рутинизация харизмы в Пастырских посланиях; воодушевленность Луки; мистическая глубина Иоанна; апокалиптические видения его тезки — все эти элементы христианства содержатся в каноне, надо полагать, в знак признания того, что христианство может существовать и всегда существовало, только в многообразии форм. Канон канонизирует многообразие так же, как и единство!
[752]
Суть, следовательно, в том, что многообразие — не некая вторичная черта христианства, не просто некое наслоение шелухи, которую можно отколупать и добраться до чистой, девственной, неизменной сердцевины.
Многообразие в христианстве — фундаментально. Столь же фундаментально, как и единство и напряженность. Христианство может существовать лишь в конкретных выражениях, и эти конкретные выражения неизбежно отличаются друг от друга
[753]. Для того чтобы
быть христианством, оно должно быть многообразным. Эта позиция вполне укоренилась в экуменических дискуссиях, особенно в последние лет десять — понимание того, что многообразие сосуществует когерентно с единством, что единство существует в многообразии
[754]. Но вот чему, пожалуй, следует уделить больше внимания, так это тому, что в Новом Завете содержится архетипическая модель "единства в многообразии", а именно
тело Христово.
Метафорическое уподобление церкви телу используется в трех Павловых письмах трояким образом. В одном месте Павел говорит об "одном теле во Христе" (Рим 12:5), в другом — о Христе как об "одном теле" (1 Кор 12:12), в третьем Христос — глава тела (Еф 4:15). Но в каждом случае Павел подчеркивает, что единство тела есть единство в многообразии. Когда так часто повторяют некоторую мысль, обращаясь к разной аудитории, это служит достаточно сильным показателем важности этой мысли. В данном случае мысль такова, что
тело может существовать как нечто единое только в силу своего многообразия. В знаменитой двенадцатой главе Первого послания к Коринфянам Павел высмеивает идею тела, имеющего один–единственный орган: "Если все тело — глаз, где слух? Если все — слух, где обоняние?.. Ибо, если бы все были один член, где тело? Но вот много членов, но одно тело" (1 Кор 12:17–20, КП). Мысль ясна: без многообразия тело не могло бы существовать как тело. Многообразие — это не достойная сожаления рационализация неудовлетворительного в своей глубине положения дел, не требующее раскаяния отпадение от некого высшего идеала.' Наоборот: многообразие неотторжимо от установленного Богом устройства вселенского сообщества. Без многообразия не может быть единства — того единства, которое имел в виду Бог.
У Павла есть, кроме того, некоторые указания на то, как он на практике представляет себе этот идеал единства в многообразии. Я говорю о Послании к Римлянам 14:1–15:6
[755]. Там он обращается к проблеме разногласий внутри церкви и дает совет, что при этом делать. Разногласия в данном случае касались пищи — что позволено есть верующему (14:2); и священных дней — следует ли иным дням придавать особую значительность (14:5). Не следует думать, что это какие‑то мелочи — просто спор вокруг вегетарианства или какого‑то конкретного праздника. Нет, то, что мы видим, — почти наверняка дальнейшее выражение фундаментальной напряженности. Ведь среди тех, кто откажется от мясного и пожелает отмечать особым образом некоторые дни, непременно окажутся христиане–евреи. А для благочестивого еврея соблюдение закона о пище и закона о субботе составляло самую сердцевину обязанностей, возложенных на него заветом Бога со Своим народом. Уступить в этих вопросах значило для него усомниться в своей истории и традициях, презреть кровь мучеников (Маккавеев), отдавших жизнь за эти самые верования (1 Макк 1:62–63 "Многие из сынов Израилевых стояли твердо и решили в сердце своем не есть пищи нечистой. Они решили скорее умереть, чем оскверниться пищей или осквернить завет; и они умерли"). Речь для него шла о самом понимании им завета, об обязанностях, возложенных на народ Божий — о вещах глубоких и фундаментальных
[756].
Совет Павла ясен и прост. Он в том, что
обе эти противоположные точки зрения могут быть приемлемы в глазах Бога. Могут существовать разногласия в вопросах,
фундаментально важных для каждой из сторон, и все же
обе могут найти поддержку у Бога. Вовсе не обязательно одной стороне быть неправой, чтобы другая оказалась права. Отсюда следует, что каждая сторона должна принять другую, несмотря на различия во взглядах. Каждому верующему следует уважать другого верующего, то есть уважать его право придерживаться мнения, резко отличающегося от своего собственного, а не использовать свою совесть в качестве розги для другого, не считать своим долгом убедить другого в ошибочности его суждений (Рим 14:3–13). Вот это — можно сказать, образец "согласного многообразия"
[757] — готовности
защищать право другого придерживаться мнения, отличного от моего собственного, в вопросах, которые я считаю фундаментально важными для правильного понимания веры, и принятия этого другого как
единого со мной в многообразии
единого тела Христова.
В Послании к Римлянам, гл. 14, речь, конечно, идет о местной церкви, точнее говоря, о различных мелких общинах в Риме. Но Послание к Ефесянам, гл. 4, показывает, что образ тела распространяется и на всю церковь в целом. Во всеобщем масштабе могут возникать разногласия того же порядка — иудеохристианские общины будут понимать Евангелие и его жизненные проявления в терминах тесной связи с более ранним иудаизмом; общины, составленные по большей части из неевреев, будут склоняться к разрыву, к отходу от закона и традиционных образцов иудейского богослужения и распорядка; смешанные общины, вроде римских, должны будут отрабатывать внутренние напряженности по мере своих возможностей. Но важно то, что совет, данный Павлом в Рим 14, сохраняет свою силу и в этом масштабе: отдавайте себе отчет в том, что правильно для вашей общины; но не надо настаивать на том, чтобы все прочие общины были согласны с вами во всем, даже в вопросах, которым вы придаете первостепенное значение; примите как данность, что другие, исповедующие Иисуса Господом, — в равной степени христиане, в равной степени принятые вашим общим Господом, и продолжайте молиться вместе. Только там, где есть многообразие, есть тело, но только там, где многообразие гармонично, тело одно.
Из Павловой концепции Церкви как тела Христова можно вывести еще одну мысль. Конечно, Павел использует термин "тело" в других контекстах, не только по отношению к церкви, местной ли или иной. Наиболее частое его применение — по отношению к телу отдельного человека. Тело верующего — "смертное тело", тело по плоти. Как таковое оно принадлежит этому веку, эсхатологическому "еще нет". Как таковое оно будет истрачено, это есть тело, подверженное гибели, "прах преходящий", предназначенное к "сбрасыванию с себя" нами по смерти, к преображению и "искуплению" по воскресении (напр., Рим 8:11,1 Кор 15:42–50, Флп 3:21). Если физическое тело есть воплощение верующего в веке сем, то мы можем также сказать, что церковная структура есть воплощение совокупного тела верующих. И тогда формы, которые принимает Церковь в веке сем, должны разделять характер тела физического, подверженного гибели, распаду, "праха преходящего". Важно то, что для Павла это справедливо даже в отношении Церкви как тела Христова. Ведь Церковь как тело Христово — это
не воскрешенное тело Христа
[758]; такое преображение, как и в случае отдельного человека, ожидается по воскресении. Церковь же века сего есть тело Христа распятого, Его тело — сломленное, Его тело — еще не во славе. Следовательно, мы можем сказать, что многообразие членов совокупного тела Христова есть также выражение преходящего характера всех тел века сего, незавершенности эсхатологического "еще нет".
Независимо от того, как будет воспринята эта последняя линия рассуждений, основная мысль последнего раздела такова:
когда мы смотрим на христианство в том виде, как оно представлено в Новом Завете, многообразие оказывается неизбежным. В
историческом контексте мы не можем игнорировать многообразие, присущее I веку христианства, специфические особенности христианина–еврея и христианина–нееврея со всеми различиями в их подходах и приоритетах, в исповедальных и литургических формах. Христиане часто не соглашались друг с другом, часто — по важнейшим для одного или другого вопросам, часто — страстно и болезненно. Углубленный анализ "фундаментальных различий", ставший характерной особенностью современного экуменизма
[759], может быть применен столь же успешно и к апостольскому христианству: разделение между Востоком и Западом, в конечном счете, оказывается не более глубоким, чем между Павлом и Иаковом; вызов Лютеру — "Ты один прав, а тысяча лет не правы?" — был, по сути дела, прежде брошен Павлу христианами–евреями.
В
богословском контексте мы не можем игнорировать важность метафоры тела. Единство тела находит свое выражение в разнообразии его членов. Только их функционирование в гармоническом многообразии позволяет телу жить как единому организму. Говоря коротко,
многообразие имеет столь же фундаментальное значение для христианства Нового Завета, как и единство Пасхи и Пятидесятницы и как напряженность, вызванная к жизни еврейскими корнями христианства. Оно — способ изживания напряженности в реальности эсхатологического "еще нет". Без него Церковь не может существовать как тело Христово.
5. Выводы
а) Существует
фундаментальное единство, данное нам в Новом Завете, составляющее базис христианства и, следовательно, служащее источником христианского единства, — единства, коренящегося в Пасхе и Пятидесятнице. Его невозможно единственным образом или вполне удовлетворительно выразить на человеческом языке, но его можно исповедовать словом и богослужением с такой объединяющей силой, какую не одолеть никаким разногласиям и спорам, касающимся сугубо словесной стороны дела. Это единство — не все, что принадлежит к "сущности" христианства, ибо имеется также и нечто унаследованное им от родительской веры, но именно здесь берет начало уникальность осознания христианством самого себя.
Фундаментальным является и тот факт, что христианство выросло из иудаизма I в. В это наследие входят Ветхий Завет и история спасения, и многое из них неотрывно от фундаментального единства Пасхи и Пятидесятницы — в том числе мы вправе сказать "одна надежда… одна вера, одно крещение, один Бог" (Еф 4:4–6). Но притязание христианства на это наследие порождает также и
фундаментальную напряженность, которая неотвратимо становится составной частью христианской веры и которая находит свое наиболее трагическое выражение в расколе между древним Израилем и Израилем конца времен — Израилем иудея и язычника. Это означает, что единство может быть выражено в более полных понятиях, чем это позволяет преемственность между Ветхим и Новым Заветом. Но чем больше рассуждают о единстве в терминах христианской уникальности, тем яснее становится, что оно завязано на напряженности неразрывности–разрыва, которая не может быть окончательно устранена в веке сем. Напряженность эта носит фундаментальный характер, потому что божественное откровение не умещается в возможности человеческой логики и ее категорий. Новое вино Христа не вместилось в меха раннего иудаизма.
Следовательно, многообразие выражений истины и жизни, индивидуальных ли или коллективных, — вещь неизбежная; каждое поколение, каждый род, каждая культура стараются выразить как единство, так и напряженность в соответствии со своим жизненным укладом. Благая весть Христова не может найти свое адекватное выражение в абстрактном, а только в конкретном. Так же и тело Христово. Можно прийти к согласию в отношении Благой вести, даже если нет согласия в выражающих ее словах. Можно признавать, что тело Христово — одно, даже не приходя к согласию относительно форм, принимаемых этим телом в его конкретном существовании.
Фундаментальное многообразие есть неотвратимый способ выражения фундаментального единства в условиях несовершенства века сего.
Так что же, имеет идея фундаментального согласия библейские обоснования? Если есть толика смысла в том, что я здесь пытался сказать, то ответ должен быть — да, имеет. В той мере, в какой 1) мы не будем стремиться слишком много вкладывать в это согласие; иначе мы очень скоро придем к вопросам, в которых различные толкования неизбежны — их‑то и следовало бы оставить более открытыми, чем в большинстве наших конфессий. В той мере, в какой 2) мы не будем настаивать, что согласие может быть выражено в одном и только в одном словесном обрамлении; иначе мы стали бы возводить идолов из своих формулировок. В той мере, наконец, в какой 3) мы не будем держаться исключительно за согласие и игнорировать напряженность или подавлять многообразие; ибо согласие без напряженности и без многообразия плоско и ценность его недолговечна.
б) Есть смысл еще немного поразмышлять о
фундаментальной роли опыта в фундаментальном единстве — особенно в отношении Духа. Дух в Новом Завете — это прежде всего сила, вдохновляющая и вызывающая к жизни глубоко лежащие чувства. Так, Иоанн говорит о Духе как об "источнике воды, текущей в жизнь вечную" (Ин 4:14). Лука с последовательностью изображает Духа как силу, которая нисходит на человека и улавливает его и вовлекает в зримые деяния и экстатические речи (Деян 2:4; 8:18; 10:45–6; 19:6), а Павел полагает, что дар Духа есть средство, которым "любовь Божия излилась в сердца наши" (Рим 5:5), и свидетельство духу нашему, что мы — дети Божьи, ибо Духом взываем "Авва, Отче" (8:15–16). Павел особенно ощущает этот опыт Духа как основание и формирующее условие их общей жизни как христиан. Фраза "общение (причастие) Святого Духа", κοινωνία του άγιου πνεύματος (2 Кор 13:13), не означает какой‑нибудь объективно существующей институции, прихода или конфессиональной общины, созданной Духом
[760]. Ее скорее следует перевести как "участие в Духе", как бы относящееся к
разделяемому всеми опыту Духа. Именно в этом всеми разделяемом опыте Духа таится источник того, что мы обычно понимаем под "общением (причастием)". Поэтому слово κοινωνία впервые появляется в описании христианского собрания после Пятидесятницы — появился новый опыт сообщества как следствие этого основополагающего опыта Духа, который разделили все они (Деян 2:42). Поэтому и Павел, предостерегая филиппийцев от "любопрения и тщеславия", взывает в прочувствованных словах к их общему опыту Духа — опыту как источнику и движущей силе единомыслия и единодушия (Флп 2:1–3).
Суть дела состоит в том, что в самой сердцевине фундаментального единства в Новом Завете лежит не просто
доктрина, не просто
учение о воскресении Христа, но
опыт соединения с Богом через Его Духа. Фундаментальное единство самых ранних христианских церквей было единством в Духе,
выросшее из разделенного всеми опыта Божьего Духа. Именно благодаря крещению в едином Духе, принятию излившегося на них всех единого Духа стали они членами единого же тела; "единость" тела стала возможной благодаря причастию всех единому Духу (1 Кор 12:13). Единство Духа не было чем‑то созданным или придуманным ими. Напротив, оно было чем‑то ощущаемым ими, испытанным как проявление данного Богом дара Духа. То же самое можно сказать и в отношении евхаристических элементов Первого послания к Коринфянам, гл. 10. Чаша и хлеб описаны как
приобщение (κοινωνία) крови и телу Христа: "Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба" (1 Кор 10:17). "Единость" тела — следствие не только "единости" хлеба, но и общего причащения этому хлебу, общего преломления его. Здесь мы снова видим, что "единость" есть реальность, на которой зиждется все прочее, нечто возникающее из общего опыта общения.
Все сказанное представляется мне фундаментально важным для наших дискуссий. Неизбежно направляем мы свое внимание на взаимоприемлемые утверждения и на общность литургической практики. Но при этом слишком легко забывается, что единство Духа есть переживаемый опыт дара Божьей милости. Согласно апостолу Павлу, единство тела достигается разделенным всеми опытом единого Духа и единого хлеба. Это не есть нечто структурное по сути, нечто такое, что мы можем создать или навязать кому‑либо своими экуменическими трудами. Общение Святого Духа есть нечто обнаруживаемое, нечто данное, и, если стремиться к структурному единству, не исходя из разделяемого всеми опыта Духа, надеяться на успех не приходится.
в) Эсхатологический характер истоков христианства заставляет задуматься еще об одном в принципе важном деле. Христианство начиналось как
движение обновления в рамках иудаизма I в. н. э. Оно начиналось как опыт освобождения, как прорыв через барьеры и перековка традиций, как движение Духа, облачающегося в
новые формы и выражающего себя в
новых структурах. Более того, такое самоощущение христианства, — как движения освобождения и обновления, часто исполненного большого энтузиазма, — было заключено в рамки нашего основополагающего документа — Ветхого Завета. Канонический портрет христианства без него немыслим.
И это остается в силе, даже несмотря на то, что имеются ясные признаки спада энтузиазма и все более отчетливого формирования образов веры и церковного устройства уже в рамках Нового Завета, особенно в Пастырских посланиях, и даже несмотря на то, что христианство зачастую принимало такого же рода структурную солидность и исключительность, как и иудаизм, против которого восставали Иисус и первохристиане. Дело в том, что христианство в своих священных писаниях сохраняет не только напряженность между Ветхим Заветом и Новым, но и вдохновляющую силу и источник обновления —
в рамках церковных структур, если они достаточно гибки, но — и пусть это послужит нам предупреждением —
вне их, если нет!
Тем более важно, следовательно, этому структурному единству, которое произрастает из общего опыта Духа, быть достаточно гибким и допускать, чтобы многообразие этого опыта находило выражение во всей своей полноте. Тем более важно
единству быть достаточно широким, чтобы охватить всех, кто радуется Пасхе и Пятидесятнице и исповедует их, достаточно открытым, чтобы признавать
напряженности неразрешенными, но всегда оставляющими место для новых откровений, и достаточно гибким, чтобы позволять
многообразию тела Христова проявлять себя по всему спектру. Только так может многообразие стать выражением единства и не позволить напряженности разорвать его на части.
г) Рискнем высказать в афористичной форме несколько обобщений того, что, как нам кажется, предлагает по теме наших сегодняшних обсуждений Новый Завет. Фундаментальное единство воскресшего Христа и общего всем Духа есть источник христианского единства. Фундаментальная напряженность означает, что в христианстве существуют такие основополагающие вопросы, которые не могут быть разрешены в пределах самого христианства или в пределах одного лишь христианства. Фундаментальное многообразие означает, что единообразие не только нереализуемо, но и богословски неоправданно, ибо результатом стремления к нему может быть лишь то, что фундаментальное многообразие найдет свое выражение в новых, раскольнических формах. Непреложной обязанностью экуменизма является поддержание библейского и реалистического баланса между этими тремя фундаментальными началами.
Разумеется, обо всем сказанном выше надо еще говорить и говорить. Каждый вопрос требует гораздо более тщательного рассмотрения, чем это возможно в пределах одной статьи. Более того, существуют важные аспекты проблемы, в которые я не имел возможности вдаваться, — например, приемлемые границы многообразия
[761] и напряженности, с которыми раннее христианство столкнулось на другом фронте, когда оно стало более полно внедряться в обширный греко–римский мир (некоторые из которых стоят за великой молитвой о единстве в Ин 17). Далее, я вполне отдаю себе отчет в том, что Новый Завет — отнюдь не единственный фактор во всех этих рассуждениях. Но он — "фундаментальный" фактор в наших дискуссиях, а они, на мой взгляд, являются попытками решить "фундаментальные" задачи, которые он сам перед нами и выдвигает.
Библиография
Введение
Balthasar, H. U. von, 'Einheit und Vielheit neutestamenlicher Theologie',
Communio 12, 1983, pp. 101–109
Bauer, W.,
Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, 1934
21964, ET Fortress 1971, and SCM Press 1972
Baur, F. C,
Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, 1864, Neudruck, Darmstadt 1973
Betz, H. D., 'Orthodoxy and Heresy in Primitive Christianityc',
Interpréta tion, 19, 1965, pp. 299–311
Betz, O., 'The Problem of Variety and Unity in the New Testament',
Horizons in Biblical Theology 2, 1980, pp. 3–14
Blank, J., 'Zum Problem "Häresie und Orthodoxie" im Urchristentum',
Zur Geschichte des Urchristentums, hrsg. G. Dautzenberg et al., Freiburg 1979. pp. 142–60
Boers, H.,
What is New Testament Theology? Fortress 1979
Braun, H., 'The Meaning of New Testament Christology' (1957), ET in
God and Christ: Existence and Providence, JThC, 5, 1968, pp. 89–127
— 'The Problem of a New Testament Theology' (1961), ET in
The Bultmann School of Biblical Interpretation: New Directions?, JThC, 1, 1965, pp. 169–83
Brown, R. E.,
The Churches the Apostles Left Behind, Chapman 1984
Bultmann, R.,
Primitive Christianity in its Contemporary Setting, 1949, ET Thames & Hudson 1956 —
Theology of the New Testament, 1948–53, ET 2 vols, SCM Press 1952, 1955
Chariot, J.,
New Testament Disunity: its Significance for Christianity Today, Dutton 1970
Clavier, H.,
Les Variétés de la Pensée Biblique et le Probleme de son Unité, SNT, XLIII, 1976
Cohen, S. J. D.,
From the Maccabees to the Mishnah, Westminster 1987
Collins, J. J.,
Between Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, Ctossroad 1983
Congar, Y.,
Diversity and Communion, Twenty‑Third Publications 1985
Conzelmann, H.,
An Outline of the Theology of the New Testament, 21968, ET SCM Press 1969
— History of Primitive Christianity, 1969, ET Abingdon, and Darton, Longman & Todd 1973
Cullmann, О.,
Unity through Diversity, Fortress 1988
Dix,
G., Jew and Greek: a Study in the Primitive Church, Dacre Press 1953
Dunn. J. D. G.,
The Evidence for Jesus, SCM Press/Westminster 1985
— 'Die Instrumente kirchlicher Gemeinschaft in der frühen Kirche',
Una Sancta 44.1, 1989. pp. 2–13
Ehrhardt, Α., 'Christianity Before the Apostles' Creed',
HTR, 55, 1962, reprinted in
The Framework of the New Testament Stories, Manchester University Press 1964, pp. 151–199
Evans, C. F., 'The Unity and Pluriformity of the New Testament',
Christian Believing (A Report by The Doctrine Commission of the Church of England), SPCK 1976, pp. 43–51
Fiorenza, E. S.,
In Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins, SCM Press 1983
Forkman, G.,
The Limits of the Religious Community: Expulsion from the religious community within the Qumran sect, within Rabbinic Judaism, and within primitive Christianity, Lund 1972
Gager, J. G.,
Kingdom and Community: the Social World of Early Christianity, Prentice‑Hall 1975
Gloer, W. H., 'Unity and Diversity in the New Testament. Anatomy of an Issue',
Biblical Theology Bulletin 13, 1983, pp. 53–58
Goguel, M.,
The Birth of Christianity, 1946, ET Allen & Unwin 1953
Goppelt, L.,
Apostolic and Post‑apostolic Times, 1962, ET A. & C. Black 1970
— Theologie des Neuen Testaments, 2 vols., Göittingen, 1975, 1976, ET
Theology of the New Testament, Eerdmans 1981, 1982
— 'The Plurality of New Testament Theologies and the Unity of the Gospel as an Ecumenical Problem',
The Gospel and Unity, ed. V. Vajta, Augsburg 1971. pp. 106–130
Grabbe, L. L., Orthodoxy in First Century Judaism. What are the Issues?', JSJ 8, 1977. pp. 149–153
Grant, F. C,
An Introduction to New Testament Thought, Abingdon 1950
Guelich, R. Α., ed.,
Unity and Diversity in New Testament Theology, Eerdmans 1978
Hahn, F.,
Exegetische Beiträge zum ökumenischen Gespräch. Gesammelte Aufsätze Band I, Göttingen 1986
— Mission in the New Testament, 1963, ET SCM Press 1965
Harnack, Α.,
What is Christianity?, 1900, ET Putnam 1901
Harrington, D. J., 'The Reception of Walter Bauer's
Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity during the Last Decade',
HTR 73, 1980, pp. 289–298; reprinted in
Light of All Nations. Essays on the Church in New Testament Research, Glazier 1982, pp. 162–173
Hawkin, D. J., Ά Reflective Look at the Recent Debate on Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity',
Eglise et Theologie 7, 1976, pp. 367–378
Hoskyns, Ε., and Davey, N.,
The Riddle of the New Testament, Faber 1931
Hunter, A. M.,
The Unity of the New Testament, SCM Press 1943
Jeremias, J.,
The Central Message of the New Testament, SCM Press 1965
Jewett, R.,
Christian Tolerance: Paul's Message to the Modern Church, Westmins- ter 1982
Käsemann, Ε., 'New Testament Questions of Today' (1957), ET in
NTQT, pp. 1–22
— Jesus Means Freedom, 51968, ET SCM Press 1969
— 'The Problem of a New Testament Theology',
NTS, 19, 1972–73, pp. 235–245
Kinnamon, M.,
Truth and Community. Diversity and its Limits in the Ecumenical Movement, World Council of Churches/Eerdmans 1988
Knox. J.,
The Early Church and the Coming Great Church, Abingdon 1955
Koester, H., 'Häretiker im Urchristentum',
RGG3, 111 17–21
— Introduction to the New Testament, 2 vols., Fortress 1982
— "The Theological Aspects of Primitive Christian Heresy', FRP, pp. 65–83
— 'Variety in New Testament Theology' (Society for New Testament Studies Conference Paper, 1975)
Kraft, R. Α., 'The Development of the Concept of Orthodoxy" in Early Christianity',
Current Issues in Biblical and Patristic Interpretation: Studies in Honour of M. C. Tenney, ed., G. F. Hawthorne, Eerdmans 1975, pp. 47–59
Kümmel, W. G., 'Urchristentum',
RGG3, VI, 1187–93
— The New Testament: the History of the Investigation of its Problems, 1970, ET SCM Press 1973
— The Theology of the New Testament: According to its Major Witnesses, Jesus‑Paul‑John, 1972, ET SCM Press 1974
— Introduction to the New Testament, revised edition 1973, ET SCM Press 1975
Ladd, G. E.,
A Theology of the New Testament, Eerdmans 1974, Lutterworth 1975
Lohse, E., 'Die Einheit des Neuen Testaments als theologisches Problem. Überlegungen zur Aufgabe einer Theologie des Neuen Testaments',
Ev Th, 35, 1975, pp. 139–154; reprinted in
Die Vielfalt des Neuen Testaments, Göttingen 1982, pp. 231–246
Loisy, Α.,
The Birth of the Christian Religion, 1933, ET Alien & Unwin 1948
Luz, U., 'Einheit und Vielfalt neutestamentlicher Theologie',
Die Mitte des Neuen Testaments. Einheit und Vielfalt neutestamentlicher Theologie, E. Schwei- zer Festschrift, hrsg. U. Luz & H. Weder, Göttingen 1983, pp. 142–161
Macquarrie. J. M.,
Christian Unity and Christian Diversity, SCM Press 1975
Markus, R. Α., 'The Problem of Self‑Definition: From Sect to Church',
Jewish and Christian Self‑Definition. Vol. I. The Shaping of Christianity in the Second and Third Centuries, ed., Ε. P. Sanders, Fortress/SCM Press 1980, pp. 1–15
Marshall, I. H., 'Orthodoxy and Heresy in Earlier Christianity',
Themelios 2, 1976, pp. 5–14
Marxsen, W.,
Introduction to the New Testamant, 1964, ET Blackwell 1968 — 'Das Neue Testament und die Einheit der Kirche'
Der Exeget als Theologie: Vorträge zum Neuen Testament, Gütersloh 1968, pp. 183–197
McEleney, N. J., Orthodoxy and Heresy in the New Testament',
Proceedings of the Catholic Theological Society of America, 25, 1970, pp. 54–77
— 'Orthodoxy in Judaism of the first Christian Century',
JSJ 4, 1973, pp. 19–42
Meeks, W. Α.,
The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul, Yale University 1983
Meyer, В., 'Identity and Development',
The Early Christians. Their World Mission and Self‑Discovery, Glazier 1986, pp. 172–207
Morgan, R.,
The Nature of New Testament Theology, SCM Press 1973
Moule, С. F. D.,
The Birth of the New Testament, A. & C. Black 1962
Murray, R., 'Tradition as Criterion of Unity',
Church Membership and Intecommunion, ed. J. Kent and R. Murray, Carton 1973, pp. 251–80
Neill, S.,
The Interpretation of the New Testament 1861–1961, Oxford University Press 1964; revised by T. Wright 1988
— Jesus Through Many Eyes: Introduction to the Theology of the New Testament, Lutterworth 1976
Norris, F. W., 'Ignatius, Polycarp and I Clement: Walter Bauer Reconsid- ered',
Vigiliae Chris‑tiапае 30, 1976, pp. 23–44
Perrin N. and Duling, D. C,
The New Testament. An Introduction, Harcourt Brace Jovanovich
21982, especially ch. 3
Riesenfeld, H., 'Zur Frage nach der Einheit des Neuen Testaments,
Jesus in der Verkündigung der Kirche, hrsg. A. Fuchs, Linz 1976, pp. 9–25
Robinson, J. M. and Koester, H.,
Trajectories through Early Christianity, Fortress 1971
— 'The Future of New Testament Theology (1973), ET in
Religious Studies Review, 2:1, 1976, pp. 17–23
Robinson, Τ. Α.,
The Bauer Thesis Examined. The Geography of Heresy in the Early Christian Church. Edwin Mellen 1988
Rowland, C,
Christian Origins. An Account of the Setting and Character of the Most Important Messianic Sect of Judaism, SPCK. 1985
Rowley, Η. H.,
The Unity of the Bible, Carey Kingsgate Press 1953
Schlier, Η., 'The Meaning and Function of a Theology of the New Testament',
The Relevance of the New Testament, 1964, ET Herder 1968, pp. 1–25
Schnackenburg, R.,
New Testament Theology Today, 1961, ET Chapman 1963
Schweizer, Ε.,
Theologische Einleitung in des Neuen Testaments, Göttingen 1989
Scoff, Ε. F.,
The Varieties of New Testament Religion, Scribners 1943
Simon, M., 'From Greek Hairesis to Christian Heresy',
Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition, R. M. Grant Festschrift, ed. W. R. Schoedel and R. L. Wilken, Paris 1979, pp. 101–116
Stock, Α.,
Einheit des Neun Testament, Zürich 1969
Trilling, W.,
Vielfalt and Einheit im Neuen Testament, Einsiedeln 1968
Turner, H. E. W.,
The Pattern of Christian Truth, Mowbray 1954
Weiss, J.,
Earliest Christianity: A History of the Period AD 30–150, 1914, ET 1937, reprinted Harper 1959
Wilken, R. L.,
The Myth of Christian Beginnings, SCM Press 1979
Глава II Керигма или керигмы?
Beker, J. С,
Paul the Apostle. The Triumph of God in Life and Thought, Fortress/ Τ. & T. Clark 1980
Bornkamm,
G. Jesus of Nazareth, 51959, ET Hodder & Stoughton 1960
— Paul, 1969, ET Madder & Stoughton 1971
Brown, R. E., 'The Kerygma of the Gospel according to John',
Interpretation, 21, 1967, pp. 387–400, reprinted in
New Testament Issues, ed., R. Batey, SCM Press 1970, pp. 210–225
— The Community of the Beloved Disciple, Chapman 1979 Bruce, F. F.,
Paul, Apostle of the Free Spirit, Paternoster 1977
— 'The Speeches in Acts — Thirty Years After',
Reconciliation and Hope: New Testament Essays on Atonement and Eschatology, L. L. Morris Festschrift, ed., R. J. Banks, Paternoster 1974, pp. 53–68
Buck, С. H. and Taylor, G.,
St Paul: A Study in the Development of his Thought, Scribners 1969
Bultmann, R.,
Jesus and the Word, 1926, ET Scribners 1934, Fontana 1958
Dodd, С. H.,
The Apostolic Preaching and its Developments, Hodder & Stoughton 1936
Evans, C. F., 'The Kerygma',
JTS, 7, 1956, pp. 25–41
Green, M.,
Evangelism in the Early Church, Hodder & Stoughton 1970
Hengel, M.,
Acts and the History of Earliest Christianity, SCM Press/Fortress 1979. ch. I
Jeremias. J.,
New Testament Theology Vol I — The Proclamation of Jesus, 1971, ET SCM Press 1971
Kränkl,
Ε., Jesus der Knecht Gottes: die heilsgeschichtliche Stellung Jesu in den Reden der Apostelgeschichte, Regensburg 1972
Kysar, R.,
The Fourth Evangelist and his Gospel: an Examination of Contempor- ary Scholarship, Augsburg 1975
Meyer, B. F.,
The Aims of Jesus, SCM Press 1979
Mounce, R. H.,
The Essential Nature of the New Testament Preaching, Eerdmans 1960
Mussner, F.,
The Historical Jesus in the Gospel of St John, 1965, ET Herder 1967
Oepke, Α.,
Die Missionspredigt des Apostels Paulus, Leipzig 1920 Rensberger, D.,
Johannim Faith and Liberating Community, Westminster 1988/SPCK 1989
Ridderbos, H.,
Paul: An Outline of his Theology, 1966, ET Eerdmans 1975
Sanders, E. P.,
Jesus and Judaism, SCM Press/Fortress 1985
Schnackenburg, R., 'Revelation and Faith in the Gospel of John',
Present and Future: Modern Aspects of New Testament Theology, Notre Dame 1966, pp. 122–142
Schulz, S., 'Die Anfänge urchristlicher Verkündigung. Zur Traditions- und Theologiegeschichte der ältesten Christenheit',
Die Mitte des Neuen Testaments. Einheit und Vielfalt neutestamentlicher Theologie, E. Schweizer Festschrift, hrsg. U. Luz & H. Weder, Göttingen 1983, pp. 254–271
Schweizer, E., 'Concerning the Speeches in Acts' (1957), ET
SLA. pp. 208–216
Smith, D. M., 'Johannine Christianity: Some Reflections on its Character and Delineation',
NTS, 21, 1974–75, pp. 222–248; reprinted
in Johannine Christianity. Essays on its Setting, Sources and Theology, University of South Carolina 1984, pp. 1–36
— 'The Presentation of Jesus in the Fourth Gospel',
Interpretation 31, 1977, pp. 367–378, reprinted 'in
Johannine Christianity, pp. 175–189
Stanton, G. TV.,
Jesus of Nazareth in New Testamint Preaching, Cambridge University Press 1974
Sweet. J. P. M., 'The Kerygma',
ExpT, 76, 1964–65, pp. 143–147
Wilckens, U.,
Die Missionsreden der Apostelgeschicnte, Neukirchen 1961
Ziesler. J.,
Pauline Christianity, Oxford 1983
Глава III Первоначальные вероисповедные формулы
Bauckham, R., 'The Sonship of the Historical Jesus in Christology',
SJT 31, 1978, pp. 245–260 Boers, H., 'Where Christology is Real: a Survey of Recent Research on New Testament Christology',
Interpretation, 26, 1972, pp. 300–327
Bousset, W.,
Kyrios Christos, 21921, ET Abingdon 1970 Campenhausen, H. von, 'Das Bekenntnis im Urchristentum',
ZNW, 63, 1972, pp. 210–253
Caragounis, С. C,
The Son of Man. Vision and Interpretation, WUNT 38, Tübingen 1986
Casey, M.,
Son of Man. The Interpretation and Influence of Daniel 7, SPCK 1979
Cullmann, О.,
The Earliest Christian Confessions, 1943, ET Lutterworth 1949
— The Christology of the New Testament, 1957, ET SCM Press 1959
Dahl, Ν. Α., The Crucified Messiah' (1960), The Messiahship of Jesus in Paul' (1953),
The Crucifad Messiah and Other Essays, ET Augsburg 1974, pp. 10–47
Dunn, J. D. G.,
Christology in the Making. An Inquiry into the origins of the Doctrine of the Incarnation, SCM Press, Westminster 1980,
21989
Fitzmyer, J. Α., 'New Testament Kyrios and Maranatha and their Aramaic Background',
To Advance the Gospel: New Testament Studies, Crossroad 1981, pp. 218–35
Foakes Jackson, F. J. and Lake, K.,
The Beginnings of Christianity Part I: The Acts of the Apostles, Macmillan, Vol. 1, 1920, pp. 345–418
Foerster, W.,
'kurios', TDNT, III, pp. 1039–95
Fuller, R. H.,
The Foundations of New Testament Christology, Lutterworth 1965, Fontana 1969
Hahn, F.,
The Titles of Jesus in Christology, 1963, ET Lutterworth 1969
Hengel, M., '"Christos" in Paul',
Between Jesus and Paul, SCM Press/ Fortress 1983, p. 65–77
— The Son of God: The Origin of Christology and the History of Jewish‑Hellenistic Religion, 1975, ET SCM Press 1976
Hooker, M. D.,
The Son of Man in Mark, SPCK 1967
Kelly, J. N. D.,
Early Christian Creeds, Longmans 1950
Kramer, W.,
Christ, Lord, Son of God, 1963, ET SCM Press 1966
Lindars, В.,
Jesus Son of Man. A Fresh Examination of the Son of Man Sayings in the Gospels, SPCK 1983
Longenecker, R. N.,
The Christology of Early Jewish Christianity, SCM Press 1970
Marshall, I. H.,
The Origins of New Testament Christology, Inter‑Varsity Press 1976
Moule, С. F. D., The Influence of Circumstances on the Use of Christological Terms'
JTS, 10, 1959, pp. 247–263
— The Origin of Christology, Cambridge University 1977
Neufeld, V.,
The Earliest Christian Confessions, Leiden 1963
Perrin, N.,
A Modern Pilgrimage in New Testament Christology, Fortress 1974
Schillebeeckx, E. and Metz. J. — B., ed.,
Jesus, Son of God?, Concilium 153, T. & T. Clark 1982
Schweizer, Ε.,
Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus and seinen Nachfolgern, Zürich
2 1962 ET of first edition.
Lordship and Discifileshai, 1955, SCM Press 1960
Seeberg, Α.,
Der Katechismus der Urchristenheit, 1903, München 1966
Stauffer, E.,
New Testament Theology, 1941, ET SCM Press 1955, Part III
Tödt, Η. E.,
The Son of Man in the Synoptic Tradition, 1959, ET SCM Press 1965
Vennes,
G., Jesus the Jew, Collins 1973
Vielhauer, P., 'Gottesreich und Menschensohn in der Verkündigung Jesu', 'Jesus und der Menschensohn', 'Ein Weg zur neutestamentlichen Christologie?', in
Aufsätze zum Neuen Testament, München 1965, pp. 55–198
Wengst, K.,
Christologischi Formeln und Lieder des Urchristentum, Gütersloh 1972
Глава IV Роль предания
Banks,
R., Jesus and the Law in the Synoptic Tradition, Cambridge University Press 1975
Bruce, F. F.,
Tradition Old and New, Paternoster 1970 —
Paul and Jesus, Baker 1974
Bultmann, R.,
The History of the Synoptic Tradition, 1921
3 1958, ET Blackwell 1963
Campenhausen, H. van, 'Tradition and Spirit in Early Christianity',
Tradition and Life in the Church, 1960, ET Collins 1968, pp. 7–18
Carlston, CE.,
The Parables of the Triple Tradition, Fortress 1975
Congar, Y.,
Tradition and Traditions, 1960,1963, ET Burns & Oates 1966
Cullmann, O., 'The Tradition' (1953),
The Early Church, ET SCM Press 1956, pp. 59–75
Davies, W. D.,
The Setting of the Sermon on the Mount, Cambridge University Press 1964
Dibelius, M.,
From Tradition to Gospel, 1919,
21933, ET Nicholson & Watson 1934; James Clarke 1971
Dodd, С. H.,
'Ennomos Christou' (1953),
More New Testament Studies, Manchester University Press 1968, pp. 134–48
Dungan, D. L.,
The Sayings of Jesus in the Churches of Paul, Blackwell 1971
France, R. T. and Wenham, D., ed.,
Gospel Perspectives. Studies of History and Tradition in the Four Gospels, especially vols. I and 2, JSOT 1980,1981
Fraser, J.
W., Jesus and Paul, Marcham 1974
Gerhardsson, В.,
Memory and Manuscript, Lund 1961 —
The Origins of the Gospel Traditions, Fortress/SCM Press 1979
Goppelt, L., 'Tradition nach Paulus',
KuD, 4, 1958, pp. 213–33
Hahn, F., 'Das Problem "Schrift und Tradition" im Urchristentum',
EvTh 30, 1970, pp. 449–68
Hanson, R. P. С.
Tradition in the Early Church, SCM Press 1962
Herford, R. T.,
Pirke Aboth: The Ethics of the Talmud; Sayings of the Fathers, 1945, Schocken 1962
Hunter, A. M.,
Paul and his Predecessors, SCM Press
2 1961
Jeremias, J.,
The Parables of Jesus, 61962, ET SCM Press 1963
Longenecker, R. N.,
Paul Apostle of Liberty, Harper 1964
McDonald, J. I. H.,
Kerygma und Didache, SNTSMS 37, Cambridge University 1980
Müller, P. G.,
Der Traditionsprozess im Neum Testament, Freiburg 1981
Neusner, J., 'Scripture and Tradition in Judaism',
Approaches to Ancient Judaism II, ed., W. S. Green, Brown Judaic Studies 9, Scholars 1980, pp. 173–93
Riesenfeld, H.,
The Gospel Tradition and its Beginnings, Mowbray 1957, reprinted in
The Gospel Tradition, Fortress 1970, and Blackwell 1971, pp. 1–29
Riesner, R,
Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung Cum Ursprung der Evangelien–Überlieferung, WUNT 2.7, Tübingen 1981
Taylor, V.,
The Formation of the Gospel Tradition, Macmillan
2 1935
Trocmé, Ε.,
Jesus and his Contemporaries, 1972, ET SCM Press 1973
Wegenast, К.,
DM Verständnis der Tradition bei Paulus und in den Deutero‑paulinen, Neukirchen 1962
Wengst, K., 'Der Apostel und die Tradition',
ZTK, 69, 1972, pp. 145–62
Zimmermann, A. F.,
Die urchristlichen Lehrer, WUNT 2.12, Tübingen 1984
Глава V Использование Ветхого Завета
Baker, D. L.,
Two Testaments, One Bible, IVP 1976
Barrett, С. К., 'The Interpretation of the Old Testament in the New',
The Cambridge History of the Bible Vol 1: from the Beginnings to Jerome, ed., P. R. Ackroyd and C. F. Evans, Cambridge University Press 1970, pp. 377–411
Barth, M., 'The Old Testament in Hebrews'
CINTI, p. 53–78
Barton, J.,
Oracles of God, Darton, Longman & Todd 1986
Black, M, 'The Christological Use of the Old Testament in the New Testament',
NTS, 18, 1971–72. pp. 1–14
Brooke, G. J.,
Exegesis at Qumran, JSOT Press 1985
Bruce, F. F.,
Biblical Exegesis in the Qumran Texts, Tyndale Press 1959
Carson, D. A. and Willialnson,
H. G. M., It is Written: Scripture Citing Scripture, B. Lindars Festschrift, Cambridge University 1988
Chilton, В.,
A Galilean Rabbi and his Bible. Jesus ' Own Interpretation of Isaiah. SPCK 1984
Dodd, С. H.,
According to the Scriptures, Nisbet 1952; Fontana 1967
Ellis, E., E.,
Paul's Use of the Old Testament, Eerdmans 1957
— Prophecy and Heremeneutic in Early Christianity, Tübingen/Eerdmans 1978
Fitzmyer, J. Α.,
Essays on the Semitic Background of the New Testament, Chapman 1971, chs I and 2
France, R. T.,
Jesus and the Old Testament, Tyndale Press 1971
Freed, E. D.,
Old Testament Quotations in the Gospel of John, SNT, XI, 1965
Goppelt, L.,
The Typological Interpretation of the Old Testament in the New, 1939, ET Eerdmans 1982
Hanson, A. T.,
The New Testament Interpretation of Scripture, SPCK. 1980
— The Living Utterances of God. The New Testament Exegesis of the Old, Darton, Longman & Todd 1983
Hams, R.,
Testimonia, 2 vols, Cambridge University Press 1916, 1920
Juel, D.,
Messianic Exegesis. Christological Interpretation of the Old Testanunt in Early Christianity, Fortress 1988
Kistemaker, S.,
The Psalm Citations in the Epistle to the Hebrews, Amsterdam 1961
Lindars, В.,
New Testament Apologetic, SCM Press 1961
Lindars, B. and Borgen, P., 'The Place of the Old Testament in the Formation of New Testament Theology: Prolegomena and Response'
NTS, 23, 1976–77, pp. 59–75
Longenecker, R. N.,
Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Eerdmans 1975
McConnell, R. S.,
Law and Prophecy in Matthew's Gospel: the Authority and Use of the Old Testament in the Gospel of Matthew, Basel 1969
McNamara, M.,
The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch, Ana‑lecta Biblica 27, Rome 1966
Michel, O.,
Paulus und seine Bibel, Gütersloh 1929
Miller, M. P., 'Targum, Midrash and the Use of the Old Testament',
JSJ, 2, 1971, pp. 29–82 Moo, D. J.,
The Old Testament in the Gaspel Passion Narratives, Almond 1983 Neusner, J.,
Midrash in Context. Exegesis in Formative Judaism, Fortress 1983
Patte, D.,
Early Jewish Hermeneutic in Palestine, SBL Dissertation Series 22, 1975
Smith, D. M., 'The Use of the Old Testament in the New',
The Use of the Old Testament in the New and Other Essays, ed., J. M. Efird, Duke University Press 1972, pp. 3–65
Sowers, S. G.,
The Hermeneutics of Philo and Hebrews, Zurich 1965
Stendahl, K.,
The School of St Matthew and its Use of the Old Testament, Lund 1954,
21968
Westermann, С, ed.,
Essays on Old Testament Interpretation, SCM Press 1963
Глава VI Концепции служения
Banks, R.,
Paul's Idea of Community, Paternoster 1980
Barrett, С. K.,
Church, Ministry, and Sacraments in the New Testament, Paternoster 1985
— The Signs of an Apostle, Epworth 1970
Brockhaus, U.,
Charisma und Amt; die paulinische Chansmenlehre auf dem Hintergrund der frühchristlichen Gemeinde funktionen, Wuppertal 1972
Brown, R. E., 'The Unity and Diversity in New Testament Ecclesiology',
Nov Test, 6, 1963, pp. 298–308, reprinted in
New Testament Essays, Chapman 1965, pp. 36–47
Campenhausen, H. von,
Ecclesiastical Authority and Spiritual Power in the Church of the First Centuries, 1953, ET A. & C. Black 1965
Davies, W. D., Ά Normative Pattern of Church Life in the New Testament?' (1950),
Christian Origins and Judaism, Carton, Longman & Todd 1962, ch. IX
Dunn, J. D.
G., Jesus and the Spirit, SCM Press 1975
— 'Models of Christian Community in the New Testament',
Strange Gifts, ed. D. Martin and P. Mullen, Blackwell 1984, pp. 1–18
Ellis, Ε. E.,
Pauline Theology. Ministry and Society, Eerdmans 1989
Evans, C. F., 'Is the New Testament Church a Model?',
Is 'Holy Scripture' Christian? and Other Questions, SCM Press 1971, pp. 78–90
Farrer, A. M., 'The Ministry in the New Testament',
The Apostolic Ministry, ed., Κ. Ε. Kirk, Hodder & Stoughton 1946, ch. 3
Haacker,
K., Jesus and the Church in John, Tübingen 1971
Hahn, F., 'Die Einheit der Kirche und Kirchengemeinschaft in neutestamentlicher Sicht',
Beiträge pp. 116–158
Harnack, Α.,
The Constitution and Law of the Church in the First Two Centuries, 1910, ET Williams & Norgate 1910
Hengel, M.,
The Charismatic Leader and his Followers, 1968, T. & T. dark 1981
Kasemann, E., 'Ministry and Community in the New Testament',
ENTT, ch. III
— 'Unity and Multiplicity in the New Testament Doctrine of the Church', Nov
Test, 6, 1963, pp. 290–297, reproduced in
NTQT, ch. XIII
Kertelge, K., hrsg.,
Das kirchliche Amt ml
Neuen Testament, Darmstadt 1977
Knox, J., 'The Ministry in the Primitive Church',
The Ministry in Historical Perspective, ed., H. R. Niebuhr and D. D. Willianns, Harper 1956, ch. I
Küng, H.,
The Church, ET Burns & Oates 1968 Lightfoot, J. В., 'The Christian Ministry',
St Paul's Epistle to the Philppians, Macmillan 1868. pp. 179–267
Linton, O.,
Das Problem der Urkirche in der neuren Forschung, Uppsala 1932
Lohfink, G.,
Jesus and Community. The Social Dimension of Christian Faith, SPCK/Fortress 1985
Manson, T. W.,
The Church's Ministry, Madder & Stoughton 1948
Perkins, P.,
Ministering in the Pauline Churches, Paulist 1982
Ramsey, A. M.,
The Gospel and the Catholic Church, Longmans 1936, second edition 1956
Schillebeeckx, E.,
Ministry, SCM Press 1981; revised as
The Church with a Human Face, SCM Press 1985
Schlier, H., 'The Unity of the Church according to the New Testament',
The Reievance of the New Testament, ET Herder 1967, pp. 193–214
Schnackenburg, R.,
The Church in the New Testament, ET Herder 1965
Schweizer, Ε.,
Church Order in the New Testament, 1959, ET SCM Press 1961
— "The Concept of the Church in the Gospel and Epistles of St John',
NTETWM, pp. 230–45 Sohm, R.,
Kirchenrecht, Leipzig 1892
Streeter, Β. H.,
The Primitive Church, Macmillan 1930
Trilling, W., 'Zum "Amt" im Neuen Testament. Eine methodologische Besinnung',
Die Mitte des Neuen Testaments. Einheit und Vielfalt mutestamenlicher Theologie, E. Schweizer Festschrift, hrsg. U. Luz and H. Weder, Gottingen 1983, pp. 317–44
Witherington, В.,
Women in the Earliest Churches, SNTSMS 59, Cambridge University 1988
Глава VII Типы богослужени
Carrington, P.,
The Primitive Christian Catechism, Cambridge University Press 1944
Cross, F. L., /
Peter- A Paschal Liturgy, Mowbray 1954
Cullmann, O.,
Early Christian Worship, 1950, ET SCM Press 1953, ch. I
Dalman,
G. Jesus‑Joshua, 1922, ET SPCK 1929, ch. VII
Deichgräber, R.,
Gotteshymnus und Christushymnus in der frühen Christenheit, Göttingen 1967
Delling. G.,
Worship in the New Tesiament, 1952. ET Darton, Longman & Todd 1962
Dodd, С. H., 'The Primitive Catechism and the Sayings of Jesus',
NTETWM, pp. 106–118
Dunn, J. D. G.,'The Responsible Congregation (1 Cor. 14.26–40)',
Charisma und Agape (I Ko 12–14), hrsg. L. De Lorenzi, Rome 1983, pp. 201–236
Goulder, M. D.,
Midrash and Lection in Matthew, SPCK 1974
Guilding, Α.,
Tlu Fourth Gospel and Jewish Worship, Oxford University Press 1960
Hahn, F.,
The Worship of the Early Church, 1970, ET Fortress 1973
Hanson, A. T.,
Studies in the Pastoral Epistles, SPCK 1968
Hengel, M., 'Hymns and Christology',
Bitween Jesus and Paul, SCM Press/ Fortress 1983, pp. 78–96
Hurtado, L. W.,
One God, One Lord. Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, Fortress/SCM Press 1988
Jeremias, J.,
The Prayers of Jesus, 1966, ET SCM Press 1967, chs II and III
Jones, D. R., 'The Background and Character of the Lukan Psalms'
JTS, 19, 1968, pp. 19–50
Kirby, J. C,
Ephesians:. Baptism and Pentecost, SPCK 1968
Lohmeyer, E.,
Lord of the Temple: A Study of the Relation between Cult and Gospel, 1942, ET Oliver & Boyd 1961
Macdonald, А. В.,
Christian Worship in the Primitive Church, Ί. & T. Clark 1934
Martin, R. P.,
Worship in the Early Church, Marshall 1964
— Carmen Christi: Phil. 2.5–11 in recent interpretation and in the setting of early Christian worship, Cambridge University Press 1967, revised Eerdmans 1983
— Tht Spirit and the Congregation. Studies in I Corinthians 12–15, Eerdmans 1984
Morris, L.,
The New Testament and the Jewish Lectionaries, Tyndale Press 1964
Moule, С. F. D., 'Use of Parables and Sayings as Illustrative Material in Early Christian Cat‑echesis'
JTS, 3, 1952, pp. 75–79
— Worship in the New Testament, Lutterworth 1961
Norden, Ε.,
Agnostos Theos: Untersuchungen zur Formgeschichte religiöser Rede, 1913, reprinted Stuttgart 1956
Oesterley, W. Ο. E.,
The Jewish Background of the Christian Liturgy, Oxford University Press 1925
Petuchowski. J. J. and Brocke, M.,
The Lord's Prayer and Jewish Liturgy, Burns & Oates 1978 Reicke, В., 'Some Reflections on Worship in the New Testament',
NTETWM, pp. 194–209
Rordorf, W.,
Sunday: the History of the Day of Rest and Worship in the Earliest
Centuries of the Christian Church, 1962, ET SCM Press 1968
Rowley, H. H.,
Worship in Ancient Israel, SPCK 1967
Sanders, J. T.,
The New Testament Christological Hymns: their historical religious background, Cambridge University Press 1971
Selwyn, E. G.,
The First Epistle of St Peter, Macmillan 1947, pp. 363–466
Wengst, K.,
Christologische Formeln und Lieder des Urchristentums, Gütersloh 1972, Drifter Teil
Глава VIII Таинства
Barrett, С. К.,
Church, Ministry and Sacraments in the New Testament, Paternoster 1985
Barth, G.,
Die Taufe in frühchristlicher Zeit, Neukirchen 1981 Earth, К.,
Church Dogmatics, IV/4, ET T. & T. Clark 1970
Barth, M.,
Rediscovering the Lord's Supper, Jhohn Knox 1988
Beasley‑Murray, G. R.,
Baptism in the New Testament, Macmillan 1963; Paternoster 1972
Bornkamm, G., 'Baptism and New Life in Paul' (1939), 'Lord's Supper and Church in Paul' (1956),
Early Christian Experience, ET SCM Press 1969, chs V and IX
Brown, R., E., 'The Johannine Sacramentary', 'The Eucharist and Baptism in John',
New Testament Essays, Chapman 1965, chs 4 and 5
Brown, S., '"Water‑Baptism" and "Spirit‑Baptism" in Luke‑Acts',
Anglican Theological Review 59, 1977, pp. 135–51
Corell, Α.,
Consummation Est, 1950, ET SPCK. 1958
Cullmann, O., 'The Meaning of the Lord's Supper in Primitive Christian- ity' (1936), ET in 0. Cullmann and F. J. Leenhardt,
Essays on the Lord's Supper, Lutterworth 1958, pp. 5–23
— Baptism in the New Testament, 1948, ET SCM Press 1950
— Early Christian Worship, 1950, ET SCM Press 1953, ch. 2
Dinkier, E., 'Die Taufaussagen des Neuen Testaments',
Zu Karl Barths Lehre von der Taufe, ed., K.. Viering, Gütersloh 1971, pp. 60–153
Dix, G.,
The Shape of the Liturgy, Dacre Press, A. & C. Black 1945
Dunn, J. D. G.,
Baptism in the Holy Spirit, SCM Press 1970
— 'John 6 — a Eucharistie Discourse?'
NTS, 17, 1970–71. pp. 328–338
— 'The Birth of a Metaphor — Baptized in Spirit',
ExpT 89, 1977–78, pp. 134–138, 173–175
Flemington, W. F.,
The New Testament Doctrine of Baptism, SPCK. 1948
George, Α., et al.,
Baptism in the New Testament, 1956, ET Chapman 1964
Jeremias. J.,
The Eucharistie Words of Jesus, 31960, ET SCM Press 1966
Käsemann, Ε., 'The Pauline Doctrine of the Lord's Supper' (1947–48),
ENTT, pp. 108–135
Klappert, В., 'Lord's Supper',
NIDNTT, II, 1976, pp. 520–538
Lampe, G. W. H.,
The Seal of the Spirit, SPCK 1951,
21967
Lean‑Dufour, X.,
Sharing the Eucharistie Bread. The Witness of the New Testament, 1982, ET Paulist 1987
Lietzmann, Η.,
Mass and Lord's Supper: a Study in the History of Liturgy, 1926, ET Leiden 1954 Lindars, В., 'Word and Sacrament in the Fourth Gospel',
SJT, 29, 1976, pp. 49–63
Marshall, 1. H.,
Last Supper and Lord's Supper, Paternoster 1980
Marxsen, W.,
The Lord's Supperas a Christological Problem, 1963, ET Fortress Facet Book 1970
Parratt, J. K., 'Holy Spirit and Baptism',
ExpT, 82, 1970–71, pp. 231–235, 266–271
Reumann, J.,
The Supper of the Lord. The New Testament, Ecumenical Dialogues, and Faith and Order on Eucharist, Fortress 1985
Saldarini,
A. J., Jesus and Passover, Paulist 1984
Schnackenburg, R.,
Baptism in the Thought of St Paul, 1961, ET Blackwell 1964
Schweizer, Ε.,
The Lord's Supper according to the New Testament, 1956, ET Fortress Facet Book 1967
Wagner, G.,
Pauline Baptism and the Pagan Mysteries, 1962, ET Oliver & Boyd, 1967
Wedderburn, A. J. M.,
Baptism and Resurrection. Studies in Pauline Theology against its Graeco‑Roman Background, WUNT 4–4, Tübingen 1987
Глава IX Дух и опыт
Barrett, С. К..,
The Holy Spirit and the Gospel Tradition, SPCK. 1947
Beasley‑Murray, G. R., 'Jesus and the Spirit',
MBBR, pp. 463–478
Brown, R. E., 'The Paraclete in the Fourth Gospel',
NTS, 13, 1966–67, pp. 113–132
Cerfaux, L.,
The Christian in the Theology of St Paul, 1962, ET Chapman 1967, chs 8 and 9
Chevallier, Μ. — Α.,
Souffle de Dieu. Le Saint‑Esprit dans le Nouveau Testament, Beauchesne 1978
Congar, Y.,
I Believe in the Holy Spirit, Seabury/Chapman, 3 vols., 1983
Deissmann, Α.,
Paul: A Study in Social and Religious History, 21925, ET 1927, Harper 1957
Dunn, J. D. G., Ί Corinthians 15.45 — Last Adam, Life‑giving Spirit',
CSNT, pp. 127–141
— Jesus and the Spirit: a Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and
the first Christians as Reflected in the New Testament, SCM Press 1975
— 'Rom. 7.14–25 in the Theology of Paur, TZ, 31, 1975. pp. 257–73
— 'Rediscovering the Spirit (2)',
ExpT94, 1982–83, pp. 9–18
— 'The Spirit of Jesus', and 'The Spirit and Body of Christ',
The Holy Spirit: Renewing and Empowering Presence, ed., G. Vandervelde, Wood Lake 1989, pp. 11–43
Gaventa, B. R.,
From Darkness to Light. Aspects of Conversion in the New Testament, Fortress 1986
George, Α.,
Communion with God in the New Testament, Epworth 1953
Gunkel, H.,
Die Wirkungen des heiligen Geistes nach der populäaren Anschauung der apostolischen Zeit und nach der Lehre des Apostels, Paulus, Göttingen 1888
Hamilton, N. Q.,
The Holy Spirit and Eschatology in Paul, SJT, Occasional Papers no. 6 1957
Heron, Α. 1. С,
The Holy Spirit, Marshall 1983
Hopwood, P. G. S.,
The Religious Experience of the Primitive Church, Т. & T. Clark 1936
Hull, J. Η. E.,
The Holy Spirit in the Acts of the Apostles, Lutterworth 1967
Isaacs, Μ. E.,
The Concept of Spirit, Heythrop Monograph 1, 1976
Jeremias J.,
The Prayers of Jesus, 1966, ET SCM Press 1967, ch. I Küng, H. and Moltmann. J., ed.,
Conflicts about the Holy Spirit, Concilium 128, Seabury/T. & T. Clark 1979
Lampe, G. W. H., 'The Holy Spirit in the Writings of St Luke',
Studies in the Gospels, ed., D. E. Nineham, Blackwell 1955, pp. 159–200
Lindblom, J.,
Gesichte und Offonbarungen, Lund 1968
Montague, G. T.,
The Holy Sprint: Growth of a Biblical Tradition, Paulist 1976
Otto. R.,
The Idea of the Holy, 1917, ET Oxford University Press 1923
Porterie, I. de la and Lyonnet, S.,
The Christian Lives by the Spirit, 1965, ET Society of St Paul 1971
Robeck, С. M., ed.,
Charismatic Experiences in History, Hendrickson 1985
Robinson, H. W.,
The Christian Experienence of the Holy Spirit, Nisbet 1928
Schillebeeckx, E.,
Christ. The Christian Experience in the Modern World, SCM Press 1980
Schweizer, Α.,
The Mysticism of Paul the Apostle, ET A. & C. Black 1931
Schweizer, Ε.,
The Holy Spirit, SCM Press/Fortress 1978
Smart, N.,
The Religious Experience of Mankind, 1969, Fontana 1971, chs 1 and 7
Tannehill, R. C,
Dying and Rising with Christ, Berlin 1967
Taylor, J. V.,
The Go‑Between God, SCM Press 1972
Wikenhauser, Α.,
Pauline Mysticism: Christ in the Mystical Teaching of St Paul, 41956, ET Herder 1960
Глава X Христос и христология
Balz, H. R.,
Methodische Probleme der neutestamentlichen Christologie, Neukirchen 1967
Barrett, С.
K. Jesus and the Gospel Tradition, SPCK. 1967
Brown, R. E.,
Jesus God and Man, Chapman 1968
Bultmann, R., 'The Significance of the Historical Jesus for the Theology of Paul' (1929), 'The Christology of the New Testament',
Faith and Understanding: Collected Essays, ET SCM Press 1969, pp. 220–246, 262–285
— 'The Christological Confession of the World Council of Churches' (1951),
Essays Philosophical and Theological, ET SCM Press 1955, pp. 273–290
— 'The Primitive Christian Kerygma and the Historical Jesus' (1961),
The Historical Jesus and the Kerygmatic Christ, ed., С. Ε. Braaten and R. A. Harrisville, Abingdon 1964, pp. 15–42
Caird, G. В., 'The Development of the Doctrine of Christ in the New Testament',
Christ for us Today, ed., N. Pittenger, SCM Press 1968, pp. 66–80
Casey, M., 'Chronology and the Development of Pauline Christology',
Paul and Paulinism, С. K.. Barrett Festschrift, ed. M. D. Hooker and S. G. Wilson, SPCK 1982, pp. 124–134
Cupitt, D., 'One Jesus, many Christs?',
Christ, Faith and History: Cambridge Studies in Christology, ed., S. W. Sykes and J. P. Clayton, Cambridge University Press 1972, pp. 131–144
Ebeling, G.,
Theology and Proclamation, 1962, ET Collins 1966
Ernst, J.,
Anfange der Christologie, Stuttgarter Bibelstudien 57, 1972
Fuller, R. H. and Perkins, P.,
Who is this Christ? Gaspel Christology and Contemporary Faith, Fortress 1983
Furnish, V. P., 'The Jesus‑Paul Debate: from Baur to Bultmann',
BJRL, 47, 1964–65, pp. 342–81
Hamerton‑Kelly, R. G.,
Pre‑existence. Wisdom and the Son of Man: A Study of the Idea of Pre‑existence in the New Testament, Cambridge University Press 1973
Hanson, A. T.,
Grace and Truth; A Study in the Doctrine of the Incarnation, SPCK 1975
— The Image of the Invisible God, SCM Press 1982
Hurst, L. D. and Wright, N. T., ed.,
The Glory of Christ in the New Testament. Studies in Christology in Memory of G. B. Caird, Clarendon 1987
Hurtado, L. W.,
One God, One Lord. Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, Fortress/SCM Press 1988 Jewett, R., ed.,
Christology and Exegesis; New Approaches, Semeia 30, 1984
de Jonge, M.,
Christology in Context. The Earliest Christian Response to Jesus, Westminster 1988
Jungel, E.,
Paulus und Jesus: eine Untersuchung zur Präzisierung der Frage nach dem Ursprung der Christologie, Tübingen 1962,
31967
Käsemann, E., 'The Problem of the Historical Jesus' (1954),
ENTT, pp. 15–47
— 'Blind Alleys in the "Jesus of History" Controversy',
NTQT, pp. 23–65
Keck, L. E.,
A Future for the Historical Jesus, SCM Press 1972
— 'Toward a Renewal of New Testament Christology',
NTS 32, 1986, pp. 362–377
Knox, J.,
The Humanity and Divinity of Christ: a Study of Pattern in Christology, Cambridge
University Press 1967
Marxsen, W.,
The Beginnings of Christology, 1960, ET Fortress Facet Book 1969
McCaughey, J. D.,
Diversity and Unity in the New Testament Picture of Christ, University of
Western Australia 1969
Moule, С. F. D.,
The Phenomenon of the New Testament, SCM Press 1967
— The Origins of Christology, Cambridge 1977
— 'Jesus of Nazareth and the Church's Lord',
Die Mitte des Neuen Testa- ments. Einheit und Vielfalt neutestamentlicher Theologie, E. Schweizer Fest- schrift, hrsg. U. Luz and H. Weder, Göttingen 1983, pp. 176–86
Pannenberg, W.,
Jesus God and Man, 1964 ET SCM Press 1968
Pokorny, P.,
The Genesis of Christology. Foundation for a Theology of the New Testament, T. & T. Clark 1987
Robinson, J. A. T.,
The Human Face of God, SCM Press 1973
Robinson, J. M.,
A New Quest of the Historical Jesus, SCM Press 1959
Schillebeeckx, E.,
Jesus: an Experiment in Christology, Collins 1979
Schnackenburg, R., 'Paulinische und johanneische Christologie',
Die Mitte des Neuen Testaments. Ε. Schweizer Festschrift, hrsg. U. Luz and H. Weder, Göttingen 1983, pp. 221–37
Schweizer,
E., Jesus, 1968, ET SCM Press 1971
Strecker, G., ed.,
Jesus Christus in Historie und Theologie: Neutestamentliche Festschrift fur Haw Conzelmann, Tübingen 1975
Taylor, V.,
The Person of Christ in New Testament Teaching, Madnillan 1958
Wainwright, A. W.,
The Trinity in the New Testament, SPCK. 1962
Глава XI Иудеохристианство
С. К. Barren., 'Paul's Opponents in II Corinthians',
NTS, 17, 1970–71, pp. 233–254
Barth, G., in G. Bornkanmm, G. Barth and H. J. Held,
Tradition and Interfiretation in Matthew, 1960, ET SCM Press 1963
Brandon, S. G. F.,
The Fall of Jerusalem and the Christian Church, SPCK. 1951
Brown, R. E. & Meier, J. P.,
Antioch and Rome. New Testament Cradles of Catholic Christianity, Chapman 1983
Cullmann, O., 'Dissensions within the Early Church' (1967),
New Testament Issues, ed., R. Batey, SCM Press 1970, pp. 119–29
Danielou. J.,
The Theology of Jewish Christianity, 1958, ET Carton, Longman & Todd 1964
— Judéo‑christianisme. Recherches historiques et theologiques offertes au Cardinal Jean Danielou, Paris 1972
Davies, W. D.,
Paul and Rabbinic Judaism, SPCK 1948
— The Setting of the Sermon on the Mount, Cambridge University Press 1964
Dunn, J. D. G.,
Jesus, Paul and the Law. Studies in Mark and Galatians, SPCK. 1990
Elliott‑Binns, L. E.,
Galilean Christianity, SCM Press 1956
Foakes Jackson, F. J. and Lake, K.,
The Beginnings of Christianity Part 1: The Acts of the Apostles, Macmillan, Vol. 11920, pp. 300–320
Hooker, M. D.,
Continuity and Discontinuity. Early Christianity in its Jewish Setting, Epworth 1986
Kaufman, Y.,
Christianity and Judaism. Two Covenants, Jerusalem 1988
Klijn, A. F. J. and Reinink, G. J.,
Patristic Evidence for Jewish‑Christian Sects, SNT, XXXVI, 1973
Klijn, A. F. J. 'The Study of Jewish Christianity',
NTS, 20, 1973–74, pp. 419–431
Maier, J.,
Jüdische Ausemandersetzung mit dem Christentum in der Antike, Darmstadt 1982
Martyn, J. L.,
History and Theology in the Fourth Gospel, Harper 1968; revised Abingdon 1979
Mocks, W. Α., '"Am I a Jew?" Johannine Christianity and Judaism',
Christianity, Judaism and Other Greco‑Roman Cults, M. Smith Festschrift, ed. J. Neusner, Part One, Brill 1975, pp. 163–186
Meeks, W. A. and Wilken, R. L.
Jews and Christians in Antioch in the First Four Centuries of the Common Era, Scholars 1978
Munck. J.,
Paul and the Salvation of Mankind, 1954, ET SCM Press 1959
— 'Jewish Christianity in Post‑Apostolic Times',
NTS, 6, 1959–60, pp. 103–116
Murray, R., 'Jews, Hebrews and Christians: Some Needed Distinctions',
Nov T24, 1982. pp. 194–208
Neusner. J. and Frerichs, E. S., ed., "To
See Ourselves as Others See Us". Christians, Jews and "Others" in Late Antiquity, Scholars 1985 Osten‑Sacken, P. von der,
Christian‑Jewish Dialogue. Theological Foundations, 1982, ET Fortress 1986
Richardson. P.,
Israel in the Apostolic Church, Cambridge UniversityPress 1969
Sanders, E. P.
Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion, SCM Press/Fortress 1977
Sandmel, S.,
Judaism and Christian Beginnings, Oxford University 1978
Schiffman, L. H., 'At the Crossroads: Tannaitic Perspectives on the Jewish- Christian Schism',
Jewish and Christian Self Definition Vol. 2. Aspects of Judaism in the Graeco‑Roman World, ed. E. P. Sanders, Fortress/ SCM Press 1981, pp. 115–156
Schmithals, W.,
Paul and James, 1963, ET SCM Press 1965
Schoeps, H.,
Theologie und Geschichte des Judenchristentums, Tübingen 1949
— Paul: the Theology of the Apostle in the Light of Jewish Religious History, 1959, ET Lutterworth 1961
— Jewish Christianity: Factional Disputes in the Early Church, 1964', ET Fortress 1969
Segal, A. F.,
Rebecca's Children. Judaism and Christianity in the Roman World, Harvard University 1986
Simon, M.,
Vows Israel. A study of the relations between Christians and Jews in the Roman Empire (AD 135–425), 1948, ET Oxford University 1986
Stanton, G., 'The Gospel of Matthew and Judaism',
BJRL 66, 1984, pp. 264–284
Strecker, G.'On the Problem of Jewish Christianity', in W. Bsluet,
Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, ET Fortress 1971, and SCM Press 1972, pp. 241–285
Vielhauer, P., 'Jewish‑Christian Gospels', Hennecke,
Apocrypha, 1, pp. 117–165
Глава XII Эллинистическое христианство
Barrett, С. К., 'Pauline Controversies in the Post‑Pauline Period',
NTS, 20, 1973–74, pp. 229–245
Bianchi, U., ed.,
Le Origini dello Gnosticismo, Leiden 1967
Cullmann, O.,
The Johannine Circle, 1975 ET SCM Press 1976
Dassmann, E.,
Der Stachel im Fleisch. Paulus in der frühcheitlichm Literatur bis Irenaus, Aschendorff 1979
Dräne, J. W.,
Paul, Libertine or Legalist?, SPCK 1975
Foerster, W.,
Gnosis: I Patristic Evidence, 1969;
11 Coptic and Mandate Sources, 1971, ET Oxford University Press 1972, 1974
Grant, R. M.,
Gnosticism and Early Christianity, 1959, Harper
21966
Hengel, M., 'Between Jesus and Paul',
Between Jesus and Paul, SCM Press/ Fortress 1983, pp. 1–29
Käsemann, Ε.,
The Testament of Jesus, 1966, ET SCM Press 1968, ch. II
Kloppenborg, J. S.,
The Formation of Q. Trajectories in Ancient Wisdom Collections, Fortress 1987
Knox, W. L.,
St Paul and the Church of the Gentiles, Cambridge University Press 1939
Koester, H.,
Introduction to the New Testament. Vol. 2. History and Literature of Early Christianity, Fortress/do Gruyter 1982
Meeks, W. Α., 'The Man from Heaven in Johannine Sectarianism',
JBL 91,1972, pp. 44–72
Nock, A. D., 'Early Gentile Christianity and its Hellenistic Background',
Essays on the Trinity and the Incarnation, ed., A. E. J. Rawlinson, 1928, pp. 51–156, reissued separately Harper 1964, and reprinted in his
Essays on Religion and the Ancient World, ed., Ζ. Stewart, Oxford University Press 1972, pp. 49–133
— 'Gnosticism',
HTR, 57, 1964, reprinted in
Essays, pp. 940–59
Pagels, E.,
The Gnostic Gospels, Random House/Weidenfeld 1979
Pagels Ε. H.,
The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis: Heracleon 's Commentary on John, SBL Monograph Series 17, Abingdon 1973
— The Gnostic Paul:
The Gnostic Exegesis of the Pauline Letters, Fortress 1975
Pearson, Β. Α.,
The Pneumatikos‑Psychikos Terminology in I Corinthians, SBL Dissertation Series 12, 1973
Perkins, P., 'Gnostic Christologies and the New Testament',
CBQ 43, 1981, pp. 590–606
Piper, R. Α.,
Wisdom in the Q‑Tradition. The Aphoristic Teaching of Jesus, SNTSMS 61, Cambridge University 1989
Puech, H. C, in Hennecke,
Apocryha, 1, pp. 231–362
Quispel, G.,
Gnostic Studies, Istanbul, Vol. I 1974, Vol. II 1975
Reitzenstein, R.,
The Hellenistic Mystery‑Religions. Their Basic Ideas and Significance, Pickwick 1978
Robinson, J. M.,
'Logoi Sophon:. On the Gattung of Q',
FRP, pp. 84–130, reprinted in
Trajectories, pp. 71–113
— ed.,
The Nag Hammadi Library in English, revised Brill 1988
Rudolph, K.,
Gnosis: the Nature and History of an Ancient Religion, 1977, ET T. & T. Clark 1983
Sanders, J. N.,
The Fourth Gospel in the Early Church, Cambridge University Press 1943
Schmithals, W.,
Gnosticism in Corinth, 31969, ET Abingdon 1971
— Paul and the Gnostics, 1965, ET Abingdon 1972
Schneemelcher, W., 'Paulus in der griechischen Kirche des zweiten Jahrhunderts',
ZKG, 75, 1964, pp. 1–20
Schottroff, L.,
Der Glaubende und die feindliche Welt: Beobachtungen zum gnostischen Dualismus und seiner Bedeutung fur Paulus und das Johannesevangelium, Neukirchen 1970
Scroggs, R., 'The Earliest Hellenistic Christianity',
Religions in Antiquity: Essays in Memory of E. R. Goodenough, ed., J. Neusner, Leiden 1968, pp. 176–206
Simon, M.,
St Stephen and the Hellenists in the Primitive Church, Longmans 1958
Smalley, S. S., 'Diversity and Development in John',
NTS, 17, 1970–71, pp. 276–292
Troger, K. W., hrsg.,
Gnosis und Neues Testament: Studien aus Religionswissenschaft und Theologie, Gütersloh 1973
Tuckett, C,
Nag Hammadi and the Gospiel Tradition. Synoptic Tradition in the Nag Hammadi Library, T. & T. Clark 1986
Wedderburn, A. J. M.,
Baptism and Resurrection. Studies in Pauline Theology against its Graeco‑Roman Background, WUNT 44, Tübingen 1987
Wilson, R. M.,
Gnosis and the New Testament, Blackwell 1968
Yamauchi, E.,
Pre‑christian Gnosticism, Tyndale Press 1973
Глава XIII Апокалиптическое христианство
Barrett, С. К.,
The New Testament Background: Selected Documents, SPCK. 1956, pp. 227–55
Baumgarten, J.,
Paulus und die Apokalyptik, Neukirchen 1975
Beasley‑Murray, G. R.,
The Kingdom of God, Paternoster 1986
Brown, C, 'The Parousia and Eschatology in the New Testament',
NIDNTT, 11, 1976, pp. 901–935
Bultmann, R.,
History and Eschatology, Edinburgh University Press 1957
Cohn, Ν.,
The Pursuit of the Millenium, Seeker & Warburg 1957
Collins, A. Y.,
Crisis and Catharsis. The Power of the Apocalypse, Westminster 1984
Collins, J. J., ed.,
Apocalypse. The Morphology of a Genre, Semeia 14, 1979
Collins, J. J.,
The Apocalyptic Imagination. An Introduction to the Jewish Matrix of Christianity, Crossroad 1984
Cullmann, О.,
Christ and Time, 1946, ET SCM Press
21962
— Salvation in History, 1965, ET SCM Press 1967
Davies, W. D., 'Apocalyptic and Pharisaism',
ExpT 59, 1947–48, pp. 233–237, reprinted in
Christian Origins and Judaism, Carton, Longman & Todd 1962, pp. 19–30
Fiorenza, E. S.,
The Book of Revelation. Justice and Judgment, Fortress 1985
Funk, R. W., ed.,
Apocalypticism, JThC, 6, 1969
Grösser, Ε.,
Die Naherwartung Jesu, Stuttgarter Bibelstudien 61, 1973
Hanson, P. D.,
The Dawn of Apocalyptic. The Historical and Sociological Roots of Jewish Apocalyptic Eschatology, Fortress 1975,
21979
Hellholm, D., ed.,
Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East, Tübingen 1983
Jewett, R.,
The Thessalonian Correspondence. Pauline Rhetoric and Millenarian Piety, Fortress 1986
Kasemann, E., 'The Beginnings of Christian Theology' (1960), 'On the Subject of Primitive Christian Apocalyptic' (1962),
NTQT, chs 4 and 5, also in Funk,
Apocalypticism
Keck, L. E., 'Paul and Apocalyptic Eschatology',
Interpretation 38, 1984, pp. 229–41
Koch, K.,
The Rediscovery of Apocalypitic, 1970, ET SCM Press 1972
Kümmel, W. G.,
Promise and Fulfllent, 31956, ET SCM Press
21961
Laws, S., 'Can Apocalyptic be Relevant?'
What about the New Testament? Essays in Honour of Christopher Evans, ed., M. Hooker and C. Hickling, SCM Press 1975, pp. 89–102
Marshall, 1. H., 'Is Apocalyptic the Mother of Christian Theology?',
Tradition and Interfire‑tation in the New Testament, E. E. Ellis Festschrift, ed. G. F. Hawthorne, Eerdmans 1987, pp. 33–42
Moltmann, J.,
Theology of Hope, 51965, ET SCM Press 1967
Moore, A. L.,
The Parousia in the New Testament, SNT, XIII, 1966
Morris, L.,
Apocalyptic, Tyndale Press 1973
Pannenberg, W.,
Revelationas History, 1961, ET Macmillan 1968
Robinson, J. A. T.,
Jesus and his Coming, SCM Press 1957
Rollins, W. G., 'The New Testament and Apocalyptic',
NTS, 17, 1970–71, pp. 454–476
Rowland, C,
The Open Heaven. A Study of Apocalypitic in Judaism and Early Christianity, SPCK 1982
Rowley, H. H.,
The Relevance of Apocalyptic, Lutterworth 1944,
31963
Russell, D. S.,
The Method and Message of Jewish Apocalyptic, SCM Press 1964
Schmithals, W.,
The Apocalyptic Movement: Introduction and Interpretation, 1973, ET Abingdon 1975
Schnackenburg, R.,
God's Rule and Kingdom, 1959, ET Herder 1963
Schweitzer, Α.,
The Quest of the Historical Jesus, ET A. & C. Black 1910, third edition 1954
Vielhauer, P., et al., in Hennecke,
Apocrypha II, Part С
Wiews, J.,
Jesus' Proclamation of the Kingdom of God, 1892, ET SCM Press 1971
Глава XIV Ранняя кафоличность
Barrett, С. К..,
Luke the Historian in Recent Study, Epworth 1961; Fortress Facet Book 1970
— New Testament Essays, SPCK 1972, chs 5–7
Batiffol, P.,
Primitive Catholicism, 51911, ET Longmans 1911
Bauer, W. and Hornschuh, M., in Hennecke,
Apocrypha, II, pp. 35–87
Brown, R. E., Donfried, К- P., and Reumann. J.,
Peter in the New Testament, Chapman 1974
Conzelmann, H.,
The Theology of St Luke, 1953
21957, ET Faber & Faber 1961
Cullmann, O.,
Peter: Disciple, Apostle, Martyr, 1952 4960, ET SCM Press
21962
Dräne, J. W., 'Eschatology, Ecclesiology and Catholicity in the New Testament',
ExpT, 83, 1971–72. pp. 180–184
Ehrhardt, Α.,
The Apostolic Ministry, SJT, Occasional Papers no. 7,1958
Elliott, J. Η., Ά Catholic Gospel: Reflections on "Early Catholicism" in the New Testament',
CBQ, 31, 1969, pp. 213–233
Flus, Ε. E.,
Eschatology in Luke, Fortress Facet Book 1972
Fuller, R. H., 'Early Catholicism. An Anglican Reaction to a German Debate',
Die Mitte des Neun Testaments, Ε. Schweizer Festschrift, hrsg. U. Luz and H. Weder, Göttingen 1983, pp. 34–41
Gasque, W. W.,
A History of the Criticism of the Acts of the Apostles, Tübingen 1975, Eerdmans 1975
Goppelt, L., 'The Existence of the Church in History according to Apostolic and Early Catholic Thought',
CWTI, pp. 193–209
Grässer, Ε.,
Das Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte, Berlin 1957,
21960
Hahn, F., 'Das Problem des Frühkatholizisrnus', and 'Frühkatholizimus als ökumensiches Problem',
Exegetische Beiträge zum ökumenischen Gespräch, Göttingen 1986, pp. 39–56 and 57–75
Holmberg, В.,
Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles, CWK. Gleerup 1978
Karrer, O.,
Peter and the Church: an Examination of Cullmann's Thesis, ET Herder 1963
Käsemann, Ε., 'The Disciples of John the Baptist in Ephesus' (1952), 'An Apologia for Primitive Christian Eschatology' (1952),
ENTT, chs VI and VIII
— 'Paul and Early Catholicism' (1963),
NTQT, pp. 236–251
— The Testament of Jesus, 1966, ET SCM Press 1968, chs III and IV
Keck, L. E. and Martyn, J. L., ed.,
Studies in Luke Acts, Abingdon 1966; SPCK 1968
Kümmel, W. G., 'Current Theological Accusations against Luke' (1970),
ET in Andover Newton Quarterly, 16, 1975–76. pp. 131–145
Küng, Η.,
Structures of the Church, ET Burns & Dates 1965, pp. 135–151
Luz, U., 'Erwägungen zur Entstehung des "Frühkatholizismus". Eine Skizze'.
ZNW 65, 1974, pp. 88–111
MacDonald, D. R.,
The Legend and the Apostle. The Battle for Paul in Story and Canon, Westminster 1983
MacDonald, M. Y.,
The Pauline Churches. A Socio‑historical study of institutionalization in the Pauline and Deutero‑Pauline writings, SNTSMS 60, Cambridge University 1988
Maddox, R.,
The Purpose of Luke‑Acts, T. & T. dark 1982
Marshall, 1. H., '"Early Catholicism" in the New Testament',
New Dimensions in New Testament Study, ed., R. N. Longenecker and M. G. Tenney, Zondervan 1974, pp. 217–231
Mattill, A. J., 'The Purpose of Acts: Schneckenberger Reconsidered',
Apostolic History and the Gospel: Biblical and Historical Essays Presented to F. F. Bruce, ed., W. W. Gasque and R. P. Martin, Paternoster 1970, pp. 108–122
Neufeld, Κ. H., '"Frühkatholizismus" — Idee und Begriff,
ZKT, 94, 1972, pp. 1–28
Schulz, S.,
Die Mitte der Schrift: der Frühkatholizismus im Neuen Testament als Herausforderung an die Protestantismus, Stuttgart 1976
Sohm, R.,
Wesen und Ursprung des Katholiysmus, 21912, Darmstadt 1967
Strecker, G., 'Frühkatholizismus',
Du Johanmsbriefe, KEK, Göttingen 1989, pp. 348–354
Troeltsch, E.,
The Social Teaching of the Christian Churches, 1911, ET Alien & Unwin 1931, pp. 89–200
Weiss, H. — F., '"Frühkatholizismus" im Neuen Testament? Probleme un Aspekte', in J. Rogge & G. Schule, hrsg.,
Frühkatholilzmus im ökumenischen Gespräch, Berlin 1983, pp. 9–26 Werner, M.,
The Formation of Christian Dogma, 1941, ET А. & C. Black 1957
Глава XV Авторитет Нового Завета
Aland, К.,
The Problem of the New Testament Canon, Contemporary Studies in Theology 2, Mowbray 1962
Barr, J.,
Old and New in Interpretation, SCM Press 1966
— The Bible in the Modern World, SCM Press 1973
Barrett, С. K., 'The Centre of the New Testament and the Canon',
Du Mitte des Neuen Testaments. Einheit and Vielfalt neutestamentlicher Theologie, E. Schweizer Festschrift, hrsg. U. Luz and H. Weder, Göttingen 1983, pp. 5–21
Best, E., 'Scripture, Tradition and the Canon of the New Testament',
BJRL 61,1979, pp. 258–289
Brown, R. E.,
The Critical Meaning of the Bible, Chapman 1982
— Biblical Exegesis and Church Doctrine, Chapman 1985
Bruce, F. F., 'New Light on the Origins of the New Testament Canon',
New Dimensions in New Testament Study, ed., R. N. Longenecker and M. C. Tenney, Zondervan 1974, pp. 3–18
— 'Some Thoughts on the Beginning of the New Testament Canon',
BJRL 65,1983, pp.37–60
Campenhausen, H., von,
The Formation of the Christian Bible, 1968, ET A. & C. Black 1972
Childs, В. S.,
The New Testament as Canon. An Introduction, SCM Press 1984
Cullmann, O., 'The Plurality of the Gospels as a Theological Problem in Antiquity' (1945), 'The Tradition' (1953),
The Early Church: Historical and Theological Studies, ET SCM Press 1956, pp. 39–54, 75–99
Dodd, С. H.,
The Authority of the Bible, Nisbet 1929
Doty, W. G.,
Contemporary New Testament Interpretation, Prentice‑Hall 1972
Dungan, D. L., 'The New Testament Canon in Recent Study',
Interpretation, 29, 1975, pp. 339–351
Dunn, J. D. G.,
The Living Word, SCM Press/Fortress 1987
Dunn, J. D. G. and Mackey, J. P.,
New Testament Theology in Dialogue, SPCK/Westminster 1987
Farmer, W. R. and Farkasfalvy, D. M.,
The Formation of the New Testamant Canon, Paulist 1983
Fazekas, L., 'Kanon im Kanon',
TZ 37, 1981, pp. 19–34
Gamble, H. Y.,
The New Testament Canon. Its Making and Meaning, Fortress 1985
Hahn, F., 'Die Heilige Schrift als älteste christliche Tradition und als Kanon',
Exegetische Beiträge zum ökunlenischen Gespräch, Gottingen 1986, pp. 29–39
Hanson, P. D.,
The Diversity of Scripture. A Theological Interpretation, Fortress 1982
Kasemann, E., 'Is the Gospel Objective?' (1953), 'The Canon of the New Testament and the Unity of the Church' (1951),
ENTT, pp. 482, 95–107
— 'Thoughts on the Present Controversy about Scriptural Interpretation' (1962), NTQT, pp. 260–85
— ed.,
Das New Testament als Kanon, Göttingen 1970
Kelsey, D. H.,
The Uses of Scripture in Recent Theology, Fortress and SCM Press 1975
Küng, H., '"Early Catholicism" in the New Testament as a Problem in Controversial Theology',
The Living Church, ET Sheed & Ward 1963, pp. 233–293, (published in USA under the title
The Council in Action: Theological Reflétions on the Second Vatican Council) Lönning, I.,
'Kanon im Kanon '. Zum dogmatischen Grundlagenproblem des neutestamentliehen Kanow, Oslo 1972
Marxsen, W.,
The New Testament as the Church 's Book, 1966, ET Fortress 1972
Meade. D. G.,
Pseudonymity and Canon. An Investigation into the Relationship of Authorship and Authority in Jewish and Earliest Christian Tradition, Tübingen/Eerdmans 1986
Mildenberger, F., 'The Unity, Truth and Validity of the Bible',
Interpretation, 29, 1975, pp. 391–405
Murray, R., 'How did the Church determine the Canon of Scripture?',
Heythrop Journal, 11, 1970. pp. 115–26 Nineham, D. E.,
The Use and Abuse of the Bible, Macmillan 1976
Ogden, S. M., 'The Authority of Scripture for Theology',
Interpretation, 30, 1976, pp. 242–261
Pannenberg, W.,
Basic Questions in Theology, Vol. 1, 1967, ET SCM Press 1970 Pedersen, S., 'Die Kanonfrage als historisches und theologisches Problem'.
Stadia Theologica 21,1977, pp. 83–136
Robinson, J. M.,
The New Hermeneutic, Harper 1964
Sanders, J. Α., Canon
and Community. A Guide to Canonical Criticism, Fortress 1984 Schurmann, Η., 'Auf der Suche nach dem "Evangelisch Katholischen".
Zum Thema "Früh‑katholizsmus im ökumenischen Gespräch, Berlin 1983, pp. 71–107 Schweizer, E., 'Scripture — Tradition — Modern Interpretation'
Neotestamentica Zürich 1963, pp. 203–235
Sheppard, G. T., 'Canonization. Hearing the Voice of the Same God through Historically Dissimilar Traditions',
Interpretation 36, 1982, pp. 21–33
Stendahl,
R., 'One Canon is Enough',
Meanings. The Bible as Document and as Guide, Fortress 1984, pp. 55–68
Wan, R. W., 'The Problem of the Multiple Letter Canon of the New
Testament'. Horizons in Bibiicai Theology 8, 1986 pp. 1–31
Wiles, M. F., 'The Uses of Holy Scripture'",
What about the New Testament? I
Essays in Honour of Christopher Evans, ed., M. Hooker and C. Hickling, SCM Press 1975, pp. 155–64
Zahn, T.,
Geschichle des neutestamentlichen Kanons, 4- vols, Leipzig 1888–92
Отзывы о книге
«Это выдающееся достижение по размаху материала, подбору литературы и балансу суждений. Я не могу назвать ни одну книгу по Новому Завету общего характера, которая могла бы сравниться с этой».
Рэймонд Браун
«Этот труд придаст новый импульс новозаветным исследованиям и внесет существенный вклад в современное богословие… Это важная работа по синтезу, сведению воедино того, что было написано за последнее время, и представление этого материала в форме связного убедительного тезиса».
Кеннет Грейстон
«Это замечательная работа и самое лучшее введение в новозаветную науку, которое я знаю».
New Blackfriars
«Можем ли мы достоверно говорить об ортодоксии и ереси в первоначальном христианстве? Что означает единство Нового Завета? Насколько велико многообразие внутри Нового Завета? Этим вопросам посвящена книга… Одно из самых важных следствий этой работы — то, как единство и многообразие Нового Завета могут повлиять на современный экуменический диалог».
Джеймс Д. Данн
Об авторе
 Джеймс Д. Данн (PhD, Кембриджский Университет)
Джеймс Д. Данн (PhD, Кембриджский Университет) — один из ведущих библеистов современности, почетный профессор богословия в Даремском университете. Он — автор многочисленных работ, среди которых «Новый взгляд на Иисуса» (русский перевод — издательство ББИ), «Богословие апостола Павла» и «Иисус воспоминаемый».
Примечания
1
Одним из самых полезных опытов в моей преподавательской деятельности всегда были семинары, на которых шла работа с В. Н. Throckmorton's,
Gospel Parallels, Nelson
21957;
51992, когда ставилась задача: (а) как можно точнее перечислить различия; (б) попытаться объяснить эти различия. Было ощутимо, как спадают умственные шоры и растворяются ставни.
(обратно)
2
F. С. Baur,
Paul: The Apostle of Jesus Christ, 1845 2 vols, Williams & Norgate 1873, 1875. Недавно Майкл Гоулдер попытался вдохнуть новую жизнь в тезис Баура: M. D. Goulder,
Paul and the Competing Mission in Corinth, Hendrickson 2001.
(обратно)
3
Christianity in the Making: Vol 1. Jesus Remembered, Eerdmans 2003. См. также ниже примечание 44.
(обратно)
4
The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans/T. & T. Clark 1998;
The New Perspective on Paul, Mohr Siebeck 2005; также "Paul: Apostate or Apostle of Israel?",
ZNW, 89, 1998 pp. 256–271; "Who Did Paul Think He Was? A Study of Jewish Christian Identity",
NTS, 45, 1999, pp. 174–193; "The Jew Paul and his Meaning for Israel", in U. Schnelle and T. Söding, eds.,
Paulinische Christologie: Exegetische Beiträge, H. Hübner FS, Vandenhoeck & Ruprecht 2000, pp. 32–46, перепечатано в T. Linafeit, ed.,
A Shadow of Glory: Reading the New Testament after the Holocaust, Routledge 2002, pp. 201–215.
(обратно)
5
The Partings of the Ways between Christianity and Judaism and their Significance for the Character of Christianity, SCM Press 1991; также "Two Covenants or One? The Interdependence of Jewish and Christian Identity", in
Geschichte — Tradition — Reflexion: Festschrift für Martin Hengel. III. Frühes Christentum, ed. H. Lichtenberger, J. С. В. Mohr 1996, pp. 97–122 = "Zwei Bünde oder Einer? Die wechselseitige Abhängigkeit der jüdischen und christlichen Identität", in P. Fiedler and G. Dautzenberg, hrsg.,
Studien zu einer neutestamentlichen Hermeneutik nach Auschwitz, Stuttgarter biblische Aufsatzbände 27, Kath. Bibelwerk 1999, pp. 115–154.
(обратно)
6
Unity and Diversity in the New Testament, SCM Press 1977.
(обратно)
7
Так я оправдываю свою неспособность проделать более скрупулезный труд!
(обратно)
8
См. выше примечание 3.
(обратно)
9
См. второе издание, pp. xvi‑xvii (русский перевод — Джеймс Данн,
Единство и многообразие в Новом Завете, ББИ, 1997, сс. 14–15).
(обратно)
10
См. особенно Е. Adams and D. G. Horrell, eds.,
Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church, Westminster 2004.
(обратно)
11
R. B. Hays,
Echoes of Scripture in the Letters of Paul, Yale 1989; см. также особенно F. Watson,
Paul and the Hermeneutics of Faith, T. & T. Clark International 2004.
(обратно)
12
См. особенно L. W. Hurtado,
Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Eerdmans 2003.
(обратно)
13
См. второе издание, p. xxi (русский перевод — Джеймс Данн,
Единство и многообразие в Новом Завете, ББИ, 1997, с. 19).
(обратно)
14
Среди современных исследований см. М. Bockmuehl,
Jewish Law in Gentile Churches: Halakhah and the Beginning of Christian Public Ethics, T. & T. Clark 2000; R. B. Hays,
The Moral Vision of the New Testament: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics, HarperSanFrancisco 1996; R. N. Longenecker, ed.,
Patterns of Discipleship in the New Testament, Eerdmans 1996; E. Lohse,
Theological Ethics of the New Testament, Fortress 1991; W. A. Meeks,
The Origins of Christian Morality: The First Two Centuries, Yale University Press 1993; W. Marxsen,
New Testament Foundations for Christian Ethics, Fortress 1993; W. Schräge,
The Ethics of the New Testament, T. & T. Clark 1988; J. Starr and T. Engberg‑Pedersen, eds.,
Early Christian Paraenesis in Context, BZNW 125, de Gruyter 2004.
(обратно)
15
В "Единстве и многообразии" я на этом подробно не останавливался, но неоднократно упоминал — см. глава 2 (3.5, 4.7, 6.3), глава 4 (17.3), глава 6 (31.1), глава 9 (46.3), глава 11 (58.3), глава 12 (61.1, 63.3, 64.3, 65.4), глава 13 (66.2), глава 15 (75.1). См. также V. P. Furnish,
The Love Command in the New Testament, Abingdon 1972; J. Piper,
'Love your Enemies': Jesus' Love Command in the Synoptic Gospels and the Early Church Paraenesis, SNTSMS 38, Cambridge University Press 1979; T. Söding, Das Liebesgebot bis Paulus. Die Mahnung zur Agape im Rahmen der paulinischen Ethik, Aschendorff 1991.
(обратно)
16
См. мою статью "Jesus and Purity: An Ongoing Debate",
NTS, 48, 2002, pp. 449–467.
(обратно)
17
Jesus Remembered, pp. 563–583.
(обратно)
18
См., например, В. Rosner, ed.,
Understanding Paul's Ethics: Twentieth Century Approaches, Eerdmans 1995; J. D. G. Dunn, ed.,
Paul and the Mosaic Law, WUNT 89, Mohr Siebeck 1996; Eerdmans 2001.
(обратно)
19
См. далее мою работу
New Perspective on Paul, глава 1.
(обратно)
20
Theology of Paul § 24, особенно §§ 24.3, 7.
(обратно)
21
Речь идет о принятой в американской армии политике "не спрашивай, не говори": с одной стороны, командиры не имеют права спрашивать о сексуальной ориентации военнослужащих; с другой стороны, гомосексуалисты и бисексуалы не должны говорить о своей ориентации, если не хотят быть уволенными. —
Прим. пер.
(обратно)
22
См. особенно R. A. Horsley,
The Message and the Kingdom: How Jesus and Paul Ignited a Revolution and Transformed the Ancient World, 1997, Fortress 2002; также N. T. Wright,
What Saint Paul Really Said, Eerdmans 1997.
(обратно)
23
Theology of Paul, § 24.2
(обратно)
24
См. далее мою работу "The Household Rules in the New Testament", in S. C. Barton, ed.,
The Family in Theological Perspective, T. & T. Clark 1996, pp. 43–63; также
Theology of Paul, pp. 666–667.
(обратно)
25
По этим проблемам существует колоссальное количество современной научной литературы. Например, J. M. G. Barclay,
Jews in the Mediterranean Diaspora from Alexander to Trajan (323 ВСЕ -117 CE), T. & T. Clark 1996; W. Horbury,
Jews and Christians in Contact and Controversy, T. & T. Clark 1998; J. M. Lieu,
Christian Identity in the Jewish and Graeco‑Roman World, Oxford, University Press, 2004; M. Lowe, ed.,
The New Testament and Jewish‑Christian Dialogue, D. Flusser FS,
Immanuel, 24/25, 1990; C. Setzer,
Jewish Responses to Early Christians: History and Polemics, 30–150 CE, Fortress 1994; H. Shanks, ed.,
Christianity and Rabbinic Judaism: A Parallel History of Their Origins and Early Development, Biblical Archaeology Society 1992; L. Swidler et al.,
Bursting the Bonds? A Jewish‑Christian Dialogue on Jesus and Paul, Orbis 1990; C. M. Williamson,
A Guest in the House of Israel: Post‑Holocaust Church Theology, Westminster 1993; S. G. Wilson,
Related Strangers: Jews and Christians 70 — 170 CE, Fortress 1995. О моих собственных работах по данным темам см. выше примечания 4–5.
(обратно)
26
См. особенно G. Vermes,
The Authentic Gospel of Jesus, Penguin 2004; H. Maccoby,
Jesus the Pharisee, SCM Press 2003. См. также более раннюю критику данной тенденции в D. А. Hagner,
The Jewish Reclamation of Jesus, Zondervan 1984.
(обратно)
27
См. особенно мою работу
New Perspective on Paul.
(обратно)
28
Из современных исследований см. D. Boyarin,
Border Lines: The Partition of Judaeo‑Cristianity, University of Pennsylvania 2004; также старые работы Паркса, к сожалению, слишком часто пренебрегаемые, J. Parkes,
The Conflict of the Church and the Synagogue: A Study in the Origins of Antisemitism, Jewish Publication Society of America 1934; также M. Simon,
Verus Israel: A Study of the Relations between Christians and Jews in the Roman Empire (AD 135 — 425), 1964, ET Oxford University Press, Littman Library 1986.
(обратно)
29
См. предисловие ко второму изданию, pp. xxvii‑xxviii (русский перевод — Джеймс Данн,
Единство и многообразие в Новом Завете, ББИ, 1997, с. 26.)
(обратно)
30
См. особенно J. D. Crossan,
The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, HarperSanFrancisco 1991; R. W. Funk and R. W. Hoover,
The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus, Macmillan 1993.
(обратно)
31
См. особенно Β. L. Mack,
The Christian Myth: Origins, Logic and Legacy, Continuum 2001; R. Cameron and M. P. Miller, eds.,
Rediscovering Christian Origins, Society of Biblical Literature 2004.
(обратно)
32
S. Petrement,
A Separate God: The Christian Origins of Gnosticism, HarperSanFrancisco 1990; Α. Η. B. Logan,
Gnostic Truth and Christian Heresy: A Study in the History of Gnosticism, Hendrickson 1996; С. Β. Smith,
No Longer Jews: The Search for Gnostic Origins, Hendrickson 2004.
(обратно)
33
Эти проблемы особенно ставились в работах: В. L. Mack,
A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins, Fortress 1988;
The Lost Gospel: The Book of Q and Christian Origins, HarperCollins 1993; R. W. Funk, Honest to Jesus, HarperSanFrancisco 1996. Отправной точкой для большинства таких теорий послужило исследование J. S. Kloppenborg, The Formation of Q: Trajectories in Ancient Wisdom Collections, Fortress 1987. На большую часть этих вопросов проливают "холодный душ" здравого смысла работы С. M. Tuckert, Nag Hammadi and the Gospel Tradition, T. & T. Clark 1986; Q and the History of Early Christianity: Studies on Q, T. & T. Clark 1996. Относительно моего собственного критического анализа см. Jesus Remembered, особенно ce. 147–160.
(обратно)
34
Как видно из индекса к первому изданию, именно работы Кеземана стимулировали написание всей моей книги и именно Кеземан был моим основным партнером по диалогу.
(обратно)
35
См. выше примечания 29, 30, 32. См. также M. J. Borg,
Jesus in Contemporary Scholarship, Trinity Press International 1994.
(обратно)
36
N. T. Wright,
Jesus and the Victory of God, SPCK 1996 (русский перевод — H. T. Райт,
Иисус и победа Бога, ББИ 2004).
(обратно)
37
J. L. Martyn,
Galatians, AB 33 A, Doubleday 1997;
Theological Issues in the Letters of Paul, T. & T. Clark 1997.
(обратно)
38
J. D. G. Dunn, "Has the Canon a Continuing Function?", in L. M. McDonald and J. A. Sanders, eds.,
The Canon Debate, Hendrickson 2002, pp. 558–579.
(обратно)
39
Подробнее см. в моей книге
Theology of Paul, pp. 548–552.
(обратно)
40
См. мою работу
Jesus' Call to Discipleship, Cambridge University Press 1992.
(обратно)
41
См. мою статью "Should Paul Once Again Oppose Peter to his Face?",
Heythrop Journal, 34, 1993, pp. 58–65.
(обратно)
42
Свои размышления в связи с проблематикой второго издания моего "Единства и многообразия" я резюмировал в статье "Unity and Diversity in the Church: A New Testament Perspective",
Gregorianum, 71, 1990, pp. 629–656. Она дана в приложении к настоящей книге.
(обратно)
43
Я уже затрагивал данную проблему в новой версии § 76, опубликованного в этом издании.
(обратно)
44
Мои последние размышления на сей счет резюмированы в "What Makes a Good Exposition?",
The Expository Times Lecture, June 2002,
ExpT, 114, 2002–2003, pp. 147–157.
(обратно)
45
Подробнее см. мою статью "Altering the Default Setting: Re‑Envisaging the Early Transmission of the Jesus Tradition",
New Testament Studies, 49, 2003, pp. 139–175; также
A New Perspective on Jesus: What the Quest for the Historical Jesus Missed, Baker Academic/SPCK 2005, pp. 50–51, 96–98, 123.
(обратно)
46
Перевод Ильзы фон Левенклау.
(обратно)
47
Testing the Foundations. Current Trends in New Testament Study. University of Durham 1984.
(обратно)
48
С другой стороны, один автор предложил новую датировку ряда новозаветных текстов — периодом до 70 г. н. э.: J. А. Т. Robinson,
Redating the New Testament, SCM Press 1976. Его аргументы мало кого убедили. См., однако, Е. Е. Ellis, "Dating the New Testament",
NTS 26, 1979–1980, pp. 487–502.
(обратно)
49
G. Theissen,
The First Followers of Jesus. A Sociological Analysis of the Earliest Christianity, SCM Press 1978 =
Soziologie der Jesusbewegung, Kaiser 1977;
Studien zur Soziologie des Urchristentums, WUNT 19; Tübingen 1979 = репринт серии статей, восходящих к 1973 г. J. Z. Smith, "The Social Description of Early Christianity".
Religious Studies Review 1, 1975, pp. 19–25 и A. J. Malherbe,
Social Aspects of Early Christianity, Louisiana State University 1977 обратили англоязычных читателей на важность работ Тайсена.
(обратно)
50
См., например, H. С Кее,
Christian Origins in Sociological Perspective, SCM Press 1980; B. J. Malina,
The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology, SCM Press 1981; W. A. Meeks,
The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul. Yale University 1983; J. H. Elliott, ed.,
Social‑Scientific Criticism of the New Testament and its Social World, Semeia 35, 1986. Дальнейшая библиография в D. J. Harrington, "Second Testament Exegesis and the Social Sciences. A Bibliography",
Biblical Theology Bulletin 18, 1988, pp. 77–85.
(обратно)
51
E. P. Sanders,
Paul and Palestinian Judaism, London: SCM Press 1977.
(обратно)
52
J. Neusner,
The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70, Brill 1971;
From Politics to Piety. The Emergence of Pharisaic Judaism. Prentice‑Hall 1973;
Judaism. The Evidence of the Mishnah, University of Chicago Press 1981;
Judaism in the Beginning of Christianity, Fortress/SPCK 1984.
(обратно)
53
G. W. E. Nickelsburg,
Jewish Literature between the Bible and the Mishnah. Fortress/SCM Press 1981; J. H. Charlesworth, ed.,
The Old Testament Pseudepigrapha, 2 vols., Darton, Longman & Todd 1983, 1985; H. F. D. Sparks, ed.,
The Apocryphal Old Testament, Clarendon 1984; M. E. Stone, ed.,
Jewish Writings of the Second Temple Period. Van Gorcum/Fortress 1984; R. A. Kraft and G. W. E. Nickelsburg, ed.,
Early Judaism and its Modern Interpreters, Scholars 1986; E. Schürer,
The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, revised and ed., G. Vermes, et al., T. & T. Clark, Vol. 3, 1986, 1987.
(обратно)
54
Особенно T. Wright in S. Neill and T. Wright,
The Interpretation of the New Testament 1861 -1986, 2
nd edition, Oxford University 1988, pp. 38Iff. Райт имеет в виду следующие работы: В. F. Meyer,
The Aims of Jesus, SCM Press 1979; A. E. Harvey,
Jesus and the Constraints of History, Duckworth 1982; M. J. Borg,
Conflict, Holiness and Politics in the Teachings of Jesus, Mellen 1984; Ε. P. Sanders, Jesus and Judaism, SCM Press 1985. К "третьему поиску" можно отнести и ряд других работ, написанных с разных позиций, например, В. Chilton, A Galilean Rabbi and his Bible. Jesus' Own Interpretation of Isaiah, SPCK 1984; F. G. Downing, Jesus and the Threat of Freedom, SCM Press 1987; R. A. Horsley, Jesus and the Spiral of Violence. Popular Jewish Resistance in Roman Palestine, Harper & Row 1987; R. Leivestad, Jesus in His Own Perspective, Augsburg 1987; G. Theissen, The Shadow of the Galilean, SCM Press 1987; S. Freyne, Galilee, Jesus and the Gospel, Gill & Macmillan 1988; I. M. Zeitlin, Jesus and the Judaism of his Time, Polity 1988; J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism. New Light from Exciting Archaeological Discoveries, SPCK 1989.
(обратно)
55
J. D. G. Dunn,
Jesus, Paul and the Law: Essays on Mark and Galatians, London: SPCK, 1990, с библиографией.
(обратно)
56
См., например, D. Rhoads and D. Michie,
Mark as Story. An Introduction to the Narrative of a Gospel, Fortress 1982; R. A. Culpepper,
Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, Fortress 1983; Ε. V. McKnight,
The Bible and the Reader. An Introduction to Literary Criticism, Fortress 1985; R. C. Tannehill,
The Narrative Unity of Luke — Acts. A Literary Interpretation. Vol. 1: The Gospel according to Luke, Fortress 1986; D. Jasper,
The New Testament and the Literary Imagination, Macmillan 1987; N. R. Petersen,
Literary Criticism for New Testament Critics, Fortress 1978. Относительно того, что можно было бы обозначить как историческую литературную критику, см. D. Е. Aune,
The New Testament in its Literary Environment, Westminster 1987. Позитивную оценку см. в R. Morgan & J. Barton,
Biblical Interpretation, Oxford University Press 1988, гл. 7.
(обратно)
57
Одна из самых неожиданных рецензий на "Единство и многообразие" критиковала меня за то, что я недостаточно серьезно отношусь к многообразию и придаю ему лишь периферийную значимость (T. Radcliffe,
New Blackfriars, July 1978, pp. 334–336)! Я не понимаю этой критики.
(обратно)
58
Та мысль, что единство не противоречит многообразию и заключается в нем, затрагивалась в экуменических дискуссиях; см., например, М. Kinnamon,
The Truth and Community, World Council of Churches/Eerdmans 1988, pp. 1–7.
(обратно)
59
Пока был опубликован только один из моих докладов — "Die Instrumente kirchlicher Gemeinschaft in der frühen Kirche",
Una Sancta 44.1, 1989, pp. 2–13. Один из аспектов того, что я пытаюсь сказать, состоит в возражении против злоупотребления такой метафорой, как "конвергенция" (convergence). Конвергенция, по определению, означает сужение: скажем, движение по двум шоссе в результате становится движением по одному шоссе. Для меня предпочтительнее иная метафора — "слияние" (confluence): две реки сливаются в одну, но эта одна река более глубока и/или более широка, чем любой из притоков. См. ниже прим. 15.
(обратно)
60
См. недавний анализ этой проблемы: W. Schräge, "Zur Frage nach der Einheit und Mitte neutestamentlicher Ethik",
Die Mitte des Neuen Testaments. Einheit und Vielfalt neutestamentlicher Theologie, E. Schweizer Festschrift, hrsg. U. Luz and H. Weder, Vandenhoeck 1983, pp. 238–253.
(обратно)
61
J. C. Beker,
Paul the Apostle, Philadelphia: Fortress, 1980.
(обратно)
62
Аналогично Robinson (прим. 22 ниже) р. 25 п. 62; см., однако, его собственное утверждение о необходимости признать многообразие в рамках первохристианского единства (р. 29); ср., напротив, R. А. Markus, "The Problem of Self‑Definition: From Sectio Church".
Jewish and Christian Self‑Definition. Vol. One: The Shaping of Christianity in the Second and Third Centuries, ed. E. P. Sanders, SCM Press 1980, p. 8.
(обратно)
63
См. также главу XV (прим. 9). К. Бергер в своей рецензии на первое издание
(ThR 53, 1988, р. 366) критикует меня за то, что я предлагаю "тусклый гуманистический экуменизм, основная добродетель которого состоит в терпимости и который вызывает тоску по (в хорошем смысле слова) ветхозаветной нетерпимости…". В свою защиту скажу следующее: (А) Терпимость добродетельна не сама по себе, а перед лицом нетерпимости. (Б) Сам Иисус был образцом такой терпимости (напр., Мк 9:38–40; Мф 11:19), — еще один аспект того, как центр определяет периферию. (В) Такая динамическая терпимость в рамках нашей общей веры (см. опять главу XV, прим. 9) по–прежнему необходима современному экуменизму. Впрочем, я согласен, что полную верность взглядам непросто согласовать с открытостью и терпимостью. Впоследствии мне хотелось бы подробнее написать об этой задаче как одной из основных, стоящих перед христианами в их (да и любых) притязаниях на истину.
(обратно)
64
См., например, работы, процитированные в моей книге
The Living Word, SCM Press 1987, p. 175 n. 6.
(обратно)
65
См. далее
The Living Word (прим. 19).
(обратно)
66
Справедливости ради стоит сказать, что в целом католические рецензии были одними из самых положительных и теплых.
(обратно)
67
См. особенно D. J. Harrington, "The Reception of Walter Bauer's
Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity During the Last Decade",
HTR 73, 1980, pp. 289–298; T. A. Robinson,
The Bauer Thesis Examined. The Geography of Heresy in the Earliest Christian Church, Edwin Mellen 1988.
(обратно)
68
H. Koester,
Introduction to the New Testament. Vol. 2. History and Literature of Early Christianity, Fortress 1982.
(обратно)
69
Пожалуй, я могу сослаться на аналогичные свои мысли в работе
The Evidence for Jesus, SCM Press 1985, гл. 1.
(обратно)
70
См. главы I — III (выше прим. 10), а также большинство работ, упомянутых в прим. 9.
(обратно)
71
См. J. Н. Schutz,
Paul and the Anatomy of Apostolic Authority, SNTSMS 26, Cambridge University 1975; B. Holmberg,
Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles, CWK Gleerup 1978; R. Banks,
Paul's Idea of Community, Paternoster 1980; Meeks (см. выше прим. 5) особенно гл. 4; M. Y. MacDonald,
The Pauline Churches. A socio‑historical study of institutionalization in the Pauline and Deutero‑Pauline Writings, SNTSMS 60; Cambridge University 1988.
(обратно)
72
См. анализ в работах Holmberg,
Paul and Power, и M. Y. MacDonald,
Pauline Churches. Они проводят грань между разными степенями институционализации: "кумулятивная институционализация" (Хольмберг), "институционализация, связанная со строительством общины" — Павел; институционализация, связанная со стабилизацией общины — Послания к Колоссянам и Ефесянам; "институционализация, связанная с защитой общины" — Пасторские послания (Макдональд).
(обратно)
73
См. главу VI, прим. 27. Если мы будем рассматривать общину, делая в ней упор на служение, то поймем, почему акцент на Иоаннов "индивидуализм" до сих пор не утратил силу. Я не отрицаю, конечно, наличия того, что мы именуем Иоанновой общиной (или общинами), а просто предлагаю характеристику духовности, характерной для этих общин.
(обратно)
74
Историческая значимость служения как категории в кафолической традиции и экуменических дискуссиях ясно видна из того значения, которое она имеет в таких документах, как
Lumen Gentium (Конституция о Церкви II Ватиканского собора),
Совместное заявление о служении и рукоположении (англикано–католическая международная комиссия, 1973 г.),
Крещение, евхаристия и служение (Всемирный совет церквей, 1982 г.)
(обратно)
75
См. Ronald Knox, как в главе IX прим. 2.
(обратно)
76
Jesus and the Spirit, SCM Press/Westminster 1975.
(обратно)
77
Christology in the Making, SCM Press/Westminster 1980.
(обратно)
78
См. особенно R. Murray, "Jews, Hebrews and Christians: Some Needed Distinctions",
Nov Test 24, 1982, pp. 194–208. Вместе с тем стоит отметить, что заключение к главе XI в значительной мере предвосхищало классификацию по четырем типам, предложенную в R. Е. Brown, "Not Jewish Christianity and Gentile Christianity but Types of Jewish/Gentile Christianity",
CBQ 45, 1983, pp. 74–79.
(обратно)
79
См. особенно S. Sandmel,
Anti‑Semitism in the New Testament, Fortress 1978; A. T. Davies, ed.,
AntiSemitism and the Foundations of Christianity, Paulist 1979; J. Koenig,
Jews and Christians in Dialogue. New Testament Foundations, Westminster 1979; F. Mussner,
Tractate on the Jews. The Significance of Judaism for Christian Faith, 1979. ET Fortress/SPCK 1984; J. G. Gager,
The Origins of Anti‑Semitism. Attitudes Towards Judaism in Pagan and Christian Antiquity, Oxford University 1983; N. A. Beck,
Mature Christianity. The Recognition and Repudiation of the Anti‑Jewish Polemic of the New Testament, Associated University Presses 1985; P. Richardson, ed.,
Anti‑Judaism in Early Christianity. Vol. 1. Paul and the Gospels, Wilfrid Laurier University 1986; S. G. Wilson, ed.,
Anti‑Judaism in Early Christianity. Vol. 2. Separation and Polemic, Wilfrid Laurier University 1986; M. R. Wilson,
Our Father Abraham. Jewish Roots of the Christian Faith, Eerdmans 1989.
(обратно)
80
См. более осторожную формулировку в J. J. Collins,
The Apocalyptic Imagination, Crossroad 1984, p. 9. Таким образом, я в целом согласен с критическими замечаниями Роуленда в адрес первого издания
(The Open Heaven, SPCK 1982, pp.
354–356), хотя он недооценивает тот факт, что "воскресение мертвых" — категория апокалиптическая: в том смысле, что впервые она появилась именно в апокалиптических текстах и встречается в нескольких важных апокалипсисах.
(обратно)
81
"Выдумка немецкого протестантства, более пригодная в экуменической анатомии, чем в новозаветной науке" (Murray, "Jews, Hebrews and Christians" p. 197). См. также F. Hahn, "Das Problem des Frühkatholizismus",
Exegetische Beiträge zum ökumenischen Gespräch, Göttingen 1986, pp. 62–66; W. Trilling, "Bemerkungen zum Thema 'Frühkatholizismus' Eine Skizze", in J. Rogge and G. Schule, hrsg.,
Frühkatholizismus im ökumenischen Gespräch, Berlin 1983, pp. 62–70.
(обратно)
82
R, Kugelman, C. P., in
Theological Studies, December 4, 1978, p. 780.
(обратно)
83
Ibid. С другой стороны, как отмечает Ф. Хан, католические ученые стали использовать в апологетической полемике данный термин как свидетельство католических истоков христианства (F. Hahn. "Frühkatholizismus als ökumenisches Problem",
Beiträge pp. 59–60). См. более позитивный и мирный подход в Н. Schürmann, "Auf der Suche nach dem 'Evangelisch‑Katholischen'. Zum Thema 'Frühkatholizismus' in J. Rogge and G. Schule, hrsg.,
Frühkatholizismus im ökumenischen Gespräch, Berlin 1983, pp. 71–107.
(обратно)
84
Надеюсь, это уточнение отвечает на критику в рецензии Бергера в
ThR 53, 1988 (р. 366).
(обратно)
85
О. Кульман сообщает, что в письменном варианте речи, произнесенной Иоанном Павлом II в 1980 г. на праздновании годовщины Аугсбургского исповедания, были такие слова: "Дух Божий позволил нам заново признать, что пока Церковь не реализовала полноты своей угодной Богу католичности, аутентичные элементы католичества есть и за пределами его зримой общины" (О. Cullmann,
Unity through Diversity, Fortress 1988, p. 21).
(обратно)
86
Одна из проблем состоит в том, что английский термин
Early Catholicism — перевод немецкого
Frühkatholizismus, а в немецком языке оба слова
(Katholik и
katholisch) относятся к римскому католичеству. То есть в немецком языке нет аналога одному из значений английского
catholic (универсальный, всеобщий). В немецких переводах символов веры английскому
holy catholic church (святая вселенская церковь) соответствует
heilige christliche Kirche (святая христианская церковь).
(обратно)
87
"Фундаментальная слабость позиции Данна состоит в непонимании им выводов, которые следуют из того исторического факта, что именно раннее католичество Π в. избрало новозаветные тексты и сделало их каноном, нормой и мерой подлинного христианства" (Kugelman р. 781).
(обратно)
88
См. также мою статью "Levels of Canonical Authority",
Horizons in Biblical Authority 4, 1982, pp. 13–60; переиздана в книге
The Living Word, SCM Press 1987, pp. 141–174.
(обратно)
89
Возможное исключение составляет несколько документов, которые были канонизированы после долгих споров.
(обратно)
90
Заново опубликовано в
Apostolic Faith Today, ed. H. — G. Link, World Council of Churches, Geneva 1985, pp. 79–83.
(обратно)
91
См. ценные вопросы в Schürmann, "Suche", pp. 90–91.
(обратно)
92
В своей неодобрительной рецензии В. Meyer,
The Early Christians, pp. 194–195 понимает эти вопросы (несколько тенденциозно поданные) как дефиницию или описание "ортодоксии". Достаточно ясно, однако, что тут я лишь хотел поставить вопрос (в своем обычном стиле). Другое дело, что анализ ортодоксии и ереси у меня и впрямь вышел недостаточно тонким и полным.
(обратно)
93
W. Bauer,
Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, 1934,
21964; ET Fortress 1971 и SCM Press 1972.
(обратно)
94
См. особенно убедительную статью W. Wrede, 'The Task and Methods of "New Testament Theology'" (1897), ET in R. Morgan,
The Nature of New Testament Theology, SCM Press 1973, pp. 68–116, особенно pp. 95–103.
(обратно)
95
R. Bultmann,
Theology of the New Testament, ET SCM Press, Vol. I, 1952; Vol. II, 1955.
(обратно)
96
Bultmann,
Theology, II, p. 135. См. ниже §§ 7, 75.
(обратно)
97
H. Braun, 'The Meaning of New Testament Christology',
God and Christ: Existence and Provence, ed., R. W. Funk,
JThC, 5, 1968, p. 118. См. ниже § 75.1.
(обратно)
98
Ε. Käsemann,
The Testament of Jesus, 1966, ET SCM Press 1968,1. См. ниже § 64.2.
(обратно)
99
'Ketzer und Zeuge: zum johanneischen Verfasserproblem' (1951),
Exegetische Versuche und Besinnungen, Göttingen, Vol. I, 1960, pp. 168–187. Далее см. ниже § 73.
(обратно)
100
'Gnomai Diaphoroi: the Origin and Nature of Diversification in the History of Early Christianity',
HTR, 58, 1965, переиздано в
Trajectories through Early Christianity, ed., J. M. Robinson and H. Koester, Fortress 1971, p. 117. Cf. H. D. Betz, Orthodoxy and Heresy in Primitive Christianity',
Interpretation, 19, 1965: 'Христианской веры вначале не существовало. Вначале существовал просто "еретический" иудей, Иисус из Назарета. Какую из различных интерпретаций Иисуса следует признать подлинно христианской? И с помощью каких критериев можно принять подобное решение? На мой взгляд, это кардинальная проблема современной новозаветной науки" (р. 311).
(обратно)
101
H. Е. W. Turner,
The Pattern of Christian Truth: A Study in the Relations between Orthodoxy and Heresy in the Early Church, Mowbray 1954.
(обратно)
102
J. Chariot,
New Testament Disunity: Its Significance for Christianity Today, Dutton 1970, p. 111.
(обратно)
103
J. M. Robinson,
Trajectories, pp. 14ff., 69.
(обратно)
104
Статистически понятия
euaggelion (благовестие) и
marturia (свидетельство) в Новом Завете важнее, чем
kerygma. Но в середине XX в. полемика шла в первую очередь вокруг "керигмы", и с этим термином мы можем ясно ставить вопросы, никоим образом не ограничивая последующую дискуссию.
(обратно)
105
С. H. Dodd,
The Apostolic Preaching and its Developments, Hodder & Stoughton 1936, переиздано в 1963.
(обратно)
106
Bultmann,
Theology I, p. 307.
(обратно)
107
Четвертое Евангелие не использует слова
kērussō, kērygma, euaggelizomai и
euaggelion. По этой и другим причинам (см. ниже §§ 6, 18.4) мы ограничим наш анализ керигмы Иисуса первыми тремя Евангелиями.
(обратно)
108
См. Е. Kränkl,
Jesus der Knecht Gottes, Regensburg 1972, pp. 102–129.
(обратно)
109
Потенциальную значимость имеет и текстуальная проблема в Лк 22:19сл., единственном другом отрывке у синоптиков, где присутствует ясное богословие смерти Иисуса.
(обратно)
110
Е. Lohse,
Märtyrer und Gottesknecht, Göttingen 1955, p. 71.
(обратно)
111
С. F. D. Moule, "The Christology of Acts",
SLA, правильно говорит о "христологии отсутствующего" в Деян (absentee Christology; pp. 179ff.). См. также ниже. § 51.1
(обратно)
112
Деян 1:5, 11:16 легче согласовать не с нашими реконструкциями жизни исторического Иисуса, а с концепцией Луки, который считал ее стадией в истории спасения, предшествующей эпохе Церкви (см. далее ниже § 71.2). Относительно упоминаний в Евангелии от Иоанна см. ниже §§ 18.4 и 50.5.
(обратно)
113
См. J. D. G. Dunn,
Jesus and the Spirit, SCM Press 1975, § 53; также 'Rom. 7.14–25 in the Theology of Paul',
TZ, 31, 1975, pp. 257–273.
(обратно)
114
Наряду с некоторыми другими исследователями Meyer,
Early Christians, считает, что говорить о трех благовестиях в данном случае невозможно. Для Павла благовестие было только одно (pp. 185–186). У меня нет против этого возражений, если мы будем признавать,
сколь глубоко христиане расходились во мнениях относительно того, что означает благовестие на практике (Гал 1:6сл.; 2:11–14). Термин "три благовестия" просто заостряет эту мысль. В данном вопросе Павел Мейера — это Павел Деяний (оба игнорируют Гал 2:11–14).
(обратно)
115
Meyer pp. 196–199, по–видимому, не понимает, что здесь важен контраст
относительной сдержанности Павла в его обличениях в 1 Кор 15 с уничтожающими интонациями в Гал и 2 Кор 10–13 (см. выше § 5.2).
(обратно)
116
Ввиду нашей последующей дискуссии (§§ 55–56), следует отметить, что самые близкие параллели между Мф и посланиями Павла содержатся именно в Рим 2; см. С. H. Dodd, 'Matthew and Paul' (1947),
New Testament Studies, Manchester University Press 1953, pp. 63ff.
(обратно)
117
См., однако, С F. D. Moule, 'The Influence of Circumstances on the Use of Eschatological Terms',
JTS ns, 15, 1964, pp. 1–15; репринт в
Essays in New Testament Interpretation, Cambridge University Press 1982, pp. 184–199.
(обратно)
118
О том, какой смысл я вкладываю в понятие "иудеохристианский", см. ниже, § 53.
(обратно)
119
См., напр., F. Mussner,
The Historical Jesus in the Gospel of St John, Herder 1967; O. Cullman,
The Johannine Circle, SCM Press 1976, pp. 14ff.; D. M. Smith, 'The Presentation of Jesus in the Fourth Gospel',
Interpretation 31, 1977, pp. 367–378; J. D. G. Dunn,
The Evidence for Jesus, SCM Press/Westminster 1985, ch. 2.
(обратно)
120
См., напр., E. Stauffer,
New Testament Theology, 1941, ET
5 SCM Press 1955, chs. 62–65.
(обратно)
121
А. Seeberg,
Der Katechismus der Urchristenheit, 1903, München 1966.
(обратно)
122
См. далее M. Hengel, 'Christology and New Testament Chronology',
Between Jesus and Paul, SCM Press/Fortress 1983, pp. 30–47.
(обратно)
123
W. Bousset,
Kyrios Christos, 1914,
21921, ET Abingdon 1970, p. 51.
(обратно)
124
Ε. Lohmeyer,
Galiläa und Jerusalem, Göttingen 1936, pp. 68–79.
(обратно)
125
H. Е. Tödt,
The Son of Man in the Synoptic Tradition, 1959, ET SCM Press 1965, pp. 232–269; cf. P. Hoffmann,
Studien zur Theologie der Logienquelle, Münster 1972, pp. 142–158.
(обратно)
126
S. Р. Vielhauer, 'Gottesreich und Menschensohn in der Verkündigung Jesu' (1957),
Aufsätze zum Neuen Testament, München 1965, pp. 55–91.
(обратно)
127
См. J. D. G. Dunn, "Γ'-Sayings and the Jesus‑tradition: The Importance of Testing Prophetic Utterances within Early Christianity',
NTS 24, 1977–1978, pp. 175–198.
(обратно)
128
Эти альтернативные подходы хорошо известны, поэтому подробной документации не требуется. См., например, I. Н. Marshall, 'The Synoptic Son of Man Sayings in Recent Discussion',
NTS 12, 1965–1966, pp. 327–351; R. Pesch and R. Schnackenburg, hrsg.,
Jesus und der Menschensohn: Für Anton Vogtle, Freiburg 1975; С. C. Caragounis,
The Son of Man, WUNT 38, Tübingen 1986, pp. 19–33.
(обратно)
129
Одно из возможных объяснений см. в N. Perrin,
Rediscovering the Teaching of Jesus, SCM Press 1967, pp. 164–185; также
A Modern Pilgrimage in New Testament Christology, Fortress 1974, chs. II, III, V.
(обратно)
130
См. особенно M. Casey,
Son of Man, SPCK 1979, ch. 9; 'The Jackals and the Son of Man (Matt. 8.20/Luke 9.58)',
JSNT 23, 1985, pp. 3–22.
(обратно)
131
См., напр., Koester,
'Gnomai Diaphorai', Trajectories, pp. 129–132.
(обратно)
132
См. ниже § 65.2. По мнению Перрина, "ключевая роль в творческом использовании преданий о Сыне Человеческом в новозаветный период принадлежит евангелисту Марку"
{Modern Pilgrimage, pp. 77–93).
(обратно)
133
См. также F. J. Moloney,
The Johannine Son of Man, Rome 1976,
21978 с полной библиографией.
(обратно)
134
См., с одной стороны, G. Vermes in M. Black,
An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford University Press
31967, pp. 310–330; также G. Vermes,
Jesus the Jew, Collins 1973, pp. 163–168, 188–191; Casey (выше прим. 11). С другой стороны, J. A. Fitzmyer, рецензия на Блэка в
CBQ, 30, 1968, pp. 424–428; также 'Methodology in the Study of the Aramaic Substratum of Jesus' Sayings in the New Testament,' in J. Dupont,
Jésus aux origines de la christologie, Gembloux 1975, pp. 92–94.
(обратно)
135
Cm. Dunn,
Jesus, pp. 49–52.
(обратно)
136
Не навела ли именно многозначность фразы
bar '
enāšā на мысль об использовании Пс 110:1, где была связь не только с Пс 8 (Мк 12:36; 1 Кор 15:25–27; Еф 1:20–22 — отметим особенно Пс 8:6), но и с Дан 7:13 (Мк 14:62)?
(обратно)
137
Так С. F. D. Moule, 'Neglected Features in the Problem of "the Son of Man'",
NTK, pp. 413^28; репринт в
Essays in New Testament Interpretation, Cambridge University Press 1982, pp. 75–90. См. также M. D. Hooker,
The Son of Man in Mark, SPCK 1967; W. G. Kümmel,
The Theology of the New Testament, 1972, ET SCM Press 1974, pp. 76–90; B. Lindars, 'Re‑Enter the Apocalyptic Son of Man',
NTS, 22, 1975–1976, pp. 52–72; J. Bowker, 'The Son of Man',
JTS, 28, 1977, pp. 19–48; S. Kim,
'The "Son of Man"' as the Son of God, WUNT 30, Tübingen 1983; Caragounis,
Son of Man.
(обратно)
138
См. особенно Β. Lindars,
Jesus Son of Man, SPCK 1983, ch. 4. Идея страдания и отвержения, видимо, присутствует в других высказываниях Q о Сыне Человеческом (Мф 8:20/Лк 9:58; Мф 10:32сл./Лк 12:8сл.; Лк 11:30/Мф 12:40; Лк 22:28–30/Мф 19:28). См. также Мф 10:38/Лк 14:27; Мф 23:37–39/Лк 13:34сл.
(обратно)
139
См. О. Betz,
What do we know about Jesus?, 1965, ET SCM Press 1968, pp. 83–93.
(обратно)
140
Оригинальным, видимо, следует считать более пространный текст Мк 14:62: "Ты сказал, что я". Он объясняет различия между версиями Мф и Лк; сокращение переписчиком фразы до более короткого и более однозначного "это я" более вероятно, чем обратное изменение. См., например, V. Taylor,
The Gospel according to St. Mark, Macmillan 1952, p. 568; O. Cullmann,
The Christology of the New Testament, 1957, ET SCM Press 1959, pp. 118ff.
(обратно)
141
С. Burger,
Jesus als Davidssohn: eine traditionsgeschichtliche Untersuchung, Göttingen 1970, p. 41.
(обратно)
142
J. D. G. Dunn, 'Jesus — Flesh and Spirit: an Exposition of Rom. 1.3–4',
JTS ns, 24, 1973, pp. 40–68.
(обратно)
143
Подробнее см. W. Kramer,
Christ, Lord, Son of God, 1963, ET SCM Press 1966, §§ 2–8; К. Wengst,
Christologische Formeln und Lieder des Urchristentums, Gütersloh 1972, pp. 27–48, 55–104.
(обратно)
144
См. особенно J. L. Martyn,
History and Theology in the Fourth Gospel, Harper 1968, Abingdon
21979; и далее J. D. G. Dunn, 'Let John be John',
Das Evangelium und die Evangelien, hrsg. P. Stuhlmacher, WUNT 28, Tübingen 1983, pp. 309–339; ср. W. С. van Unnik, 'The Purpose of St John's Gospel',
Studia Evangelica, I, Berlin 1959, pp. 382–411.
(обратно)
145
Удобно изложено в Vermes,
Jesus, p. 198. См. Lovëstam,
Son and Saviour: A Study of Acts 13.32–37, Lund 1961; E. Schweizer, 'The Concept of the Davidic "Son of God" in Acts and its Old Testament Background',
SLA, pp. 186–193.
(обратно)
146
J. A. Fitzmyer, 'The Contribution of Qumran Aramaic to the Study of the New Testament',
NTS, 20, 1973–1974, pp. 382^07, здесь pp. 391 ff.; репринт в
A Wandering Aramean. Collected Aramaic Essays, Scholars 1979, ch. 4, здесь pp. 102ff.
(обратно)
147
Vermes,
Jesus, pp. 206ff.; M. Hengel,
The Son of God, 1975, ET SCM Press 1976, pp. 42f.; cf. К. Berger, 'Die königlichen Messiastraditionen des Neuen Testament',
NTS, 20, 1973–1974, pp. 1–44.
(обратно)
148
См. далее Dunn,
Jesus, §§ 4–6;
Christology in the Making, SCM Press
21989, § 4; и ниже §§ 45.2, 50.4.
(обратно)
149
См., однако, оговорку по поводу использования термина "адопцианский" в Dunn,
Christology, p. 62.
(обратно)
150
По–видимому, уже первые христиане говорили об Иисусе как о "страдающем Рабе" (см., напр., R. N. Longenecker,
The Christology of Early Jewish Christianity, SCM Press 1970, pp. 104–109 и упомянутые там ссылки). Однако поначалу это делалось в связи с темой унижения–оправдания (см. выше § 4.2). Ни из чего не видно, что у ранних христиан было исповедание типа "Иисус — Раб Божий".
(обратно)
151
См. Е. Best,
The First and Second Epistles to the Thessalonians, A. & C. Black 1972, pp. 85ff. и работы, там упомянутые.
(обратно)
152
См. J. Jeremias,
The Prayers of Jesus, 1966, ET SCM Press 1967, pp. 29–35.
(обратно)
153
См. также J. D. Kingsbury,
Matthew: Structure, Christology, Kingdom, Fortress 1975, and SPCK 1976 chs. II‑III.
(обратно)
154
Относительно использования мною термина "эллинистическое христианство" см. ниже § 53.
(обратно)
155
Относительная индифферентность Павла к этому титулу ("Сын Божий" — 3 раза, "Сын" — 12 раз) отчасти может быть обусловлена аналогичным злоупотреблением им в языческой миссии (см. ниже § 18.1). Однако достаточным объяснением служит уже подавляющее преобладание у Павла термина
kyrios (см. ниже § 12).
(обратно)
156
Высказывалось мнение, что арамейское
таrа имело более узкий смысл, чем греческое
kyrios: арамеоязычные иудеи регулярно обращались подобным образом к людям, наделенным властью, но почти не применяли его к Богу и вообще никогда не употребляли его в абсолютной форме "Господь" (S. Schulz, 'Maranatha und Kyrios Jesus',
ZNW, 53, 1962, pp. 125–144; за ним следуют Р. Vielhauer, 'Ein Weg zur neutestamentlichen Christologie?'
EvTh, 25, 1965, pp. 28–45; H. Boers, 'Where Christology is Real',
Interpretation, 26, 1972, pp. 315ff.). Однако кумранские рукописи дают более полную и несколько иную картину арамейского использования слова
таrа в I в.: мы видим целый ряд случаев, где
таr, включая абсолютную и эмфатическую формы, применяется к Яхве (см., например, lQGen. Ap. 20:12–16; 4QEn
b l. iii.14 (Ен 9:4); 4QEn
b l. iv.5 (Eh 10:9); HQtgJob 24:6–7; 26:8) (см. Vermes,
Jesus, pp. 111–114; M. Black, 'The Christological Use of the Old Testament in the New Testament',
NTS, 18, 1971–1972, p. 10; Fitzmyer (как в прим. 27 выше), p. 387ff., также 'The Semitic Background of the New Testament
Kyrios‑Title',
A Wandering Aramean, Scholars 1979, pp. 115–142. Относительно фрагментов Еноха см. J. T. Milik,
The Book of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4, Oxford University Press 1976).
(обратно)
157
Vermes,
Jesus, pp. 118f.
(обратно)
158
Moule, 'Christology of Acts',
SLA, pp. 160f.
(обратно)
159
V. Taylor,
The Names of Jesus, Macmillan 1953, p. 43.
(обратно)
160
См. В. Lindars,
New Testament Apologetic, SCM Press 1961, pp. 45–49; Perrin,
Teaching, pp. 175ff.
(обратно)
161
A. E. J. Rawlinson,
The New Testament Doctrine of the Christ, Longmans 1926; 1 Kop 16:22 нельзя переводить как "Учитель, гряди!"; единственный возможный смысл этой фразы — "Господь, гряди" (р. 235).
(обратно)
162
Оно почти не появляется в допавловых керигматических формулах, рассмотренных выше (§ 5 — Kramer,
Christ, §§ 8g, 12e).
(обратно)
163
См., например, D. М. Hay,
Glory at the Right Hand: Psalm 110 in Early Christianity, SBL Monograph 18, Abingdon 1973; W. R. G. Loader, 'Christ at the right hand — Ps. 110.1 in the New Testament',
NTS, 24, 1977–1978, pp. 199–217.
(обратно)
164
Еврейский текст Пс 110:1 использует два разных слова: Яхве и Адонай. Как этот стих звучал бы на арамейском, не вполне ясно
(Mara mari?).
(обратно)
165
2 Кор 12:8 использует слово со значением "призывать", и это не типичный язык молитвы (напр., Рим 1:10; Еф 1:16сл.). 1 Кор 16:22; скорее призывание, чем молитва.
(обратно)
166
Так H. Lietzman,
Mass and Lord's Supper, 1926, ET Leiden 1954, p. 186.
(обратно)
167
См., например, H. von Campenhausen, 'Das Bekenntnis im Urchristentum',
ZNW, 63, 1972, pp. 226–234; см. ниже § 36.2.
(обратно)
168
См. С. F. D. Moule, Ά Reconsideration of the Context of
Maranatha', NTS, 6, 1959–1960, pp. 307–310; репринт в
Essays in New Testament Interpretation, Cambridge University Press 1982, pp. 222–226; Wengst,
Formeln, pp. 52–54.
(обратно)
169
V. Neufeld,
The Earliest Christian Confessions, Leiden 1963, p. 11.
(обратно)
170
Ср. похожую формулировку II Ватиканского собора: "И то и другое должны приниматься и почитаться с одинаковым чувством благоговения и почитания. Священное Предание и Священное Писание составляют единый священный залог Слова Божия, вверенный Церкви"
(О Божественном Откровении II. 9–10).
(обратно)
171
Ср. F. F. Bruce,
Tradition Old and New, Paternoster 1970, pp. 13–18.
(обратно)
172
"Фарисеи передали народу, на основании древнего предания, множество законоположений, которые не входят в состав Моисеева законодательства. Ввиду этого‑то секта саддукеев совершенно отвергает эти наслоения, требуя обязательности лишь одного писаного закона и отнимая всяческое значение у устного предания" (Иосиф Флавий,
Иудейские древности XIII. 10.6 (297)).
4 "Что бы ни раскрыл достойный ученик в будущем в присутствии Рабби, уже было сказано Моисею на Синае" (И. Т. Пеа 2:5; процитировано в R. Т. Herford,
The Pharisees, 1924, Beacon 1962, p. 85).
(обратно)
173
См., например, работы Ньюзнера, упомянутые выше, в предисловии ко второму изданию (прим. 7); также главы 1–3 в J. D. G. Dunn,
Jesus, Paul and the Law, SPCK 1990.
(обратно)
174
Мишна, Шаббат 7:2. См. далее J. D. G. Dunn, 'Mark 2.1–3.6: a Bridge between Jesus and Paul on the Question of the Law',
NTS, 30, 1984, pp. 395–415; репринт в
Jesus, Paul and the Law (см. выше прим. 5), глава 1, где, в частности, отмечается, сколь хорошо разработанной была субботняя галаха во времена Иисуса.
(обратно)
175
J. D. G. Dunn, 'Jesus and Ritual Purity: a study of the tradition history of Mark 7.15', Λ
Cause de l'Evangile, Cerf 1985, pp. 251–276; репринт в
Jesus, Paul and the Law (см. выше прим. 5), глава 2.
(обратно)
176
Русский перевод Кол 2:23 в данном случае представляет собой подстрочник английского текста, поскольку Дж. Данн дает цитату по
New English Bible. — Прим. пер.
(обратно)
177
См., в частности, L. Goppelt, 'Tradition nach Paulus',
KuD, 4, 1958, pp. 213–233; К. Wengst, 'Der Apostel und Die Tradition',
ZTK, 69, 1972, pp. 145–162. См. далее относительно взаимодополняющих ролей пророка и учителя в Павловых общинах в Dunn,
Jesus, pp. 186f., 282ff.
(обратно)
178
См. далее § 40. Отметим в связи с этим и то, как Павел прибавляет собственные явления Воскресшего к списку свидетельств, отраженному в 1 Кор 15:3–7.
(обратно)
179
Ср. О. Cullmann, 'The Tradition' (1953),
The Early Church, ET SCM Press 1956, pp. 66–69; F. F. Bruce,
Paul and Jesus, Baker 1974, p. 43.
(обратно)
180
Я не беру здесь руководства по домоустройству в Кол и Еф, а также перечни добродетелей и пороков: они не названы преданием, и в них нет христианской специфики (они могут быть стоическими по происхождению).
(обратно)
181
Относительно Рим 6:17 см. ниже § 36.2. Относительно Флп 2:5 см. С. F. D. Moule, 'Further Reflections on Philippians 2.5–1 Г,
AHGFFB, pp. 264ff.
(обратно)
182
См. также D. L. Dungan,
The Sayings of Jesus in the Churches of Paul, Blackwell 1971; J. W. Fraser,
Jesus and Paul, Marcham 1974, ch. 6; Bruce,
Paul, ch. 5; J. D. G. Dunn, 'Paul's Knowledge of the Jesus Tradition: the Evidence of Romans',
Christus bezeugen, Festschrift fur W. Trilling, Leipzig 1989, pp. 193–207, с дальнейшей библиографией.
(обратно)
183
Ср. С. H. Dodd, 'Ennomos Christou',
More New Testament Studies, Manchester University Press 1968, pp. 134–148; R. N. Longenecker,
Paul, Apostle of Liberty, Harper 1964, pp. 187–190; J. Barclay,
Obeying the Truth. A Study of Paul's Ethics in Galatians, T. & T. Clark 1988, pp. 125–142. Иначе V. P. Furnish,
Theology and Ethics in Paul, Abingdon 1968, pp. 59–65.
(обратно)
184
См. Dunn,
Jesus, § 40.5
(обратно)
185
Цитата дана не по синодальному переводу, а приведена в близкое соответствие с английским переводом, которому следует здесь Дж. Данн. —
Прим. пер.
(обратно)
186
См. также К. Wegenast,
Das Verständnis der Tradition bei Paulus und in den Deuteropaulinen, Neukirchen 1962, pp. 139–143.
(обратно)
187
См., например, D. Georgi,
The Opponents of Paul in Second Corinthians, 1964, ET Fortress 1986 (о Мк, pp. 170–173); L. E. Keck, 'Mark 3.7–12 and Mark's Christology,'
JBL, 84, 1965, pp. 341–358; Koester, One Jesus and Four Primitive Gospels',
HTR, 61, 1968, и репринт в
Trajectories, pp. 187–191; P. J. Achtemeier, 'The Origin and Function of the Pre‑Marcan Miracle Catena',
JBL, 91, 1972, pp. 198–221; R. P. Martin,
Mark: Evangelist and Theologian, Paternoster 1972, ch. VI; Ε. Trocmé,
Jesus and his Contemporaries, 1972, ET SCM Press 1973, ch. 7. См. также ниже § 45.1 и § 9.2, прим. 13.
(обратно)
188
См. J. М. Robinson, 'Kerygma and History in the New Testament' (1965),
Trajectories, pp. 46–66 и гл. 7. См. далее ниже § 64.3 и главу XII, прим. 106.
(обратно)
189
См. также J. D. G. Dunn,
The Evidence for Jesus, SCM Press 1985, ch. 1; также
The Living Word, SCM Press 1987
(обратно)
190
Цитата дана по переводу И. Свенцицкой. —
Прим. пер.
(обратно)
191
См. J. Jeremias,
Unknown Sayings of Jesus, 1963, ET SPCK 1964, pp. 61–73; О. Hofius, 'Unbekannte Jesusworte',
Das Evangelium und die Evangelien, WUNT 28, Tübingen 1983, pp. 355–382.
(обратно)
192
Ср. T. W. Manson,
The Teaching of Jesus, Cambridge University Press 1931, pp. 75–80.
(обратно)
193
С. H. Dodd,
The Parables of the Kingdom, 1935, Nisbet 1955, ch. V; J. Jeremias,
The Parables of Jesus, 1962, ET SCM Press 1963, pp. 48–63; см. также С. Ε. Carlston,
The Parables of the Triple Tradition, Fortress 1975. См. также ниже § 67.2.
(обратно)
194
Этот тезис обосновывается в В. Gerhardsson,
Memory and Manuscript, Lund 1961; ср. более раннюю работу H. Riesenfeld,
The Gospel Tradition and its Beginnings, Mowbray 1957. О возможности того, что Матфей замышлял свое Евангелие как более фиксированную форму Иисусова учения, см. ниже § 73.
(обратно)
195
R. Е. Brown, 'The Problem of Historicity in John',
CBQ, 24, 1962, репринт в
New Testament Essays, Chapman 1965, ch. IX; С. H. Dodd,
Historical Tradition in the Fourth Gospel, Cambridge University Press 1963; L. Morris,
Studies in the Fourth Gospel, Eerdmans 1969, ch. 2; Dunn,
Evidence, ch. 2.
(обратно)
196
"Чac" — 2:4; 7:6, 8, 30; 8:20; 12:23, 27; 13:1; 16:25, 32; 17:1.
"Прославлять" — 2:11; 7:39; 11:4; 12:16, 23, 28; 13:31сл.; 17:1, 4сл.
"Поднимать" — 3:14; 8:28; 12:32, 34.
"Восходить" — 3:13; 6:62; 20:17.
(обратно)
197
С. Н. Dodd,
The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge University Press 1953, pp. 344–389; см. также J. Blank,
Krisis: Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie, Freiburg 1964.
(обратно)
198
Ср. R. Schnackenburg,
The Gospel according to St John, Vol. I, 1965, ET Herder 1968: "Техника "притчевых дискурсов" также обнаруживает метод концентрического мышления, развивающегося кругами: медитативный способ мышления, который почти не использует аргументов, но уходит все глубже и глубже в предмет, чтобы достичь лучшего и более высокого понимания" (117).
(обратно)
199
Ср. роль предания в восточном православии: "Верность преданию означает не только согласие с прошлым, но и в каком‑то смысле свободу от прошлого. Предание — это не только принцип защиты и консервации, но и в первую очередь принцип роста и возрождения… Предание есть постоянное пребывание Духа, а не только воспоминание о словах. Предание — принцип харизматический, а не исторический" (G. V. Florovsky, 'Sobornost: The Catholicity of the Church',
The Church of God, ed., Ε. Mascall, SPCK 1934, pp. 64ff.).
(обратно)
200
В этом смысле разграничение, проведенное Ч. Г. Доддом, между
керигмой и
дидахе (учением), имеет прочную основу. См. также J. I. H. McDonald,
Kerygma and Didache, SNTSMS 37, Cambridge University Press 1980.
(обратно)
201
См. далее Dunn,
Romans, pp. 802ff.; R. Jewett,
Christian Tolerance. Paul's Message to the Modern Church, Westminster 1982.
(обратно)
202
См. далее Dunn,
Living Word, ch. 6.
(обратно)
203
С. H. Dodd,
According to the Scriptures, Nisbet 1952, p, 127, курсив мой. См. также D. Juel,
Messianic Exegesis, Fortress 1988.
(обратно)
204
См., например, J. Barr, 'Which Language Did Jesus Speak? — Some Remarks of a Semitist',
BJRL, 53, 1970, pp. 9–29; J. A. Emerton, 'The Problem of Vernacular Hebrew in the First Century AD and the Language of Jesus',
JTS ns, 24, 1973, pp. 1–23.
(обратно)
205
Cm. R. le Déaut,
Introduction r la littérature targumique, Prem, part., Rome 1966; J. W. Bowker,
The Targums and Rabbinic Literature, Cambridge University Press 1969; M. McNamara,
Targum and Testament, Irish University Press and Eerdmans 1972.
(обратно)
206
J. F. Stenning,
The Targum of Isaiah, Oxford University Press 1949, pp. 178, 180. См. также W. Zimmerli and J. Jeremias,
The Servant of God, ET revised SCM Press 1965, pp. 67–77. Другие более подробные примеры см. в D. Patte,
Early Jewish Hermeneutic in Palestine, SBL Dissertation 22, 1975, ch. IV.
(обратно)
207
Β. Gerhardsson,
The Testing of God's Son (Matt. 4.1–11 and par.), Coniectanea Biblica, Lund 1966, p. 14; см. далее R. Bloch, 'Midrash',
Approaches to Ancient Judaism: Theory and Practice, ed. W. S. Green, Brown Judaic Studies I, Scholars 1978, pp. 29–50.
(обратно)
208
См. H. L. Strack,
Introduction to the Talmud and Midrash, 1931, Harper 1965, pp. 93–98.
(обратно)
209
Согласно Э. Эллису, "специфика кумранского "пешера" не в его структуре или предмете, а в его технике, и особенно — эсхатологическом ракурсе" (E. Е. Ellis, 'Midrash, Targum and New Testament Quotations',
Neotestamentica et Semitica: Studies in Honour of M. Black, ed., Ε. Ε. Ellis and M. Wilcox, T. & T. Clark 1969, p. 62). С точки зрения Патте, особенность кумранского пешера — отношение к тексту Писания как к своего рода мечте или загадке, которую надо "разгадать" (Patte,
Hermeneutic, pp. 299–308).
(обратно)
210
F. F. Bruce,
Biblical Exegesis in the Qumran Texts, Tyndale Press 1960, pp. 7–11. См. далее M. P. Horgan,
Pesharim, Qumran Interpretations of Biblical Books, SBQMS 8, Catholic Biblical Association of America 1979; W. H. Brownlee,
The Midrash Pesher of Habakkuk, SBLMS 24, Scholars 1979.
(обратно)
211
К. Stendahl,
The School of St Matthew, Lund 1954,
21968, pp. 191 ff.
(обратно)
212
См. цитаты в D. S. Russell,
The Method and Message of Jewish Apocalyptic, SCM Press 1964, pp. 283ff.
(обратно)
213
Примеры в S. G. Sowers,
The Hermeneutics of Philo and Hebrews, Zürich 1965, pp. 29–34.
(обратно)
214
R. Williamson,
Philo and the Epistle to the Hebrews, Leiden 1970, pp. 523–528.
(обратно)
215
Cm. P. Borgen,
Bread from Heaven, SNT, X, 1965.
(обратно)
216
См. далее J. D. G. Dunn,
Romans, Word Biblical Commentary 38, Word 1988, pp. 196–198.
(обратно)
217
См. далее J. D. G. Dunn, ΊΙ Cor. 3.17: "The Lord is the Spirit" ',
JTS ns, 21, 1970, pp. 309–318.
(обратно)
218
См., в частности, J. W. Bowker, 'Speeches in Acts: A Study of Proem and Yellammedenu form',
NTS, 14, 1967–1968, pp. 96–111.
(обратно)
219
Павлов пешер, вероятно, смоделирован по распространенным иудейским парафразам того типа, который отражен в недавно обнаруженном таргуме Neofiti (см. M. McNamara,
The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch, Rome 1966, pp. 73–77); Dunn,
Romans, pp. 603–606.
(обратно)
220
См., напр., А. Т. Hanson,
Studies in Paul's Technique and Theology, SPCK 1974, pp. 159–166.
(обратно)
221
О предсуществовании Христа здесь нет речи. Стих 4с задуман не как историческое утверждение, а как ключ к пониманию аллегории: "Камень олицетворяет Христа". Аналогичным образом, в Гал 4:24 — "Гора Синайская есть (олицетворяет) Агарь"; в 2 Кор 3:17 — "Господь есть (олицетворяет) Дух". Правда, в 1 Кор 10:4с, в отличие от этих отрывков, использовано не настоящее, а прошедшее время, но это не нарушает параллель: для Павла "гора Синайская" и "Господь" суть нынешние (а не только прошлые) реалии, тогда как "камень" принадлежит исключительно историческому прошлому. См. далее Dunn,
Christology, pp. 183–184.
(обратно)
222
См. R. N. Longenecker,
Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Eerdmans 1975, pp. 127ff. Близкую параллель к аллегорическому методу, использованному в Гал 4:22–31, в иудаизме той поры мы находим в CD 6:3–11. (На эту параллель мне указал мой коллега Г. Дэвис.)
(обратно)
223
Ученые спорят, насколько это можно отнести к кумранскому комментарию на Книгу Аввакума, или кумранский комментарий опирался на другой еврейский вариант этого текста. См., например, Stendahl,
Matthew, pp. 185–190; J. A. Fitzmyer, 'The Use of explicit Old Testament quotations in Qumran literature and in the New Testament',
NTS, 7, 1960–1961, репринт в
Essays on the Semitic Background of the New Testament, Chapman 1971, ch. 1; Longenecker,
Biblical Exegesis, pp. 39f; Horgan,
Pesharism, p. 245; Brownlee,
Midrash Pesher pp. 31–34.
(обратно)
224
McNamara,
Palestinian Targum, pp. 78–81.
(обратно)
225
Относительно других случаев модификации текста с целью получить определенное толкование см. Lindars,
Apologetic, p. 284; относительно более поздних примеров гностицизирующих цитат–пешер см. Евангелие от Фомы (ниже § 62).
(обратно)
226
Е. Schweizer, 'Er Wird Nazaräer heissen',
Neotestamentica, Zürich 1963, pp. 51–55.
(обратно)
227
См., например, R. S. McConnell,
Law and Prophecy in Matthew's Gospel: The Authority and Use of the Old Testament in the Gospel of St. Matthew, Basel 1969, особенно pp. 135–138; E. D. Freed,
Old Testament Quotations in the Gospel of John, SNT, XI, 1965; E. E. Ellis,
Paul's Use of the Old Testament, Eerdmans 1957 — примерно 20 ветхозаветных цитат выглядят как "сознательные адаптации к новозаветному контексту" (р. 144); S. Kistemaker,
The Psalm Citations in the Epistle to the Hebrews, Amsterdam 1961.
(обратно)
228
Lindars,
Apologetic, p. 18.
(обратно)
229
Perrin,
Teaching, pp. 173–184.
(обратно)
230
Hay,
Glory, pp. 155–188; Dunn,
Christology, pp. 108–110. Относительно других примеров см. Lindars,
Apologetic, резюме на ce. 251–259.
(обратно)
231
См. J. D. G. Dunn, "Jesus and Ritual Purity" (выше, гл. IV, прим. 7).
(обратно)
232
См., например, Bousset,
Kyrios Christos, pp. 109–115.
(обратно)
233
См., например, дискуссию в Lindars,
Apologetic, ch. V; R. E. Brown,
The Virginal Conception and Bodily Resurrection of Jesus, Chapman 1973, ch. I; также
The Birth of the Messiah, Chapman 1977, pp. 517–533; J. A. Fitzmyer, 'The Virginal Conception of Jesus in the New Testament',
Theological Studies, 34, 1973, pp. 541–575; J. D. G. Dunn (with J. Ρ Mackey),
New Testament Theology in Dialogue, SPCK 1987, pp. 65–71. Относительно возможности того, что фраза "в третий день" из 1 Кор 15:4 была сформирована под влиянием Ос 6:2 (или даже заимствована из тогдашнего иудейского толкования этого стиха), см. Н. К. McArthur, 'On the Third Day',
NTS, 18, 1971–1972, pp. 81–86.
(обратно)
234
M. Dibelius, 'Gethsemane',
Botschaft und Geschichte, I., Tübingen 193, pp. 258–271. Однако см. также D. J. Moo,
The Old Testament in the Gospel Passion Narratives, Almond 1983, pp. 245–246.
(обратно)
235
Ср. В. Lindars, "The Place of the Old Testament in the Formation of New Testament Theology,'
NTS, 23, 1976–1977: "В формировании новозаветного богословия Ветхий Завет играет роль слуги, готового бежать туда, куда нужно благовестию, поддерживая аргументами и дополняя смысл значимыми аллюзиями, — но никогда не роль хозяина положения, или ведущего, или хотя бы направляющего мыслительный процесс из‑за кулис. Новое слово Божье — "да" и "сейчас" благовестия — есть Иисус, который низводит Писание с положения хозяина на положение слуги, меняя саму основу религии (вместо закона — благодать)" (р. 66).
(обратно)
236
См. О. Linton,
Das Problem der Urkirche in der neuren Forschung, Uppsala 1932.
(обратно)
237
Относительно споров и разногласий, лежащих за §§ 27, 28, 29, 30.1 и 31.1 (ниже), см. замечания в Dunn,
Jesus, особенно §§ 13.4, 32.3, гл. IX и §§ 57.3 и 58.3 соответственно.
(обратно)
238
"Община" — далеко не идеальное слово для нашей дискуссии, но ему трудно найти адекватную замену (понятия "конгрегация" или "секта" подходят еще меньше). Речь вот о чем: подразумевало ли ученичество, к которому призывал Иисус, не просто взаимное принятие, прощение и служение, но более структурированную организацию с четкими границами и демаркацией функции (наподобие той, которая присутствовала в послепасхальных церквах). Лучшая работа по этой теме — G. Lohfink,
Jesus and Community, Fortress/SPCK 1985. См. также J. D. G. Dunn,
Jesus and Discipleship, Cambridge University Press 1990.
(обратно)
239
J. Jeremias,
New Testament Theology: Vol. I — The Proclamation of Jesus, 1971, ET SCM Press 1971, pp. 174–178.
(обратно)
240
Е. Schweizer,
Church Order in the New Testament, 1959, ET SCM Press 1961, § 2c.
(обратно)
241
Если первоначальная Иерусалимская церковь и находилась под влиянием кумранской общины, то под очень небольшим: различия в организации и устройстве существенно перевешивают параллели.
(обратно)
242
Память о точном составе "Двенадцати" несколько поистерлась уже ко времени письменной записи преданий, использованных синоптиками (Мк 3:16–19/Мф 10:2–4/Лк 6:14–16).
(обратно)
243
См. Dunn,
Jesus, ch. VIII (резюме § 43), и ниже § 46.2.
(обратно)
244
Гал 2:1–10 не исключение: Павел лишь отказался подчиниться в вопросах, касающихся его собственной "сферы влияния", тогда как в Иерусалиме хотели контролировать всех или, по крайней мере, хотели, чтобы все взяли за образец иерусалимскую модель членства в церкви. О последующем инциденте в Антиохии (Гал 2:11 сл.) см. ниже § 56.1.
(обратно)
245
H. von. Campenhausen,
Ecclesiastical Authority and Spiritiual Power in the Church of the First Three Centuries, 1953, ET A. & C. Black 1969; pp. 70f.
(обратно)
246
Если в Филиппах "блюстители" и/или "дьяконы" отвечали за сбор и передачу Павлу финансовой помощи, собранной филиппийцами (Флп 4:10–18), то хвалебный отзыв о филиппинской щедрости (2 Кор 8:1–7; Флп 4:14–18) может быть и рекомендацией их церковной организации.
(обратно)
247
Образ ранней церкви в Деяниях требует более полного рассмотрения, который мы оставим для главы XIV (§ 72.2).
(обратно)
248
Ср. Н. Goldstein,
Paulinische Gemeinde im Ersten Petrusbrief, Stuttgarter Bibelstudien 80, 1975, особенно гл. I.
(обратно)
249
В иудеохристианстве дело обстояло иначе (см. ниже §§ 54.2, 56); и ср. ниже 76.6.
(обратно)
250
Э. Трокме выдвинул рискованную гипотезу о том, что Евангелие от Марка было задумано отчасти как критика власти Иакова и Двенадцати в Иерусалиме, а также апология движения, которое откололось от Иерусалимской церкви–матери и занялось широкомасштабной миссионерской деятельностью (E. Trocmé,
The Formation of the Gospel According to Mark, 1963, ET SPCK 1975, pp. 130–137 и гл. 3). Более крайнюю и причудливую гипотезу предлагает W. Kelber,
The Oral and the Written Gospel, Fortress 1983, pp. 91–105.
(обратно)
251
Слова в 18:12сл., 18 можно понять как адресованные особой группе руководителей, но, судя по контексту всего отрывка (обращенного к "ученикам"), "вы" — это каждый член церкви (иначе думает R. Schnackenburg,
The Church in the New Testament, ET Herder 1965, pp. 74ff.).
(обратно)
252
Ср. Мф 28:10, где Матфей не следует Марку (Мк 16:7), выделяющему Петра из группы остальных учеников. Из современных исследований см. P. Hoffmann, 'Der Petrus‑Primat im Matthäusevangelium',
NTK, pp. 94–114; J. P. Martin, 'The Church in Matthew',
Interpretation, 29, 1975, pp. 54f. Более ранние ссылки в R. Ε. Brown, Κ. Ρ. Donfried and J. Reumann,
Peter in the New Testament, Chapman 1974, p. 14 n. 29.
(обратно)
253
В Евангелии от Матфея "старейшинами" называются только иудейские власти, враждебные Иисусу.
(обратно)
254
См. далее Е. Schweizer,
Matthäus und seine Gemeinde, Stuttgarter Bibelstudien 71, 1974, особенно глава X; английский перевод в G. Stanton, ed.,
The Interpretation of Matthew, SPCK/Fortress 1983, pp. 129–155.
(обратно)
255
R. Е. Brown, The Kerygma of the Gospel According to John',
Interpretation, 21, 1967, репринт в
New Testament Issues, ed., R. Batey, SCM Press 1970, p. 213.
(обратно)
256
Лишь в поздней вставке к четвертому Евангелию можно найти мысль о том, что внутри общины может быть какое‑то особенное пастырское служение (21:15–17).
(обратно)
257
Заметим опять‑таки, что рассуждение идет в категориях служения, а не общины как таковой. О "старейшине"/"пресвитере" из 2 Ин и 3 Ин см. ниже § 72.3.
(обратно)
258
Schweizer,
Church Order. "…Послание к Евреям борется с институциональной Церковью" (§ 10с).
(обратно)
259
См. далее А. Satake,
Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalypse, Neukirchen 1966.
(обратно)
260
Название одной из самых сложных в Великобритании развязок на автострадах.
(обратно)
261
Е. Käsemann,
'The New Testament Canon and the Unity of the Church' (1951),
ENTT, p. 103.
(обратно)
262
Если бы мы взяли более широкую тему (концепции церкви, а не только служения), нам бы пришлось указать еще на одну объединяющую нить — преемство с Израилем: убеждение, что верующие во Христа (как евреи, так и язычники) составляют обновленный или даже новый Израиль. Это было особенно важно для первоначальной общины, для Матфея, Павла и автора Послания к Евреям; данная тема заметна также в Евангелии от Луки, четвертом Евангелии, 1–м Послании Петра и Апокалипсисе (у каждого на свой лад). Однако, как особенно ясно из основополагающего аргумента в Гал 3 и Рим 4, для языкохристиан (соответственно и для христианского единства) это преемство с Израилем возможно только через Иисуса и веру в Иисуса.
(обратно)
263
Так F. Hahn,
The Worship of the Early Church, 1970, ET Fortress 1973, pp. 23–30. О Тайной вечере и ее отношении к пасхе см. ниже § 40.1.
(обратно)
264
Jeremias,
Prayers, p. 75.
(обратно)
265
Поразительны параллели между первыми двумя прошениями молитвы Господней и древнейшей (по–видимому) формой молитвы "Кадиш" (см. Jeremias,
Prayers, p. 98).
(обратно)
266
Вариация в формулировке Втор 6:5 в Мк 12:30, ЗЗпар. наводит Иеремиаса на мысль, что "ни для одного из синоптических евангелистов греческий текст "Шема" не был регулярно читаемым литургическим текстом" (Jeremias,
Prayers, p. 80). Ср., однако, расхождения в формулировке молитвы Господней (Мф 6:9–13/Лк 11:2–4).
(обратно)
267
Даже если были собраны всего двое или трое, это уже считалось богослужебным собранием (Мф 18:20). Согласно более поздней иудейской традиции, для иудейского богослужения требуется присутствие не менее десяти мужчин (Мегилла 4:3; В. Т. Санхедрин 7а).
(обратно)
268
В этом абзаце я в основном резюмирую более подробную дискуссию из § 60.
(обратно)
269
Впрочем, один из моих диссертантов, Джон Чоу, пытается доказать, что руководители не могли предоставить ответ, ибо в них‑то и заключалась проблема!
(обратно)
270
Относительно 1–го Послания Петра см. ниже § 36, а относительно Апокалипсиса - § 35.2.
(обратно)
271
Согласно самаритянскому Пятикнижию, после вхождения в Ханаан израильтяне должны были построить жертвенник на горе Гаризим (Втор 27:4сл.). Масоретское прочтение ("на горе Гевал") вполне может быть антисамаритянской правкой оригинала, сохраненного самаритянами. Самаритянский храм на горе Гаризим был разрушен Иоанном Гирканом в 128 г. до н. э.
(обратно)
272
См. D. R. Jones, 'The Background and Character of the Lukan Psalms',
JTS ns, 19, 1968, pp. 19–50.
(обратно)
273
Е. Lohmeyer,
Kyrios Jesus: eine Untersuchung zu Phil. 2.5–11, Heidelberg 1928,
21961.
(обратно)
274
R. Р. Martin,
Carmen Christi: Philippians 2. — 11, Cambridge University Press 1967, p. 38. Β последующих изданиях, исправленных и пересмотренных, можно найти анализ более современной научной литературы (Eerdmans 1983 и IVP 1997). Следующих два абзаца претерпели существенные изменения по сравнению с первым изданием "Единства и многообразия" (в свете исследования данного гимна, которое я проделал в
Christology, pp. 114–121). [В русском переводе мы сильно отклонились от синодального перевода, в соответствии с тем пониманием, которому следует Дж. Данн. —
Прим. пер.]
(обратно)
275
См., например, Е. Käsemann, Ά Critical Analysis of Phil. 2.5–11 ' (1950),
God and Christ, JThC, 5, 1968, pp. 45–88; Wengst,
Formeln, pp. 149–155. Однако см. также D. Georgi, 'Der vorpaulinische Hymnus Phil. 2.6–11 ',
Zeit und Geschichte: Dankesgabe an R. Bultmann, ed. E. Dinkier, Tübingen 1964, pp. 263–293; О. Hofius,
Der Christushymnus Philipper 2.6–11, Tübingen 1976; Dunn,
Christology, pp. 114–121.
(обратно)
276
Е. Norden,
Agnostos Theos, 1913, репринт Stuttgart 1956, pp. 250–254. [Русский перевод гимна далее цитируется по синодальному переводу, но с изменениями, которые отражают понимание текста Дж. Данном. —
Прим. пер.]
(обратно)
277
Е. Käsemann, Ά Primitive Christian Baptismal Liturgy' (1949),
ENTT, pp. 154–159. Относительно более ранней истории исследования Кол 1:15–20 см. H. J. Gabathuler,
Jesus Christus: Haupt der Kirche — Haupt der Welt, Zürich 1965. Более подробную библиографию см. в Р. Т. O'Brien,
Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary 44, Word 1982, pp. 31–32.
(обратно)
278
См. далее Dunn,
Christology, pp. 165–166, 187–194.
(обратно)
279
Проблема реконструкции первоначального текста поэмы слишком сложна, чтобы ее здесь рассматривать. Наиболее правдоподобны такие контуры: строфа I — ст. 1,3; строфа II — ст. 4–5, (9); строфа III — ст. 10—12b; строфа IV — ст. 14, 16 (с несколькими вставками).
(обратно)
280
R. Bultmann,
The Gospel of John, 1964, ET Blackwell 1971, pp. 25ff., 61ff.
(обратно)
281
См. особенно комментарий R. Ε. Brown,
The Gospel According to John, Vol. 1, Anchor Bible 29, Chapman 1966; Dunn,
Christology, pp. 239–245.
(обратно)
282
E. Käsemann, 'The Structure and Purpose of the Prologue to John's Gospel' (1957),
NTQT, ch. VI, заканчивает гимн ст. 12. J. Т. Sanders,
The New Testament Christological Hymns, Cambridge University Press 1971, pp. 20–24 под конец отбрасывает ст. 11, что в высшей степени неправдоподобно.
(обратно)
283
См. далее Dunn,
Christology, pp. 166, 206–209.
(обратно)
284
Последним двум отрывкам посвящена, в частности, недавняя работа С. Burger,
Schupfung und Versöhnung: Studien zum liturgischen Gut im Kolosser‑und Epheserbrief Neukirchen 1975.
(обратно)
285
R. Deichgräber,
Gotteshymnus und Christushymnus in der frühen Christenheit, Göttingen 1967, ch. II.
(обратно)
286
P. Carrington,
The Primitive Christian Catechism, Cambridge University Press 1940, p. 90.
(обратно)
287
E. G. Selwyn,
The First Epistle of St Peter, Macmillan 1947, pp. 363–366.
(обратно)
288
H. Preisker, revision of H. Windisch,
Die katholischen Briefe, HNT,
31951, pp. 156–162; F. L. Cross, /
Peter — A Paschal Liturgy, Mowbray 1954. См. также M. E. Boismard, 'Une liturgie baptismale dans la Prima Petri',
RB, 63, 1956, pp. 182–208; A. R. C. Leaney, Ί Peter and the Passover: an Interpretation',
NTS, 10, 1963–1964, pp. 238–251.
(обратно)
289
J. С. Kirby,
Ephesians: Baptism and Pentecost, SPCK, 1968, pp. 1950, 1970.
(обратно)
290
A. T. Hanson,
Studies in the Pastoral Epistles, SPCK, 1968, ch. 7.
(обратно)
291
P. Vielhauer, 'Das Benedictus des Zacharias (Luke 1:68–79)',
ZTK, 49, 1952, pp. 255–272.
(обратно)
292
Martin,
Carmen Christi, pp. 8If., 292–294; см. особенно J. Jervell,
Imago Dei, Göttingen 1960, pp. 206–209.
(обратно)
293
Käsemann,
ENTT, pp. 149–168.
(обратно)
294
G. Bornkamm, 'Das Bekenntnis im Hebräerbrief',
Studien zu Antike und Urchristentum: Gesammelte Aufsätze, II, München 1963, pp. 196f.
(обратно)
295
G. Friedrich, 'Ein Tauflied hellenistischer Judenchristen I Thess. 1.9f.\
TZ, 21, 1965, pp. 502–516.
(обратно)
296
G. Schule,
Frühchristliche Hymnen, Berlin 1965, p. 43.
(обратно)
297
W. Nauck,
Die Tradition und der Charakter des ersten Johannesbriefes, Tübingen 1957, p. 96.
(обратно)
298
P. von der Osten‑Sacken, 'Christologie, Taufe, Homologie: ein Beitrag zu Apc. Joh. 1.5f.',
ZNW, 58, 1967, pp. 255–266. О попытках реконструировать чин богослужения на основании Иоаннова Апокалипсиса см. К. Р. Jörns,
Das hymnische Evangelium: Untersuchungen zu Aufbau, Funktion und Herkunft der hymnischen Stücke in der Johannesoffenbarung, Gütersloh 1971, pp. 180–184.
(обратно)
299
P. Carrington,
The Primitive Christian Calendar, Cambridge University Press 1952. См., однако, W. D. Davies, 'Reflections in Archbishop Carrington's
The Primitive Christian Calendar', BNTE, pp. 124–152.
(обратно)
300
G. D. Kilpatrick,
The Origins of the Gospel According to St Matthew, Oxford University Press 1946, ch. V.
(обратно)
301
M. D. Goulder,
Midrash and Lection in Matthew, SPCK 1974;
The Evangelists Calendar. A Lectionary Explanation of the Development of Scripture, SPCK 1978.
(обратно)
302
A. Guilding,
The Fourth Gospel and Jewish Worship, Oxford University Press 1960, pp. 54, 57. Однако см. также L. Morris,
The New Testament and the Jewish Lectionaries, Tyndale Press 1964.
(обратно)
303
В. Reicke,
The Disobedient Spirits and Christian Baptism, Copenhagen 1946, pp. 191–195.
(обратно)
304
Ср. D. Daube, Ά Baptismal Catechism',
The New Testament and Rabbinic Judaism, London 1956, pp. 106–140.
(обратно)
305
Cm. W. Robinson, 'Historical Survey of the Church's Treatment of New Converts with Reference to Pre- and Post‑baptismal Instruction',
JTS, 42, 1941, pp. 142–145.
(обратно)
306
См. также Dunn,
Living Word, ch. 2.
(обратно)
307
J. Munck,
Paul and the Salvation of Mankind, 1954, ET SCM Press 1959, ρ 18 n. 1.
(обратно)
308
W. C. van Unnik, 'Dominus Vobiscum: the background of a liturgical formula',
NTETWM, p. 72.
(обратно)
309
См. далее С. F. D. Moule, 'The Nature and Purpose of I Peter',
NTS, 3, 1956–1957, pp. 1–11, репринт в
Essays in New Testament Interpretation, Cambridge University Press 1982, pp. 133— 145; T. G. G. Thornton, Ί Peter, A Paschal Liturgy?'
JTS ns, 12, 1961, pp. 14–26. Гипотеза о крещальной литургии не находит поддержки в более современных комментариях: L. Goppelt,
Der erste Petrusbrief, KEK, Göttingen 1978, pp. 38–40; N. Brox,
Der erste Petrusbrief, EKK, Benziger/Neukirchener 1979, 19–23; J. R. Michaels,
I Peter, Word Biblical Commentary 49, Word 1988, pp. xxxviii‑xxxix.
(обратно)
310
Эти ссылки взяты из G. D. Henderson,
Church and Ministry, Hodder & Stoughton 1951, p. 38.
(обратно)
311
Karl Barth,
Church Dogmatics, 1/1, ET T. & T. Clark 1936, p. 98.
(обратно)
312
В этой главе я ограничиваю свой анализ двумя "общими таинствами".
(обратно)
313
См., например, дискуссию в G. R. Beasley–Мштау,
Baptism in the New Testament, Macmillan 1963, pp. 15–18, 39–43; Paternoster 1972.
(обратно)
314
Значительная часть того, о чем я далее пишу в §§ 39.1–2, — попытка резюмировать анализ, проведенный в J. D. G. Dunn,
Baptism in the Holy Spirit,. SCM Press, 1970, гл. II и III.
(обратно)
315
См. J. D. G. Dunn, 'Spirit and Fire Baptism;
Nov Test 14, 1972, pp. 81–92.
(обратно)
316
См. далее Strack‑Billerbeck, 1.950; IV.977–986; и прим. 8 ниже.
(обратно)
317
См. подробнее J. D. G. Dunn, 'Baptized in Spirit: The Birth of a Metaphor',
ExpT, 89, 1977–1978, pp. 134–138, 173–175.
(обратно)
318
См. J. Weiss,
Earliest Christianity, 1914, ET 1937, Harper 1959, pp. 50f.; F. J. Foakes Jackson and K. Lake,
The Beginnings of Christianity: Part I: The Acts of the Apostles, Macmillan, Vol. I, 1920, pp. 332–344.
(обратно)
319
Рубикон — речка, по которой во времена Римской республики проходила граница между Италией и Цизальпинской Галлией. Решение Юлия Цезаря перейти Рубикон со своей армией в 49 г. до н. э. означало декларацию войны против римского Сената. Отсюда пошло выражение "перейти Рубикон". Оно означает "принять бесповоротное решение, после которого нет пути назад".
(обратно)
320
См. особенно W. Heitmüller,
Taufe und Abendmahl im Urchristentum, Tübingen 1911, pp. 18–26. Относительно дальнейшего см. J. D. G. Dunn,
Romans, pp. 305ff.
(обратно)
321
О том, как структурирована мысль в данном случае, ученые спорят. См. подробнее Dunn,
Baptism, pp. 154ff.
(обратно)
322
"Неужели не знаете…?" в Рим 6:3 вполне может быть вежливым педагогическим способом преподнесения новой информации (см. Dunn,
Baptism, p. 144 η. 17).
(обратно)
323
В этом разделе я во многом опирался на Е. Schweizer,
The Lord's Supper According to the New Testament, 1956, ET Fortress Facet Book 1967; W. Marxsen,
The Lord's Supper as a Christological Problem, 1963, ET Fortress Facet Book 1970.
(обратно)
324
В данном случае мы отошли от синодального перевода, в большей степени следуя греческому подлиннику и английскому тексту Данна. —
Прим. пер.
(обратно)
325
См. далее J. D. G. Dunn, 'Jesus, Table‑Fellowship and Qumran',
Jesus and the Dead Sea Scrolls, ed. J. H. Charlesworth, Doubleday 1992, pp. 254–272.
(обратно)
326
См. особенно J. Jeremias,
The Eucharistie Words of Jesus, 31960, ET SCM Press 1966, ch. I.
(обратно)
327
См. полезную дискуссию в Schweizer,
The Lord's Supper, pp. 29–32; B. Klappert, 'Lord's Supper',
NIDNTT, II, pp. 527ff.; I. H. Marshall,
Last Supper and Lord's Supper, Paternoster 1980, pp. 57–75.
(обратно)
328
Cm. Dunn,
Jesus, § 29 и ниже § 67.3.
(обратно)
329
Ориген,
Комментарий на Евангелие от Матфея 79; Епифаний,
Панарион 30.16.1.
(обратно)
330
Но
не в том, что каждая является жертвенной трапезой; см., например, W. G. Kümmel,
An die Korinther, HNT, 1949, pp. 181 f.; С K. Barrett,
The First Epistle to the Corinthians, Α. & С. Black 1968, pp. 235fT. См. также ниже прим. 23.
(обратно)
331
Schweizer,
The Lord's Supper, pp. 5f.
(обратно)
332
См., например, Ε. Käsemann, 'The Pauline Doctrine of the Lord's Supper' (1947–1948),
ENTT, pp. 108–135; J. Hering,
The First Epistle of Saint Paul to the Corinthians, 1948, ET Epworth 1962, p. 120.
(обратно)
333
См., например, A. J. Β. Higgins,
The Lord's Supper in the New Testament, SCM Press 1952, pp. 72f.; Kümmel,
Theology, pp. 22If.
(обратно)
334
Однако пространное чтение, видимо, принадлежит оригиналу: см. особенно H. Schürmann, 'Lk 22.19b-20 als ursprüngliche Textüberlieferung' (1951),
Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien, Düsseldorf 1968, pp. 159–192; Jeremias,
Eucharistie Words, pp. 139–159.
(обратно)
335
G. Bornkamm, 'Lord's Supper and Church in Paul' (1956),
Early Christian Experience, ET SCM Press 1969, pp. 134ff.; Schweizer,
Lord's Supper, pp. 10–17; Marxsen,
Lord's Supper, pp. 5–8; F. Lang, 'Abendmahl und Bundesgedanke im Neuen Testament',
EvTh, 35, 1975, pp. 527f.; H. Merklein, 'Erwägungen zur Überlieferungsgeschichte der neutestamentlichen Abendmahlstraditionen',
BZ, 21, 1977, pp. 94–98; Marshall,
Last Supper, pp. 43–51. Иного мнения Klappert,
NIDNTT, II, pp. 524ff
(обратно)
336
Например, О. Cullmann,
Early Christian Worship, 1950, ET SCM Press 1953, ch. 2; A. Corell,
Consummatum Est, 1950, ET SPCK 1958, ch. 3.
(обратно)
337
Например, R. Bultmann,
John, pp. 138 η. 3, 234–237, 677f.; Käsemann,
Testament, pp. 32f.
(обратно)
338
Например, Beasley‑Murray,
Baptism, pp. 216–232; R. Ε. Brown, 'The Johannine Sacramentary',
New Testament Essays, Chapman 1965, ch. IV; H. Klos,
Die Sakramente im Johannesevangelium, Stuttgarter Bibelstudien 46, 1970.
(обратно)
339
См. J. D. G. Dunn, Ά Note on
dorea, ExpT, 81, 1969–1970, pp. 349–351.
(обратно)
340
Упоминание о "плоти" в 6:63 делает крайне маловероятным предположение, что эти стихи являются поздней вставкой.
(обратно)
341
См. подробнее J. D. G. Dunn, 'John 6 — A Eucharistie Discourse?',
NTS, 17, 1970–1971, pp. 328–338.
(обратно)
342
Анализ релевантных отрывков в 1–м Послании Иоанна см. в Dunn,
Baptism, ch. XVI.
(обратно)
343
В какой степени Тайная вечеря была продолжением обычных общих застолий Иисуса, а в каком отходила от них, — вопрос важный, но ответить на него практически невозможно. Тем не менее не стоит проводить между ними четкую грань, как это часто делается. Как ни странно, евхаристические тона из речи о хлебе (Ин 6) поставлены в контекст открытой трапезы.
(обратно)
344
S. Tugwell,
Did you Receive the Spirit?, Darton, Longman & Todd 1972, pp. 52–54.
(обратно)
345
R. A. Knox,
Enthusiasm, Oxford University Press 1950, pp. 152, n. 3, 410.
(обратно)
346
J. Wesley,
Forty‑four Sermons, X. 'The Witness of the Spirit', Epworth 1944, p. 115.
(обратно)
347
L. Newbigin,
The Household of God, SCM Press 1953, pp. 87–89.
(обратно)
348
Geist — Дух (
нем)
(обратно)
349
G. Williams,
The Radical Reformation, Weidenfeld & Nicolson 1962, p. 822.
(обратно)
350
Цитируется в кн.: Knox,
Enthusiasm, p. 450.
(обратно)
351
Статья 'Experience, Religious' в
A Dictionary of Christian Theology, ed., A. Richardson, SCM Press 1969, p. 127.
(обратно)
352
Последующий текст в значительной мере является кратким изложением kh.: Dunn,
Jesus, где проводится документированное обсуждение других точек зрения.
(обратно)
353
Так, в кн. Knox, op. cit, pp. 4–6.
(обратно)
354
См. более подробно: Dunn,
Jesus, ch. V. См. также новейшую работу: W. L. Craig,
Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus, Edwin Mellen 1989.
(обратно)
355
Маловероятно, что Лука представлял самарян, уже получившими Духа и нуждающимися только в
проявлении Духа. Лука разумеет Дух силой, проявляющей себя явственно и осязаемо для наблюдающего, — и вне проявления Духа не существует (см. выше, стр. 218–219, а также более подробно в кн.: Dunn,
Baptism in the Holy Spirit, ch. V.).
(обратно)
356
В соответствии с Мк 3: 20 [СП — 3:21], те, кто был близок Иисусу, думали, что Он не в Себе (буквально — «в исступлении»).
(обратно)
357
См. J. Klausner,
Jesus of Nazareth, Allen & Unwin 1925, pp. 18–47; H. van der Loos,
The Miracles of Jesus, SNT, Villi, 1965, pp. 156–175; J. D. G. Dunn и G. H. Twelftree, 'Demon‑Possession and Exorcism in the New Testament',
Churchman 94, 1980, pp. 210–225.
(обратно)
358
Е. Käsemann, 'The Problem of the Historical Jesus' (1954),
ENTT, pp. 37–42; J. Jeremias,
Theology, Vol. I, pp. 35–36
.
(обратно)
359
J. Jeremias,
Prayers, pp. 57–62; хотя см. также важные оговорки в кн.: G. Vermes,
Jesus and the World of Judaism, SCM Press 1983, pp. 41–42; J. A. Fitzmyer, 'Abba and Jesus' Relation to God',
A Cause de l'Evangile, J. Dupont Festschrift, Cerf 1985, pp. 15–38; J. Barr, 'Abba isn't "Daddy"', J7S39, 1988, pp. 28–47.
(обратно)
360
См. также мою работу 'Matthew 12: 28 / Luke 11: 20 — A Word of Jesus?',
Eschatology and the New Testament, G. R. Beasley‑Murray Festschrift, ed. W. H. Gloer, Hendrickson 1988, pp. 29–49.
(обратно)
361
Более подробно см. в кн.: Dunn,
Jesus, § 38.1.
(обратно)
362
Павел не рассматривает, однако, явление ему воскресшего Иисуса при его обращении как видение; это было нечто единственное в своем роде, неповторимое (1 Кор 15: 8 — «после всех»).
(обратно)
363
См. также J. D. G. Dunn, 'Discernment of Spirits — A Neglected Gift',
Witness to the Spirit, ed. W. Harrington, Irish Biblical Association / Koinonia 1979, pp. 79–96.
(обратно)
364
См. также Dunn, 'Rom. 7: 14–25', pp. 257–273.
(обратно)
365
Хотя я употребляю слово «харизма» более в Павловом, чем Веберовом (Weber) смысле, здесь вполне уместно описание Вебером процесса развития харизматическими группами своих доктрин, культа и организации как «превращение харизмы в шаблон».
(обратно)
366
Мейер (Meyer,
Early Christians, pp. 174–181) совершенно справедливо акцентирует «извлеченные из опыта корни (христианской) самоидентификации».
(обратно)
367
Koester,
'Gnomai Diaphoroi', Trajectories, p. 117.
(обратно)
368
Ср. Е. Käsemann, 'Blind Alleys in the "Jesus of History"Controversy',
NTQT, p. 47–48.
(обратно)
369
F. D. Schleiermacher,
Life of Jesus, 1864, англ. пер.: Fortress 1975.
(обратно)
370
Знаменитое изложение либерального христианства, What is Christianity? А. Гарнака (Α. Harnack; 1900, англ. изд. 1901, переизд, Вена, 1958), может быть сведено здесь к двум знаменитым фразам: «Благовестие, возвещенное Иисусом, говорит лишь об Отце, никак не о Сыне» и «Настоящая вера в Иисуса заключается не в ортодоксальности верования, но в подражании Его делам» (лекция 8 и резюме).
(обратно)
371
М. Kahler,
The So‑called Historical Jesus and the Historic Biblical Christ, 1892, англ. пер.: ed., С. Ε. Braaten, Fortress 1964.
(обратно)
372
Ср., в частности, Braun, 'New Testament Christology'
JThC, 5, 1968, pp. 89–127; также критику Бультмана (Bultmann) в работе: S. M. Ogden,
Christ without Myth, Harper 1961, p. 76–94.
(обратно)
373
Ср.: J. А. Т. Robinson, 'Elijah, John and Jesus',
NTS, 4, 1957–1958, pp. 263–281, перепечатано: в Twelwe New Testament Studies, SCM Press 1962, p. 28–52; см. также J. Becker, 'Das Gottesbild Jesu und die älteste Auslegung von Ostern',
JCHT, pp. 105–126.
(обратно)
374
См. особо Tödt,
Son of Man, и F. Hahn,
The Titles of Jesus in Christology, 1963, англ. пер.: Lutterworth 1969. pp. 28–34.
(обратно)
375
U. Wilckens, 'The Understanding of Revelation within the History of Primitive Christianity',
Revelation as History, ed., W. Pannenberg, 1961, англ. пер.: Macmillan 1968, pp. 57–121; W. Pannenberg,
Jesus God and Man, 1964, англ. пер.: SCM Press 1968, pp. 53–66; cp. N. A. Dahl, 'The Problem of the Historical Jesus' (1962),
The Crucified Messiah and other essays, англ. пер.: Augsburg 1974: «То ли события Пасхи и Пятидесятницы только предваряли осуществление эсхатологического обещания Иисуса, то ли это обещание в самой своей сути осталось невыполненным» (р. 83). См. также: С. К. Barrett,
Jesus and the Gospel Tradition, SPCK 1967, гл. 3; A. Strobel,
Kerigma und Apokaliptik, Göttingen 1967.
(обратно)
376
Впервые это положение выдвинуто Кеземаном (Е. Käsemann, 'Problem',
ENTT, особенно pp. 42–43; а также: G. Bornkamm,
Jesus of Nazareth, 1956, англ. пер.: Hodder & Stoughton 1960, в частности pp. 67–69. Из более поздних работ см.: Р. Stuhlmacher, 'Jesus als Versöhner',
JCHT, pp. 95–97. Не стоит забывать раннюю формулировку Бультмана (R. Bultmann, 'The Significance of the Historical Jesus for the Theology of Paul' (1929),
Faith and Understanding, англ. пер.: SCM Press 1969, pp. 237–238): «Призыв к такой интерпретации Своей личности, как в Лк 12: 8–12,
подразумевает христологию».
(обратно)
377
W. Marxsen,
The Beginnings of Christology, англ. пер.: Fortress 1969, особенно ch. 5; также 'Die urchristlichen Kerygmata und das Ereignis Jesus von Nazareth',
ZTK, 73, 1976, pp. 42–64; см. также H. Schürmann, 'Die vorösterlichen Anfänge der Logientradition',
Der Historische Jesus und der kerigmatische Christus: Beiträge zum Christusverständnis im Forschung und Verkündigung, ed. H. Ristow и Κ. Matthiae, Berlin 1961, pp. 362–368; J. Ernst,
Anfange der Christologie, Stuttgarter Bibelstudien 57, 1972, pp. 125–161.
(обратно)
378
Ср.: G. Ebeling,
Theology and Proclamation, 1962, англ. пер.: Collins 1966, p. 79; E. Jungel,
Paulus und Jesus Tübingen. 3–е изд. 1967, pp. 280–283.
(обратно)
379
L. Ε. Keck,
A Future for the Historical Jesus, SCM Press 1972, pp. 183, 235. О другой литературе по трем вышеозначенным альтернативным позициям см.: S. Schulz, 'Der historische Jesus: Bilanz der Fragen und Lösungen',
JCHT, pp. 21–23. "Новый поиск" вытесняется теперь "третьим поиском" (См. выше Предисловие ко 2–му изданию, прим. 9), который в действительности является вариантом позиции (с) и особенно стремится возможно полнее вписать Иисуса в Его иудейский контекст.
(обратно)
380
См. также: J. Jeremias,
New Testament Theology, Vol. I, pp. 277–286; H. Schürmann, 'Wie hat Jesus seinen Tod bestanden und verstanden?'
Orientierung an Jesus: Für Josef Schmidt, ed., P. Hoffmann, Herder 1973, pp.325–363; V. Howard, 'Did Jesus speak about his own death?'
CBQ 39, 1977, pp. 515–527.
(обратно)
381
A. Schweitzer,
The Quest of the Historical Jesus, англ. пер.: Α. & С. Black 1910, pp. 385, 390.
(обратно)
382
См., в частности, Е. Schweizer,
Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern, 2–e изд.: Zürich 1962, §§ 2–3. См. также G. W. E. Nickelsburg,
Resurrection Immortality, and Eternal Life in Intertestamental Judaism, Harvard 1972. Необходимо отметить важную характеристику тезисов Швейцера (Schweizer) Руппертом: L. Ruppert,
Jesus als der leidende Grechte?, Stuttgarter Bibelstudien 59, 1972, о том, что Иисус Своей личностью свел дотоле несводимые плоскости ветхозаветной и межзаветной мысли. Ср.: Р. Stuhlmacher, 'Jesus als Versöhner',
JCHT, pp. 102.
(обратно)
383
J. Jeremias (with W. Zimmerli),
Servant, p. 99–106; Cullmann,
Christology, pp. 60–69; другая точка зрения: M. D. Hooker,
Jesus and the Servant, SPCK 1959; Hahn,
Titles, pp. 54–67.
(обратно)
384
В местах: Мк 8: 31; 9: 31 и 10: 33–34 — речения не наводят на мысль о чем‑либо помимо индивидуального Воскресения Иисуса. Но раннее понимание, несомненно, включало в себя мысль о воскресении Иисуса как о начале всеобщего Воскресения (Рим 1: 3–4; 1 Кор 15: 20, 23; ср.: Мф 27: 52–53); см. также ниже, § 67.3. Вопрос в целом освещается в кн.: Н. F. Bayer,
Jesus' Predictions of Vindication and Resurrection, WUNT 2.20, Tübingen 1986.
(обратно)
385
См. также J. D. G. Dunn, Ί Corinthians 15: 45 — Last Adam, Life‑giving Spirit',
CSNT, pp. 127–141.
(обратно)
386
О тексте
Деяний 1: 5 см.: Dunn,
Jesus, гл. VI, п. 60 (р. 398), а также выше, стр. 61, прим. 9.
(обратно)
387
См.: R. Bultmann,
Faith and Understanding, SCM Press 1969, pp. 223–235; Jungel,
Paulus, pp. 268–273; R. Banks,
Jesus and the Law in the Synoptic Tradition, Cambridge University Press 1975, p. 245, n. 4.
(обратно)
388
См. также мою работу 'Pharisees, Sinners and Jesus',
The Social World of Formative Christianity ans Judaism, H. C. Kee Festschrift, ed. J. Neusner et al., Fortress 1988, pp. 264–289; тж. см. здесь, с. 307–308; перепечатано в кн.: Dunn,
Jesus, Paul and the Law, SPCK 1990.
(обратно)
389
Ср. С. F. D. Moule, Ά Reconsideration of the Context of
Maranatha', Essays in New Testament Interpretation, Cambridge University 1982, pp. 222–226. Другая точка зрения: Cullmann,
Christology, pp. 211–212; B. Sandvik,
Das Kommen des Herrn beim Abendmahl im Neuen Testament, Zürich 1970. См. также выше, с. 95–96.
(обратно)
390
Ср. J. А. Т. Robinson,
Jesus and his Coming, SCM Press 1957; Perrin,
Teaching, pp. 164–185. Cm. также прим. 36, ниже.
(обратно)
391
О значении воскресения для самого раннего этапа христианского богословствования см.: P. Pokorny,
The Genesis of Christology, T. & T. Clark 1987.
(обратно)
392
В первоначальном христианстве "спасение" есть вопрос преимущественно эсхатологического будущего (W. Foerster,
'sözö, TDNT, VII, pp. 992–994).
(обратно)
393
Под "христологическим моментом" я разумею то событие, которое как бы определяет личность и статус Христа. Соответственно под формулировкой "сотериологический момент" я подразумеваю событие, имеющее решающее значение для спасения.
(обратно)
394
J. Knox,
The Humanity and Divinity of Christ, Cambridge University Press 1967, p. 11; ср.: G. Schneider, 'Praexistenz Christi',
NTK, pp. 405, 408–409, 412. См., однако, также: Dunn,
Christology, pp. 63.
(обратно)
395
Не очевидно, что употребление Иисусом сочетания
bar '
enāšā подразумевает осознание или убежденность в предсуществовании. Мысли о предсуществовании Сына Человеческого впервые появляются в 1 Еноха 48: 6, а также 62: 7; однако эти места составляют лишь часть единственного фрагмента книги Еноха (Сравнения или Притчи — 1 Еноха 37–71), который до сих пор не был обнаружен среди рукописей Мертвого моря — факт, наводящий на мысль, что Притчи [14Q] были добавлены к 1 Еноха в посткумранский период (окончательно разрушен в 68 г. н. э.) (см., также, в частности Milik,
Enoch, pp. 89–98). Предсуществование не подразумевается ни Дан. 7: 13, ни всем тем, что сообщается о Сыне Человеческом в синоптических Евангелиях (Ср.: Tödt,
Son of Man, p. 300; другая точка зрения: R. G. Hamerton‑Kelly,
Pre‑existence, Wisdom and the Son of Man, Cambridge University Press 1973, чьи решительные заключения на с. 67 и 102 превосходят его же собственные обоснования — см., напр., более раннее заключение на с. 47). См. также Dunn,
Christology, pp. 29.
(обратно)
396
Это же относится к Рим 8: 3 и Гал 4: 4; ср. Прем 9: 10 (см. также Рим 10: 6–7 — если аллюзия на Премудрость действительно там проявляется; ср. Вар. 3: 29); см. в особенности Е. Schweizer, 'Zur Herkunft der Präexistenzvorstellung bei Paulus',
Ev Th, 19, 1959, pp. 65–70; перепечатано в:
Neotestamentica, pp. 105–109; также 'Zum religionsgeschichtlichen Hintergrund der "Sendungsformel" Gal. 4: 4–5, Rom. 8: 3–4, John 3: 11–12, I John 4: 9',
ZNW, 57, 1966, pp. 199–210. Описание некоего предсуществующего как "Сына Бога" не продвигает обсуждение ни в одном из направлений, потому что Премудрость также именуется чадом Бога и Филон может называть Логос «старшим и перворожденным сыном», в то же время именуя видимый мир Божьим «младшим сыном». (Филон Александрийский,
О смешении языков, 62–63;
О том, что Бог неизменен, 31–32; ср.:
О пьянстве, 30.) См. также: Dunn,
Christology, ch. VI.
(обратно)
397
Странно буквалистский тезис Хансона (А. Т. Hanson,
Jesus Christ in the Old Testament, SPCK 1965) о том, что Павел и другие новозаветные писатели толковали множество мест Ветхого Завета то ли как относящиеся к предсуществовавшему Иисусу, то ли как изреченное Самим предсуществовавшим Иисусом, сочувствия не вызывает. Осевой текст 1 Кор 10: 4, как мы видели, является толковательным, дешифрующим замечанием, поясняющим типологико–аллегорическую интерпретацию Павла (см. выше, с. 129 и ср. прим. 18), хотя многие ученые воспринимают это место как еще один пример того, как роль, в других местах отведенная Премудрости, здесь приписана Христу (Филон Александрийский,
Аллегории законов, II, 86;
О том, что худшее склонно нападать на лучшее, 115–118).
(обратно)
398
Ср., напр., Cullmann,
Christology: «Все утверждения Фил. 2: 6–8 следует понимать с точки зрения ветхозаветной истории Адама» (р. 181); С. H. Talbert, 'The Problem of Pre‑existence in Phillipians 2: 6–1Г,
JBL, 86, 1967, pp. 141–153; J. Murphy‑O'Connor, 'Christological Anthropology in Phil. 2: 6–11 ',
RB, 83, 1976, pp. 25–50. Отметим также: Ε. Schweizer,
Erniedrigung, p. 96, η. 383; M. D. Hooker, Thilippians 2: 6–11 ',
JuP, pp. 160–164. См. также выше, с. 173–174.
(обратно)
399
Ср.: J. А. Т. Robinson,
The Human Face of God, SCM Press 1973, pp. 162–166, см. также приведенные там цитаты; противоположная точка зрения: Hamerton‑Kelly,
Pre‑existence, pp. 156–168. См. также выше, с. 173–175. Антитеза богатство/нищета в 2 Кор 8: 9 не подразумевает антитезы предсуществование/воплощение, но может быть просто резким противоположением безгрешной жизни Иисуса унижению креста (ср.: 2 Кор 5: 21; см. также: Dunn,
Christology, pp. 121–123).
(обратно)
400
Ε. Schweizer,
Jesus, 1968, англ. пер.: SCM Press 1971, pp. 84–85.
(обратно)
401
Нокс (J. Knox) оценивает христологию Послания к Евреям как «тесное приближение к чистому кеносису»]
{Humanity, р. 43); однако он не показывает, что мысль о предсуществовании Сына представлена в Послании к Евреям; и даже если можно на это указывать примерами Евр 7: 3 и 10: 5, то это слишком смелое утверждение, даже если речь идет об иносказании (см. ниже, с. 287–288).
(обратно)
402
Григорий Нисский,
против Евномия, 5,5; 12, 1;
Большое катехетическое слово, 26 (англ. пер. в кн.: Н. Bettenson,
The Later Christian Fathers, Oxford University Press 1970, pp. 137, 142–145). Ср. с пятым словом на Рождество святого Льва Великого (см.: J. P. Jossua,
Le salut incarnation ou mystère pascal, Paris 1968, p. 363 — я обязан этой отсылкой коллеге S. G. Hall); ср. также с комментарием А. Гарнака на Афанасия (Hamack,
History of Dogma, 3–е изд. 1894, англ. пер.: Williams & Norgate 1897, III, pp. 292–293).
(обратно)
403
Ср. с язвительным замечанием Реймаруса (H. S. Reimarus): «Если бы апостолы в то время говорили, что пройдет около семнадцати, восемнадцати или более столетий, прежде чем Христос вернется на облаках и учредит Свое царство, их слушатели бы попросту рассмеялись над ними, решив, конечно, что, отдаляя исполнение обетования за пределы жизни столь многих людей и поколений, они просто стремятся скрыть собственный — и своего учителя — позор. Если Христос не пришел и не придет вознаградить верующих в Своем Царстве, то наша вера столь же бесполезна, сколь и ошибочна»
{Fragments, 1778, ed., С. H. Talbert, SCM Press 1971, pp.215, 228).
(обратно)
404
T. F. Glasson,
The Second Advent, Epworth 1945, pp. 64–65; Robinson,
Jesus and his Coming, pp. 43–58. См. также прим. 21, выше.
(обратно)
405
Свидетельства, обозреваемые выше (§§ 6.2 и 18.4), имеют решающее значение в опровержении той точки зрения, согласно которой Иоанн пытается преподнести Иисуса "каким Он был в действительности" в местах: Ин 8: 58 и 10: 30.
(обратно)
406
Более сложным представляется вопрос, являются ли в конечном счете представления о воплощении и непорочном рождении совместимыми с полнотой человечности Христа. См., напр., Brown,
Virginal Conception, pp. 45–47; Knox,
Humanity, pp. 61–62, 68, 73 и т. д. При исправлении данной работы я сознавал, что слишком мало сказано о непорочном рождении. См., однако, R. Е. Brown,
The Birth of the Messiah, Chapman 1977.
(обратно)
407
Возможно, уже в Рим 9: 5 — но если так, то это лишь отдельный пример. См. также Dunn,
Romans, pp. 528–529.
(обратно)
408
D. Cupitt, в кн.:
Christ Faith and History: Cambridge Studies in Christology, ed., S. W. Sykes and J. P. Clayton, Cambridge University Press 1972, pp. 131–144.
(обратно)
409
Отметим, например, сознательные параллели между Евангелием и Деяниями, перечисленные в работе: G. Stählin,
Die Apostlegeschichte, NTD, 5, 10–е изд. 1962, pp. 13–14.
(обратно)
410
О возможных причинах этого см.: Foerster,
'soter', TDNT, VII, pp. 1020–1021.
(обратно)
411
Ср. с комментариями Нокса и Ранера (К. Rahner) в кн.: Knox,
Humanity, pp. 56–57.
(обратно)
412
Вновь обратившись к этим вопросам и в этой связи подвергнув новозаветную информацию более внимательному рассмотрению, я обнаружил, что мое уважение к последующим тринитарным формулировкам, к моему удивлению, существенно возросло (см. Dunn,
Christology, pp. 262–263, 266–268, а также здесь, Предисловие ко второму изданию, с. 26–30). Однако, поскольку бо́льшая часть данной работы посвящена постановке проблем и оживлению богословской мысли, я оставил вопросы § 52.5 так, как они были изначально поставлены, не внося изменений во второе издание.
(обратно)
413
Ср.: J. Daniölou,
The Theology of Jewish Christianity, 1958, англ. пер.: Darton, Longman & Todd 1964, pp. 7–9; S. K. Riegel, 'Jewish Christianity: Definitions and Terminology',
NTS 24, 1977–1978, pp. 410–415.
(обратно)
414
«Начиная приблизительно с середины III в. до н. э.
весь иудаизм может характеризоваться как
"эллинистический иудаизм" — в прямом смысле этого слова» (M. Hengel,
Judaism and Hellenism, англ. пер.: SCM Press 1974, Vol. I, p. 104.)
(обратно)
415
См. также С. К. Barrett, 'Paul and the "Pillar" Apostles',
Studio. Paulina in honorem J. deZwaan, Haarlem 1953, pp. 1–9.
(обратно)
416
См. также Втор. 30: 1–10; ст. 10 из 18 Благословений; а также материал, исследованный в работе Е. Р. Sanders,
Jesus and Judaism, SCM Press 1985, особо pp. 79–86, 96–98.
(обратно)
417
Во всех отмеченных моментах свидетельства Деяний достаточно согласуются на историческом уровне как сами с собой, так и со свидетельством других мест в Новом Завете, вследствие этого мы можем обоснованно заключить, что Лука основывается на неискаженном историческом предании (см. также выше, с. 107, 165–166).
(обратно)
418
A. F. J. Klijn and G. J. Reinink,
Patristic Evidence for the Jewish‑Christian Sects, Leiden 1973, p. 71. О значении и разнообразии иудеохристианства I и II вв. см. работу G. Strecker, On the Problem of Jewish Christianity', в кн.: Bauer,
Orthodoxy, p. 241–285.
(обратно)
419
Далее я буду часто употреблять слова "эбионитский", "эбионизм", чтобы обозначить характерную акцентированность аскетического иудеохристианства, не забывая и не отрицая, что реальность была гораздо более сложной.
(обратно)
420
Иустин,
Диалог с Трифоном иудеем, 47.
(обратно)
421
Епифаний,
Панарион, 29. 7. 5.
(обратно)
422
Ириней,
Против ересей, I, 26,22. См. также: Тертуллиан,
Об отводе дела против еретиков, 32, 5; Ориген,
Гомилии на книгу Бытия, III. 5;
Толкование на Евангелие от Матфея, XI. 12;
Толкование на Евангелие от Матфея, 79;
Против Цельса, II, 1; Епифаний,
Панарион, 30, 2, 2; 30, 26, 1–2;
Послание Петра, 2: 4–5 (Henneke,
Apocrypha, II, p. 112).
(обратно)
423
См., напр., Псевдо–Климентий,
Встречи, 1.44; V. 10; X. 51.
Гомилии Псевдо–Климента, И. 38; III. 49–51; VIII. 7. См. также: H. J. Schoeps,
Theologie und Geschichte Judenchristentums, Tübingen 1949, ch. 3; см. также:
Jewish Christianity, 1964, англ. пер.: Fortress 1969, ch. 5.
(обратно)
424
Иероним,
О знаменитых мужах, II.
(обратно)
425
Епифаний,
Панарион, 30. 23. 1; Марий Викторин,
На послание к Галатам, 4:12. ср.: 1:15. См. также: Епифаний,
Панарион, 30. 2. 6; а также: 30. 13.3. Отметим впечатляющее речение в Евангелии от Фомы: «Иисус сказал им: "в том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иакову Справедливому, из‑за которого возникли небо и земля"» (логия 13). См. также: J. Doresse,
The Secret Book of the Egyptian Gnostics, 1958, англ. пер.: Hollis & Carter 1960, p. 237.
(обратно)
426
Ириней Лионский,
Против ересей, I. 26. 2; Ориген,
Против Цельса, V, 65; Евсевий Кесарийс–кий,
Церковная история, VI. 38; Епифаний,
Панарион, 28. 5. 3; 30. 16. 8–9.
(обратно)
427
См. также Schoeps,
Theologie, pp. 418–434;
Jewish Christianity, pp. 51–55; Hennecke,
Apocrypha, II, p. 121–123.
(обратно)
428
См., напр., Ириней Лионский,
Против ересей, III, 21, 1; V, 1,3; Тертуллиан
Об одеянии дев, 6. 1; О
плоти Христа, 14; Ориген,
Гомилии на Евангелие от Луки, XVII; Епифаний,
Панарион, 30. 2.2; 30.3. 1.
(обратно)
429
Ириней Лионский,
Против ересей, I. 26. 2 III. 11.7; Епифаний,
Панарион, 30, 3, 7.
(обратно)
430
Епифаний,
Панарион, 30. 13. 2; 30. 14. 3.
(обратно)
431
Там же, 30. 18. 5–6. Ср.: Иустин,
Диалог с Трифоном иудеем, 48.
(обратно)
432
См. также Ипполит Римский,
Отвержение ересей, VII, 34, 1–2; Евсевий Кесарийский,
Церковная история, III, 27, 1–2; Епифаний,
Панарион, 30. 14. 4; 30. 16. 3; Псевдо–Климент,
Встречи, I, 48.
(обратно)
433
Епифаний,
Панарион, 30. 13. 7.
(обратно)
434
Там же, 30. 13.8.
(обратно)
435
Там же, 30. 16. 4. См также 30.3.4. Также: Тертуллиан
О плоти Христа, 14, 5; см., однако, Klijn and Reinink,
Patristic Evidence, p. 21–22.
(обратно)
436
Дальнейшее обсуждение см.: Klijn and Reinink,
Patristic Evidence, p. 33–34; Daniclou,
Theologie, ch. 4; Longenecker,
Christology, pp. 26–28; Schoeps,
Theologie, pp. 78–82;
Jewish Christianity, pp. 62–64.
(обратно)
437
Епифаний,
Панарион, 19. 3. 6; 30. 16. 5; 30. 16. 7; Псевдо–Климент,
Встречи, I, 35–37;
Гомилии Псевдо–Климента, III, 45.
(обратно)
438
Daniclou,
Theologie, p. 64 (цитирует, в частности, Кулльман (Cullmann)).
(обратно)
439
Противоположная точка зрения у Schoeps,
Theologie, pp. 440–448;
Jewish Christianity, pp. 42–44.
(обратно)
440
Ср.: Bauer,
Orthodoxy, p. 236; H. Koester, 'The Theological Aspects of Primitive Christian Heresy',
FRP, p. 83; Schoeps,
Jewish Christianity: «Своим развитием кафолическая церковь обязана задержке парусии; однако эбионитские общины, происходящие от первоначальной иерусалимской церкви, не смогли пережить этого бессмысленного (brute) факта: они умышленно препятствовали развитию своей христологии, оставаясь на стадии ожидания Сына Человеческого» (р. 65).
(обратно)
441
См. также R. Banks, 'Matthew's Understanding of the Law: Authenticity and Interpretation in Matthew 5: 17–20',
JBL, 93, 1974, pp. 226–242; см. также
Jesus and the Law, pp. 203–226; R. A. Guelich,
The Sermon on the Mount, Word 1982, pp. 134–174; U. Luz,
Das Evangelium nach Matthäus, EKK 1/1, Benziger / Neukirchener, 1985, pp. 241–242.
(обратно)
442
Мф 3: 15; 5: 6, 10, 20; 6: 1, 33; 21: 32.
(href=#r442>обратно)
443
См.: А. Sand,
Das Gesetz und die Propheten: Untersuchungen zur Theologie des Evangeliums nach Matthäus, Regensburg 1974, ch. 7.
(обратно)
444
См.: D. R. Catchpole, 'The Synoptic Divorce Material as a Traditio‑historical Problem,
BJRL, 57, 1974, pp. 93–95; J. A. Fitzmyer, 'The Matthean Divorce Texts and some new Palestinian Evidence,
Theological Studies, 37, 1976, pp. 197–226.
(обратно)
445
О других примерах "казуистической" редакции Матфеем текста Марка см. в кн.: С. Е. Carlstone. 'The Things that Defile (Mark 7: 14) and the Law in Matthew and Mark',
NTS, 15, 1968–1969, pp. 86–88. См. также мою работу 'Jesus and Ritual Purity: a study of the tradition history of Mk. 7: 15', в кн.:
Jesus, Paul and the Law, SPCK 1990, ch. 2.
(обратно)
446
Как отмечалось выше (с. 127), Герхардссон (Gerhardsson) обоснованно показывает, что Мф 4: 1–11 является мидрашом к Втор 6–8. Здесь израилева типология просматривается определенней, нежели специфически моисеева.
(обратно)
447
Хотя см. Banks,
Jesus and the Law, pp. 230–232.
(обратно)
448
О различных толкованиях Матфеем лейтмотивов, относимых типологически к Моисею, см. подборку цитат в кн.: Sand,
Gesetz, pp. 101–103; Dunn,
Jesus, Paul and the Law, III, n. 10, а также Banks,
Jesus and the Law, pp. 230. n. 1.
(обратно)
449
Отголоски Втор 18: 15 в описании преображения, Мф 17: 5 ("Его слушайте") являются явным заимствованием из Мк 9: 7.
(обратно)
450
См., в частности, G. Barth в кн.: G. Bornkamm, G. Barth and H. I. Held,
Tradition and Interpretation in Matthew, 1960, англ. пер.: SCM Press 1963, pp. 62–105; A. Sand,
Gesetz.
(обратно)
451
См.: W. D. Davies,
The Setting of the Sermon on the Mount, Cambridge University Press 1964, p. 316–341. Отметим также, что выделен скорее Петр, а не Иаков (см. выше, § 30.3).
(обратно)
452
См.: Schoeps,
Theologie, pp. 188–218;
Jewish Christianity, pp. 99–109.
(обратно)
453
См.: W. G. Kümmel,
introduction to the New Testament, исправленное издание, 1973, англ. пер.: SCM Press 1975, pp. 406–407.
(обратно)
454
См. также: J. В. Mayor,
The Epistle of St James, Macmillan, 2–е изд. 1897, pp. lxxxiv — lxxxvii; F. Mussner,
Der Jakobusbrief Herder, 2–е изд. 1967, pp. 47–51.
(обратно)
455
См. также Dunn,
Romans, p. 197.
(обратно)
456
Ириней Лионский,
Против ересей, I, 26, 2; Епифаний,
Панарион, 28. 5. 3; 30. 16. 9.
(обратно)
457
Евсевий Кесарийский,
Евангелическое доказательство, III. 5 — Иаков, «которого, ранее жившие в Иерусалиме называли "праведником" по причине изрядного его благочестия»; Марий Викторин,
На послание к Галатам, 4:12. См. также: Daniclou,
Theology, pp. 370–371.
(обратно)
458
Ср.: Bauer,
Orthodoxy: «Павел был единственным ересиархом, известным апостольской среде — единственным, кто тогда считался таковым, по крайней мере с определенной точки зрения (р. 236).
(обратно)
459
Уже после издания
U & D, я много писал на эту же тему (см.:
Jesus, Paul and the Law, SPCK 1990); однако этот текст я оставляю без изменений, как самое раннее высказывание по теме, все больше и больше приковывающей мое внимание на протяжении 80–х. См. также: P. J. Achtemeier,
The Quest for Unity in the New Testament Church, Fortress 1987.
(обратно)
460
Здесь, может быть, как раз уместно напомнить, что в поздней традиции (уже с Оригена) Петр считался первым антиохийским епископом (О. Cullmann,
Peter: Disciple, Apostle, Martyr, англ. пер.: SCM Press, 2–е изд.: 1962, p. 54, η. 60); может быть, показательно и то, что следующее известное нам послание, адресованное церквам в Галатии, приписывается Петру!
(обратно)
461
Ср.: Е. Haenchen,
The Acts of the Apostles, англ. пер.: Blackwell 1971, pp. 475–477; Koester,
'Gnomai Diaphoroi, Trajectories, p. 121–122; и также общий тезис в работе: J. W. Drane,
Paul, Libertine or Legalist?, SPCK 1975.
(обратно)
462
См., в частности, Е. Käsemann, 'Die Legitimität des Apostles'
ZNW, 41, 1942, pp. 33–71, издано отдельной брошюрой в 1956 г. (Darmstadt); и еще раз в кн.: Κ. H. Rcngstorf,
Das Paulusbild in der neuren deutschen Forschung, Darmstadt 1969, pp. 475–521; С. К. Barrett, 'Christianity at Corinth',
BJRL, 46, 1964, pp. 286–297; 'PSEUDAPOSTOLOI, II Cor. 11: 13',
MBBR, pp. 377–396; 'Paul's Opponents in II Corinthians', N75, 17, 1970 — 1971, pp. 233–254. (Все эти работы перепечатаны в кн.: Barrett,
Essays on Paul, SPCK 1982); //
Corinthians, A. & C. Black 1973, pp. 5–10, 28–32, 277–278. См. также выше, стр. 109–111; 217–218.
(обратно)
463
С. К. Barrett, 'Pseudapostoloi', II Cor. 11: 13, pp. 384–385.
(обратно)
464
Так, по Кеземану (Ε. Käsemann) и Баррету (С. К. Barrett). Павел был, в конце концов, уже несколько обособлен от других апостолов, "почитаемых столпами" (Гал 2: 6; 2: 9).
(обратно)
465
С. К. Barrett,
II Corinthians, Α. & С. Black 1973, pp. viii.
(обратно)
466
Е. Haenchen,
Acts, pp. 611–614; О. Cullmann, 'Dissensions within the Early Church',
New Testament Issues, ed., R. Batey, SCM Press 1970, pp. 124–126; A. J. Mattill, 'The Purpose of Acts: Schneckenburger Reconsidered'
AHGFFB, pp. 115–117; Achtemeier,
Quest.
(обратно)
467
Мф 13: 57 и Ин 4: 44 похоже скорее на общеизвестное речение, чем на христологическое утверждение.
(обратно)
468
Ориген,
Против Цельса, V. 61; Евсевий Кесарийский,
Церковная история, III. 27. 3.
(обратно)
469
См.: M. J. Suggs,
Wisdom, Christology and Law in Matthew's Gospel, Harvard 1970, pp. 55–61, 95–100; Dunn,
Christology, pp. 197–206.
(обратно)
470
См. J. А. Т. Robinson,
The Human Face, pp. 156–158.
(обратно)
471
О возможных указаниях в Поел, к Евреям на Стефана см. в кн.: W. Manson,
The Epistle to the Hebrews, Hodder & Stoughton 1951, ch. II.
(обратно)
472
Трудно представить общину христиан из
язычников, к которой аргументация Послания к Евреям имела бы прямое отношение, но где вопросы соблюдения закона были бы вместе с тем малозначащи. Эти проблемы кажутся более актуальными для иудеохристианской группы в контексте ситуации после 70 г. н. э. Другая точка зрения — Kümmel,
Introduction, pp. 398–400.
(обратно)
473
См. также выше, стр. 128–129. Полезное рассмотрение риторической техники Поел, к Евреям см. в кн.: G. Vos,
The Teaching of the Epistle to the Hebrews, Eerdmans 1956, pp. 56–57.
(обратно)
474
См. также выше, стр. 128–129. Полезное рассмотрение риторической техники Поел, к Евреям см. в кн.: G. Vos,
The Teaching of the Epistle to the Hebrews, Eerdmans 1956, pp. 56–57.
(обратно)
475
Ср. с отзывом Мэрея (R. Murray): «неправильно было бы расценивать консерватизм как "ересь"; скорее это один из возможных рассадников, всегда жалкий, иногда трагичный, ереси»
{Heythrop Journal 20, 1979, pp. 194–195; с отсылкой к его статье 'Tradition as Criterion of Unity' в
Church Membership and Intercommunion, ed. J. Kent и R. Murray, London, 1973, pp. 251–280, в особенности 257–271).
(обратно)
476
В связи с определением терминологии (гностицизм, гнозис; протогностический, догностический) см.: U. Bianchi (ed.),
Le Origini dello Gnosticismo, Leiden 1967, pp. xxvi — xxviii. Лучшее собрание гностических текстов, а также текстов о гностиках см. в кн.: W. Foerster,
Gnosis, 2 vols, Oxford University Press 1972, 1974. Тексты Наг–Хаммади см. в кн.: J. M. Robinson, The Nag Hammadi Library in English, третье, исправленное издание, Brill 1988.
(обратно)
477
Так, напр., у N. А. Dahl,
Das Volk Gottes, 1941, Darmstadt, 2–е изд. 1963, p. 193; M. Simon,
St Stephen and the Hellenists in the Primitive Church, Longmans 1958, pp. 11–13; F. F. Bruce,
New Testament History, Nelson 1969, pp. 217–218.
(обратно)
478
W. L. Knox,
St Paul and the Church of Jerusalem, Cambridge University Press 1925, p. 48, n. 2. Кроме того, в этом случае очень важен социальный фактор. С тех пор как регион благодаря завоеваниям Александра Македонского был эллинизирован, греческий язык и обычаи всегда были отличительной особенностью высшего класса, лучше образованного и обеспеченного. В таком случае Варнава (Деян 4: 36) и Иоанн Марк (Деян 12: 12, 25) могли быть из их числа.
(обратно)
479
Simon,
Stephen, p. 12.
(обратно)
480
Ε. Haenchen, The Book of Acts as Source Material for the History of Early Christianity',
SLA, p. 264.
(обратно)
481
Cp.: L. Goppelt,
Apostolic and Post‑Apostolic Times, 1962, англ. пер.: A. & С. Black 1970, pp. 54–55; M. Hengel, 'Between Jesus and Paul',
Between Jesus and Paul, SCM Press / Fortress 1983, pp. 13–16.
(обратно)
482
См., в частности, А. Spiro, 'Stephen's Samaritan Background' в кн.: J. Münk,
The Acts of the Apostles, Anchor Bible 31, Doubleday 1967, pp. 285–300; M. H. Scharlemann,
Stephen: A Singular Saint, Analecta Biblica 34, Rome 1968, pp. 36–51; C. H. H. Scobie, 'The Origins and Development of Samaritan Christianity',
NTS, 19, 1972 — 1973, pp. 391–400. Спиро (Spiro) придает слишком большое значение разбираемому им случаю, и Шарльман (Scharlemann) тоже преувеличивает самарянское влияние на Стефана; отметим также сдержанные комментарии в кн.: R. Pummer,
'The Samaritan Pentateuch and the New Testament', NTS, 22, 1975 — 1076, pp. 441^43; E. Richard, 'Acts 7: An Investigation of the Samaritan Evidence',
CBQ, 39, 1977, pp. 190–208.
(обратно)
483
Отметим, что Марк в своей версии этого неясного речения Иисуса (Мк 14: 58) употребляет то же самое богохульное определение (χειροποίητος) применительно к Храму.
(обратно)
484
Simon,
Stephen, p. 45–47.
(обратно)
485
Отметим страстное желание иерусалимских христиан опровергнуть некоторые обвинения (о подмене или оставлении "обычаев", восходящих к Моисею), выдвинутые против Павла (Деян 21: 21; ср.: 6: 14), см. также выше, § 56.3.
(обратно)
486
Кпох,
Jerusalem, р. 57, п. 42.
(обратно)
487
О возможности непосредственного влияния взглядов Стефана см. выше, с. 374—375, прим. 56. Другие предположения содержатся в кн.: G. Friedrich, 'Die Gegner des Paulus im II Korintherbrief,
Abraham unser Vater, O. Michel Festschrift, ed., O. Betz, M. Hengel, P. Schmidt, Leiden 1963, pp. 181 — 215, где аргументируется связь между оппонентами Стефана и Павла на материале Второго послания Коринфянам; см. также О. Cullmann,
The Johannine Circle, где предлагается связь между эллинистами и кругами, в среде которых могло возникнуть четвертое Евангелие.
(обратно)
488
Мы оставляем здесь без внимания Послание к Евреям, хотя можно считать его самым эллинистическим из новозаветных сочинений — если судить по представленности там платонической картины мира (см. выше, с. 290–291).
(обратно)
489
См.: J. С. Hurd,
The Origin of I Corinthians, SPCK 1965, ch. 4, о различных теориях на этот счет.
(обратно)
490
Munck,
Paul, ch. 5.
(обратно)
491
N. А. Dahl, 'Paul and the Church at Corinth in I Cor. 1: 10–4: 21',
Christian History and Interpretation: Studies Presented to John Knox, ed., W. R. Farmer, C. F. D. Moule and R. R. Niebuhr, Cambridge University Press 1967, pp. 313–335.
(обратно)
492
Dahl, op. cit., p. 322.
(обратно)
493
См, напр., W. G. Kümmel,
Introduction to the New Testament, pp. 274–275, а также цитируемых им авторов. Сильнейшим сторонником тезиса о гностиках как оппонентах Павла является W. Schmithals,
Gnosticism in Corinth, 2–е изд. 1965, англ. пер.: Abingdon 1971.
(обратно)
494
См. цитаты, приведенные в кн.: Е. Yamauchi,
Pre‑Christian Gnosticism, Tyndale Press 1973, pp. 39–43. См. также ниже, прим. 58. Если в самом деле «лжеапостолы» (2 Кор 10–13) изображали Иисуса верховным чудотворцем (см. выше, с. 109–110 и ниже, с. 216–217), тогда нужно признать, что увлечение коринфян сверхъестественным приобрело более выраженный христологический оборот ко времени написания Павлом 2 Кор 10–13 (см. также ниже, с. 316).
(обратно)
495
См., в частности, Ириней Лионский,
Против ересей, 1.5.4–6. 2; 1.7. 5; I. 8. 3; Климент Александрийский,
Извлечения из Феодота, 2–3; 53–58;
Сущность архонтов, 87,18.
(обратно)
496
Особенно в весьма тщательно разработанной системе валентиниан: см., напр., Ириней Лионский,
Против ересей, I, 7, 1; 21, 5; Климент Александрийский,
Извлечения из Феодота, 44–45; 53. Отметим несомненную отождествленность Премудрости и Духа в системе валентиниан (Ириней Лионский,
Против ересей, 1,4, 1; Ипполит Римский,
Отвержение ересей, VI. 34. 1; 35. 3–4. 7).
(обратно)
497
Так у Керинфа, Василида и валентиниан (Ириней Лионский,
Против ересей, I. 26. 1; I. 24. 4; I. 7. 2; Климент Александрийский,
Извлечения из Феодота, 61: 6).
(обратно)
498
Ириней Лионский,
Против ересей, I. 6. 2; 25. 3–4; Климент Александрийский
Строматы, III. 10. 1; Ипполит Римский,
Отвержение ересей, VI. 19. 5; Епифаний
Панарион, 40. 2. 4).
(обратно)
499
Ириней Лионский,
Против ересей, I. 24. 2; Ипполит Римский,
Отвержение ересей, V. 9. 11; Епифаний,
Панарион, 45. 2. 1–3).
(обратно)
500
См., в частности, Ириней Лионский,
Против ересей, I. 6. 3.
(обратно)
501
Василид: «Благая весть же, согласно с ними, заключается в знании неземных вещей» (Ипполит Римский,
Отвержение ересей, VII. 27. 7). Валентиниане: «Конец мира наступит, когда все духовные усовершенствуются через знание…»; «Они провозглашали, что обладают бо́льшим знанием, нежели остальные, и что они одни достигли величия в познании несказанных сил»; «Душа, душевный человек — спасаются знанием…» (Ириней Лионский,
Против ересей, I. 6. 1; 13. 6; 21. 4). См. также: Ипполит Римский,
Отвержение ересей, V. 6. 4. 6; Епифаний,
Панарион, 26. 10. 7–9; 31.7. 8–9;
Примандер, 26–27, 32 и т. д.
(обратно)
502
Ириней Лионский,
Против ересей, I. 6. 3; I. 24. 5.
(обратно)
503
Об отношении, выраженном в Посланиях к Коринфянам к крещению и евхаристии см. выше, § 39.5 и стр. 204–205, 206–207.
(обратно)
504
См. краткое обсуждение в кн.: Dunn,
Jesus, pp. 234–235 и примечания 176, 177, 180.
(обратно)
505
Так у Иринея Лионского,
Против ересей, I. 6. 4; 13. 6; Климент,
Строматы, III: 1 (Василид,
Фрагменты, 8, 3); Ипполит Римский,
Отвержение ересей, V. 8. 9; V. 8. 29;
Деяния Фомы, 18:34; 36: 20; 42:28; 43:20;
Евангелие от Филиппа 31, 100;
Фома Атлет, 140:10–11; 145:17.
(обратно)
506
См. выше, § 39.5. Ср.
Деяния Фомы, 26: «Возрадовавшись, молю вас принять и разделить со мной это причастие и молитву к Господу и возвыситься сим».
(обратно)
507
См.: J. H. Wilson, 'The Corinthians who say there is no resurrection of the dead',
ZNW, 59, 1968, pp. 90–107, а также приводимые им цитаты на с. 95–97; также: Barrett,
I Corinthians, pp. 347–348; Robinson,
Trajectories, pp. 33–35; J. H. Schütz,
Paul and the Anatomy of Apostolic Authority, Cambridge University Press 1975, pp. 85–86.
(обратно)
508
2 Тим 2: 18; Иустин,
Dialogue 80; Ириней Лионский,
Против ересей, I. 23. 5; II. 31. 2; Тертуллиан,
Об отводе дела против еретиков, 33, 7;
О воскресении плоти, 19;
Деяния Павла и Феклы, 14;
Послание Регину, 49, 15–17;
Евангелие от Филиппа 21, 63, 90, 95. См., однако, ниже, стр. 314–315.
(обратно)
509
Дальнейшие исследования выявили другие, в частности социальные, факторы (G. Theissen,
The Social Setting of Pauline Christianity, 1979, англ. пер.: Fortress / Т. & T. Clark 1982; P. Marshall,
Enmity in Corinth: Social Conventions in Paul's Relations with the Corinthians, WUNT 2.23, Tübingen 1987); но это лишь подчеркивает, насколько "спасение" в Коринфе было многосложно: оно включало и синкретические религиозные элементы (в частности, "знание"), которое приводит к последующим, вполне разработанным гностическим системам.
(обратно)
510
См., в частности, R. Jewett, 'Conflicting Movements in the Early Church as Reflected in Phillippians',
NovTest, 12, 1970, pp. 362–390; Martin,
Phillipians, pp. 22–36. Сейчас я, вероятно, хотел бы смягчить это заключение, см.: Dunn,
Romans, p. 903; G. F. Hawthorne,
Phillippians, Word Biblical Commentary 43, Word 1983, pp. xliv — xlvii.
(обратно)
511
См., напр., W. L. Knox,
St Paul and the Church of the Gentiles, Cambridge University Press 1939, p. 170, и обсуждение в кн.: Ε. Lohse,
Die Briefe an die Kolosser und an Philemon, KEK 1968, pp. 173— 178. См., однако также F. О. Francis в кн.: F. О. Francis and W. A. Meeks,
Conflict at Colossae, Scholars 1975; P. T. O'Brien,
Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary 44, Word 1982, pp. 141–146.
(обратно)
512
F. Wisse, 'The Epistle of Jude in the History of Heresiology',
Essays on the Nag Hammadi Texts in Honour of A. Böhlig, ed., M. Krause, Leiden 1972, pp. 133–143, где отрицается то, что Послание Иуды отражает специфическую историческую ситуацию, но не объясняется, каким образом Иуда все‑таки считает, что таких людей можно допустить до участия в христианских вечерях любви. См., однако, R. J. Bauckham,
Jude, II Peter, Word Biblical Commentary 50, Word 1983, pp. 11–13.
(обратно)
513
Ср.: A. D. Nock, 'Gnosticism',
Essays on Religion and the Ancient World, ed., Ζ. Stewart, Oxford University Press 1972: «То, что мы называем гностицизмом, представляется мне совокупностью рядов индивидуальных реакций на религиозную ситуацию — более того, реакций людей,
которые во многих случаях не могли думать о себе как об отступниках. Кристаллизация того, что стало потом ортодоксией, была постепенным процессом, поступательным исключением тех идей, которые казались неприемлемыми» (р. 954 — курсив мой).
(обратно)
514
J. M. Robinson,
'Logoi Sophon: on the
Gattung of
Q',
Trajectories, ch. 3; также в
FRP, ch. 5; H. Koester,
''Gnomai Diaphoroi: the Origin and Nature of Diversification in the History of Early Christianity',
Trajectories, ch. 4. (здесь см., в частности, с. 165–183; также One Jesus',
Trajectories, ch. 5 (здесь же см. стр. 205–224 — цитата со страницы 186–187) О связях Оксиринхских фрагментов с Фомой см. в кн.: Hennecke,
Apocrypha, I, pp. 97–113.
(обратно)
515
6b, 16, 21b, 26, 33а, 33b, 34, 36, 39а, 44, 45, 46, 47а, 54, 55, 64, 68, 69b, 73, 76b, 78, 86, 89, 91 (?), 92а, 94, 95 (?), 96, 101, 103, 106 (?), 107.
(обратно)
516
В скобках дается номер логии по переводу М. К. Трофимовой.
(обратно)
517
См. выше, с. 255, 286–287; а также: G. N. Stanton, On the Christology of
Q',
CSNT, pp. 36–38.
(обратно)
518
См., в частности, R. A. Edwards,
A Theology of Q, Fortress 1976, ch. V.
(обратно)
519
H. Koester,
'Gnomai Diaphoroi', Trajectories, pp. 138–139; 'One Jesus',
Trajectories, p. 186.
(обратно)
520
Другие хорошие примеры логий явно гностического характера — см. в прим. 39, 60 и 87.
(обратно)
521
См.: R. A. Edwards,
A Theology of Q, pp. 37–43 и подборки цитат там; H. Koester,
Introduction, vol. 2, p. 148.
(обратно)
522
J. А. Т. Robinson,
Trajectories, pp. 82–85, 102–103; ср.: J. D. Turner, Ά New Link in the Syrian Judas Thomas Tradition',
Essays on the Nag Hammadi Texts in Honour of A. Böhlig, ed., M. Krause, Leiden 1972, pp. 115–116. См. также S. Kloppenborg,
The Formation of Q, Fortress 1987.
(обратно)
523
The Hellenistic Mystery‑Religion, 3–е изд. 1927, англ. пер.: Pickwick 1978, p. 84.
(обратно)
524
Т. Zahn, цитируется Ваиег'ом,
Orthodoxy, pp. 224–225. См. также E. Н. Pagels,
The Gnostic Paul, Fortress 1975, pp. 1–3. Валентиниане обладали наиболее значительной гностической системой во II и III вв. н. э.
(обратно)
525
Pagels,
Paul, pp. 57–58, 101–103, 121. См. также В. A. Pearson,
The Pneumatikos‑Psychikos Terminology in I Corinthians, SBL Dissertation Series 12, 1973, pp. 59, 66–67, 71, 80–81; «Намного более значимым апостольским авторитетом для гностиков обладал апостол Павел» (р. 84).
(обратно)
526
W. Schmithals,
Paul and the Gnostics, англ. пер.: Abingdon 1972, p. 29.
(обратно)
527
Schmithals,
Gnosticism, p. 151.
(обратно)
528
Pagels,
Paul, p. 115.
(обратно)
529
Bauer,
Orthodoxy, pp. 234. Мы можем также восстановить, что иудеохристианин из «Бесед» Псевдо–Климента, критиковавший Павла в образе Симона Волхва (выше, с.241), и есть тот самый человек, кого Иустин, Иегесипп и Ириней считали самым первым гностиком.
(обратно)
530
Bauer,
Orthodoxy, pp. 221.
(обратно)
531
Тертуллиан,
Против Маркурия, — «особым и основным делом Маркиона является разделение Закона и Благодати» (1:19).
(обратно)
532
См. также: Е. С. Blackman,
Marcion and his Influence, SPCK 1948, p. 107.
(обратно)
533
Drane,
Paul, p. 112; см. также pp. 100, 112–113, 114, 119. Дрэйн (Drane) не распространяет свое замечание о Павле на Маркиона; да и довольно спорно было бы называть Маркиона гностиком в узком смысле этого слова, но Маркион, все же, использует некоторые идеи, которые представлены, помимо него, в гностицизме. См. также H. D. Betz, 'Spirit, Freedom and Law: Paul's Message to the Galatian Churches',
Svensk Exegetisk Arsbok, 39, 1974, pp. 159–161.
(обратно)
534
Hurd,
I Cor., ch. 8; ср. с предположением Дрэйна (Dräne) о коринфских оппонентах Павла, которые «фактически ссылались на его утверждения из Послания Галатам для доказательства своих собственных положений» (р. 61). Этот тезис, хотя и содержит ценные интуиции, не обоснован.
(обратно)
535
Маловероятно, что Павел был обязан хорошо разработанной гностической системе в виде мифа о Софии в 1 Кор 2 (см. выше, прим. 19); и если в 1 Кор 15: 44 усмотрима некоторая осведомленность в гностических спекуляциях на тему Первого человека (однако см. Dunn,
Christology, pp. 123— 125), Павел стремится скорее исправить их, чем просто заимствовать. См. развернутое обсуждение в кн.: L. Schottroff,
Der Glaubende und die feindliche Welt, Neukirchen 1970, chs. 4–5; ср.: Pearson,
The Pneumatikos‑Psychikos Terminology in I Corinthians, chs.
3–4.
(обратно)
536
См.: Dunn,
Jesus, § 21, особенно pp. 120–121.
(обратно)
537
Тексты см. в кн.: M. L. Peel, 'Gnosic Eschatology and the New Testament',
Nov Test 12,1970, pp. 159— 162; также
The Epistle to Rheginos, SCM Press 1969, pp. 146–149.
(обратно)
538
См., напр., Лк 24:39; Игнатий Богоносец,
Послание к Смирнянам, 3;
Clement 9; Послание Климента 9; Апокалипсис Петра 4: 17; Тертуллиан,
О воскресении плоти; также в древнем апостольском Символе веры; провозглашается вера в "воскрешение плоти". Ср., однако, с точкой зрения Оригена и влиянием, которое она оказала (см.: J. N. D. Kelly,
Early Christian Doctrines, Α. & С. Black, 2–е изд.: 1960, pp. 470–472, 474–479).
(обратно)
539
Извлечения из Феодота, 23:2–3; цитируется по: Pagels,
Paul, pp. 14.
(обратно)
540
Так, очевидно, у валентиниан и Александра, критикуемых Тертуллианом в
О плоти Христа, 16. См. также: Тертуллиан,
Против Маркиона, V. 14, 1–3, и другие места, приведенные в кн.: M. F. Wiles,
The Divine Apostle, Cambridge University Press 1967, pp. 81–82.
(обратно)
541
Тертуллиан,
Против Маркиона, III. 5.
(обратно)
542
Pagels,
Paul, p. 104.
(обратно)
543
Цитируется по: Wiles,
The Divine Apostle, pp. 49–50.
(обратно)
544
Wiles,
Apostle, p. 133.
(обратно)
545
Wiles,
Apostle, p. 136; см. также: T. F. Torrance,
The Doctrine of Grace in the Apostolic Fathers, Oliver & Boyd 1948.
(обратно)
546
Ириней Лионский,
Против ересей, V. 9. 4; Тертуллиан,
О воскресении плоти, 49–50. См. также: Wiles,
Apostle, pp. 4–6.
(обратно)
547
Епифаний,
Панарион, 31. 7. 6.
(обратно)
548
Pagels,
Paul, pp. 32–33, 110.
(обратно)
549
Pagels,
Paul, pp. 53, 55–56, 82, 126–127.
(обратно)
550
Pagels,
Paul, p. 63. См. далее R. McL Wilson,
Gnosis and the New Testament, Blackwell 1968, ch. III.
(обратно)
551
См.: А. Harnack,
Marcion, Leipzig, 2–е изд.: 1924, pp. 45–51; Blackman,
Marcion, pp. 44—45.
(обратно)
552
Это моральное/этическое разграничение, проведенное Павлом, могло бы быть выражено более определенно, см. с. 328–329.
(обратно)
553
См. отсылки в указателе на "Плерома", в: Foerster,
Gnosis, II, p. 337.
(обратно)
554
Ср.: Dunn,
Jesus, § 55; а также выше, стр. 231–232.
(обратно)
555
Маркион следует Павлу в придании бульшей значимости смерти Христа (А. Harnack,
Marcion, pp. 131–132), однако этот момент сочетается у него с определенными докетическими представлениями, о воплощении (с.124–125), так что его христология имеет лишь внешнее сходство с Павловой керигмой о Христе распятом.
(обратно)
556
W. О. Е. Oesterley,
The Jewish Background of the Christian Liturgy, Oxford University Press 1925.
(обратно)
557
Ср.: Bauer,
Orthodoxy, pp. 238–239.
(обратно)
558
Ср.: H. Schneemelcher, 'Paulus in der griechischen Kirche des zweiten Jahrhunderts',
ZKG, 75, 1964, pp. 1–20; Ε. Dassmann,
Der Stachel im Fleisch. Paulus in der frühchristlichen Literatur bei Irenaus, Aschendorff 1979. A. Lindemann,
Paulus im ältesten Christentum, Tübingen 1979, не доводит свой анализ так же далеко, как Ириней.
(обратно)
559
См.: Ириней Лионский,
Против ересей, praef; III. 13. 3; 14, 1–4 (цитируется по: Pagels,
Paul, p. 161).
(обратно)
560
Bauer,
Orthodoxy, p. 227; в качестве дальнейшей иллюстрации этого момента он отсылает
к Деяниям Павла и Посланию апостолов. Ср. с мнением Буссе (Bousset) об «экклезиастически умеренном паулинизме, который был свободен ото всех гностических опасностей и тенденций» (
Kyrios Christos, p. 21). Отметим также слегка более компетентное мнение Баррета в кн.: С. К. Barrett, 'Pauline Controversies in the Post‑Pauline Period',
NTS, 20, 1973 — 1974, pp. 229–245.
(обратно)
561
Ириней Лионский,
Против ересей, III. 11.7. См. также: J. N. Sanders,
The Four Gospel in the Early Church, Cambridge University Press 1943, pp. 55–66.
(обратно)
562
См.: Ε. Η. Pagels,
The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis: Heracleon's Commentary on John, SBL Monograph 17, Abingdon 1973.
(обратно)
563
J. N. Sanders,
The Fourth Gospel, pp. 65–84.
(обратно)
564
A. Hilgenfeld,
Das Urchristenthum, Jena 1855, цитируется по: H. Harris,
The Tübingen School, Oxford University Press 1975, p. 225.
(обратно)
565
Цитируется no: H. A. W. Meyer,
The Gospel of John, англ. пер.: 1874, p. 40.
(обратно)
566
R. Bultmann, 'Die Bedeutung der neuerschlossenen mandäischen und manichäischen Quellen für der Verständnis des Johannesevangeliums',
ZNW, 24, 1925, pp. 104–146, перепечатано в:
Exegetica, Tübingen 1967, pp. 55–104; см. также: Он же,
Primitive Christianity in its Contemporary Setting, англ. пер.: Thames & Hudson 1956, pp. 163–164.
(обратно)
567
R. H. Fuller,
The New Testament in Current Study, SCM Press 1963, p. 136.
(обратно)
568
См. подборку цитат в кн.: Ε. Yamauchi,
Pre‑Christian Gnosticism, pp. 164—169.
(обратно)
569
G. W. MacRae, 'The
Ego‑Proclamation in Gnostic Sources',
The Trial of Jesus, ed., Ε. Bammel, SCM Press 1970, pp. 122–134; R. Schnackenburg,
Das Johannesevangelium, Part II, Herder 1971, pp. 162–166.
(обратно)
570
См. подборку цитат в кн.: Wilson,
Gnosis, pp. 45–46; R. Kysar,
The Fourth Evangelist and his Gospel, Augsburg 1975, pp. 102–146. После дальнейшего изучения я возвожу происхождение Евангелия от Иоанна все более твердо к широкой (и разнообразной) иудейской среде, где апокалиптические и мистические настроения играли особо значимую роль, что,
inter alia, полнее объясняет лейтмотив схождения/вознесения у Иоанна. См. об этом более подробно в моей работе 'Let John be John',
Das Evangelium und die Evangelien, hrsg. P. Stuhlmacher, Mohr: Tübingen 1983, pp. 309–339. Однако первый абзац § 64.2 может оставаться без изменений.
(обратно)
571
См.: Brown,
John, pp. cxxii — cxxiv.
(обратно)
572
См. указатели в кн.: W. Foerster,
Gnosis, 2 vols, Oxford University Press 1972, 1974.
(обратно)
573
См., в частности, J. H. Charlesworth, Ά Critical Comparison of the Dualism of 1QS 3. 13 -4. 26 and the "Dualism" Contained in the Gospel of John',
NTS, 15, 1968, pp. 389–418; перепечатано в кн.:
John and Qumran, ed., J. H. Charlesworth, Chapman 1972, pp. 76–106. Обзор более ранних исследований см. в кн.: H. Braun,
Qumran und das Neue Testament, Tübingen 1966, II, pp. 119–123.
(обратно)
574
О параллелях с кумранской общиной см., напр.: 1QS 3. 13 — 4. 26; CD 2. 11–3; IQM 13. 9–13; 1QH 7. 6–12; 14. 13–6; 15. 13–22. О гностических соответствиях см., напр., Ε. Н. Pagels,
Heracleon 's Commentary on John, ch. 6.
(обратно)
575
Bultmann,
John, pp. 24–31; S. Schulz,
Das Evangelium nach Johannes, NTD 1972, pp. 26–29. Параллели оценивает также Шнакенбург: Schnakenburg,
John, I, pp. 489–491.
(обратно)
576
См, напр., С. H. Dodd,
The Interpretation of the Fourth Gospel, pp. 274–275; Brown,
John, pp. 521–523; Dunn,
Christology in the Making, pp. 239–245; ср. также с: G. W. MacRae, 'The Jewish Background of the Gnostic Sophia Myth',
Nov Test, 12, 1970, в особенности pp. 88–94.
(обратно)
577
Ириней Лионский,
Против ересей, I. 15. 3; 30. 12. 14; Ипполит,
Отвержение ересей, V. 12. 6. «Решающим фактором здесь послужило то, что общее представление о схождении и вознесении Искупителя, играющее важнейшую роль для Иоанна, не могло быть используемо внутри иудаизма, но довольно симптоматично гностицизму» (Kümmel,
Introduction, p. 227); ср.: Schnakenburg,
John, I, pp. 550–553. См., однако, также: С. H. Talbert, 'The Myth of a Descending‑Ascending Redeemer in Mediterranean Antiquity',
NTS, 22, 1975 — 1976, pp. 418^40; J. A. Bühner,
Der Gesandte und sein Weg im 4. Evangelium, Tübingen 1977; см. также выше, прим. 92.
(обратно)
578
Käsemann,
Testament, pp. 9–10, 13; ср. с равнозначными предположениями: Bousset,
Kyrios Christos, pp. 217–219; S. Angus,
The Religious Quests of the Graeco‑Roman World, Murray 1929, pp. 389–391; также более крайние тезисы Шульца: Schulz,
Johannes, pp. 211–212, и Шотрова: Schottroff,
Glaubende, pp. 268–296.
(обратно)
579
См., в частности, также: M. M. Thompson,
The Humanity of Jesus in the Fourth Gospel, Fortress 1988.
(обратно)
580
Schnakenburg,
John, I, p. 268; ср.: С. Colpe, 'New Testament and Gnostic Christology',
Relegions in Antiquity: Essays in Memory of E. R. Goodenough, ed., J. Neusner, Leiden 1968, pp. 233–234, 236–237. См. также: Dunn,
Christology, в особенности p. 347, η. 104.
(обратно)
581
Вода из ребра Иисуса представляет осуществление Ин 7: 38–39 (см.: Dunn,
Baptism, pp. 187— 188; а также выше, с. 208–209; Дух для Иоанна — именно Дух Распятого (ср.: 19: 30).
(обратно)
582
См., в частности, R. T. Fortna,
The Gospel of Signs. A Reconstruction of the Narrative Source Underlying the Fourth Gospel, Cambridge University Press 1970; также
The Fourth Gospel and its Predecessor. From Narrative Source to Present Gospel, T. & T. Clark 1989; W. Nicol,
The Sêmeia in the Fourth Gospel, SNT, XXXII, 1972; H. M. Teeple,
The Literary Origin of the Gospel of John, Evanston 1974.
(обратно)
583
См. также, напр., W. Nicol,
The Semeia in the Fourth Gospel, pp. 99–106.
(обратно)
584
Ср.: G. Bornkamm, 'Zur Interpretation des Johannes‑Evangeliums',
Geschichte und Glaube, I, München 1968, pp. 115–117; J. Becker, 'Wunder und Christologie',
NTS, 16, 1969 — 1970, pp. 136–148; R. T. Fortna,
The Gospel of Signs, p. 224; Schottroff,
Glaubende, pp. 245–268; Koester and Robinson,
Trajectories, pp. 188–189, 238–260.
(обратно)
585
См. также R. Е. Brown,
The Community of the Beloved Disciple, Chapman 1979, pp. 109–123.
(обратно)
586
То же самое верно относительно этических принципов и путеводных линий, означенных Павлом (см. с. 317–318, 328–329), поскольку акцентируется следование и Духу Христову (Рим 8:4–6, 12–14; Гал 5:16–25) и одновременно преданиям об этическом учении Христа (см. выше, с. 107–108), особенно же идее любви к ближним как исполнению закона (Рим 13:8–10; Гал 5:14).
(обратно)
587
См., напр., R. W. Funk, ed.,
Apocalypticism, J Th С, 6, 1969; Κ. Koch,
The Rediscovery of Apocalyptic, 1970, англ. пер.: SCM Press 1972; J. Barr, 'Jewish Apocalyptic in Recent Scholarly Study',
BJRL, 58, 1975 — 1976, pp. 9–35. См. также примечания 2 и 3 ниже. См.: С. Rowland,
Radical Christianity. A Reading of Recovery, Polity 1988, — работа, освещающая дальнейшее влияние апокалиптической мысли в поздние века. Об исследованиях апокалиптизма до 1947 года см. в кн.: J. М. Schmidt,
Die jüdsiche Apokalyptik, Neukirchen 1969.
(обратно)
588
См., в частности, P. D. Hanson,
The Dawn of Apocalyptic, Fortress 1975, 2–е изд.: 1979, pp. 10–12, 429–431; J. J. Collins, ed.,
Apocalypse. The Morphology of a Genre. Semeia 14, 1979, pp. 1–19; J. J. Collins,
The Apocalyptic Imagination, Crossroad 1984, ch. 1, в особенности p. 2. Это прояснение благополучия опровергает самый существенный довод против дальнейшего употребления этого слова, выдвинутый Глассоном: Т. F. Glasson, 'What is Apocalyptic?',
NTS, 27, 1980 — 1981, pp. 98–105.
(обратно)
589
C. Rowland,
The Open Heaven. A Study of Apocalyptic in Judaism and Early Christianity, SPCK 1982; также его же:
Christian Origins, SPCK 1985, pp. 56–64.
(обратно)
590
Для удобства я заимствую, в частности, анализ П. Виельхауэра (Р. Vielhauer) из кн.: Hennecke,
Apocrypha, II, pp. 582–594. См. также особенно W. Bousset and H. Gressmann,
Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter, Tübingen, 4–е изд.: 1966, ch. XIII; С К. Barrett, The New Testament Background: Selected Documents, SPCK 1956, pp. 227–255; Russel, Apocalyptic; Koch, Apocalyptic, pp. 23–33. См. также Предисловие ко 2–му изд., с. 26.
(обратно)
591
Р. Vielhauer в кн.: Hennecke,
Apocrypha, II, p. 582. Необходимо отметить, что это определение полностью разделяется Роулэндом (Rowland) (см. выше, прим. 2а).
(обратно)
592
См.: D. G. Meade,
Pseudonymity and Canon, WUNT 39, Tübingen 1986.
(обратно)
593
С. К. Barrett,
The New Testament Background, p. 231. Ср., напр., Успение Моисея _7: 1–3 с 2–6; Оракулы Сибилл IV до и после строки 134.
(обратно)
594
D. N. Freedman, 'The Flowering of Apocalyptic', в кн.: Funk,
Apocalypticism, p. 173.
(обратно)
595
J. J. Collins,
The Apocalyptic Imagination, p. 31.
(обратно)
596
Р. Vielhauer в кн.: Hennecke,
Apocrypha, II, p. 588.
(обратно)
597
Остальные отсылки см. в кн.: W. Bousset and H. Gressmann,
Die Religion, pp. 250–251; Strack‑Billerbeck, IV, 977–986; Russell,
Apocalyptic, pp. 272–276; W. Schmithals,
The Apocalyptic Movement: Introduction and Interpretation, 1975, англ. пер.: Abingdon 1973, pp. 25–26; см. также выше, с. 193.
(обратно)
598
См.: Russel,
Apocalyptic, pp. 297–303.
(обратно)
599
См. также: Dunn,
Jesus, pp. 117–118.
(обратно)
600
См. также: W. Harnisch,
Verhängnis und Verheissung der Geschichte. Untersuchungen zum Zeitnund Geschichtsverstandnis im 4. Buch Ezra und in der Вaruch‑Apokalypse, Göttingen 1969, особенно pp. 268–321; C. L. Holman,
Till Jesus Comes: Origins of Christian Apocalyptic Speculation, Hendrickson 1996.
(обратно)
601
Ср.: Jub 32, 21; также Дан. 2,21; Успение Моисея 12, 4–5; 1 Еноха 39, 11; 92, 2; IQS III, 15–16.
(обратно)
602
H. H. Rowley,
The Relevance of Apocalyptic, Lutterworth, 1944, 3–е изд.: 1963, p. 38 (курсив мой). См. также: Hanson,
Dawn of Apocalyptic.
(обратно)
603
'The Beginnings of Christian Theology', в кн.: Funk,
Apocalypticism, p. 40; также:
NTQT, p. 102.
(обратно)
604
См., однако: Dunn,
Christology, p. 304, η. 139.
(обратно)
605
J. Weiss,
Jesus' Proclamation of the Kingdom of God, 1892, англ. пер.: SCM Press 1971, p. 114. Ср., в частности, Оракулы Сибиллы, III, 46–47; III, 767; Успение Моисея 10, 1–3; IQM 6, 6; 12, 7.
(обратно)
606
В скобках даны номера логий по переводу M. K. Трофимовой.
(обратно)
607
См. особенно W. G. Kümmel, 'Eschatological Expectation in the Proclamation of Jesus' (1964),
FRP, pp. 29–48.
(обратно)
608
См. особо W. G. Kümmel,
Promise and Fulfilment, 3–е изд.: 1956, 2–е изд. английского перевода: SCM Press 1961, pp. 64–83.
(обратно)
609
Jeremias,
Theology, I, pp. 139–140; ср.: A. L. Moore,
The Parousia in the New Testament, SNT, XIII, 1966, pp. 205–206.
(обратно)
610
См. Käsemann в кн.: Funk,
Apocalpticism, p. 40; также:
NTQT, p. 102; ср.: Ε. Linnemann, 'Zeitansage und Zeitvorstellung in der Verkündigung Jesu',
JCHT, pp. 237–263.
(обратно)
611
Koch,
Apocalyptic, p. 78; W. Schmithals, 'Jesus und die Apokalyptik',
JCHT, pp. 64–69.
(обратно)
612
См. более подробно в кн.: Dunn,
Jesus, pp. 158–162. Предыдущее предложение не оправдывает старого определения "апокалиптического", на котором первоначально была построена вся глава; все видения небес и небесных существ могут быть описаны как "апокалиптические" (Rowland).
(обратно)
613
Ср.: W. Pannenberg,
Revelation as History, 1961, англ. пер.: Macmillan 1968, pp. 141–143.
(обратно)
614
См., в частности, L. Hartmann,
Prophecy Interpreted, Uppsala 1966; J. Lambrecht,
Die Redaktion der Markus‑Apokalypse, Analecta Biblica 28, Rome 1967; R. Pesch,
Naherwartungen: Tradition und Redaktion in Markus 13, Dusseldorf 1968; L. Gaston,
No Stone on Another, SNT, XXIII, 1970, ch. II; см., также: D. Wenham,
The Rediscovery of Jesus' Eschatological Discource, JSOT Press 1984.
(обратно)
615
См.: J. Т. Milik,
Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, 1957, англ. пер.: SCM Press 1959, pp. 41–42.
(обратно)
616
См. также: W. Thüsing,
Erhöhungsvorstellung und Parusieerwartung in der ältesten nachösterlichen Christologie, Stuttgarter Bibelstudien 42, 1969. Однако I. H. Marshall, 'Is Apocalyptic the Mother of Christian Theology?',
Tradition and Interpretation in the New Testament, E. E. Ellis Festschrift, ed. G. F. Hawthorne, Eerdmans 1987, pp. 33–42, в своей попытке поставить под сомнение напряженность ожидания близкого осуществления в среде ранних верующих совсем игнорирует это свидетельство.
(обратно)
617
Об эсхатологическом значении трубного гласа см. у G. Friedrich,
TDNT, VII, р. 84.
(обратно)
618
См., в частности, W. G. Kümmel,
Introduction, pp. 264–269; R. Jewett,
The Thessalonian Correspondence, Fortress 1986. Из последних работ с противоположной точкой зрения см.: G. S. Holland,
The Tradition that You Received from Us: 2 Thessalonians in the Pauline Tradition, Tübingen 1988.
(обратно)
619
Далеко не ясно, что значат — τό κατηχόν, ό κατηχόν; предлагаются значения: римского государства, божественной или небесной силы, благовестия или даже (очень маловероятно) самого Павла. См., в частности, С. Η. Giblin,
The Threat to Faith: an exegetical and theological reexamination of II Thessalonians 2, Analecta Biblica 31, Rome 1967, pp. 167–242; Best,
Thessalonians, pp. 295–302.
(обратно)
620
О тексте 1 Кор 15: 20–28 см. самые последние исследования: — Е. Schweizer, Ί Korinther 15: 20–28 als Zeugnis paulinischer Eschatologie und ihrer Verwandschaft mit der Verkündigung Jesu',
JuP, pp. 301–314; J. Baumgarten,
Paulus und die Apokalyptik, Neukirchen 1975, pp. 99–106; L. J. Kreitzer,
Jesus and God in Paul's Eschatology, JSOT Press 1987.
(обратно)
621
См.: G. Dalman,
The Words of Jesus, англ. пер.: T. & T. Clark 1902, pp. 155–156; G. Delling,
TDNT, VIII, pp. 65–66. Об отголосках книги Даниила в тексте Марка, 13 см.: Hartmann,
Prophecy, ch. 5.
(обратно)
622
Ср.: Strack‑Billerbeck, I, p. 950.
(обратно)
623
Иосиф,
Иудейская война, II, 258–263; VI, 285–315.
(обратно)
624
W. Marxsen,
Mark the Evangelist, 1956, англ. пер.: Abingdon 1969, pp. 185–186.
(обратно)
625
Ср.: Е. Franklin,
Christ the Lord: a Study in the Purpose and Theology of Luke‑Acts, SPCK 1975, pp. 12–21. Другие отсылки в кн.: С. H. Talbert, 'Shifting Sands: the Recent Study of the Gospel of Luke',
Interpretation, 30, 1976, p. 386, n. 38.
(обратно)
626
Дион Кассий 67/14/1–3; Евсевий Кесарийский,
Церковная история, IV. 26. 9.
(обратно)
627
Ср.: Hanson,
Dawn, pp. 428–429; также A. Y. Collins в кн.: Collins, ed.,
Apocalypse, pp. 70–72.
(обратно)
628
Р. Vielhauer в кн.: Hennecke,
Apocrypha, II, p. 624.
(обратно)
629
См. также возражения Коха (Koch,
Apocalyptic).
(обратно)
630
Несмотря на
некоторые колебания (порой оправданные), например, у G. Ebeling, 'The Ground of Christian Theology' (1961), англ. пер. в кн.: Funk,
Apocalypticism, pp. 47–68; E. Lohse, 'Apokalyptik und Christologie',
ZNW, 62, 1971, pp. 48–67; W. G. Rollins, 'The New Testament and Apocalyptic',
NTS, 17, 1970 — 1971, pp. 454-^76; L. Morris,
Apocalyptic, Tyndale Press 1973.
(обратно)
631
Ср. с заключительными замечаниями Кеземанна (Käsemann) в кн.: Funk,
Apocalypticism, p. 46 и
NTQT, p. 107.
(обратно)
632
О. Cullmann,
Christ and Time, 1946, 2–е изд. англ. перевода: SCM Press 1962, p. 88; ср. с тезисом Баумгартена (Baumgarten) о том, что Павел «де–апокалиптизирует» эсхатологическое содержание благовестия
(Paulus, pp. 232–234). См. также: E. S. Fiorenza,
The Book of Revelation, Fortress 1985, p. 3.
(обратно)
633
Ср.: Ebeling в кн.: Funk,
Apocalypticism, pp. 53–59.
(обратно)
634
Ср.: Käsemann, 'On the Topic of Primitive Christian Apocalyptic', (1962), англ. пер. в кн.: Funk,
Apocalypticism, pp. 126–128, а также
NTQT, pp. 131–133. См. в более широком контексте у Бекера (Beker) (см. прим. 41а, ниже), а также L. Е. Keck, 'Paul and Apocalyptic Theology',
Interpretation 38, 1984, pp. 229–241.
(обратно)
635
Отметим здесь и тезис Гранта (R. M. Grant) о том, что «гностицизм ведет свое происхождение из краха апокалиптической надежды»
(Gnosticism and Early Christianity, 1959,2–е изд.: Harper 1966, p. 38).
(обратно)
636
Отсюда название бекеровского (J. С. Beker) исследования богословия апостола Павла —
Paul the Apostle. The Triumph of Gog in Life and Thought, [«Апостол Павел. Торжество Божие в жизни и мышлении»], Fortress / Т. & Т. Clark 1980.
(обратно)
637
Rowley,
Relevance, p. 189.
(обратно)
638
О. Cullmann, приводится по кн.: Rowley,
Relevance, p. 164.
(обратно)
639
Приводится по кн.: Rowley,
Relevance, p. 181.
(обратно)
640
Freedman в кн.: Funk,
Apocalypticism, p. 173.
(обратно)
641
Ср.: Κ. H. Neufeld, "'Frühkatholizismus" — Idee und Begriff,
ZKT, 94, 1972, pp. 1–28. Cp. также: S. Schulz,
Die Mitte der Schrift, Stuttgart 1976, pp. 29–84, хотя Шульц (Schulz) находит признание "ранней кафоличности в Новом Завете", уже намеченным в лютеровской подаче Посланий к Евреям, Иакова, Иуды и Откровения — отдельно от остальных канонических сочинений (pp. 14–28).
(обратно)
642
А. Schwegler,
Das nachapostolische Zeitalter in den Hauptmomenten seiner Etwicklung, Tübingen 1846 — обзор основных положений см. в кн.: Harris,
Tübingen School, pp. 202–207.
(обратно)
643
Α. Ritsehl,
Die Entstehung der altkatholischen Kirche, Bonn, 2–е изд., 1857.
(обратно)
644
Α. Harnack,
The Constitution and Law of the Church in the First Two Centuries, 1910, англ. пер.: Williams & Norgate 1910, p. 254.
(обратно)
645
A. Harnack,
History of Dogma, Vol. I, p. 218. См., однако, также pp. 56–57.
(обратно)
646
A. Harnack,
What is Christianity?, 1900, англ. пер.: Williams & Norgate 1901, Lecture XI. Гарнак определяет гностицизм как «радикальную (или "острую" (acute)) эллинизацию христианства» (
History of Dogma, Vol. I, p. 227).
(обратно)
647
Heitmüller,
Taufe, pp. 18–26, E. Troeltsch,
The Social Teaching of the Christian Churches, 1911, англ. пер: Allen & Unwin 1931, I, pp. 95–96.
(обратно)
648
R. Sohm,
Wesen und Ursprung des Katholizismus, 2–е изд.: 1912, Darmstadt 1967, pp. 13, 15.
(обратно)
649
M. Werner,
The Formation of Christian Dogma, 1941, англ. пер.: Α. & С. Black 1957, pp. 25, 297.
(обратно)
650
Ε. Käsemann, 'Paul and Early Catholicism' (1963),
NTQT, p. 237.
(обратно)
651
Ср. теперь: G. Strecker,
Die Johannesbriefe, KEK Göttingen, 1989, pp. 348–354. Ср.: F. Hahn, 'Frühkatholizismus als ökumenisches Problem',
Exegetische Beiträge zum ökumenischen Gespräch, Göttingen 1986, pp. 66–75. Шульц (Schulz) оперирует раздутым до крайности перечнем ранних кафолических особенностей (включая «неправильное понимание Павловой идеи оправдания как богословия креста» и «непавловское понимание закона» —
Schrift, р. 80), и поэтому "ранняя кафоличность" в рассуждениях Шульца носит слишком общий характер, его концепция включает в себя все, что не соответствует паулинизму основных Павловых посланий (он находит ранние кафолические тенденции и характерные особенности в не менее чем двадцати из двадцати семи новозаветных сочинений). Слишком мало внимания уделяется рассмотрению других направлений и идей, которые сформировали большую часть непаулинистского материала (особенно наиболее специфическим иудеохристианским произведениям); см., например, его обработку темы о Матфее и законе (pp. 183–189) и его описание Луки — автора Деяний как "невосторженного" (anti‑enthusiastic) (pp. 153–159). В качестве альтернативной систематизации ранней кафоличности см.: U. Luz, 'Erwägungen zur Entstehung des "Frühkatholizismus", Eine Skizze',
ZNW, 65, 1974, pp. 88–111. Ган (Hahn) справедливо указывает, что «"Frühkatholizismus" предназначен для употребления разве что в качестве пристрастной концепции отдельных явлений, но невсеобъемлющего описания периода раннецерковной истории, сменившего изначальное христианство» ('Das problem des Frühkatholizismus',
Beiträge, p. 49) См. также нарекания выше, § 53. Обзор, включающий вклад Шульца (Schulz), в частности, проведен J. Rohde в его работе 'Die Diskussion um den Frühkatholizismus im Neuen Testament, dargestellt am Beispiel des Amtes in den spätneu‑testamentlichen Schriften', в кн.: J. Rogge и G. Schule,
Frühkatholizismus im ökumenischen Gespräch, Berlin 1983, pp. 27–51.
(обратно)
652
См.: M. Hornschuh в кн.: Hennecke,
Apocrypha, II, p. 74–79.
(обратно)
653
Ср. последующий текст у Р. J. Achtemeier, 'An Apocalyptic Shift in Early Christian Tradition: Reflections on Some Canonical Evidence',
CBQ 45, 1983, pp. 231–248.
(обратно)
654
Ср.: Dunn,
Jesus, § 20.2.
(обратно)
655
Ср., в частности, G. Klein, 'Apokalyptische Naherwartung bei Paulus',
Neues Testament und christliche Existenz: Festschrift för Herbert Braun, ed., H. D. Betz and L. Schotroff, Tübingen 1973, pp. 244–258. См. также выше, с. 64–65, 356, прим. 38.
(обратно)
656
Он достигает того же результата своим введением к притче — Лк 19: 11, равно и своей редакцией Мк 12: 11 (Лк 20: 9 — «на долгое время»); ср.: Лк 17: 20–21; 22: 69 (как соответствие Мк 14: 62).
(обратно)
657
Так, у Фильхауэра: Р. Vielhauer, On the "Paulinism" of Acts' (1950, англ. пер.: 1963),
SLA, pp. 45–48; H. Conzelmann,
The Theology of St Luke, 1953, 2–е изд. 1957, англ. пер.: Faber & Faber 1961, pp. 131–132; Ε. Käsemann, 'New Testament Questions of Today' (1957),
NTQT, pp. 21–22; Schulz,
Schrift, p. 134.
(обратно)
658
O. Cullmann,
Salvation in History, 1965, англ. пер.: SCM Press 1967; также выше, с. 273–274.
(обратно)
659
С. К. Barrett, 'The Eschatology of the Epistle to the Hebrews',
BNTE, p. 391; ср.: H. Conzelmann,
An Outline of the Theology of the New Testament, 2–е изд. 1968, англ. пер.: SCM Press 1969, pp. 312–313.
(обратно)
660
Ср.: Е. Käsemann, 'An Apologia for Primitive Christian Eschatology' (1952),
ΕΝΤΓ, p. 194.
(обратно)
661
См., однако, также: R. J. Bauckham,
Jude, II Peter, Word Biblical Commentary 50, Word 1983, pp. 151–154.
(обратно)
662
См., например, H. Conzelmann,
RGG3, III. 139; F. Mussner,
LTK, VI.89–90. См. также предисловие ко 2–му изд., о Главе VI, прим. 24.
(обратно)
663
См. также: Dunn,
Jesus, pp. 346f.
(обратно)
664
Ср.: К. M. Fischer,
Tendenz und Absicht des Epheserbriefes, Göttingen 1973, pp. 21–39.
(обратно)
665
См. также: Dunn,
Jesus, pp. 348–349.
(обратно)
666
M. Schnekenburger,
Über den Zweck der Apostelgeschichte, Bern 1841; резюмируется в исследовании: W. W. Gasque,
A History of the Criticism of the Acts of the Apostles, Tübingen 1975, pp. 34–36. См. также: Mattill, 'Purpose of Acts' (Bruce Festschrift), pp. 108–122.
(обратно)
667
См. также: G. W. H. Lampe,
St Luke and the Church of Jerusalem, Athlone Press 1969.
(обратно)
668
Лука называет Павла и Варнаву апостолами в Деян 14: 4 и 14: 14, но исключительно в контексте их "миссионерского путешествия", которое состоялось под непосредственным и прямым патронированием антиохийской церкви (13: 1–3), так что «апостол» в этих двух местах употребляется в первичном смысле "миссионер" = "антиохийский апостол", и не несет такой же смысловой нагрузки, как слово «апостол», когда подразумеваются Двенадцать из Иерусалима (ср.: 2 Кор 8: 23; Флп 2: 25).
(обратно)
669
«Исторические исследования последних ста лет не показали, что противоречия, столкновения и разрешения, описанные Фердинандом Кристианом Бауром (F. С. Baur), являются плодом воображения; было показано, что эти явления принадлежат еще более ранним периодам, чем полагал Баур» (С. К. Barrett, 'Pauline Controversies in the Post‑Pauline Period', p. 243).
(обратно)
670
Павел
сыграл очень значительную роль в сохранении единства самого раннего христианства (см. также ниже, с. 401—402). Однако если вышеизложенное в целом надежно обосновано, то становится невозможным проследить истоки ранней кафоличности, и в частности римско–католического понятия о первенстве Петра, апостольстве и апостольском преемстве, ни к началу христианства, ни к замыслу Иисуса (см. также выше Главу VI; против таких выводов, какие делает: P. Battifol,
Primitive Catholicism, 5–е изд. 1911, англ. пер.: Longmans 1911, а также О. Каггег,
Peter and the Church, англ. пер.: Herder 1963).
(обратно)
671
Käsemann,
NTQT, p. 22.
(обратно)
672
См. также: Dunn,
Baptism, ch. DC, а также выше, с. 196–197.
(обратно)
673
Käsemann, 'The Disciples of John the Baptist in Ephesus' (1952), англ. пер:
ENTT, pp. 136–148.
(обратно)
674
Käsemann,
NTQT, p. 22.
(обратно)
675
См. также: С. К. Barrett,
Luke the Historian in Recent Study, Epworth 1961, и Fortress Facet Book 1970, pp. 68, 70–76; Haenchen,
Acts, p. 49; H. Conzelmann, 'Luke's Place in the Development of Early Christianity',
SLA, p. 304.
(обратно)
676
Е. Käsemann, 'An Apologia',
ΕΝΤΓ, pp. 187–191.
(обратно)
677
См.: Dunn,
Baptism, chs. XVII — XVIII.
(обратно)
678
Ср., напр., von Campenhausen,
Authority, pp. 122–123; Kümmel,
Introduction, p. 448; J. Lieu,
The Second and Third Epistles of John, Т. & T. Clark 1986, pp. 162–163; также экстремистское мнение Кеземанна (Käsemann) (см. выше, с. 45). Некоторые авторы различают раннекафолические черты в Посланиях Иоанна, особенно в акцентировке предания и истины; см., однако: С. С. Black, 'The Johannine Epistles and the Question of Early Catholicism',
Nov Test 28, 1986, pp. 131–158; Strecker,
Johannesbriefe, pp. 351–354.
(обратно)
679
Об отношении Матфея к харизматической восторженности, включая непосредственное бого–вдохновение, см. выше, с. 218, 232–233, 279.
(обратно)
680
Dalman,
Words, pp. 214–215.
(обратно)
681
Dunn,
Jesus, ch. XI.
(обратно)
682
Оспаривается в кн.: Bauckham,
Jude, pp. 8–11, где отмечается также, в какой степени Иуда зависит от
апокалиптических сочинений, 1 Еноха и Успения Моисея.
(обратно)
683
Е. Käsemann, 'Ministry',
ENTT, pp. 89–91; 'Ephesians and Acts',
SLA, p. 290.
(обратно)
684
E. Käsemann, 'Ministry',
ENTT, p. 89.
(обратно)
685
Ср.: Schweizer, 'Concerning the Speeches in Acts' (1957), англ. пер.:
SLA, pp. 208–216; см. также выше, § 4. См., однако, также: Schweizer,
Jesus, pp. 147–151.
(обратно)
686
Ср. также: W. W. Gasque, 'The Speeches of Acts: Dibelius Reconsidered',
New Dimensions in New Testament Study, ed., R. N. Longenecker and M. C. Tenney, Zondervan 1974, pp. 247–249.
(обратно)
687
См.: H. J. Michel,
Die Abschiedsrede des Paulus an die Kirche Apg. 20: 17–38, München 1973, pp. 91–97; противоположная точка зрения: H. F. Weiss, '"Frühkatholizismus" im Neuen Testament?', в кн.: J. Rogge и G. Schule,
Frühkathkolizismus im ökumenischen Gespräch, Berlin 1983, pp. 18–20. Более ранние дебаты обозреваются в кн.: Е. Grässer, 'Acta Forschung seit I960',
ThR, 41, 1976, pp. 275–286 (здесь см. особо, стр. 306–308).
(обратно)
688
Ср.: W. Wiefel, 'Frühkatholizismus und synagogales Erbe', в кн.: J. Rogge и G. Schule, hrsg.,
Frühkatholizismus im ökumenischen Gespräch, Berlin 1983, pp. 52–61.
(обратно)
689
Как было продемонстрировано в XX в. последовательными волнами ранних пятидесятников, "Latter Rain", неопятидесятников и харизматическим движением.
(обратно)
690
«Пророчество и предвкушение близящегося происходят из одного источника» (U. В. Müller,
Prophétie und Predigtim Neuen Testament, Gütersloh 1975, p. 238).
(обратно)
691
Напр., А. М. Hunter,
The Unity of the New Testament, SCM Press 1943.
(обратно)
692
Ср.: H. Braun, 'The Problem of a New Testament Theology' (1961), англ. пер. в кн.:
The Bultmann School of Biblical Interpretation: New Directions, J. M. Robinson, et al.,
JThC, 1, 1965, pp. 169— 183.
(обратно)
693
Моя недавно опубликованная монография
The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans/T&T Clark 1998 подвергалась критике за попытку объединения различных мнений Павла в период написания Послания к Римлянам, с добавлением элементов его богословия в целом, которые он не рассматривает в этом послании, но которые содержатся в его других посланиях.
(обратно)
694
Ср.: Н. Koester, 'GNOMAI DIAPHOROI: The Origin and Nature of Diversification in the History of Early Christianity', в кн. J. M. Robinson and H. Koester,
Trajectories through Early Christianity, Fortress, 1971, pp. 114–157: «Термин
канонический теряет свою нормативную уместность, когда сами книги Нового Завета оказываются продуманным собранием сочинений, представляющих различные расходящиеся убеждения, которые нелегко примирить друг с другом» (р. 115).
(обратно)
695
В моей статье 'Has the Canon a Continuing Function?' в кн. L. M. McDonald and J. A. Sanders, eds.,
The Canon Debate, Hendrickson 2002, pp. 558–579 я написал, что «дальнейшие размышления» можно было бы рассматривать как «своего рода рецензию на книгу, написанную почти четверть века назад! Это, если хотите, — риторическая уловка, придуманная, разумеется, для того, чтобы подогреть интерес читателя, и даже, может быть, убедить его (или ее) либо в моих прежних взглядах, либо (что предпочтительнее) в их критическом пересмотре» (р. 558).
(обратно)
696
Ср.: Н. Kiing,
The Church, 1967, англ. пер.: Burns & Oates 1968, p. 179.
(обратно)
697
Ср.: I. Lönning,
'Kanon im Kanon', Oslo 1972, p. 272; Schulz,
Die Mitte der Schrift, Staffgart 1976, pp. 429ff; E. Käsemann,
Das Neue Testament als Kanon, Göttingen 1970, p. 405. Однако Кеземанн (Käsemann) продолжает: «Любая христология, которая не направлена на оправдание безбожника, отступает от Назарея и Его креста. Любое провозглашение оправдания, которое не укоренено христологически и не восходит последовательно к божественности Иисуса Христа, завершается антропологией, или экклезиологией, или, возможно, религиозной доктриной, которая может быть узаконена и другими способами…» (р. 405). См. также: A. Stock,
Einheit des Neuen Testaments, Zürich 1969, pp. 20–22.
(обратно)
698
W. Marxsen,
The New Testament as the Church's Book, 1966, англ. пер.: Fortress 1972. «Местоположение канона… может быть определено только самыми ранними преданиями из христианских свидетельств, доступными нам сегодня благодаря историко–критическому анализу этих сочинений. В частности, Канон церкви… следует теперь понимать в том, что формальные критики обычно называют самым ранним пластом Синоптического предания, или в том, что Мар–ксен (Marxsen), в частности, определяет как "Иисусову керигму"…» (S. М. Ogden, 'The Authority of Scripture for Theology',
Interpretation, 30, 1976, p. 258; это становится герменевтической основой работы Огдена: S. M. Ogden,
The Point of Christology, SCM Press 1982). Та же самая логика служит своего рода богословским основанием для неолиберального Семинара по Иисусу, как показано в работах R. W. Fank,
Honest to Jesus, Harper San Francisco 1996 и G. Lüdemann,
The Great Deception and What Jesus Really Said and Did, SCM Press 1998, хотя в каждом из этих случаев рассуждения о «каноне» далеки от их мыслей. Я высказал предположение, что первые христиане в действительности сами пользовались таким «каноном», в частности для установления того, что, собственно, восходит к традиции Иисуса (Jesus‑tradition), то есть для оценки, является ли пророческое высказывание словом прославленного Иисуса (см. выше, стр. 76, прим. 8).
(обратно)
699
Ср., напр., Лютер: «Совершенный критерий, согласно которому можно разобраться в достоинстве любых книг — говорят ли они о Христе. Все, что не касается Христа, не есть апостольское, даже если это написано Петром или Павлом. С другой стороны, все, что проповедует Христа, то и есть апостольское, даже если это написано кем‑нибудь подобным Иуде, Анне, Пилату или Ироду»
(Пролог к Иакову, 1522, цитируется по: Kümmel,
Introduction to New Testament, 1973, англ. пер. SCM Press 1975, p. 505); ср. также J. Denney,
Jesus and the Gospel, Hodder & Stoughton 1908, 4–e изд. 1911: он предполагал, что исповедание «я верю в Бога через Иисуса Христа, Его единственного Сына, нашего Господа и Спасителя» может «сохранить все то, что жизненно важно в новозаветном христианстве… включая все то, что должно было бы иметь место в основополагающем исповедании веры, и… (представляет) единственное основание единства — основание достаточно широкое и прочное, чтобы на нем могли сойтись все христиане» (pp. 398ff).
(обратно)
700
Даже лютеранский канон внутри канона в сущности деканонизирует Иакова (согласно решению Лютера).
(обратно)
701
Именно более полная формулировка легла в основу моей работы
Chrstology in the Making, SCM Press 1980, второе издание 1989, последовавшей сразу за «Единством и многообразием»
(Christology, р. 6).
(обратно)
702
Я имею в виду под «моментом» как событие, произошедшее во времени (разумеется, в больший период, чем «момент», обозначающий мгновение), так и его значимость (такой смысл присутствует в английских выражениях «of great moment», «momentous»).
(обратно)
703
См., например, мою статью 'Two Covenant or One? The Interdependence of Jewish and Christian Identity', в кн. H. Cancik et al., eds.,
Geschichte — Tradition — Reflexion, III Frühes Christentum, M. Hengel FS, Mohr‑Siebeck 1996, pp. 97–122.
(обратно)
704
Käsemann, 'Canon',
ENTT, p. 103. В книге
Канон он утверждает с еще большей резкостью: канон «также узаконивает по существу более или менее все секты и ошибочные учения»! (р. 402).
(обратно)
705
R. Rouse and S. С. Neill,
A History of the Ecumenical Movement 1517 — 1948, SPCK 1954, 2–е изд. 1967, p. 82.
(обратно)
706
«Канон в каноне, не следует возводить в ранг канона» (Lönning,
Kanon, p. 271).
(обратно)
707
Ср.: Käsemann, 'Is the Gospel Objective?',
ENTT: «Те, кто стремится сохранить отождествление Евангелий с каноном, предают христианский мир синкретизму или, с другой стороны, безнадежному конфликту конфессий» (р. 57).
(обратно)
708
Это вызвало к жизни, например, мою статью "'Instruments of Koinonia" in the Early Church',
One in Christ, 25, 1989, pp. 294–216.
(обратно)
709
Я обнаружил, что постоянно обращался к этим текстам в моих лекциях: например 'Unity and Diversity in the Church: A New Testament Perspective',
Gregorianum, 71, 1990, pp. 629–651 (перепечатанная ниже как "Приложение"); 'Liberty and Community',
Christian Liberty: A New Testament Perspective, Paternoster Press/Eerdmans 1993, ch. 4; 'Living with fundamental disagreements',
Theology of Paul, pp. 680–689.
(обратно)
710
W. Wrede, 'The Task and Methods of "New Testament Theology"', 1897, англ. пер. в кн. R. Morgan,
The Nature of New Testament Theology, SCM Press 1973, pp. 68–116.
(обратно)
711
См., в частности, H. Koester,
Ancient Christian Gospels, SCM Press/TPI 1990.
(обратно)
712
См., например, R. W. Funk, et al.,
The Five Gospels, Macmillan/Polebridge 1993.
(обратно)
713
Я продолжал размышлять об этом аспекте, что отразилось в статье 'Levels of Canonical Authority',
Horizons in Biblical Theology, 4 1892, pp. 13–60; перепечатана в моей книге
The Living Word, SCM Press/Fortress 1987, pp. 141–174, 186–192.
(обратно)
714
J. Н. Newman,
Essay on the Development of Christian Doctrine (1845), Penguin Books 1974.
(обратно)
715
См., однако, прим. 42 к главе 10.
(обратно)
716
См. также мою работу
The Living Word, SCM Press / Fortress 1987. Ср.: Käsemann, 'Canon',
ENTT: «Канон — это не
просто слово Божье. Он может стать и быть словом Божьим до тех пор, пока мы не стремимся заключить Бога в его рамках; тогда канон станет заместителем Бога, обращающимся к нам и чего‑то требующим от нас… Дух не противоречит тому, что "написано…", но являет Себя в Священном Писании. Но Писание может в любой момент сделаться буквой, что и происходит, когда оно перестает подчиняться водительству Духа и утверждает себя как непосредственный Авторитет, стремясь заместить Дух. Напряжение между Духом и Писанием является смыслообразующим фактором…» (pp. 105–106). См. также:
NTQT, pp. 8ff;
Kanon, pp. 407ff.
(обратно)
717
См. то, что в сущности представляет собой пересмотр моих взглядов, подразумевавшихся в третьем абзаце §76.4 в 'The Making of Christology: Evolution or Unfolding?', in J. B. Green and M. Turner, eds.,
Jesus of Nazareth, Lord and Christ: Essays on the Historical Jesus and New Testament Christology, I. H. Marshall FS, Eerdmans 1994, pp. 437–452, перепечатанной в моей книге
The Christ and the Spirit: Vol. I, Christology, Eerdmans 1998, pp. 388^04, отсылающей, в свою очередь, к Предисловию ко второму изданию статьи
Christology in the Making, перепечатанной в книге
The Christ and the Spirit Vol. / here pp. 291–293.
(обратно)
718
Я имею в виду здесь Гадамервскую концепцию
Wirkungsgeschichte, «истории воздействия» текста, которую не следует сводить лишь к признанию того факта, что интерпретатор находится внутри истории, на которую оказал воздействие текст. Ключевым термином служит на самом деле более развернутая фраза
wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, «сознание, находящееся под историческим воздействием». Иными словами, сознание интерпретатора в некоторой степени появилось благодаря тексту, оно само в некотором роде — продукт текста; именно сознание текста подлежит интерпретации. См. далее H. — G. Gadamer,
Truth and Method, Crossroad второе издание 1989, особенно pp. 300–307.
(обратно)
719
То, что эта функция, хотя и как "протестантская идея" признана католиками, отмечено Й. Ратцингером в H. Vorgrimler, ed.,
Commentary on the Documents of Vatican II, Vol. Ill, Bums & Oates/ Herder & Herder 1968, pp. 192–193.
(обратно)
720
Ортодоксии, живущей по преданию и воспринимающему Новый Завет только через посредство отцов церкви, предстоит еще доказать, что она способна достигнуть уровня критического отношения к себе, достаточного для осуждения христианской традиции антисемитизма.
(обратно)
721
Но не для доказательства веры, как, в частности, справедливо отмечал Бультман.
(обратно)
722
Как в классическом случае подобного рода страха у Мартина Кэлера (Martin Kahler) в его знаменитой монографии
The So‑called Historical Jesus and the Historic Biblical Christ, англ. пер. ed. С. Ε. Braaten, Fortress 1964.
(обратно)
723
Евангелие Фомы выдвинуло на передний план Фому, и церковь св. Фомы на юге Индии — напоминание об опасности принятия этого факта, так как нам известно столь немногое об остальных «двенадцати», они не играли важной роли. Однако никакие замечания не меняют основной мысли, содержащейся в тексте.
(обратно)
724
То есть иначе, чем это было сделано Лютером (сноска 9 выше).
(обратно)
725
См.: А. С. Sundberg, 'The Bible Canon and the Christian Doctrine of Inspiration',
Interpretation, 29, 1975, pp. 364–371. Разумеется, претензии на боговдохновенность должны быть не только
предъявлены, но и
признаны, утверждены церквами, (см. также Предисловие ко 2–му изд., с. 29).
3^ См., однако,
дальнейшее размышление к §76.3 выше.
(обратно)
726
Публичная лекция, прочитанная 17 марта 1990 г. в Грегорианском университете (Рим). —
Gregorianum 71(1990), рр.629–656.
(обратно)
727
Я не забываю о критике "Догматической конституции о Божественном откровении", развиваемой Й. Ратцингером (J. Ratzinger) в его
Commentary on the Documents of Vatican II, ed. by H. Vorgrimler, Vol. Ill (London: Burns & Oates/ New York: Herder & Herder, 1968), pp. 192–193.
(обратно)
728
London: SCM Press/Philadelphia, Westminster 1977; 2–е издание — 1990; 3–е издание — 2005.
(обратно)
729
"Единство и многообразие"; § 75.1.
(обратно)
730
"Единство и многообразие"; § 76.3. Я также отмечаю, что
центр определяет и
пределы допустимого многообразия; однако я не могу вдаваться в детали этого аспекта проблемы в этом моем исследовании.
(обратно)
731
Об этом см., напр., W. Kramer,
Christ, Lord, Son of God (London: SCM, 1966), pp. 19–26
(обратно)
732
Подробнее об этом см. у меня в
The Evidence for Jesus, ch. 3.
(обратно)
733
Подробнее об этом см. у меня в
Jesus and the Spirit, ch. 6, pp. 136–146.
(обратно)
734
О сказанном в последних двух абзацах см. подробнее у меня в
Baptism in the Holy Spirit, London: SCM/Philadelphia: Westminster 1970.
(обратно)
735
Я в этой связи имею в виду отчет Рима 1983 года 'The Apostolic Faith in the Scriptures and in the Early Church', в кн.
Apostolic Faith Today, ed. H. G. Link, World Council of Churches, 1985), в частности pp. 259–260, 265.
(обратно)
736
Я пользуюсь терминами, ставшими привычными в обсуждениях эсхатологической напряженности и классическими благодаря работе О. Cullmann, Christ and Time, London: SCM, revised 1962. Важность этой напряженности между Востоком и Западом подчеркивает J. M. R. Tillard, 'We are Different', в
Fundamental Difference, Fundamental Consensus, Mid‑stream 25 (1986), pp. 279, 281.
(обратно)
737
См., в частности, М. Barth,
The People of God, Sheffield: JSOT, 1983; более ранний вариант — в
Paulus — Apostat oder Apostel? Regensburg: Pusset, 1977.
(обратно)
738
Образ заимствован из С H. Dodd,
According ίο the Scriptures, London: Nisbet, 1952.
(обратно)
739
Эта мысль была по справедливости подчеркнута Кеземаном в "Worship in Everyday Life: A Note on Romans 12",
New Testament Questions of Today, London: SCM, 1969, pp. 188–195; см. также мою работу
Romans, Word Bibl. Comm., 38 Dallas: Word, 1988, pp. 709–712.
(обратно)
740
Я здесь, разумеется, вторю II Ватикану,
Lumen Gentium, § 10: "Имеется существенное различие между общим священством верующих и священством служения или иерархией, а не только различие в степенях". Отчет ARCIC, "Ministry and Ordination" (1973) вторит этой точке зрения (§§ 13–14). Но я отмечаю важное уточнение, которое вносит Е. Schillebeeckx,
Ministry London: SCM, 1981: "в древней церкви сослужила вся община верующих вместе, пусть и под руководством председателя общины" (р. 49).
(обратно)
741
Я, конечно, имею в виду, что
Lumen Gentium может служить лишь началом переопределения служения всего тела Христова для церкви, которая с должной серьезностью относится к
semper reformanda.
(обратно)
742
The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West,
Harvard Theological Review, 56 1963, pp. 199–215; перепечатано в его
Paul Among Jews and Gentiles London: SCM, 1977.
(обратно)
743
Ср. с двумя изречениями, приписываемыми Гиллелю: "То, что ты ненавидишь — не делай ближнему своему; в этом весь закон; все прочее — толкование; иди и учись"
(b Shab 31а). и "Будьте учениками Аароновыми, любите мир и стремитесь к миру, любите человека и приводите его к закону"
(m Aboth 1.12).
(обратно)
744
Я попытался поразмыслить побольше над этими предметами в серии публикаций:
Christology in the Making, London: SCM/Philadelphia: Westminster, 1980, в частности гл. 5–7; в споре с Maurice Wiles в
Theology 85 (1982), pp. 96–98, 326–330, 360–361; в "Was Christianity a Monotheistic Faith from the Beginning?",
Scottish Journal of Theology 35 (1982), pp. 303–336; в 'Let John be John — A Gospel for its Time' в
Das Evangelium und die Evangelien, hrsg. P. Stuhlmacher (Tübingen: Mohr, 1983), pp. 309–339; см. мою
Christology, 2–е издание (1989), рр xxvi‑xxxi.
(обратно)
745
Вопрос, находящийся в сердцевине моего
Baptism (см. выше, прим. 5).
(обратно)
746
См., напр., J. Reumann,
The Supper of the Lord, Philadelphia: Fortress, 1985, pp. 4–5.
(обратно)
747
См. § 37.
(обратно)
748
Подробности см. в § 55.1–2. Более полный разбор традиции Мк 7 см. у меня в 'Jesus and Ritual Purity: A study of the tradition history of Mark 7:15',
A cause de l'évangile, J. Dupont Festschrift (Lectio Divina 123, Cerf. 1985), pp. 251–276; перепечатано в
моем Jesus, Paul and the Law, London: SPCK/Louisville: Westminster, 1990, ch. 2.
(обратно)
749
См. далее
Jesus and the Spirit (см. выше, прим. 4), рр 110–114, 272–280, а также выше, §§ 28.1, 29.2. а, 72.2. B.
(обратно)
750
См. также
Evidence for Jesus (выше, прим. 3), ch. 4.
(обратно)
751
Мне, пожалуй, нет необходимости останавливаться более подробно на примере самой христологии, поскольку мысли, аналогичные тем, что я высказал выше, в гл. III и §§ 51–52, и в
Christology pp. 265–267, хорошо выражены в Odessa Report, 1981, "The Ecumenical Importance of the Nicene‑Constantinopolian Creed",
Apostolic Faith Today, pp. 251, 253.
(обратно)
752
Знаменитое (или бесславное) утверждение, которое сделал Кеземан: "Новозаветный канон как таковой не составляет основы единства Церкви. Напротив, как таковой (то есть в его доступности историку), он обеспечивает базис для множественности конфессий" ('The New Testament Canon and the Unity of the Church',
Essays on New Testament Themes (London: SCM, 1964), р. 106) — носило, пожалуй, слишком провокационный характер, хотя и содержит признание многообразия Нового Завета, которое никто не вправе игнорировать. Но уж во всяком случае нельзя считать, что оно оправдывает "множественность абсолютно отдельных или противостоящих друг другу церквей", как справедливо отмечает Congar (ниже, прим. 28).
(обратно)
753
Ср. слова Бонхеффера: "Церковь исповедующая не исповедует
in abstracto…. Она исповедует
in concretissima против 'Германской христианской церкви́…", цит. в U. Duchrow 'The Confessing Church and the Ecumenical Movement',
Ecumenical Review 33, 1981, p. 214.
(обратно)
754
См., напр., Leuenberg Agreement в
Apostolic Faith Today, § 45;
Baptism, Eucharistie and Ministry, WCC 1982, § 23; тему "согласного многообразия", введенную H. Meyer'ом, с размышлениями на эту тему И. Конгара (Y. Congar) в его
Diversity and Communion, London: SCM, 1984, pp. 145–158, с его призывом осознать, что "многообразие всегда признавалось в единстве веры" (см. выше, гл. III); P. Avis,
Ecumenical Theology and the Elusiveness of Doctrine, London: SPCK, 1986, в част. ch. 7.
(обратно)
755
Конечно, метафора тела имеет специфическое приложение к служению, но Рим 14, кроме того, имеет дело со взаимоотношениями внутри христианского собрания, и, поместив образную систему тела в начале всего раздела о взаимоотношениях (гл. 12–15), Павел, возможно, имел в виду, что образ христианского сообщества как тела будет определяющим и для далее следующих отрывков; ср., в частности, Рим 12:3 с 14:4, 22–23.
(обратно)
756
Важность закона о пище для еврейского самоопределения также отражена в трех наиболее популярных "межзаветных" писаниях — в книгах Даниила, Юдифи и Товита, каждая из которых особо выделяет верность героя или героини этой традиции (Дан 1:8–16, Товит 1:10–13, Юдифь 12:1–4). Что касается особой значимости субботы, отметим в особенности Исх 31:13, 16, Ис 56:6, Юбил 2:17–33 и др.
(обратно)
757
См, выше, прим. 24
(обратно)
758
Вопреки J. А. Т. Robinson,
The Body (London: SCM, 1952), ch. 3, где предпринимается в высшей степени сомнительный синтез различных направлений мысли Павла.
(обратно)
759
См., в част., H. Meyer, 'Fundamental Difference — Fundamental Consensus',
Midstream 25, 1986, pp. 247–259.
(обратно)
760
Это — то самое ошибочное толкование, против которого так часто предостерегал мой высокочтимый учитель и наставник С. F. D. Moule.
(обратно)
761
См. выше, § 76.3.
(обратно)
Оглавление
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
Предисловие к третьему изданию
Взгляд в зеркало заднего вида
Зачем нужно третье издание?
Недостающая глава
Часть II
Заключения и выводы
Предисловие ко второму изданию
Список сокращений
I. Введение
§ 1 применимо ли понятие "ортодоксия" к новозаветному периоду?
Часть первая.
Единство и многообразие?
II. Керигма или керигмы?
§ 2 Введение
§ 3 Керигма Иисуса
§ 4 Керигма в Деяниях
§ 5 Керигма Павла
§ 6 Керигма Иоанна
§ 7 Выводы
III. Первоначальные вероисповедные формулы
§ 8 Введение
§ 9 Иисус — Сын Человеческий
§ 10 Иисус — Мессия
§ 11 Иисус — Сын Божий
§ 12 Иисус — Господь
§ 13 Жизненные ситуации первоначальных вероисповедных формул
§ 14 Выводы
IV. Роль предания
§ 15 Введение
§ 16 "Предание старцев"
§ 17 Предания первоначальных общин
§ 18 Предания об Иисусе
§ 19 Выводы
V. Использование Ветхого Завета
§ 20 Введение
§ 21 Иудейская экзегеза времен Иисуса
§ 22 Первохристианская экзегеза Ветхого Завета
§ 23 Цитаты–пешер
§ 24 Принципы интерпретации
§ 25 Выводы
VI. Концепции служения
§ 26. Введение
§ 27. Иисус и его ученики
§ 28. Служение в первоначальной общине
§ 29. Служение в павловых церквах
§ 30. По направлению к Игнатию
§ 31. Иоаннова альтернатива
§ 32. Выводы
VII. Типы Богослужения
§ 33. Введение
§ 34. Многообразие подходов и форм
§ 35. Первохристианские гимны
§ 36. "Панлитургизм?"
§ 37. Выводы
VIII. Таинства
§ 38. Введение
§ 39. Крещение
§ 40. Вечеря Господня[323]
§ 41. Таинства в четвертом Евангелии
§ 42. Выводы
IX. Дух и опыт
§ 43. Введение
§ 44. "Восторженное" христианство
§ 45. Религиозный опыт Иисуса
§ 46. Религиозный опыт Павла
§ 47. Расходящиеся пути
§ 48. Выводы
X. Христос и христология
§ 49. Введение
§ 50. Преемственность между историческим Иисусом и керигматическим Христом
§ 51. "Иисус — один, много ли Христов?"
§ 52. Выводы
Часть вторая.
Разнообразие и единство?
XI. Иудеохристианство
§ 53. Введение
§ 54. Насколько "ортодоксальным" было раннее палестинское христианство?
§ 55. Иудеохристианство в Новом Завете:
1) верность закону
§ 56. Иудеохристианство в Новом Завете:
2) возвеличивание Иакова и принижение Павла
§ 57. Иудеохристианство в Новом Завете:
3) адопцианская христология
§ 58. Выводы
XII. Эллинистическое христианство
§ 59. Введение
§ 60. "Первый конфессиональный раскол в церковной истории"
§ 61. Гностические тенденции в христианстве I в.
§ 62. "Гностицизирующий уклон" Q?
§ 63. Павел — "величайший из гностиков"?
§ 64. "Повинен" ли Иоанн в "наивном докетизме"?
§ 65. Выводы
XIII. Апокалиптическое христианство
§ 66. Что значит "апокалиптическое"?
§ 67. "Апокалиптика — мать всего христианского богословия"?
§ 68. Апокалиптическая литература в Новом Завете
§ 69. Выводы
XIV. Ранняя кафоличность
§ 70. Что такое "ранняя кафоличность"?
§ 71. Угасание надежды на скорую парусию
§ 72. Рост институционализации
§ 73. Кристаллизация веры в застывшие формы
§ 74. Выводы
Заключение
XV. Авторитет Нового Завета
§ 75. Итоги
§76. Сохраняет ли канон свое значение?
Приложение
Единство и многообразие в Церкви: взгляд с позиции Нового Завета[726]
1. Введение
2. Фундаментальное единство
3. Фундаментальная напряженность
4. Фундаментальное многообразие
5. Выводы
Библиография
Введение
Глава II Керигма или керигмы?
Глава III Первоначальные вероисповедные формулы
Глава IV Роль предания
Глава V Использование Ветхого Завета
Глава VI Концепции служения
Глава VII Типы богослужени
Глава VIII Таинства
Глава IX Дух и опыт
Глава X Христос и христология
Глава XI Иудеохристианство
Глава XII Эллинистическое христианство
Глава XIII Апокалиптическое христианство
Глава XIV Ранняя кафоличность
Глава XV Авторитет Нового Завета
Отзывы о книге
Об авторе
*** Примечания ***



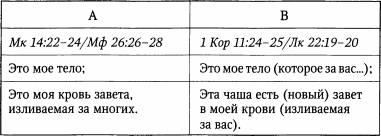
 Но даже если в приведенном анализе еще много спорного, несомненно одно — иудеохристианство I в. было очень многообразно: иудеохристиане, оставившие закон и культ, посвятившие себя вселенской проповеди и находившиеся в той или иной степени под влиянием эллинской культуры и мысли; иудеохристиане, сомневавшиеся в правомерности узкого взгляда на проповедь Евангелия и сохранение культа, а порой (но не всегда) в незыблемости закона; иудеохристиане, не одобрявшие упразднение закона в среде язычников и считавшие закон по–прежнему обязательным для христиан (некоторые продолжали придавать центральное значение Храму); иудеохристиане, противостоявшие язычникам, враждебные Павлу и соблюдавшие весь закон, — скорее не иудеохристиане, а христианоиудеи (во многом прямые предшественники позднего эбионитства)[474].
Но даже если в приведенном анализе еще много спорного, несомненно одно — иудеохристианство I в. было очень многообразно: иудеохристиане, оставившие закон и культ, посвятившие себя вселенской проповеди и находившиеся в той или иной степени под влиянием эллинской культуры и мысли; иудеохристиане, сомневавшиеся в правомерности узкого взгляда на проповедь Евангелия и сохранение культа, а порой (но не всегда) в незыблемости закона; иудеохристиане, не одобрявшие упразднение закона в среде язычников и считавшие закон по–прежнему обязательным для христиан (некоторые продолжали придавать центральное значение Храму); иудеохристиане, противостоявшие язычникам, враждебные Павлу и соблюдавшие весь закон, — скорее не иудеохристиане, а христианоиудеи (во многом прямые предшественники позднего эбионитства)[474].
 65.4. Подведем итоги сказанному. Мы снова видим два критерия, отделения приемлемого многообразия от неприемлемого. Во–первых, эллинистическое христианство становилось неприемлемым там, где прекращалась любовь к своим собратьям по вере, уважение к их знанию и духовному опыту и провозглашалось собственное духовное превосходство. Если не находился под угрозой какой‑то христологический вопрос (как, по–видимому, в 1 Кор), Павел считал правильные взаимоотношения важнее правильной веры. Во–вторых, эллинистическое христианство становилось неприемлемым, когда его либерализм уводил от главного, когда многообразие начинало умалять значимость прославленного Христа или разбивать единство земного Иисуса с прославленным Господом. Христианская свобода небезгранична: пределы ей полагает поведение, исполненное любви к другим людям, и вера во Христа — человека и Господа. В противном случае свобода перестает быть христианской.
65.4. Подведем итоги сказанному. Мы снова видим два критерия, отделения приемлемого многообразия от неприемлемого. Во–первых, эллинистическое христианство становилось неприемлемым там, где прекращалась любовь к своим собратьям по вере, уважение к их знанию и духовному опыту и провозглашалось собственное духовное превосходство. Если не находился под угрозой какой‑то христологический вопрос (как, по–видимому, в 1 Кор), Павел считал правильные взаимоотношения важнее правильной веры. Во–вторых, эллинистическое христианство становилось неприемлемым, когда его либерализм уводил от главного, когда многообразие начинало умалять значимость прославленного Христа или разбивать единство земного Иисуса с прославленным Господом. Христианская свобода небезгранична: пределы ей полагает поведение, исполненное любви к другим людям, и вера во Христа — человека и Господа. В противном случае свобода перестает быть христианской.
