



Глава первая
УТРО

вухэтажный, с низкой крышей дом, бывшая школа — двенадцать окон по фасаду и крыльцо посерёдке, — стоял, отделённый от накатанной проезжей дороги сверкающими на зимнем солнце овалами сугробов, из которых торчали кое-где чёрные прутики замёрзшей акации.
Дом был стар, некрасив, но ещё прочен. Прежде говорили, что пустят его на слом — перед самой войной школе построили в Белокозихе кирпичное здание, — да вовремя передумали. Срубленный когда-то из доброго кедрача, он был обшит досками, изъеденными потом жучком, с облупившейся чешуйками охрой. Но крышу поправить, печи переложить — верно, не один годок постоит.

Дом ещё помнил, как совсем недавно краснощёкие ребятишки тянулись сюда по утрам с портфелями и домодельными сумками для тетрадей, а на большой перемене высыпали на крыльцо в треухах с болтающимися завязками и, хохоча, толкали друг друга в снег.
Теперь дом стоял присмиревший, онемевший, потерявший голос, хотя временами по-прежнему с улицы было слышно, как где-то далеко звенит звонок. Но никто не выскакивал на крыльцо в распахнутой шубейке, не бросался в сугробы, не швырялся снежками. Лишь мелькали порой за двойными стёклами рукава белых рубах да глухо доносился ребячий гомон.
— Эваковыренные из Москвы, — объясняла сторожиха любопытствующим. — Детишек привезли, без родителей, цельных два автобуса. Больные — не ходют…
Одеяло сползло и свесилось углом с кровати. Ганшин потянулся во сне поправить его рукой — и проснулся.
Сквозь полуоткрытую дверь из коридора падал рыжий отсвет керосиновой лампы, стоявшей на столике у дежурной, а зимние утренние окна уже синели — видно, и до звонка недолго.
Ганшин подёрнулся зябко, попробовал повернуться на бок и сморщился от знакомой, ноющей боли. Тут он вспомнил, что всю ночь сквозь сон слышал эту боль, но не решался проснуться. Снилось ему что-то хорошее, с чем расстаться не хотелось, но что? Да, Москва снилась, Сокольники, санаторий на Пятом Лучевом. И они с Игорем на верхней большой террасе пускают бумажных голубей и смотрят за барьер, как они, снижаясь кругами, садятся на траву. Откуда-то мама в накинутом на плечи белом халате (как её пустили?) склонилась над его постелью, помогла подняться и повела по барьеру, держа за руку. Он балансирует, как канатоходец, но что-то пугает его, и он летит вниз, плавно раскинув руки, и опускается на лужайку с одуванчиками. Там, у цоколя дома, разбитое подвальное окно. Грязный, мокрый кот прыгает туда, и он за ним, во тьму, где мерцает соблазнительная куча металлолома — спутанная проволока, маслянистые шестерни, пружины, рессоры… Он тянет к ним руку. «Сева, не бери!» — кричит за спиной мама, и он просыпается.
Жалко, интересный был сон — запутался, рассыпался и кончился… А нога ноет.
За два года Ганшин привык засыпать на спине, в гипсовой кроватке, туго зашнурованный фиксатором. Ещё полагались ему подножники, вытяжение на больную ногу, а под колено здоровой — песочник. Ночью, засыпая, он всякий раз невольно пытался повернуться по-домашнему на бок. Гипсовая кроватка, когда-то новая, аккуратно прожелатиненная, ровно обрезанная с краёв и державшая форму, поизносилась в переездах — с автобуса в эшелон, из эшелона на полуторку, — раскачалась на сгибах. Крошки сухого гипса сыпались сквозь многослойный бинт, и было лежать теперь в ней просторнее. А всё же панцирь.
Но сейчас, шевельнув ногой, Ганшин ощутил непривычную свободу. Подножники не жали, не тянул перекинутый через катушку на блоке мешочек с песком. «У! Да мы вчера вставали», — вспомнил вдруг Ганшин и испугался…
С вечера седьмая палата не могла уснуть. Говорили о лунатиках. Костя лично знал одного лунатика, и по его словам выходило, что тот выглядел в точности как другие люди и долго сам ничего не понимал о себе. А его видели, как он вылезал из окна и ходил по крыше в полнолуние. Когда лунатик идёт по карнизу, его, как известно, нельзя пугать. Только окликни — и ухнет вниз.
Вася Жабин первый решил проверить: не лунатик ли он? Едва шаги ночной дежурной замерли в коридоре, он отвязался в темноте, покачиваясь, встал на койке, завёрнутый в простыню, как белое привидение, и просипел что-то дурным голосом. Но закружилась голова, и он с шумом повалился на одеяло. Ребята заржали. Больше лунатиков не находилось.
— А Севке — слабо, — едва переведя дыхание, сказал Жаба.
— Он паинька, — поддержал Жабу Костя Митрохин.
Вот уж паинькой, рохлей или тихоней, что одно и то же, Севка Ганшин никогда не был. Ещё про его друга, Игоря Поливанова, можно так сказать. А Ганшин вечно нарушает режим, вечно за что-то наказан. Едва его в санаторий привезли, учительница Изабелла Витальевна склонилась над ним: «Ах, какой славненький чёрненький мальчик…» — а он хвать её за нос. С тех пор никто не сомневается, что он отчаянный. И Костя просто так сказал, чтобы поддразнить его. Но с Костей не считаться нельзя. Ему недавно исполнилось одиннадцать, и в палате его уважают как самого умного и старшего.
По правде говоря, Ганшину вовсе не хотелось вставать. И не в том дело, что вставать глупо, — ещё накроют, а в санатории нет большей вины, чем эта. Но нога последние дни побаливать стала, обострение нажить можно. Только вслух этого не скажешь: хуже нет признаться, что трусишь старших, — засмеют, задразнят. А нога… Что нога? Болезнью считалось что-то чрезвычайное, ну, горло болит или понос, а так все принимали друг друга как бы здоровыми. «Э, была не была», — и Ганшин дёрнул завязки фиксатора.
Он вытянул ноги из подножников, перевалился за гипсовую кроватку и коснулся босыми пятками холодного щелистого пола. Чувствуя слабость в коленях и головокружение, он сделал первый неверный шажок. Тут Жабе почудилось, что кто-то идёт по коридору, и он хриплым шёпотом выдохнул: «Атанда». Шмыгнув к постели, Ганшин забился под одеяло с головой и лежал с бухающим сердцем.
Но тревога вышла ложная.
Поболтали ещё немного, и Костя решил спать.
— Спэк, рёбушки.
— Спэк-бэк.
— Спэк, Жаба.
— Спэк, Игорь.
Каждый, по обыкновению, желал доброй ночи остальным. Мало-помалу палата успокоилась и заснула…
Теперь же, вспомнив о вчерашнем, Ганшин почувствовал, как что-то тоскливое, тошнотное завозилось у него внутри. Нога ныла сильнее прежнего, и ещё предстояло отвечать за сорванное вытяжение и подножники.
— Игорь, ты спишь? — окликнул он Поливанова.
— Не-а.
— Слушай, помоги фиксатор привязать бантиками, как Евга делает, а то прицепится.
Просыпались и на других койках. За окном светлело. Игорь придвинул свою кровать на колесиках вплотную к Ганшину и сопел, привязывая тесёмки к боковой раме. Но опоздал, конечно.
В дальнем конце коридора сначала едва слышно, потом громче и громче зазвенел звонок, и дружный весёлый вопль покатился по нижним палатам. Няня шла от дежурки, теребя медный колокольчик, а следом нёсся многоголосый рёв: «А-а-а-а…» Кричали давно проснувшиеся и уже ждавшие звонка, а к ним присоединялись по дороге те, кто только ещё просыпался и тёр кулаками глаза: «А-а-а-а…» Это как свободный вздох после сонной тишины, как приветствие утру. И пусть тёмен зимний рассвет, пусть война и эвакуация и неведомо где отец с матерью, пусть скудная еда, холод и болезнь, а всё же новый день, с вечной надеждой на хорошее.
Да и то сказать, хуже, чем первые дни, когда они лежали в школе под Вейском, пожалуй, уж не будет. Матрацы стелили на полу, и есть было нечего, кроме хлеба с кипяточком. А тут переложили на койки, стали кормить три раза в день, появился звонок — с утра и на мёртвый час. А скоро обещали и школьные занятия начать, и так уж с этой войной три месяца пропустили.
Ганшин не успел как следует подвязаться, да и Игорь второпях ему лишних узлов напутал, а в палату, погромыхивая жестяными утками и суднами, уже шла тётя Настя. Низенькая, широкая, в грязноватом халате, она остановилась на пороге, чуть расставив ноги, по нескольку уток в каждой руке — и как она их не роняет? — и задорно, нараспев прокричала:
— Эй вы, сонные тетери, а-а-атворяйте брату двери!
Ганшин улыбнулся знакомому присловью. «Да мы не спим». И в самом деле, все проснулись, даже Гришка Фесенко вылез из-под одеяла — сонный, хмурый. Его круглое лицо с чёрной щёткой волос над низким лбом выражало досаду: доспать не дадут. Он лежал старательно подоткнувшись, чтоб не дуло от балконной двери. Сквозь плохо вымытые двойные стёкла, прихваченные по углам изморозью, падал на его кровать скудный свет зимнего утра, и Гришка ещё долго крутил стриженой головой, стряхивая ночную дремоту.
А тётя Настя уже сновала между кроватями и каждому бросала задорное, весёлое словечко:
— Ты что это, Сева, глазки заспал — сон-батюшка, лень-матушка… А Гриша, смотри, раскинулся себе, ну прям китайский богдыхан…
У тёти Насти с полуслова видно, что у неё на сердце. Бывает, хмурится, гремит щёткой, по рукам смажет ни за что — лучше её не трогать. А хороша так хороша, сыпет шутками, прибаутками и только что в пляс не идёт. Но стоит Евгении Францевне её зацепить («Сколько раз вам говорить, Настя, протрите плинтуса хлоркой»), как она помрачнеет, надуется, и тут заговорить с ней — всё равно что горящую спичку языком лизнуть.
В добром расположении духа тётя Настя доверчива и любит порассказать о себе, о старшей дочери Майке, о сыне Лёнечке, о муже, которого проводила на фронт, и вот четыре месяца нету писем. «Да когда им писать? Так и воевать будет некогда. Сводку слыхали? Затяжные кровопролитные бои…» А в другую, надсадную минуту: «Будто полчаса не найдёт, паразит, слово икономит. Чего мне надо? „Жив, здоров“». Дурные мысли она от себя гонит.
Больше всего жалеет тётя Настя, что не кончила школу второй ступени. «Учитесь, ребятки. Вот я немного недоучилась, а по степени понимания вполне могла фельдшерицей стать. Ну, потом замуж вышла, то да сё, детишкам на молочишко, и пошла в санитарки…»
Сейчас она у постели Поливанова и его добродушно жучит:
— Ты что это, Игорёк, растрепался весь? Евгения Францевна заявится, по головке не погладит… А Костя, никак, ещё третий сон досматривает. Эй, вставай, мужичок, ведь работать пора. Неча бока отлёживать… Утром вчера проснулась, снегом крыльцо завалило, дверь не откроешь. Я Лёнечку послала с лопатой отгребать, а сама плиту растапливать стала, буряки варить к завтраку. А Лёнечка не идёт и не идёт. Зову, дверь приоткрыла, вроде нет никого, вижу, над сугробом кончик шапки болтается, а он с лопатой в сугроб провалился, засыпало всего.
Рассказывая, тётя Настя подошла к Ганшину, чтобы взять утку, поправила свесившееся одеяло и вдруг заметила, что он развязан.
— Эт-то что за чудо-юдо? — запела она с деланным возмущением. — Почему вытяжение сорвано? Ну, задаст тебе Евгения Францевна перцу.
— Тётя Настя, подвяжите. — Ганшин смотрел на неё умоляюще. — Я не знаю, как оно слезло.
Поправить вытяжение тётя Настя не успела. В коридоре послышались крепкие, громкие шаги, и в палату вошла, держа стакан с градусниками, Евгения Францевна. Градусники плавали серебряными хвостиками в спирту. Тётя Настя наклонилась, подхватила утки и загромыхала прочь. А Евгения Францевна, переходя от кровати к кровати, рассовывала градусники, предварительно протерев ваткой их кончики.
— Термометр следует держать внимательно, — сказала она, сжав губы в бледную нитку, — а кто не будет держать как следует, тот, как говорится, пусть пеняет на себя.
Евгения Францевна всегда говорила вещи само собой разумеющиеся. Но Ганшин слушал её, угодливо заглядывая в глаза, и кивал. «Кажется, пронесло», — с облегчением подумал он, когда Евга вышла. Ганшин даже решил, что постарается вести себя сегодня тише воды, ниже травы. Ведь Изабелла обещала вчера, что принесёт книги и первому даст выбирать тому, кто не имел за последние дни ни одного замечания. Ожидался «Таинственный остров», и Ганшину хотелось его захватить.
Между тем Евгения Францевна вернулась с температурным листом. Она подошла к постели Поливанова, вытянула градусник у него из-под мышки и сурово изучила ртутный столбик. Потом стряхнула и отметила температуру на листе. У всех сегодня была нормальная, только у Жабы 37 и 2, но у него почему-то всегда такая.
— А сколько у Севы? — благодушно спросила Евгения Францевна, повернувшись к Ганшину.
Она взяла у него градусник, наклонилась к свету, и вдруг лицо её изменилось. Ганшина проколол негодующий взгляд из-под очков. Красная, с толстым обручальным кольцом рука резко встряхнула термометр, и он снова оказался у него под мышкой. Только тут она сочла возможным объясниться.
— Ты как держал? — спросила она негромко и ещё плотнее сжала губы.
«Начинается», — подумал Ганшин.
— Обычно держал, а что?
— А то, что 34 и 8. Не может быть такой температуры у больного ребёнка, — произнесла Евгения Францевна, и её розовый мятый подбородок недобро задрожал.
Ганшин крепче зажал градусник и счёл за лучшее промолчать.
— Поступило предложение умываться и мыть руки, — весело объявила вошедшая тётя Настя. В руках у неё был большой таз и синий рябой кувшин с оббитой эмалью. Она ставила таз на край постели в головах, придерживая его одной рукой, а другой лила тонкой струйкой воду из кувшина в сложенные лодочкой ладони. Ребята ждали, когда вода уйдёт сквозь пальцы, и мокрой ладонью тёрли глаза: вот и всё умыванье.
Таз и кувшин проследовали мимо — Ганшин держал термометр, и умываться ему не полагалось. Сколько, однако ж, маяться? Бегло оглянувшись, Ганшин вытянул градусник: ртуть мёртво застыла на 34 и 8. Нет, так не пойдёт. Севка стал тереть градусник под мышкой, энергично водя его взад-вперёд. Этому фокусу научил его ещё в Москве Васька Макалов. Вообще-то говоря, отличный способ! Но на этот раз не получилось. Серебряный столбик едва шевельнулся, разве что две десятых прибавилось. Тогда Ганшин осторожно стал щёлкать ногтем по стеклянной головке: ртуть медленно поползла вверх… 35 и 2… 35 и 8… 36 и 4… Вдруг — дзинь, тонкие осколки посыпались на постель.
— Ты что, с ума иль с глупа? — спросил Игорь. Но Севка и сам уже понял, что пропал. — Бросай на пол, а то увидят, что набивал.
Не надо было этого делать Ганшину, не надо! Но сгоряча, со страху, он бросил с постели градусник. Стекло брызнуло, и серебряные шарики разбежались по полу.
— Ртуть лови, — сообразил Костя.
Свесив руку с кровати, Поливанов попытался загнать шарики в спичечный коробок. По углам коробки забегала красивая серебряная капля, дробясь при каждом толчке и снова сливаясь в одну.
— Ну, Ганшин, посмотрим твои успехи, — сказала, возвратившись, Евгения Францевна. — Если держать хорошо, то и пяти минут достаточно, а если кое-как, то времени, как говорится, потребуется вдвое больше… Давай же его сюда. Дети, вы вечно сами себя задерживаете! — зудела Евга.
— Евгения Францевна, его нет, — смятенно пробормотал Ганшин. — Он выпал… честное слово, я хорошо держал, только повернулся, а он такой скользкий…
Глаза Евгении Францевны расширились, белёсые бровки заходили, она покраснела всей кожей лица и, как всегда в такие минуты, стала заикаться от негодования:
— Т-т-ты д-держал? Да ты минуты не лежал спокойно. Что за дети? Хулиганы! Беспризорники! Сегодня же пожалуюсь Ашоту Григорьевичу… А т-тебя, т-тебя немедленно валетом… Настя! Настя! — раздражённо крикнула она и, не дождавшись помощи, сама схватилась двумя руками за спинку кровати, с яростью рванула её на середину палаты, перевернула, и Ганшин оказался головой к ногам других постелей. — Будешь стоять так до конца дежурства.
Ганшин покорился своей участи и стал глядеть в окно. Уже совсем рассвело. В квадрате рамы за ближними безлесными холмами громоздились горы, не видные с прежнего его места. Вот бы туда забраться, на самую верхушку! Какие, наверное, оттуда маленькие и Белокозиха, и санаторий — не больше тыквенного семечка. Если бы ещё были с собой верёвки и ледоруб!
И он въявь представил, как Игорь Поливанов поднимает его, перепоясанного верёвками, по отвесной, в морозном инее скале… Мечтание оборвал знакомый и важный звук: звяканье мисок в ближнем конце коридора. В раздаточную завтрак привезли. Пшёнку, конечно.
Кухня была общая с военным госпиталем и стояла далеко на отшибе. Котёл с едой везли километра полтора на санях, закутав кашу от мороза одеялами и прикрыв поверху крышку рваным ватником. Дорогой каша остывала и, пока её раскладывали в алюминиевые миски и ставили наконец на грудь лежачего, делалась похожей на холодец с глянцевитой плёнкой и отставала от краёв.
Кусочек хлеба — не белого, не чёрного, а какого-то серого, липкого — съедали быстро, а кашу тянули без конца, и в миске Ганшина подолгу перекатывались застывшие комья. «Каша вкусная, каша питательная, плохого вам не дадут, ешьте кашу», как испорченный патефон, крутила Евга. Но ели лениво, медленно. Эх, картошечки бы сюда! Хоть варёной, рассыпчатой, хоть в пюре. А если бы ещё поджаренной, с сальцем… Но нет: и в обед будет пшённый суп и пшённые биточки, и на ужин — пшённая запеканка. Пшена в ту первую военную зиму на Алтае хватало.
Один плотный чернявый Гришка Фесенко требовал добавки. Может быть, ему не так уж хотелось есть, но однажды он попросил вторую порцию каши, и это было встречено таким взрывом восторга, что теперь он долгом своим почитал повторять время от времени этот номер.
— Гриш, а Гриш, пять каш съешь?
— Съем.
— А семь?
— И семь, если с хлебом.
После каши принесли, как обычно, чай, в таких же, но поменьше алюминиевых мисках. На дне лежала капелька густого рыжего мёду. Ложек не полагалось, мешать мёд было нечем, и потому, выпив несладкий чай, доставали языком мёд с донца, и во рту ещё долго стоял его приторный вкус. Ганшин всегда тянул это наслаждение, слизывая по тонкому слою медка, пока тётя Настя не отнимала у него миску: «Будет тебе, в железе дырку прогрыз».
Сегодня Ганшин и вовсе не спешил завтракать: куда торопиться, если стоишь вверх ногами и вообще ничего доброго в жизни не предвидится?
— Атанда, Ашот Григорьич идёт! — вдруг крикнул со своего места у двери Жаба.
Бросились поправлять постели, вытаскивать на одеяло ровную полоску простыни. Сердце Ганшина стукнуло: неужто Евга успела съябедничать?
Директор, похоже, шёл не один. Оббив бортами кровати узкую коробку двери, нянька втащила за ним койку. На ней лежал тощий головастый мальчишка.
— С кем поставить новенького? Отличный парень — Коля Зацепин, — отрекомендовал его Ашот.
— Ко мне не надо. Только не ко мне. И ко мне не ставьте, — загалдели ребята.
Никто не хочет в санатории стоять с новичком, да оно и понятно: привыкаешь, ссоришься, миришься, сживаешься, наконец, с соседом, а тебе новенького подсовывают. Не на один день в палате устраиваются. Как привезли из Вейска, и не спрашивали, кого с кем ставить. Но за последние недели в Белокозихе свои возникли вражды и дружбы. Просились переставить, менялись местами и на второй месяц оседлой жизни устроились, притёрлись, и порядок укоренился — не стронь его.
У окна Гришка, место привилегированное, но холодное. Само окно маленькое, да рядом застеклённая дверь на балкончик, заколоченная на зиму, — её заметает снегом с улицы. Дальше Костя. За ним Ганшин с Поливановым, потом Жаба. Палата вытянутая, узкая, и у печки во втором ряду помещалась бы вдоль стенки ещё одна лишь кровать.
— Ставь пока к печке, — распорядился Ашот Григорьевич.
Место у печки сулило одиночество, но новенький этого не знал.
— Вот и хорошо, — обратился к новичку директор. — Тебя ещё долго на перевязки возить, удобно, что к двери ближе.
Новичок покорно кивнул, поправил одеяло, и слабый, сладкий запах гноя и лежалых бинтов поплыл по палате.
— А ты что кислый такой, бутуз? — Ашот подошёл к постели Ганшина. — Напроказил, наверное, вверх ногами стоишь?
Он откинул одеяло, взял двумя пальцами складку кожи на бедре — симптом Александрова, попробовал согнуть ногу в колене, и вдруг что-то хищно-весёлое промелькнуло в его глазах, и он неожиданно и ловко стал крутить Ганшину кожу у пупка своими сильными пальцами. Было щекотно, больно, и Ганшин принялся хохотать как сумасшедший:
— Не надо, Ашот Григорьич, больно, Ашот Григорьич!
Это была любимая шутка Ашота, и отбиваться было бесполезно.
— Теперь хоть улыбку вижу, — удовлетворённо сказал директор, набросив на Ганшина одеяло и обратился ко всем: — Вот что, ребята, хватит бездельничать. И так с переездами три месяца учёбы прохлопали. Будем учить по программе четвёртого класса. Кто был в третьем, в пятом — вместе подберутся. Пионеры у вас есть? Нет? А кто готовится? Костя? Всем пример. Другие пусть подтянутся. Учёбой и отличным лежаньем поможем родине.
Ашот ушёл, и все стали молча изучать новенького: хилый какой-то. Голова как голый череп, кожа на ней тонкая, жёлтая и ещё какие-то шишки, замазанные зелёнкой. Руки у новенького точно обструганные палочки и глаза беспокойно бегают, а рот набок.
Долго молчали. Новенький тоже молчал. Ждал. Жаба болтал здоровой ногой, свесив её с кровати. Смотрели в упор. Костя спросил первый:
— У тебя спина или нога?
— Спина и нога. И ещё шея теперь.
— Ага.
На шее и в самом деле заметили гипсовый ошейник, бинтом замотанный.
— А как зовут?
— Зацепин.
— Зацепа?
— Ну?
— Марки есть?
— Нет.
— Открытки есть?
— Нет.
— А что есть?
Выяснилось, что у новенького ничего нет, кроме рогатки, которую он опасливо вынул из наволочки, привязанной к спинке кровати вместо мешка, и показал издали. Рогатка и впрямь была хороша: длинная рыжая резина и седло из чёрной кожи.
Через пять минут про Зацепу было известно всё. Он из Кириц, санатория под Рязанью, попал туда в первый месяц войны из детдома. Родных нет.
Кирицких московские не любили, с кирицкими вели войну. Считались кирицкие народом как бы второго сорта. Неведомо откуда, но было достоверно известно, что все кирицкие трусы и бабы, дураки и сопливые.
Правда, в соседней палате, сплошь кирицкой, дурной случай вышел с московским — Васькой Макаловым. Макалу трепанул кто-то, что санаторий в Сокольниках, чудесное это место, их дом родной, разбомбили немцы. Прямое попадание будто бы — и дотла. Кого-то из седьмой палаты увидел Макал в гипсовальной, где ему обрезáли кроватку, и передал тот слух. Ему поверили. Московские приуныли, а Ганшин в мёртвый час тайком от ребят обревел подушку. Вспомнилась московская палата, светолечебница, большая терраса, львиные морды на фасаде. Только и думали туда вернуться, только и вздыхали: «А помнишь, в Москве?» И всё это разметало бомбой!
Но оказалось враньё. Получено было кем-то из персонала от родственников, оставшихся в Москве, письмо, что в самом деле бомбили, но бомба упала в саду, только кусок гранитного цоколя попортила да следы осколков остались в стенах. А сам санаторий цел. Цел! Ура!
Макала возненавидели. А тот, чтобы доказать кирицким свою верность, ещё что надумал. Стал сморкаться на пол, свесив голову с кровати и крепко зажав одну ноздрю, притом дурашливо кричал: «Так все в Москве делают». Негодяй, изменник.
А теперь вот к ним в палату кирицкий пожаловал, да ещё какой-то дохляк.
— Ты в Москве бывал? — снова повёл допрос Костя.
Зацепа болезненно наморщил лоб в зелёнке и, повернув голову, сколько позволял ему ошейник, взглянул на Костю испуганным тёмно-серым глазом:
— Не-а.
— А московских знаешь?
— Не-а.
— Ну, будешь знать. Здесь все московские.
— Кирицы сопливые, свистуны пискливые, — глумливо выкрикнул Жаба.
— Оружие сдать, — распорядился Костя и величавым жестом указал на рогатку.
— Как бы не так. Не отдам. — И рука Зацепы судорожно спряталась куда-то под одеяло, за панцирь гипсовой кроватки.
— Вот гад! — зашумела палата. — Фашист кирицкий.
— Ребята, да он на Геббельса похож, — догадался Поливанов. — Вчера в «Пионерке» насмешку видел: брешет по радио, голова как пузырь, руки-палки, в точности Зацепа.
— Геббельс, Геббельс, — обрадовался Жаба, а Гришка грозно поднялся на локтях в своей постели, чтобы в упор разглядеть новичка, который дерзил Косте.
— Я научу вас вести себя, — сказал Костя с обольстительным спокойствием Атоса из «Трёх мушкетёров». — Не разговаривать с ним, братва, — распорядился он.
Новенького подвергли молчаливому бойкоту, но так как это не действовало, пришлось обстрелять его жёваными комочками бумаги. Пули летели в цель довольно метко, но новичок глухо закрылся одеялом и замер там. По-видимому, он был упрям, однако своё оружие применить не решился, и с ним вступили в переговоры.
К обеду мир был восстановлен. Рогатка с длинной рыжей резиной перешла к Косте, а Геббельса, чтобы не раздражать старших, переименовали в Гебуса: и смешно, и не придерутся. Да и Зацепа на Гебуса стал откликаться.
Теперь он был почти свой, соглашался, что Сокольники — лучшее место в мире, и старался заслужить доверие московских.
Ганшин всё ещё стоял «валетом», читая по третьему разу «Детские и школьные годы Ильича», когда Евга зашла в палату и миролюбиво обратилась к нему:
— Ты вёл себя прилично, Сева. А когда дети хорошо себя ведут, на них, как говорится, приятно смотреть. В следующий раз держи термометр как положено. Ведь если врач не знает температуры тела, он не может определить состояние больного ребёнка…
Голос её становился всё елейнее, фразы длиннее и поучительнее: она отходила.
Ганшина вернули на место, и тут Евга объявила, что вместо сна в мёртвый час его на рентген повезут. Вот удача!
Обеда Ганшин не заметил. Пшённую запеканку не доел, расковырял только — подташнивало от волнения. Сейчас посуду соберут, чтобы заодно на мерине отвезти, и за ним явятся. Скорее бы!
Но в раздаточной не спешили. Скребли с повизгиваньем ложками, вычищали вёдра, чтоб добро не пропадало, в кружках домой взять. Вытирали с прилавка застывшие брызги каши.
Наконец миски собрали. Тётя Настя внесла толстое одеяло и шапку с ушами. Пока Ганшин одевался, ребята болтали о своём, но он чувствовал на себе их быстрые завистливые взоры.
Глава вторая
НА РЕНТГЕН

ыжая лошадь, запряжённая в крестьянские розвальни, стояла у крыльца, понурив голову. Сквозь широкие ноздри пыхали в морозный воздух облачка пара. Грива свисала набок нечёсаными прядками, закрывая большой печальный глаз. Возчик Николай в шапке с болтающимися ушами ходил возле саней, скрипя подшитыми валенками по снегу, и дымил махрой, когда вынесли закутанного в одеяла, запелёнатого, как мумия, Ганшина.

Поверх подстилки из сена положили на сани мех, увернули в него, подоткнули, и теперь над боковиной саней видны были только нос да кусок розовой щеки, намазанной жиром от мороза. В ноги Ганшину поставили кухонный котёл и вёдра, гружённые грязной алюминиевой посудой, Николай сел впереди, перекинув за борт саней ноги в валенках, и подхватил вожжи.
— Но-о-о, старая! — добродушно прикрикнул он, и лошадь стронула, медленно переступая ногами. Николай стеганул её легонько вожжой по лоснящемуся коричневому боку. Она пошла резвее, ходче и наконец побежала ровно, найдя саням накатанную колею.
В ногах у Ганшина проплыл и исчез, двухэтажный, с деревянными балкончиками дом санатория, и потекли с двух сторон снежные холмы, сугробы, тёмные верхушки елей и пихт.
— В ночь морозило, под 40. А сегодня, вишь, тепло, градусов 25, не больше, — произнёс Николай, довольно жмурясь под солнцем, и заслюнил из клочка газеты новую цигарку.
— Угу, — промычал Ганшин сквозь кромку одеяла.
В самом деле, что за день такой выдался! Вчера до полудня валили белые хлопья, а сегодня небо чистое, белёсо-голубое и свежий снег сверкает под низким, ещё не скатившимся за гору солнцем. Мороз щиплет, горячит щёки.
Ганшин наслаждался движением, скрипом санных полозьев и вертел головой по сторонам. Только бы ничего не пропустить! Вот водокачку проехали, мелькнули два домика, как с новогодней открытки, укутанные в снежную вату, и дым из труб в небо ровным столбом, будто кто тянет его сверху за невидимую нить.
А вот длинная труба с крохотной над ней чёрной шапочкой.
— Движок, — поясняет Николай, махнув на трубу кнутовищем, — енергию даёт.
И снова поплыли снежные увалы с глубокими, синими тенями в округлых ложбинках.
Как сладко дышать морозом, снегом, и ещё чудесным забытым запахом сена, и махорочного дыма, и лошади! Ганшин попробовал вывернуться в одеялах на бок и задрал голову — что там впереди? Едва он зашевелился, лежалым сеном со дна саней пахнуло сильнее, а за широким тулупом Николая он увидел гряду низких холмов и за ними огромную, в полнеба, цепь гор, черневшую еловыми лесами и светившуюся вверху ослепительными белыми шапками.
— Дядь Коль, — решился вступить в разговор Ганшин, — а сколько ехать до рентгена?
— Минут за десять свезу.
— Так ма-а-ло? — протянул Ганшин.
И вдруг вспомнил, что ещё надо выпросить у Николая конского волоса. В прошлый раз Жаба с рентгена привозил: незаменимая вещь, отличные кончики для плёток получались и, если завязать что-нибудь, нитка вечная.
— Можно из хвоста у Рыжей волосок?
— А к чему тебе баловство это? — Николай сплюнул в снег догоревшую цигарку.
— Леску плести.
— На постели, что ль, карасей ловить? — усмехнулся возчик, но тут же согласился: — На той дороге начешу.
Ехать бы так и ехать. Путь узкий, накатанный, будто вымазан салом, встречных нет, а то бы и не разъехаться, летишь по снеговой колее. Позвякивают крышками вёдра в ногах у Ганшина. А сани то мчатся ровно, то съезжают по накати, и тогда жмёшься к боковой жердине, дух перехватывает. Поворот, ещё поворот, и вдруг: «Тпру-у», и вожжи на упор. Приехали.
Ганшин и не заметил, как подкатили к серому каменному зданию, вытянутому по фасаду в один этаж. Николай занялся вёдрами, а его уже подхватили чьи-то руки, внесли в тепло, раскутали, вынули из гипсовой кроватки, положили на прохладную клеёнку и оставили одного.
Теперь он лежал на высоком, узком, твёрдом столе под нависшим над ним аппаратом с толстой трубкой. Красная лампочка над входом одна нарушала сумрак комнаты.
Долго никто не шёл. Но Ганшин привык ждать и ждал терпеливо. Щёки его жарко пылали в тепле с мороза, он приложил к ним холодные ладони. Из-за тонкой перегородки доносились женские голоса, как всегда лучше слышные в темноте.
— Один на большой кассете, чтобы оба сустава.
— Не просите, я права не имею.
— Ну, в последний раз, неужели нельзя?
— Вы привозите ребёнка и сваливаете, как мешок, а что нам, простите, делать?
Голос, грудной, высокий, красивый, сопротивлялся. Голос, негромкий, спокойный, чуть скрипучий, просил и настаивал.
— В конце концов, это непорядочно. Когда вашему начальнику понадобился марганцово-кислый калий, мы поделились тем, что имели…
В негромком скрипучем голосе Ганшин узнал голос Марьи Яковлевны, нынешнего главврача, а когда-то директора в Сокольниках, и стал прислушиваться.
— Теперь я прошу четыре кассеты, только четыре, — доносилось из-за стены, — и он не даёт. Ведь я объясняю вам, нам вот-вот подвезут, всё уже обговорено в крайздраве. Поймите, я отвечаю за больных детей. Вы знаете, чем нам их приходится кормить? У нас уже две открытые формы туберкулёза, на днях потеряли девочку шести лет, я боюсь вспышки менингита.
— Марья Яковлевна, напоминаю вам, я здесь только рентгенолог, — возразил красивый голос.
— Знаю, всё знаю, — продолжала настаивать Марья Яковлевна. — Но я не прошу у госпиталя делиться пищевым рационом. Я понимаю Павла Ивановича, ему надо кормить красноармейцев, ставить их на ноги для фронта. Мы как-нибудь сами справимся. Но мне известно, простите, что широкая плёнка лежит у вас мёртвым грузом, — почему не одолжить?
— Без Павла Ивановича не имею права.
— Но я прошу вас по-человечески, Анна Ефимовна. — И раздалось какое-то бульканье и будто тихий лай. — Сил моих нет… У этого больного тяжёлый случай (голос справился со спазмой и снова стал ровным, скрипучим), процесс из головки вот-вот прорвётся в суставную сумку…
Она понизила голос, и как ни вслушивался дальше Ганшин, ничего не расслышал.
— Хорошо, — вдруг громко произнёс красивый голос, — я не буду докладывать Павлу Ивановичу, но это ваша последняя кассета.
Дверь под красной лампой открылась, и высокая, крупная женщина в белом халате как ни в чём не бывало подошла к Ганшину и стала укладывать его на жёстком столе. Она долго колдовала над аппаратом с чёрной трубкой — опускала вниз, сдвигала в сторону, потом навалила на ноги два песочника, третьим подпёрла ступни и отошла, сказав строго:
— Не шевелись, мальчик. Испортишь — купить негде. Плёнка на вес золота.
Ганшин изо всех сил старался не шевелиться, руки сжал в кулаки, напрягся весь и замер. Но именно потому, что он сильно старался, в тот самый миг, когда что-то щёлкнуло и зажужжало в аппарате, он вздрогнул всем телом и затих испуганно.
— Ну как, хорошо лежал? — спросила его, войдя, обладательница грудного голоса.
— Хорошо, — буркнул себе под нос Ганшин.
«Что это они там говорили — тяжёлый случай, тяжёлый случай… Да обычный. Зацепа куда хуже, — пришло в голову Ганшину. — И у Игоря недавно обострение было, ночей пять орал, как зарезанный. А у меня терпимо».
Но стоило об этом подумать, как знакомая, тянущая нитка боли прошла из колена в бедро и замерла где-то глубоко в спине. И успокоилась. А Ганшин стал думать о другом. Как странно всё же говорила Марья Яковлевна. Чего это она так унижалась, всё выпрашивала у этой тётки? В Сокольниках Марью Яковлевну как огня боялись и сёстры, и педагоги. О ребятах что и говорить. Стоило ей войти в палату, паиньками лежали. И в эшелоне, когда ехали, она всё устраивала. И когда в Вейске в пустой столовой на полу на тощих подстилках мёрзли и никто не знал, куда повезут, сёстры говорили: «Придёт Марья Яковлевна и всё объявит». И точно: после целого дня волнений, нелепых слухов, напрасных сборов, она появлялась под вечер в очередном временном их пристанище — столовой или школе — и говорила спокойно, чуть в нос: «Дети, вам дадут сейчас чаю с хлебом, потом засыпайте, завтра поедем дальше». И всё ясно становилось, ребята успокаивались и засыпали до утра. Но зачем она так жалко лепетала сейчас за перегородкой? Даже заплакала, кажется. Мария Яковлевна — и не может приказать, смешно даже.
Когда Ганшина вынесли на крыльцо, уже густели ранние декабрьские сумерки. Ставшие в полутьме ещё выше, белые холмы снова затеяли свой бесконечный бег мимо саней, тесня колею дороги. В чернеющем с каждой минутой небе зажглись первые крупные звёзды, и вдруг тэк-тэк-тэк — звонко застучал движок, и над тёмной длинной трубой стали выпархивать снопы искр, будто кто бросал их горстями в тёмно-сиреневое небо.
— Дядь Коль, а побыстрей? — попросил Ганшин.
— Куда быстрее, — отозвался Николай, кутаясь в тулуп, — и так ходко тянет. — И всё же с причмоком подстегнул лошадь провисшей сбоку вожжой: — Но-о-о!
Несётся Рыжуха, свистит в ушах морозный ветер, быстрее, быстрее, срезая угол, сани задевают полозом сугроб, и вздымается за ними вихрь морозной, блещущей пыли. Эх, вскочить бы, приподняться и самому с щёлком повернуть кнут над головой! Но под тяжёлым мехом трудно даже пошевелиться, можно только забрать до отказа в лёгкие морозный воздух — сладкий, колющий, здоровый — и радоваться тому, как мчатся сани, бежит лошадь, поскрипывают полозья.
«Пока все на мёртвом часе нудились, а я покатался и волос везу», — весело думал Ганшин. Он уже воображал, как будет рассказывать ребятам про эту бешеную скачку, и как сани чуть в сугроб не закинулись, и что ехали опасной, дальней дорогой, не той, что Жаба… И, самую малость прибавив, скажет, что сам драл волос у Рыжухи, а не Николай для него, скучая ожиданьем у рентгена, вычесал… Этот волос, свалявшийся в чёрный комок, Ганшин крепко зажал в потной ладошке, когда его вносили в палату.
Но в палате едва заметили его возвращенье. С ребятами происходило что-то необычное: все подтыкались, оправляли постели.
— Ашота ждём, — объяснил Ганшину Игорь Поливанов.
Глава третья
СО СВЕТОМ

сторожней, Ашот Григорич, не дай бог, убьётесь, — говорит тётя Настя, придерживая за спинку ходящий под директором стул. — Дайте я.
Но он уже захватил одной рукой свисающий с потолка шнур, а другой ловко ввинчивал лампочку в проржавевший патрон.

В зимнем сумраке узкой палаты синеют дугами изголовья кроватей. Дрожит на тумбочке у двери слабый язычок коптилки, отражаясь плывущим оранжевым пятном на стене.
Лампа входит в патрон с неприятным скрежетом, сверху сыплется побелка, ржавая пыль… Ещё мгновенье, и Ганшин заслоняется ладонью от бьющего в глаза света.
— Ура-а-а! Горит!
И, спеша разделить затопивший его восторг, Ганшин, ещё не остывший от впечатлений улицы, оглядывается на соседей. В масляном электрическом свете лица ребят кажутся новыми, чужими.
Вот, поднявшись на локти, радостно мычит что-то чернявый Гришка. Растянув улыбку и открыв ровные мелкие зубы, ухмыляется Костя. Не мигая глядит прямо на лампу под потолком головастик Зацепа. Прикрыл ладошкой глаза Игорь Поливанов. И Жаба вертит круглой, стриженой головой из стороны в сторону, спасаясь от слепящего голого света.
Тяжело дыша, директор боком слезает со стула.
— Вот вам, разбойники… Мой подарок к ёлке. Сорок свечей, не жук на палочку напакостил. Ашот Григорич обещал, значит, сделает. Моё слово — кирпич. Чур, уговор теперь, лежать по струнке, персонала слушаться, а то мигом перевинчу в третью палату.
И, передёрнув широкими плечами, на которые накинут белый халат, он уходит, а нянька волочит за ним стул.
Вот когда наступает для ребят
своя минута.
— Братцы, свет!
И палата оглашается ликующим воем. Колотят по койкам руками, бросают к потолку подушки. Выбиваются и взлетают туго заправленные одеяла… Весёлый, разноголосый рёв сотрясает стены, пока не выплеснется до дна и не наступит отрезвляющий миг тишины. Что бы ещё придумать?
— Гаси коптилку, — догадывается Поливанов.
— Жаба, двигай, — командует Костя.
И, оттолкнувшись насколько хватает сил от койки соседа, а потом раскачивая кровать на колёсиках согласными движениями рук и тела, Жаба мелкими толчками подбирается к тумбочке у входа.
Блёклый, ненужный теперь язычок пламени… Жаба что есть мочи дует на него, и он, пометавшись, гаснет, оставляя чадящую струйку. Новый победный крик шести мальчишеских глоток.
«Директор сказал, сорок свечей, — летит в празднично гудящей голове Ганшина. — Значит, сорок свечек можно поставить по стенам, у каждой стены по десять, так в палате светло. А ведь коптилка темней свечки, темней одной свечки…» И вспомнился ему дом, витые жёлтые свечи на пианино, с двух сторон от пюпитра. Мама зажигала их по праздникам до войны. И вдруг где-то далеко, как за натянутой простынёй, заиграло фортепиано — и смолкло… «Какой всё же Ашот добрый, небось Евга ему вечно на нас пылит, а он нам лампочку притаранил. У малышей и у девчонок в третьей палате тоже коптилки. И все нас ругают — седьмая палата, седьмая палата, а выходит, он нас любит».
Тем временем Жаба, распалившись, уже вытягивал из коптилки её кручёный, утопленный в масле хвост и собирался швырнуть его на пол. Костя вовремя остерёг его. Сейчас лучше не заводить взрослых, а то скажут Ашоту, раскричится, отдаст свет девчонкам.
По правде сказать, Ганшину даже жаль коптилки. Ведь первые дни жили вовсе без света. За ужином приносили из коридора со столика дежурной керосиновую лампу, а как кончали есть, забирали обратно.
Коптилка появилась в седьмой палате благодаря Юрке Гулю, старшему пионервожатому. Он делал их сам из старых консервных банок. «Мастер — золотые руки», — восхищалась им дежурная сестра, молодая пышнотелая Оля. Юрка отвечал на похвалы снисходительной гримасой: «Чудные эти женщины. Приходят: „Юра, коптилка сломалась“. А вся коптилка — банка, дырка и фитилёк». — «Ну уж вы скажете, Юра», — смущённо улыбалась Оля, потупляя глаза на выкате, и уходила, шурша глаженым халатом. Мужчин в Белокозихе было наперечёт, и в свои семнадцать лет Юрка остро ощущал чувство мужского превосходства.
Коптилки, которые мастерил Гуль, не хотели гореть ровно и то светили мышиным глазком, то разгорались как факел и чадили чёрной копотью, так что приходилось гасить и подрезать самодельный фитиль, прежде чем поднести спичку.
А всё-таки они горели! Света не было, но не было и тьмы, и по стенам бегали рождённые взмахами рук весёлые тени. И хотя читать с коптилкой было нельзя — да и что читать, книг наперечёт, — всё же это была победа над полной, мертвящей тьмою, которая сразу же после полдника сравнивала часы и погружала всё в какой-то бесконечный зимний полусон.
В тот первый месяц их только и спасла коптилка, да ещё Костины рассказы. Какая удача, что этот парень попал к ним в палату! Он сразу всем понравился. И не в том дело, что он старше других: ему уже полных одиннадцать, даже с половиной, и, как старшему, оставлена причёска — клочок волос надо лбом. И не в том, что из московского санатория, — свой, значит, хотя и не в Москве родился, приехал из какой-то деревни под Тамбовом. В санатории он четвёртый год, а о родных его давно не слышно. Другим пишут, изредка присылают посылки, ему ничего. Но в палате быстро его признали.
Глаза у Кости серьёзные, пристальные. В мёртвый час кого хочешь переглядит, не смигнёт ни разу. Речь неторопливая, как у взрослого, с лёгким заиканием в конце фразы. И такие штуки знает, закачаешься. В загадки играли, так он такое загадал, все только рты разинули. «От чего утка плавает?» А кто её знает, отчего? Лапки с перепонками? Или крылышками под водой машет. «От берега, олухи, — сказал, выждав время и дав им помучиться, Костя. — А когда человек бывает деревом?» И снова все молчали, как дураки. «Эх, вы… Когда он со сна». А потом заставил всю палату целый день искать три слова, кончающиеся на «зо». Ну, первое Севка легко отгадал: «железо». Второе к вечеру подсказал сам Костя, сжалившись над их недогадливостью и похлопав Гришку по
животу, — «пузо». А третьего так и не сказал, до сих пор никто не знает. Да это ли одно? От него Ганшин узнал, что такое «вечный шах», как стреляет автомат «ТТ» и отчего бывают дети. Ну, о детях Костя, может, и заливал, хотя Ганшин и раньше слышал что-то похожее от Желтухина из третьего отделения. Наверное, по-разному бывает. Не может быть, чтобы его папа и мама занимались такими глупостями. А ведь отчего-то он у них есть? Эх, думать — голову сломаешь. А всё равно, как Костя об этом рассказывает — и стыдно, и интересно…
Костя ещё всех чем купил? Вроде не такой он и сильный, а почему-то всё может. Ганшин бы у него запросто руку перетянул, но Костя и пробовать не стал — вот ещё, детские игры. Самый сильный в палате Гришка Фесенко — Костя это первый определил. Он и ребятам сказал, когда заспорили, кто сильнее: «Заткнитесь. Гришка самый сильный». И потом заставил его сгибать и разгибать руку в локте, так чтобы перекатывался бицепс, сам пощупал и сказал: «Ого!»
Может, потому Гришка и стал ему служить? Он парень смирный, туповатый, ни рассказать ничего интересного не может, ни шуток не понимает. Мычит только добродушно: «Га, Костя…» Редко-редко вспоминает он Украину, дорогу под вётлами, тихую реку с песчаным плёсом собаку Бульбу, но рассказать толком не может. А вид имеет внушительный — большие тёмные глаза, чёрные волосы ёжиком, особенно когда грозно поднимается на локтях, чтобы припугнуть кого-то. С первого дня он с Костей неразлучен. Хотя Ганшину и чудно, чего Костя в нём нашёл? С Гришкой рядом лежать — как с тумбочкой, ни поговорить, ни поспорить.
В тот вечер, когда Костя начал рассказывать «Трёх мушкетёров», с ним рядом лежали Гришка и Игорь Поливанов, а уж Ганшин через койку. Книгу о мушкетёрах никто, кроме Кости, в палате не читал, хоть и были наслышаны о ней — она ходила у мальчиков старшего отделения, — и так обольстительно, таинственно и взросло звучало само её название!
Память Кости оказалась невероятной: он шпарил наизусть целыми страницами и, слегка заикаясь, воспроизводил диалоги. Так что когда Ганшин года два спустя прочёл книгу сам, то был разочарован: у Кости получалось лучше. Ах, если бы кто знал, что делалось с их душами в этом жидком свете коптилки! С расширенными глазами, полуоткрытым ртом, слушал Ганшин, как напутствовал д’Артаньяна его отец, как с письмом к капитану мушкетёров де Тревилю и матушкиным бальзамом в кармане он держал путь к воротам Парижа, как познакомился с Атосом, толкнув его в больное плечо, и как вступил в стычку с гвардейцами кардинала… Костя совершенно точно помнил, где кончается одна глава и начинается другая. Сделав внушительную паузу, он объявлял: «Конец седьмой г-главы. Восьмую — завтра, после ужина».
Ганшин готов был отдать всё, чтобы только слушать этот негромкий, с заиканиями голос и наслаждаться похождениями толстяка и хвастуна Портоса с его роскошной перевязью через плечо, красавца и женолюба Арамиса, благородного и холодноватого Атоса и самого д’Артаньяна, этого задиру и храбреца, с его верным слугой Планше. Как восхитительно звучали в Костиных устах разящие наповал фразы: «Хоть я приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам». Или: «Меня вы найдёте, не гоняясь за мной…» Или ещё: «Я не позволю вам смеяться, когда я этого не желаю». Из-за каждой реплики, как из-под плаща, торчал кончик обнажённой шпаги.
«Костя, Костя, — молили все, — ну, ещё главку, ну, ещё полглавки…»
Что за дураки, право, все они были, когда первые тёмные вечера орали песни хором, какие в голову придут: «Степь да степь кругом» или «Три танкиста». Костя не пел. Не потому не пел, что у него слуха не было. Просто он всё это презирал. И правильно. А как он посмеялся тогда над ними, когда, устав от игры в города («Анапа… Алупка… Анкара…» — что там ещё на «А» осталось?), кто-то предложил играть в цветы: «Все цветы мне надоели, кроме… розы». «В это девчонки в детском саду играют», — сказал он, презрительно сморщив нос, и всем стало неловко, игра оборвалась.
Да, тогда ещё не знали, как он умеет рассказывать! Первый же вечер с мушкетёрами всё переломил. Один Поливанов было закочевряжился. «А я тоже читал…» — вдруг не к месту объявил он. «Что читал? Что ты читал?» — накинулись ребята. «Ну эту, как её, „Тимура и его команду“». Даже Жаба засмеялся: «Подумаешь, ты ещё „Айболита“ скажи». И Поливанов сконфуженно замолчал.
День тянулся теперь пустой, бессмысленный, но наступал блаженный час вечера, и мушкетёры снова дрались на шпагах, представлялись королю, пировали в трактире, небрежно бросали на стол кошельки с луидорами, участвовали в таинственной интриге с миледи… Что там говорить, Ганшин был порабощён, завоёван Костей. Он смотрел на него восхищёнными, полными изумления глазами, готов был исполнить любое его желание, мечтал безотлучно быть при нём, как Планше у д’Артаньяпа.
Но роль Планше, по-видимому, уже была занята Гришкой, а сам Костя больше хотел казаться Атосом — насмешливым, недоступным, холодным, презирающим женщин, равнодушным к любому проявлению чувства. В порыве нежности Ганшин назвал его как-то «Костенька». Тот посмотрел на него удивлённо немигающим взглядом белёсых голубых глаз и сказал коротко: «Ты что, баба?»
В третий вечер Костю уже заранее упрашивали рассказывать подольше. Но то ли скучно ему стало, то ли не в настроении он был, только долго не соглашался начать и смягчился, лишь когда условились: по два щелбана за главу. Значит, если пять глав Костя расскажет, по десять щелчков каждому имеет право влепить.
Щелбаны были в палате расхожей монетой — на них спорили, их проигрывали, продавали. Костя не требовал платы немедленно, только вёл учёт доходам, и они росли с каждым вечером. Рассказывал же он всё менее охотно.
А тут Игорь Поливанов отколол номер. Ни с того, ни с сего подрался с Костей. Сам же накануне подарил ему полсерии «Авиапочты», привезённой ещё из Москвы. Марки эти всем нравились и считались редкими. Ну и что? Подарил и подарил. А Костя предложил ему простить 20 щелбанов за остальную часть серии, с самолётом «Максим Горький», да ещё отдавал «боевые эпизоды». У Кости ведь прежде ничего не было — ни открыток, ни марок, одни «боевые эпизоды».
Кажется, ещё в дороге он завёл себе папку — твёрдую обложку от общей тетради, куда собирал вырезки из газет. Старые газеты попадали к ребятам часто, и пока все ушами хлопали, он попросил у сестры ножницы и настриг множество статеек. Дороже всего шли в палате «боевые эпизоды», корреспонденции из Н-ской части действующей армии. Ценились и портреты героев-лётчиков Сафонова и Гастелло, карикатуры на Геббельса, а на обмен шла мелочь: телеграммы ТАСС о планах союзников, заметки об очередных свинских мероприятиях имперского ведомства пропаганды. За вырезки Костя установил недавно твёрдую таксу: он обменивал их на марки, на открытки с видами метро, Дворца Советов, а также картинами передвижников. И теперь ему очень хотелось иметь всю поливановскую «Авиапочту», а главное, длинную коричневую марку с «Максимом Горьким».
Но Игорь вдруг упёрся, Костя настаивал, Игорь отдавать не хотел. И, видя, что ничего не получится, Костя решил истратить десять законных щелбанов. Бил он их крепко, как следует, с сальцем, с оттяжечкой. А Игорь неведомо почему обиделся, стал кричать, что Костя бьёт нечестно, ударил его по руке. «Ах, так?» Костя достал из-под головы тощую волосяную подушечку и шмякнул Игорю по макушке. Игорь выхватил подушку и запустил её в угол, откуда не достанешь.
Ребята закричали возмущённо: это было не по правилам. Но тут внесли ужин. Костя часто замигал своими бесцветными ресницами и, внезапно что-то решив, сказал Игорю спокойно, слегка наморщив лоб: «Я научу тебя вести себя… Увидишь, что будет после ужина: — И, обращаясь к остальным, объяснил ледяным тоном Атоса: — Я должен рассчитаться с ним».
Поужинали. Няня собрала по постелям и унесла грязные миски. Все уж успели забыть об этой истории, и Игорь Поливанов беспечно обсуждал с Ганшиным, сколько пушек на «мессершмитте», когда Костя, незаметно подвинувшись на постели к самому краю, ударил Игоря кулаком по лицу. Игорь заорал, как ненормальный, кровь хлынула у него из носу, и он стал молотить руками по чём попало. Тем временем Костя уже отодвинулся от него и изобретательно защищался локтем. Ослеплённый яростью, Игорь не смотрел, куда бил, и больно попадал по железной планке кровати.
Все побросали свои занятия: Игорь с Костей сцепился — вот потеха! Но в палату уже влетела привлечённая криками Ольга Константиновна, маленькая суровая женщина в очках, дежурный врач, за нею бежала сестра с керосиновой лампой. Драка прекратилась. «Кто начал?» — резко бросила Ольга Константиновна, подойдя к кровати Поливанова. «Игорь начал! Он Костину подушку закинул», — закричали ребята. «Поливанов, да ты весь в крови… — ужаснулась Ольга Константиновна. — Это ты его, Костя?» — «Он сам полез», — пробурчал недовольно Костя. «А ты что скажешь, Сева?» — спросила она Ганшина.
«Ну, скажи ей, Севк, а, кто первый начал?» — сказал, всхлипывая, Игорь. Пытаясь утереться, он размазывал розовые сопли и слёзы по лицу.
Ганшин напрягся весь, и даже в сумраке заметно было, что он смутился, — так густо покраснел. «Я не видел», — едва выдавил он. «Мы видели, Игорь начал!» — заорали Гришка и Жаба. И Игоря выставили в другой ряд, к стене, а Ганшин встал теперь с Костей.
«Нехорошо, конечно, получилось с Игорем, — думал потом Ганшин. — Всё же самый старый санаторский друг». Все считали, что они не разлей вода. Поэтому Ольга тогда его и спросила. «Но ведь он правда первый полез», — утешал себя Севка.
С Игорем Ганшин дружил ещё с Сокольников, с первого дня, как Поливанова привезли в общую палату. Кто захочет с новичком стоять? И Игоря поставили между рядами. Все смотрели на широкоскулого белолицего мальчишку и ждали, чем он себя покажет? Он молчал. Стали играть в серсо. В Москве до войны была такая игра — бросали друг другу кольца и ловили их на деревянные рапиры, кто сколько нанижет. Новичок попробовал и осрамился: кольца одно за другим сыпались у него на пол и он беспомощно взмахивал рапирой, пытаясь поддеть лёгкий красный обруч. «Медведь», «жирюга», «неуклюжий» — мгновенно стала складываться и опасно затвердевать репутация новенького. «Со мной не ставьте», «Не хочу с неуклюжим», — слышалось с разных сторон. Тогда-то Ганшин с превосходством сторожила — он лежал уже почти год — сказал сестре: «Ставьте жирного ко мне». И не ошибся. Игорь знал наизусть много стихов и присказок, успел повидать такое, чего не видал Севка, был на сельскохозяйственной выставке, летал на парашюте с вышки в Парке культуры, и характер имел покладистый, лёгкий. Они подружились. И в эшелоне ехали рядом, и в Белокозихе попросились вместе, в одну палату…
«Да, нехорошо с Игорем вышло, — раздумывал Ганшин. — Он растяпа, конечно. И Костя здорово ему отомстил. „Я научу тебя вести себя“. И не подумать, что запомнил!» У Ганшина так не выходит — помедлил сдачи дать, а после уж и зла нет.
Игорь долго потом стоял один, закрывшись старым журналом «Вокруг света» — то ли перечитывал каждую строчку по десять раз, то ли так держал, и никто с ним не разговаривал. Как-то само собой вышло, что не разговаривал и Ганшин, хотя никому этого не обещал. Но вот дурашливый Жаба, забывшись, спросил что-то у Игоря, и Костя его таким взглядом смерил…
А душу Ганшина целиком захватил Костя. Ему хотелось улыбаться, как Костя, и так же морщить лоб. И он ловил себя на том, что он уже тянет слова и чуть заикается на концах фраз; он пытался освоить его магнетический, упорный взгляд и заучивал наизусть мушкетёрские фразы: «Вы звали меня, и я поспешил явиться…», «Мы будем иметь честь атаковать вас». Но в устах Ганшина они не имели, увы, и сотой доли того холодного обольстительного блеска, каким дышали эти слова с растяжечкой у Кости.
Да, это вам не ленивый Гришка, не шалый Жаба и даже не Поливанов — мямля, маменькин сынок, хоть и старый товарищ. Костя прав, что его проучил, всё же Игорь зазнался. Как он тогда некстати с «Тимуром» полез! Только неприятно, что так долго длится вся эта история; хорошо бы он скорее помирился с ребятами.
Костя простил Поливанова сам через неделю. Попросту, как ни в чём не бывало сказал вдруг: «Эй ты, квашеный нос, чего один там стоишь? Просись в наш ряд».
Накануне Игорю прислали из Москвы маленькую бандероль — открытки с портретами героев Отечественной войны, и они стали ходить из рук в руки по палате. Одну Игорь тут же проспорил Ганшину, ещё несколько променял Косте. «Кто не меняется — тот жила, а ты молодец», — сказал Костя, засовывая открытки в свой мешок. Теперь Поливанов стоял между Ганшиным и Жабой, и эти новые места утвердились в палате надолго…
«Да если вспомнить, неплохо жили и с коптилкой», — думал Ганшин. А свет над его постелью сиял настоящий, электрический, от какого давно отвыкли. Совсем как в Сокольниках.
Костя вынул из-под одеяла растрёпанный «Таинственный остров», Поливанов стал перебирать марки, разложив их на постели… «Не написать ли домой?» — подумал Ганшин.
Из мешка, висящего на спинке кровати, где хранится полотенце, он достал карандаш, четвертушку бумаги, подложил книгу, поставил её на груди и старательно вывел: «Дорогая мама! Как ты живешь? Я живу хорошо». Первые три фразы в каждом письме одинаковые, и о них не надо думать. А дальше что? «Директор подарил нашей палате лампочку…» Что-то не совсем гладко. К тому же первая строчка ровная, мелкая, вторая крупнее и вниз поехала, а дальше — совсем грязь. Ладно, письмо и до завтра подождёт. Ведь скоро ужин, потом придут гасить свет. Свет! И радость тёплой волной захлестнула Ганшина, из головы прошла по всему телу, по неподвижным ногам и растаяла где-то в кончиках пальцев. Как бы веселее провести оставшийся вечер?

Глава четвёртая
ШАРИК

о коридору гремят костыли, и в палату, приволакивая ногу в гипсовой шинке, входит Толяб, одетый во взрослую, когда-то синюю, застиранную пижаму с подвёрнутыми рукавами.
— Здорово, рёбушки! Лампочкой разжились?

Толик Белоусов, а по-санаторски Толяб, —
ходячий, он сейчас один ходячий во всём первом корпусе. Вообще говоря, счастливец, у него сущие пустяки — голеностопный сустав, а попросту ступня. Был процесс и в коленке, да ещё прежде затих.
Поставили Толика незадолго перед войной, но пока он учился ходить, началась эвакуация. Приехать за ним не успели. А он так ждал тогда выписки, да и правило в Сокольниках было: два месяца на костылях — и домой. Эх, о чём говорить.
Родом Толик из Иванова, мать на ткацкой фабрике работает, отца призвали в армию, осталась на руках матери младшая сестрёнка — куда ей ещё брать костыльника-сына? От матери Толик получил сюда одно только письмо-треугольник: она рада была, что Толик в Сибири, куда все эвакуированные едут, в тепле, в сухе, в безопасности от налётов, что его кормят бесплатно и держат под присмотром врачей. Чего ещё желать? Так Толик и остался ходячим при санатории.
А Толябом его вот отчего прозвали. На вытершихся овечьих шкурах, которые в санатории зовут
мехами— ими укрывают ребят в морозные ночи и когда на улицу вывозят, — на этих мехах пришиты метки с фамилиями владельцев. Обычно у всех фамилия написана, а на его меху почему-то: «Толя Б.». Кто-то заметил, посмеялся, и пошло: Толяб да Толяб.
В седьмой палате Толяба любят за добрый нрав, широкую улыбку и важные для ребят услуги. Вот и сейчас он явился не пустой, да забыл, с чем пришёл. Остановился, задрал голову и, улыбаясь во весь рот, стал глазеть на новую лампочку.
— Рот до ушей, хоть завязочки пришей, — поддразнила его ширявшая щёткой под кроватями тётя Настя.
Но ни капли не обиделся он на её слова и только пуще растянул губы.
Да и как ему не улыбаться? Мечта всех ребят — хоть на день, хоть на час поменяться с ним местами. Легко сказать — ходячий. А ходячий может любую вещь подать с подоконника, достать со шкафа и с пола поднять. Его можно попросить принести кружку воды из титана, стянуть «Пионерку» в учительской, раздобыть пару спичек. Он запросто разговаривает с ребятами из старшего отделения, все санаторские новости узнаёт первым. Он может подкинуть записку приятелю в изолятор или даже поговорить с ним из-за двери. Да мало ли что ещё может ходячий? Его счастью даже не пытаются завидовать.
Между полдником и ужином Толяб не сидит на месте, а курсирует из палаты в палату — меняться. Стоит плоской его фигуре на расставленных костылях появиться в дверях, и ребята бросают все дела. Глаза их магнитом притягивает к облезлой шахматной коробке, которую Толяб прижимает к костылю правой рукой; что-то погромыхивает и перекатывается в ней при каждом его шаге.
Неизвестно, где подобрал он, приспособив для своего промысла, эту доску с дырочками из-под дорожных шахмат. Прислонив костыли в стене и сев боком на чужую кровать, Толик бережно открывает её, и, бог мой, что предстаёт тогда взору! Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть!
В груде ломаных спичек, спутанных ниток и разного мелкого сора лежат: стеклянная пробка от флакона духов, почти новый ластик, пилочка для ногтей, три белых пешки и чёрный конь, полдюжины оловянных солдатиков и среди них знаменосец, такой облезлый, что уже трудно угадать былой цвет его знамени; несколько карандашных огрызков, чиненных с двух концов, — простой, «Конструктор», и цветные — фабрики Сакко и Ванцетти. А кроме того — особо ценный, хоть и невзрачный с виду, чернильный карандаш, жестяная пряжка, красноармейская пуговица со звездой, катушка из-под ниток, высушенная бабочка «павлиний глаз», кусок изоляционной ленты и, наконец, прекрасная, с таинственным чёрно-серебряным нутром сгоревшая радиолампа. Что за удовольствие разглядывать и перебирать всё это добро под добродушное ворчание Толика: «Не лапай, не купил!»
На этот раз в коробке была новинка. Из особой тряпочки Толяб извлёк какую-то маленькую блестящую штуковину. Меж двух стальных ободков сидели, прижавшись друг к другу, как горошины в стручке, несколько крохотных, сиявших своими бочками шариков, — даже смотреть на них было весело. Захватив кружок посерёдке большим и указательным пальцами, Толяб крутанул правой ладошкой обод, раздалось тихое жужжание, шарики слились в одно сверкающее колесо. Ребята замерли.
— Шарик, — сказал Толик ласково, растянув улыбку, и пояснил для непонятливых: — Шарикоподшипник.
Ганшин махнул ему, приглашая к себе, и Толяб расположился прежде на его постели. Но Костя, приподнявшись на локтях, произнёс повелительно: «Толик, ко мне», и Толяб захлопнул доску с дырочками перед носом Ганшина. Он подхватил костыли и запрыгал к Костькиной постели. Костя долго и жадно крутил шарикоподшипник, потом копался в Толиковой коробке и вдруг ни с того ни с сего спросил:
— А сверла у тебя нет?
— Нет, — ответил Толик.
— А вроде было.
— Было да сплыло. Во второй палате на двух солдатиков и свинчатку сменял.
— Ну и дурак, я бы лучше поменялся.
— А что бы дал?
— Не твоё дело, — сказал Костя и взялся за книгу, давая понять, что разговор окончен. Он знал, что шарик ему не по карману.
— Толик, дай посмотреть. Толик, покажь, — неслось со всех кроватей.
Толяб открыл свой короб перед Гришкой, дал подержать шарик Зацепе, потом проковылял к Жабе и, наконец, снова очутился у ганшинской койки.
Щёки Ганшина пылали. Как только шарик оказался в его руках, его стало томить неудержимое желание во что бы то ни стало выменять его. Но с той единственной вещью, какой он мог прельстить Толяба, слишком трудно было расстаться.
Трёхцветный карандаш Ганшина знала вся палата. Снаружи карандаш сиял цветной радугой, а внутри по всей длине грифеля шли в нём синяя, красная и жёлтая полоски, так что довольно было лёгкого поворота в руке, и линия одного цвета незаметно переходила в другой. А как чудесно пахла по свежей очинке его розоватая древесина!
Карандаш был, понятно, московский, подаренный на прощанье дедом Серёжей в их последнюю встречу в Сокольниках. Всё, что вёз с собою Ганшин из Москвы, мало-помалу растерялось, переломалось и исчезло по дороге, а карандаш каким-то чудом остался. Ганшин берёг его, точил экономно, не давал никому, а с некоторых пор и сам вынимал лишь в редчайших случаях.
Случалось, Изабелла Витальевна, затеяв с ребятами рисовать, говорила, раздав клочки бумаги:
«Ганшин, а ну-ка дай Жабину свой карандаш подсинить море».
И Ганшин, вздохнув, лез на самое дно сумки, привязанной к спинке кровати, и из-под скомканного полотенца вынимал свою драгоценность.
Но теперь ему до смерти захотелось иметь подшипник, так что даже и карандаша не жаль было.
— Давай меняться, — решился он наконец. — Ты мне шарик, а я тебе мой карандаш. (Что такое
его карандаш, объяснять было лишнее.)
— Покажь, — согласился Толяб с миной полного равнодушия. Небрежно повертел карандаш в руках и засунул в отвислый карман пижамы. — Сойдёт. А ещё что?
— Как ещё? — возмутился Ганшин. — Да другого такого и в Москве не достанешь. Если хочешь знать, дедушке его на выставке подарили… это на образец. Таких, может, всего сто штук сделали. Наркомовский карандаш. — Ганшин готов был зареветь с досады и оттого незаметно для себя начал привирать. — Это ты должен мне придачу! — крикнул он Толику.
— Как бы не так, — сказал Толяб, угрожая опустить подшипник в свой бездонный карман. — Не пойдёт. Гони приплату. Беру карандаш и… и ещё что-нибудь.
Что именно, он не успел придумать. Все знали, что жадным Толяб не был. В прошлый раз, например, он променял Гришке целёхонький спичечный коробок с засушенным жуком на такое барахло, как ножка сломанного циркуля. Но меняла должен меняться, и сейчас по всему было видно, что он не уйдёт, не совершив сделки. Ганшин предложил было конский волос, но Толяб поднял его на смех.
— Карандаш и десять колоний с зубчиками, — твёрдо произнёс он.
— Держи карман шире, — обиженно возразил Ганшин, но, помедлив, полез в сумку.
Он вытащил конверт с марками и, выбирая экземпляры поплоше, заляпанные штемпелями и с порванным краем, отложил на одеяле десять штук. Марок жаль, но отступиться от шарика уже не было сил.
— Хоть бы одну французскую колонию дал, жила, — вымогал Толик.
— Так и быть… — И, опасаясь, как бы Толяб не передумал, Ганшин прибавил к отложенной кучке марок треугольный Камерун.
С широкой, добродушной улыбкой Толик сгрёб марки. Теперь шарик поступал в безраздельную собственность Ганшина. Пять пар глаз ревниво наблюдали исподтишка за этой сделкой.
Толяб захлопнул доску с дырочками, взял костыли и, поджав загипсованную ногу, поскакал, не попрощавшись, в другую палату — хвалиться ганшинским карандашом.
А Ганшин с упоением крутил подшипник, наслаждаясь лёгким, покорным его движением, и долго вслушивался, поднеся к самому уху, как звенит и замирает чудесный звук.
В палате кто читал, кто крутил завязки от фиксатора. Жаба просто руками мотал без дела, раскачивая кровать. Гришка выслеживал на стене сонную муху. Но Ганшин знал, что это безразличие напоказ: всех точила немая зависть.
— Дай покрутить, — не выдержал первым Гришка.
— Ишь какой умный, сам хочу, — ответил Ганшин и, смягчившись, прибавил: — Завтра буду по очереди давать.
Костя ничего не спросил, не попросил. Он делал вид, что погружён в «Таинственный остров», но глаза его равнодушно бежали по строчкам, а в ушах тихо и сладко жужжал шарик. «Ещё посмотрим, Гашка», — с неопределённой угрозой подумал он.
Принесли ужинать. Тётя Настя раздала пшёнку. С электричеством ели быстро, собрали тарелки, и ночная сестра пришла выключать свет.
Ганшин долго лежал в темноте с открытыми глазами, чувствуя согревшийся в ладони гладкий металлический кружок. Потом осторожно, чтобы не уронить на пол, просунул руку в сумку над изголовьем и положил своё сокровище в самый дальний угол.
Через минуту он спал.

Глава пятая
ЭКЗЕКУЦИЯ

ет хуже, как проснуться среди ночи. Если болит, то кажется, болит раз в пять сильнее, чем днём. А-а, эта подлая боль — тянущая, далёкая, сладкая, настораживающая, — она идёт от колена к бедру и замирает где-то в суставе. Напряжение мышц — и вдруг острый, пронзительный укол, насквозь пробивающий кость, а потом опять тихое, сладкое побаливание… Боишься шевельнуться и ждёшь этого мига — спазм мышц, укол, ещё один, целая серия пронзающих ударов… И снова отпустило, надолго ли?

Но сейчас не болит, нет, а просто тоскливо, страшно. И время зимой не угадаешь — то ли всего час проспал, то ли утро уже. Одна полоска света падает через окно от фонаря. Наверное, снегом его залепило, еле видно сейчас, и только по белёной печи ходят отражённые тени, качаются.
А в коридор дверь приоткрыта, но там полная тьма. Лампу керосиновую, что стоит на тумбочке в коридоре, ночная сестра к себе забрала.
Если долго лежать и не спать, изо всех углов начинает лезть что-то чёрное, лохматое, крадётся под кроватями и будто чьи-то глаза молча следят за тобой. Ты шевельнёшься, и он шевельнётся… Фу-ты, это Гришка на койке повернулся. И опять тишина. Посапывают ребята. Засыпаю… Засыпаю… Шрк, шрк, шрк… Что это? Ганшин чуть приподымает голову над подушкой. А вдруг кто под Костину кровать забрался и сидит там, караулит? От одной этой мысли сразу сон пропал. Разбудить, что ли, Игоря?
Ганшин нарочно стукнул рукой по спинке кровати. Скрежет прекратился. Потом опять зашуршало и зацарапалось что-то внизу. Шрк… шрк… «Крыса, наверное», — догадался Ганшин и выдохнул с облегчением. Мерзость, конечно, но крыс в палате не боялись. Это девчонки визжат, как увидят. А ребята нет. На прошлой неделе гоняли одну по углам, били подушками, плётками, Жаба шахматную доску в неё запустил — как ошпаренная в коридор вылетела… Затихло вроде. Может, и не крыса, просто кошка под полом ходит.
Вдруг пахнуло сквозняком, стало тоненько подсвистывать что-то, и тёмная дверь в коридор сама закачалась, заходила… Неприятно всё же. «А вдруг на санаторий нападут? — спросил кто-то беспокойно внутри у Ганшина. — А зачем? — рассудительно возразил ему Ганшин. — А так просто, ребят поубивать. На селе вон, Маруля говорила, мужик трёх человек топором изрубил и в сугроб закопал, а зачем, так и не допытались…»
Но это было уже слишком — сон пропал. «Баба, дурак, — попробовал пристыдить себя Ганшин, — узнал бы Костя, по головке не погладил». Спать, спать, спать… Вспомнить про что-нибудь хорошее — про шарик или как на Рыжухе ездил — и спать. Говорят, если считать до ста, только медленно-медленно, верное дело уснёшь. «Раз… два… три …надцать… четырнадцать, пятнадцать…» И, положив голову набок, а правой рукою зажав ухо, Ганшин стал засыпать. Уже сквозь сон он слышал, как кто-то рядом звал няню, но не открыл глаза, а только подумал, довольный: «Я сплю».
Няню звал Зацепа. Он проснулся в полной тьме от неприятной тяжести и шевеления в животе, понял, что ему нужно судно, и испугался. Будить ребят? Кричать няню? Позор, позор! Он ещё пробовал уговорить себя потерпеть, не думать об этом, может, отпустит. Но внизу живота что-то бурчало, сжималось, ворочалось глухо и требовало немедленного выхода наружу.
— Няня! — по-цыплячьи, будто пробуя голос, позвал Зацепа.
Зов его странно прозвучал в мёртвой тишине палаты и, обежав спящие углы, даже не вышел в коридор. Только засопел и повернулся на своей койке Севка Ганшин. Зацепа решил было ещё терпеть, но схватывало всё резче, неотвратимее.
— Няня! — снова вскрикнул он негромко и жалобно, всё ещё робея и боясь разбудить ребят.
Но мёртво было в коридоре. Не шаркали издали валенки, не гремело эмалированное судно, не носилась светлая тень от трёхлинейной лампы.
— Няня, няня! — кричал он, уже не стыдясь, в голос. Капли холодного пота выступили у Зацепы на лбу.
Зашевелился Костя и сказал спросонья:
— Орёшь, как дурак.
Но Зацепе было уже всё равно.
А нянька не шла. Она, наверное, поднялась на второй этаж, в старшее отделение, и не могла там его услышать.
Зацепа ещё позвал её надрывно, визгливо — и вдруг смолк. Из него неудержимо хлынуло прямо в пелёнку, постеленную в гипсовой кроватке, и он замер в ужасе, с колотящимся сердцем. Всё. Больше он не кричал, а лишь высвобождал из-под себя пелёнку, стараясь не запачкать простыню.
Он не заснул уже до утра, поминутно воображая, как явится дневная смена, тётя Настя войдёт с утками, сбросит с него одеяло. И все станут смеяться над ним, и сестра будет ругать, что не позвал вовремя, и, может быть, скажут на пятиминутке, что за ночь ничего существенного не произошло, но такое, мол, неприятное происшествие: Зацепин, которого только что перевели в седьмую палату,
обложился.
Он дождался звонка и, когда заспанная нянька, щёлкнув выключателем и сама щурясь от электрического света, подошла к его постели, потянул её за рукав.
— Вот, — сказал Зацепа, бледный, с несчастной, гадкой улыбкой, — возьмите, — и протянул из-под одеяла тяжёлый мокрый узелок.
То-то было потехи до завтрака: Геббельс обложился! Жаба показывал, кривляясь, как тот тужится. Костя говорил, что Зацепа не дал ему спать. И Ганшин не удержался и под общий смех изобразил, как Зацепа орал, будто чокнутый.
— Эй вы, дураки, — вдруг как сорвался новенький. — Я посмотрю на вас, как ваш Костя обо…ся.
В первую минуту все точно онемели.
— Что-о? — только и спросил Костя.
— Обзывается, — заёрзал Жаба. — Наказать, наказать Геббельса!
— Придётся наказать, — холодно подтвердил Костя, а Гришка уже вытягивал из-под матраса ловко упрятанную там плётку.
Плётки эти — последнее увлечение седьмой палаты. Забыли уж, кто первый научил вытаскивать твёрдую кручёную нитку из ленты подножников и сплетать её в три хвостика косицей. Косиц надо наделать несколько и из каждых трёх — косу потолще. Потом к короткой палке-кнутовищу прикрепить — вот и плётка.
Лучшая плётка была у Гришки. Хлопнешь в воздухе, как выстрелит. Кто смотрел «Последний табор»? Там на плётках до полусмерти бились. В палате-то ими стегались больше в шутку, дурачась, но вот и для дела пригодилась.
Костя распорядился: Жабе прикрыть ногой дверь и стоять на шухере, Гришке — начинать… Тётя Настя с Евгенией Францевной возились на процедуре в девчачьей палате, и всё тихо было.
Оттолкнувшись от стены сильными руками, Гришка выехал из ряда, и над спинками кроватей с посвистом и красивым щелчком в конце пролетел первый удар кнута. Зацепа дёрнулся, закрыл голову руками, но плётка не доставала.
— Кати его ближе, ребята. Ганшин, помоги, — приказал Костя.
В первую минуту Ганшину стало жаль новенького: его беспомощности, головёнки с шишками, замазанными зелёнкой. Но стыд перед Костей спас его: не хватало нюни распустить из-за Геббельса. Да и Зацепа был так ничтожен, так тонко пищал и неумело защищался, что чувство гадливости к нему заглушило жалость, и Ганшин стал помогать Жабе вытащить кровать новенького на середину.
Кнут засвистел снова. Гришка бил ровно, методично. Зацепа неловко закрывался, взвизгивал, когда Гришка попадал по рукам. Он с головой забился под одеяло, но плётка доставала и там, больно просекая нетолстую ткань.
Крики Зацепы подогревали Гришку. Он уже играл с ним под хохот палаты. Щёлкал бичом в воздухе с оттяжкой, говорил: «Ну, будет», и едва Зацепа решал, что беда миновала, и вылезал из-под одеяла, Гришка врезал ему смаху по рукам-палочкам, по уродливой, в пятнах зелёнки, голове, по чему попало.
— Проси пощады, — спокойно и веско сказал Костя.
Руки Зацепы покрылись красными вздувшимися полосками, сбоку лба был заметен розовый кровоподтёк, а он всё не сдавался.
— Атанда, — задушенным голосом вдруг крикнул Жаба. И мгновенно сильным движением рук Гришка вернул свою кровать на место и стал быстро сматывать плётку.
Тётя Настя вошла со шваброй, с которой текла вонючая хлорка, и остановилась в дверях.
— Что это у вас, ребятушки, будто Мамай прошёл, — сказала она громко и нараспев. (Значит, не заметила.)
— А мы немножко… играли, — фальшиво протянул Жаба.
И тут её взгляд упал на Зацепу. Одеяло у него сбилось, открыв голые тощие ноги, простыня свисала до полу, а кровать, которую она сама недавно аккуратно придвинула к стене, стояла как-то боком, отъехав от печки.
— Вот так новенький, — изумилась тётя Настя. — Только привезли на место — ночью обложился, а днём фулюганит. Вы проучите его, ребята. Так нельзя.
— Вот мы и учили, тётя Настя. А он — Гебус и всё врёт, — обрадовался Жаба.
— Они, они… — захлебнулся слезами Зацепа и больше ничего не сумел сказать.
— Ну, ты что, дурачок, — сжалилась над ним тётя Настя. — Давай я тебя на место поставлю. И кто так тебя изукрасил? То зелёный, то красный, ровно семафор.
Костя уткнулся в книгу, Гришка отвернулся к балконной двери (кнут был надёжно упрятан под матрац) и делал вид, что рассматривает узор на стекле.
— Он сам, — крикнул Жаба.
— Я сам, — еле слышно согласился Зацепа.
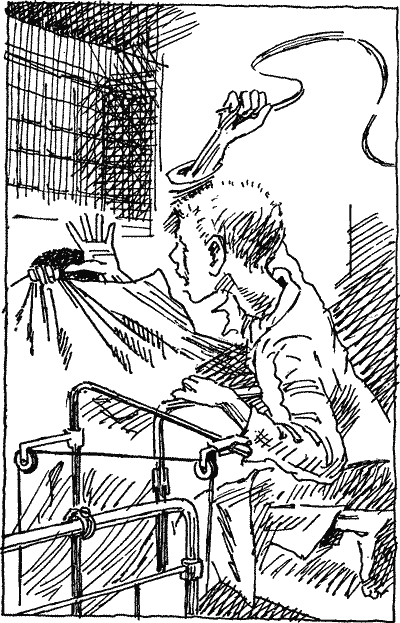
Глава шестая
УРОК ИСПАНСКОГО

естра Оля, молодая, белолицая, дежурила с няней Марулей, то ли мордовкой, то ли татаркой. В её дежурство процедуры после завтрака — тряска постелей, перекладывание в гипсовой кроватке, посыпание спины тальком, чтобы пролежней, упаси бог, не завелось, — проходили быстрее, незаметнее. «Ну ты, чурбачок, поворачивайся», — скажет, бывало, Оля добродушно и по спине пришлёпнет. Не то что Евга — стоит-стоит над тобой минут пятнадцать, сбросив одеяло и простыню, и всякую завязку общупает, каждую складочку разгладит, пока не спохватится, что в палате холодно. А у Ганшина уж мурашки по всему телу.

Оля ходила всегда в чистом халате и крахмальной косынке, легко на всех обижалась, нервничала, и нянька Маруля, мешая русские слова с незнакомыми, объясняла это так, что она мечтает о мужчинах. За ней недавно ухаживал один раненый лейтенант, вышедший из госпиталя, но ничего из этого не получилось. Может быть, потому, что она перестарок, двадцать шесть уже. «Любовь — это не шутка-утка, — говорила, посмеиваясь себе под нос, Маруля. — А вообще бакши — хороший девка».
Последнее время заметно было, что к Оле неравнодушен и даже
заигрывает пионервожатый Юрка Гуль. Заходя в палату, он пытался приобнять её, а она сердилась и била его по рукам. И круглое, белое лицо её с удивлённым выражением бараньих глаз освещалось смущённой улыбкой.
Оля переворачивала Жабина, когда в палату вошла с книгами под мышкой, в накинутой на плечи шубейке Зоя Николаевна. Ганшин знал её ещё с Москвы, она учила географии и немецкому старших мальчиков. В эвакуации же её ставили и дежурным воспитателем.
Немолодая, сухощавая, вечно в одном и том же коричневом платье, свисавшем чуть не до полу под медицинским халатом, Зоя Николаевна, это знали все, была мягка и незлобива. Когда её сердили, она огорчалась, начинала беспомощно трясти пепельно-седым пучком волос и шепелявить больше обычного: «Разве так можно себя вести? Вы хулиганничаете. Это, это…» — и захлебывалась в негодовании. Наказать она не могла, даже отчитать толком не умела, зато знала много интересного. Рассказывала о капитане Куке, о плаванье Лаперуза, и слушали её, как сказку.
Сочувствие ребят вызывала она ещё и своей бедой, о которой говорили шёпотом. На войне с белофиннами убили её единственного сына. Он пошёл на фронт, едва кончив институт.
Ганшин навсегда запомнил один странный вечер по пути в эвакуацию, на какой-то террасе, где они лежали во Владимире. Была морозная ночь последних дней октября, с инеем на пожухлой траве. Только что объявили отбой воздушной тревоги. Ни огонька вокруг: в городских домах плотно спущены чёрные бумажные шторы, завешены одеялами окна главного корпуса. И как-то особенно ярко сверкали в холодной ночи звёзды. Кутаясь в шубейку с драной лисой, Зоя Николаевна сидела на краешке его постели и учила, как найти созвездие Кассиопеи: «Ну, куда же ты глядишь? Во-он, такая яркая звёздочка, и возьми чуть левее — вторая. А потом вниз, и от неё снова вверх». И вдруг он увидел над откосом перевёрнутую и растянутую букву «М», и удивился, как не замечал её прежде.
Молчание этой ночи навевало чувство страха и покинутости, одиночества в бесконечных чёрных пространствах. Сердце его колотилось. Он спросил Зою Николаевну, есть ли жизнь на звёздах. Она стала объяснять. И вдруг сказала: «Я верю, что и Витя где-то там». Витя был её убитый сын. «Зоя Николаевна, разве мы не умрём?» — спросил Ганшин с колотившимся сердцем. Этот вопрос тайно мучил его, временами уходя и снова прокалывая острым испугом, ещё с московского изолятора, где он, впервые оставшись совсем один, недвижимый, в своём глухом гипсе, трое суток проплакал по дому, по маме, неведомо зачем покинувшей его и отдавшей в больницу, и вдруг испугался смерти. «Кто как верит… Я верю в бессмертие души, — сказала Зоя Николаевна и отвернулась. — Ну, это, может быть, неправильно, Сева, — тут же спохватилась она. — Наука говорит нам…»
Но было поздно: её слова засели в голове Ганшина и ещё недавно, в знак особого доверия, он поделился ими с Костей. «Ну и что? Барахло всё это. А ты поверил? Просто, значит, она монашка, в бога верует». Ганшин смутился. Он и сам немного подозревал, что Зоя Николаевна заливает, и испытал от слов Кости чувство освобождения.
Теперь Зоя Николаевна стояла у печки рядом с постелью Зацепы и ждала, когда станет тихо. Ребята замолчали. Лицо её приняло непривычно строгое выражение и, не подымая глаз от пола, как это случалось с ней, когда она была чем-то поглощена, объявила:
— Наконец, ребята, мы начинаем нормальные школьные занятия. Будем стараться подтянуть всех к программе четвёртого класса. Вы должны напрячь свою волю, собраться, чтобы с самого начала ничего не пропустить. Четвёртый класс такой ответственный! Сейчас я проверю вас по арифметике, а потом, если успеем, обсудим, как быть с иностранным языком.
Лица ребят внимательные, любопытствующие. Уроки, школа всё это было «до войны», чудесный, утраченный мир. Забыто, как скучали, бывало, на уроках, как томились над домашними заданиями, и будничные слова Зои Николаевны звучат сейчас праздником. Да ещё обещан иностранный язык! Это пахнет чем-то взрослым, неизведанным.
Но начала Зоя Николаевна со скукоты: стала спрашивать таблицу умножения, кто что помнит. Подряд знал до семи только Костя. А в разбивку и он спотыкался. Самым слабым оказался Жабин. Зоя Николаевна стала допекать его умножением на три и на четыре. Костя то и дело тянул руку.
— Успокойся, Митрохин, я знаю, что ты это знаешь, — сказала Зоя Николаевна. — Ведь тебе бы можно даже в пятом классе быть, но у нас нет такой возможности. А других надо подогнать.
Костя огорчился, повернулся к Гришке и стал дёргать завязку от его фиксатора.
Ганшин и Поливанов тоже не отличились в разбивку. Всем скоро это наскучило, Зацепа стал подбрасывать к потолку скомканный бумажный шарик, но тут Зоя Николаевна объявила перемену. А после перемены сказала:
— Вы понимаете, ребята, как важно знать иностранный язык. Сейчас война, и нужны переводчики. Я знаю три языка, один из них могла бы с вами начать: немецкий, французский или испанский. Так вот, какой бы вы…
— Испанский! — закричали все, не дав ей договорить.
Какое могло быть сомнение! Валенсия, Барселона, Мадрид… Интернациональная бригада, бои под Гвадалахарой — магические слова довоенного детства, они пахли порохом. И ещё фотографии разбомблённых домов в газетах, и испанские дети, сошедшие в пионерских галстуках с трапа парохода в Одессе. Как их жалели и как завидовали их судьбе, их голубым пилоткам с кисточками, называвшимся «испанками»… Да что тут раздумывать: испанский!
Зоя Николаевна пыталась отговорить: немецкий был бы нужнее, да и учебник легче будет достать.
— И вообще язык врага надо знать лучше, чем язык друга, — на мгновение озадачила она всех. Но не поколебала.
Кто-то предложил голосовать, но и без голосования было ясно: испанскому конкурентов не будет.
Ребята размечтались, стали кричать, фантазировать, и Зою Николаевну почти не стало слышно. Игорь вспомнил, что Франко послал в подмогу немцам «голубую дивизию», значит, и испанские фашисты с нами воюют, а испанский язык редкий. Выучить его, и что же, очень может случиться, что они понадобятся в штабе переводчиками, а потом и за линию фронта, на разведку могут послать…
— Ну да, на костылях, — усомнился Гришка.
— А что, ещё лучше, никто не заподозрит, что разведчик… — сообразил Поливанов, и восторг прельстительных миражей охватил палату.
Щёки ребят пылали, блестели глаза. Они уже ясно видели себя там, в тылу у немцев, с пистолетами и гранатами на поясе, и позабыли про Зою Николаевну, которая стояла в ногах постелей, пытаясь их перекричать.
Шум улёгся понемногу, и Зоя Николаевна стала объяснять, что испанский язык похож на французский и итальянский, что у них другие, чем у нас, буквы и к словам особая приставка — артикль. Первые пять букв она тут же назвала и просила запомнить. «А» и «Е» оказались, как у нас. «В» называлась у них «Б», «С» почему-то «Ц», а «Д» вообще ни на что не похоже — полкружка с палочкой. Теперь буквы надо было написать — каждую по целой строчке.
Зоя Николаевна раздала карандаши и бумагу: заранее нарезала шесть кусков из старой газеты, чтобы каждому достались белые поля. Писали старательно, но карандаши быстро тупились, полей не хватало, а по печатным строчкам чертить — совсем грязно выходит.
Жаба попробовал писать аккуратно, подложив дощечку под газету, даже язык высунул от усердия, но на третьей букве заскучал и стал рисовать чёртика.
— Зоя Николаевна, а как по-испански «здравствуйте»? — поинтересовался он.
— Буэнос диас, — ответила она.
Отложив листки, ребята на все лады стали повторять незнакомое слово, упиваясь его странным звучанием.
— А как «до свидания»?
— Аста ля виста.
— Остановисьта, — переиначил Жаба.
— Аста ля виста, дурак, — поправил его Костя.
— Зоя Николаевна, а как «дурак» по-испански? — неожиданно подъехал Поливанов.
— А зачем тебе? Ну, «тонто», — покорно ответила Зоя Николаевна.
— Тонто, тонто, — стали на все лады смаковать ребята, поворачивая друг к другу
ехидные физиономии. — А как будет «свинья»?
— Пуэрко, — смущённо ответила Зоя Николаевна, понимая, что урок заваливается в какую-то яму, и попыталась вернуться к алфавиту. Но ребята как с цепи сорвались.
— А как будет «бандит»? А «собака»? — слышалось со всех сторон.
Зоя Николаевна отвечала безотказно, отбиваясь лишь от самых глупых вопросов и всё пытаясь перейти к делу, но не тут-то было. Восхищённые её познаниями и новизной своих открытий, ребята старались перещеголять друг друга, прицокивали языком, переглядывались победно и повторяли, как заведённые: «Тонто! Пуэрко!»
— Так мы все ругательства выучим! — ликуя, заорал Жаба.
— Ты, Вася, неумно говоришь, — оборвала его Зоя Николаевна. — Слова, даже бранные, не всегда будут ругательствами. Все зависит от того, как сказать. Можно и красивое, хорошее слово употребить как ругань. А можно сказать «дурачок ты мой» — очень ласково.
— Дурачок, дурачок, — весело загалдели ребята, пробуя, как это будет получаться.
— Свинка ты моя, — сказал Костя, обращаясь к Гришке.
Зоя Николаевна покачала головой.
— Ну, от тебя, Митрохин, я ждала больше ума.
Костя надулся и замолчал.
— И вообще, что за галдёж вы подняли, — спохватилась Зоя Николаевна. — Это же урок. Так никакого языка выучить нельзя.
Она опоздала повернуть руль и теперь тщетно сражалась с захлестнувшей её стихией.
— Вообще же, ребята, испанский язык не для того создан, — ещё пыталась объяснить она. — Это язык поэзии. Язык пламенного призыва. Послушайте: «Пролетариос де тодос лес паисес униос!» Красиво? Это лозунг: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» Или: «Но пасаран!» — «Не пройдут!» Ещё великий Ломоносов сказал: «Испанским языком — с богом говорить прилично…»
— «С богом»… — Костя ухмыльнулся и многозначительно переглянулся с Ганшиным. Ну и лепит сегодня Зоя!
Но тут урок Зои Николаевны, и так уже потонувший в нестройном гуле голосов, кончился, потому что в дверях возникла учительница литературы и истории Изабелла Витальевна. Она только что кончила первый урок у девчонок, и Зоя Николаевна пошла сменить её в третью палату, а Изабелла заняла её место у печки.
Возбуждённые голоса стихли, Изабеллу побаивались. Последнее время она считалась их палатным воспитателем, знала всех наперечёт и спуску не давала. Она была самой молодой среди учителей и казалась ребятам необыкновенно привлекательной, хотя первое впечатление было не в её пользу: Изабелла заметно сутулилась и в голосе её была неприятная надтреснутость. Но всё это забывалось вмиг. Черноволосая, с седоватой прядью, спускавшейся наискосок лба, с очень пристальными тёмными глазами и язвительной улыбкой, игравшей в углах рта, она была им вполне по нраву. Охотно рассказывала о себе, любила подсмеяться над ними, поддеть, вышутить. «Язык — бритва», — говорил о ней Юра Гуль, а Костя, и Ганшин, и Поливанов наперебой старались усвоить стиль стремительных шуток Изабеллы. Но разве ей можно было подражать?!
Бывало, она становилась спиной к печке, чуть сгорбившись, заложив руки за спину или подняв мечтательно голову, и часами рассказывала о Москве своего детства, об отце, дружившем с поэтом Брюсовым, о встрече поэтов в их доме на Собачьей площадке, о Камерном театре и спектакле «Жирофле-Жирофля» с несравненной Коонен. У Ганшина на всю жизнь сохранилось потом убеждение, что Камерный театр был лучшим театром на свете, а историю о двух сёстрах-близнецах, бант голубой, бант розовый, одну из которых накануне свадьбы похитили пираты, он мог пересказать, будто сам видел её на сцене. Изабелла любила вспоминать свои детские проделки: подсунули воробья под шляпу знакомой дамы и ждали в засаде, когда она подойдёт одеваться к вешалке. В другой раз вылили стакан поды из окна пятого этажа на голову какой-то знаменитости… Эти истории уравнивали её с ребятами, приводили в ярый восторг и заставляли ещё больше восхищаться ею.
— У, как у вас холодно, — сказала Изабелла, зябко потирая руки. — Начнём учебную зимовку. Если у вас, конечно, не окончательно застыли мозги. Впрочем, у некоторых они плавятся от лени…
Она в упор поглядела на полусонного Гришку, и улыбка скользнула у неё в углах губ. Ребята хохотнули. Изабелла входила в свою стихию.
— Писать диктант, пожалуй, руки будут мёрзнуть. А вот что: Ганшин, ты прочтёшь нам сейчас вслух небольшой рассказ, а потом мы его обсудим. Согласны, ребята?
— Согласны, — ответил за всех Костя.
Ганшин читал вслух с выражением и, наверно, лучше всех в палате. Изабелла протянула ему книжку с закладкой. Он было начал, но она прервала его:
— Сначала объяви нам имя автора и название, а то у тебя вечно получается «отрывок от Лермонтова».
Ганшин густо покраснел. Теперь он на всю жизнь знает, что надо говорить «из». Но как-то было, что он вызвался читать стихи, забыл название и сказал: «Отрывок от Лермонтова». Изабелла высмеяла его тогда и сегодня припомнила.
— Прóспер Мериме, — прочёл Ганшин, запинаясь, и взглянул на Изабеллу.
— Во-первых, Проспéр Меримé, — поправила она его, — у французов всегда ударение на последнем слоге, а во-вторых, что за каша у тебя во рту? Демосфен, чтобы научиться ораторскому искусству, каждый день тренировался на берегу моря с камешками во рту. Ты у нас, случайно, не набил рот булыжником?
Ребята прыснули, а она, осклабившись, взглянула на Ганшина, как бы вымогая ответную улыбку, и он насильственно, жалко улыбнулся ей.
— Теперь читай.
Мало-помалу все притихли. Ганшин читал о странном острове с невысокими холмами, поросшими сухим кустарником, и о том, как к одинокому дому, возле которого играл мальчик, подбежал, прячась от преследования, раненный в ногу человек; он просил укрыть его, спрятался с помощью мальчика в стогу сена, а потом по его следу пришли жандармы. Они собирались уже уходить, не найдя беглеца, когда старший из них предложил мальчику часы, если тот им поможет. И мальчик молча показал на стог. Оттуда выволокли раненого, а потом пришёл отец, узнал о случившемся, зарядил ружьё и убил своего сына.
Когда Ганшин дочитал последнюю фразу, жуткая тишина стояла в палате. Молчали долго. Изабелла сказала:
— Вот такой рассказ, ребята. Это, конечно, дикие края, Корсика, там люди рассуждают жестоко и просто. Но как бы вы поступили на месте Фортунато?
Тут все заговорили враз. Что Фортунато — предатель, это ясно, за паршивые часы выдал человека. Жаба, правда, пискнул, что ведь мальчик мечтал о таких часах, а отец ему не покупал, но все замахали на него руками, и он заткнулся.
— А отец поступил правильно, как вы думаете, что убил сына?
— Правильно, — односложно высказался Гришка, ища сочувствия в глазах Изабеллы.
— А ты как думаешь, Игорь?
— С одной стороны, правильно… — сказал Поливанов. — Но если с другой стороны…
— Запутался, — резюмировала Изабелла. — А ты как скажешь, Костя?
И все уставились на Костьку. Костя гармошкой наморщил лоб.
— Я думаю, правильно, потому что… потому что предателей надо убивать.
— Так. А ты, Ганшин, что скажешь?
— И я тоже… как Костя.
Ганшин говорил, что надо было убить Фортунато, но внутри у него всё дрожало: мальчишка стоял на краю ямы под дулом отцовского ружья, глядя в чёрный пустой кружок, из которого должна вылететь пуля. Ему представилось, что это он Фортунато и так глупо и бессмысленно попался с этими часами, которые ему до ужаса хотелось. Ну, как всё это повернуть, поправить? Шепнуть, что ли, Фортунато, чтобы он этого не делал? А если уж сделал, так ведь всё равно он так не хочет умирать и лучше было бы его простить, а уж в другой раз он ни за что бы, ни за что…
— Над этим рассказом, ребята, надо по-настоящему думать, — прервала сумятицу его мыслей Изабелла. — Сейчас идёт война с фашистами. Они убивают мирных жителей, стариков, детей, жгут наши дома, грабят и вешают, и мы должны приучить себя к беспощадности. Пособник врага — тот же враг. Легче всего представиться добреньким, всем всё прощать…
Изабелла стояла, по обыкновению, чуть ссутулившись, и глаза её под тёмными бровями, потеряв всю свою насмешливость, будто сверлили ребят, проникая в глубь души, в самые тёмные её уголки. И Ганшину стало стыдно за свой страх перед смертью, за жалость к Фортунато.
— Вы знаете, как рассчитывали фашисты на пятую колонну у нас в стране, — продолжала Изабелла, — сколько засылали к нам шпионов, вредителей, диверсантов и сколько их было разоблачено благодаря бдительности наших людей и ребят, да, ребят, простых школьников. Недавно мне рассказали, в Москве были случаи демаскировки. Кое-кто нарочно приподнимал вечером чёрные шторы, чтобы полосками света сигнализировать немецким лётчикам. А было и так, что с земли подавали знаки, представьте, обыкновенными карманными фонариками. И этих диверсантов помогли выявить и уничтожить простые советские школьники.
Изабелла разволновалась, поправила прядь волос на лбу и, глядя всё также пристально то на одного, то на другого, сказала:
— Конечно, надо различать злое намерение и случайную ошибку, но на войне слабостям не должно быть места. Подумайте ещё об этом, мы продолжим тему в следующий раз.
Третьего урока не было: вместо него прислали Юрку Гуля проводить воспитательный час. Напористый, энергичный, с прыщами на красновато-воспалённом лице, он начал с того, что предложил всем маршировать под музыку:
Кипучая, могучая,
Никем непобедимая…
Ребята махали руками, стуча по постелям, будто идут, а Юрка кричал через такт: «Левай! Левай!»
Потом скомандовал: «Вольно», снял с плеча баян, положил его на стул у двери и стал объяснять, что скоро их палату будут принимать в пионеры, но надо иметь в виду: в пионеры принимают лучших из лучших. Правило вообще-то такое, что при приёме нового товарища двое пионеров должны за него поручиться.
— У вас ручаться некому, но я как пионервожатый могу порекомендовать. Кого первым примем из вашей палаты?
— Костю, — выкрикнул Гришка.
Никто не возражал.
— Ну, Костю, — согласился Юрка, — он у вас старший по возрасту и самый сознательный. Но ведь вы все в любую минуту должны быть готовы помочь родине и отдать ей всю свою кровь, каплю за каплей.
Юрка стал вдруг серьёзен и суров. Он говорил теперь как бы не от себя, это в нём говорило что-то. И ребята прислушивались, затихнув, к звучавшему из него голосу.
Он говорил о том, как им повезло, что они родились и живут в такой счастливой и великой стране. Напомнил, как в голодном двадцатом году Ильич приезжал к ребятам на ёлку в Сокольники («как раз рядом с вашим московским санаторием») и обещал им, что они будут жить при коммунизме. Эта мечта уже была бы осуществлена, если бы не разбойничье нападение немецко-фашистских захватчиков.
— Вы должны всегда помнить, — всё более воодушевляясь, говорил Юрка, — всё сделали для вас отцы. И сейчас каждую ночь горит в Кремле и не гаснет до утра одно окно, вы знаете, ребята, о чём я говорю…
«А как же бомбёжки, демаскировка?» — мелькнуло в голове у Ганшина, но все кивнули, и он кивнул.
— А между тем всё ли вы делаете, чтобы лежать хорошо? — резко повернул тему Юрка. — Сёстры на вас жалуются. У Жабина бывают срывы. Вчера Ганшин сорвался. Вы думаете, мне неизвестна история с градусником?
Да, да, ничего не скажешь. Ребята притихли, и Ганшину стыдно стало за свою бесчувственность. Вот они лежат кое-как, валяют дурака, позавчера ночью вставали — хорошо ещё, старшие не знают. А ведь Юрка прав — как им повезло! Они родились в замечательной стране, не где-нибудь в Англии, или Китае, или, страшно подумать, в Германии. А ведь свободно могло случиться и так — вот ужас! И взрослые всё для них делают, увезли в Белокозиху от бомбёжек. А кончится война — всех ребят поставят и все станут жить при коммунизме.
Юрке помешала закончить Оля. Она вошла в палату перевязать Зацепину свищик. Юрка оглянулся на неё, стал говорить быстрее и вдруг иссяк:
— На сегодня всё, ребята…
Он подошёл к Оле, бравшей марлевую салфетку пинцетом с лотка, и сказал негромко:
— В клуб вечером придёшь?
— У меня дежурство, — ответила Оля, не отрывая глаз от лотка.
Подойдя к ней сзади, Юрка полуобнял её и пропел:
— Оля, ты помнишь наши встречи…
Оля освободилась из его рук со сконфуженной улыбкой.
— Бросьте шутить, Юра, — сказала она, поводя своими голубыми чуть навыкате глазами.
А Юрка уже взял со стула баян и, пытаясь пройти боком, слегка шлёпнул Олю, наклонившуюся над Зацепой, сзади по халату.
— Олечка, уберите вашу попочку, — сказал он негромко, но так, что все слышали.
У Оли зажглись щёки, а Поливанов хмыкнул ехидно.
— Скажете тоже, Юра, и при детях… — смешалась Оля.
— Я человек простой, — сказал Юрка, поправляя на плече ремень от баяна. — Мне сейчас некогда, — обратился он к ребятам, — а после полдника я ещё приду поговорить с вами, особенно с Костей, ведь я должен за него поручиться. И принесу текст торжественного обещания, вы его все выучите. Будем считать, что вы начали подготовку в пионеры. — Последние слова он произнёс торжественно, как с трибуны, и чуть вразвалочку, с баяном на плече вышел из палаты.
Глава седьмая
В КИНО!

олдник раздавала Маруля. Она внесла на подносе дымящиеся миски с чаем. В Москве чай давали в беленьких поильниках, и так удобно было, не обжигаясь, тянуть его из носика. И в дорогу поильники взяли. Но за месяцы эвакуации они лишились сначала ручек, потом носиков, приходилось пить через край. Потом поильники и вовсе побились. Остались миски алюминиевые — им всё нипочём, они вечные.

Маруля ставила каждому миску на грудь поверх одеяла и бормотала себе под нос: «Смотри не пролей… наш сосед… пошёл в баню… шайкой ошпарил». Она имела странную особенность: начинала рассказывать, а кончить не могла. Не то что Настя. Та, лишь бы настроение подошло, прямо соловьём разливалась. У Марули же выходило что-то невнятное, тягучее, с обрывами, вроде мычания: «Вот у нас в соседнем доме Лёха Петляев… ммм…» И разом забывает, о чём начала. «Тётя Маруля, а что Лёха?» — полюбопытствует кто-нибудь. «А я разве что говорю?» — вдруг пугается она. И опять: «Я тоже в корыте кофту стирала-стирала… ммм…» И никакого рассказа. «А у нас давеча Петрович взял оглоблю за сараем…» — и опять мычание.
Даже смеяться над нею, доводить её было неинтересно. Она не сердилась и тупо смотрела мимо, будто не на тебя, а на матрац. Но вдруг, исполнившись благодушием, запевала открытым звуком, по-деревенски:
Дам коня, дам булат,
Дам винтовку свою.
А за это за всё
Ты отдай мне жену.
Маруля собирала пустые миски, когда Оля внесла на подносе коричневую плитку в ровных квадратиках, напоминавшую шоколад.
— Уже выпили? — удивилась она. — А я вам гематоген несу, — и стала ломать плитку на тумбочке — по две дольки каждому. По две ириски, как говорили в палате. Хотя какие это ириски, если кто знал настоящие довоенные ириски?
Ганшин хорошо помнил эти твёрдые, сладкие, тянущиеся на зубах, долго таявшие во рту кубики. Отец покупал их целую горсть с лотка разносчиков, когда они вместе на демонстрацию ходили.
Ганшину вспомнился майский синий день и как они идут с отцом вдоль набережной в толпе праздничного народа. У отца красный бант в петлице, а над Севой — голубой шар, примотанный ниткой к пуговице пальтишка, одна ириска тает во рту, другая зажата в кулаке и ждёт своей очереди. Когда это было?
А теперь, считай, и гематоген радость. Его дают два раза в неделю к чаю — мягкий, горько-сладкий и не тянется, а жуётся кусочками. Никакого сравнения с ириской. А всё же вкусно.
Правда, одна долька идёт Косте. Это на днях голосованием решили. Всё равно все ему должны — кто марки, кто щелбаны. А он предложил: вместо щелбанов — все долги прощаются — по дольке гематогена. Никто не возражал, собрали по ириске. Но когда в другой раз гематоген давали, все уже снова должны были ему щелбаны, и он опять подтвердил: собирай.
«А у кого долга нет?» — вскинулся Поливанов.
«Всё равно гони, — сказал Костя спокойно, — в счёт будущего. Сегодня не должен, а завтра так и так на спор проиграешь».
Поливанов вякнул было, что один раз — и всё, как тогда договаривались, и Ганшин был с ним согласен. Но Костя сердито замигал белёсыми ресницами.
«На-кася выкуси, — сказал он и показал фигу. — Стал бы я из-за одного раза вам щелбаны прощать. Тогда уж условимся наперёд: десять щелбанов — д-долька».
Никто не стал спорить. А почему? С Гришкой Костя делится — Гришка молчит. Зацепа, как новенький, не в счёт. Жаба подпевает всегда. А Игорь и Ганшин ругаться не захотели, — так и вышло. Севка было заикнулся, что несправедливо, а Костя всё под голосование подвёл. «А если голосовать — справедливо?» — «Ну?» — «Голоснём, рёбушки». Все за Костю и проголосовали. Игорь поколебался, но видит, кругом руки подняли, и он потянул. И Ганшин.
«А если уж проголосовали, то закон, — заключил Костя. — Сам же говорил, — обратился он к Ганшину, — с голосованием, тогда правильно».
С того дня стали Косте, едва скажет, отдавать по дольке, но общий счёт щелбанов уменьшался мало: Костя успевал выигрывать на спор новые, переводил долги с того, кто должен много, на тех, кто меньше должен. В конце концов все рукой махнули: отдавай без слов одну дольку законную, и всё тут. Другая всё равно тебе останется, так чего жадничать?
И сейчас на Костиной постели, едва Оля вышла, рядом с подушкой собралась горстка коричневых гематогенных кубиков. Штуки четыре он сразу отправил в рот, а остальные в мешок спрятал, до вечера.
Стали ждать Юрку Гуля. Но ещё прежде в палату ввалился Толяб. Он заскочил, как всегда, с коробкой под мышкой, однако открывать её не стал, а с порога объявил новость: после ужина наверху, в большой палате, — кино! От нижних палат тоже возьмут по одному человеку, он сам слышал.
Кино! Да уж позабыли, что такое бывает. До войны показывали два раза в месяц — свозили всех в вестибюль и на стенке крутили. А как война началась, Ганшин и не видел кино ни разу. И вот, Толик говорит, передвижку из района притянули и будут показывать в бывшем школьном зале санаторским и заодно солдатам из госпиталя, кто ходить может.
Приветственно взмахнув костылём, Толяб исчез, а ребята, перебивая друг друга, стали говорить, кто какие картины видел. Вспоминали психическую атаку в «Чапаеве», и как Чкалов под мостом на самолёте пролетел, и в «Якове Свердлове» как он на ярмарке за сапогами на скользкий столб лезет. Гадали, что сегодня покажут. Но никто не решился спросить вслух, кому из них смотреть.
Прибежал запыхавшийся Гуль, принёс листок с торжественным обещанием и собрался было дальше мотать, но Костя ему напомнил:
— Юра, ты же обещал со мной говорить о вступлении.
— Не сейчас, меня в клубе, в посёлке, ждут.
— Ну, Юрочка, ну на десять минут, — взмолился Костя.
Юрка присел боком на его кровати:
— Ну?
— Что ну? — удивился Костя.
— Какие вопросы?
— Ты же обещал со мной отдельно поговорить.
— Так… — задумался Юрка, и его прыщавое красное лицо посетило выражение сосредоточенности. — О том, что надо крепить пионерскую дисциплину, ты знаешь. Текст обещания подзубришь… Что ещё? Ну, твоя главная задача подтянуть ребят, быть им примером, соблюдать порядок на постелях, не сорить на пол…
Юрка постепенно разогревался и начинал говорить как заведённый.
— И главное, никакой круговой поруки. Твой товарищ поступает неправильно, что должен сделать его друг? Плохой друг скроет твою ошибку и тем окажет плохую услугу. Хороший друг выведет на чистую воду, скажет сестре, учителю, пионервожатому, и все вместе помогут ему исправиться. Коллектив — лучшая школа. И тут нужно мужество. Ребята будут кричать: выдал, продал и другую чепуху. Товарищ Сталин учит: никакой поблажки слабостям, всё открыто и честно. У Павлика Морозова отец был кулак — отец! Только подумай! А он не испугался, поступил как патриот, поставил долг выше слюнявого родства. Так каждый из нас должен. Бывали случаи, когда, — тут Юрка обвёл глазами всех ребят и голос понизил, — педагоги поступали неправильно, неверно ориентировали детский коллектив. Пионер и здесь бы не смолчал. Перед войной в Сокольниках работал главврач Зиновий Петрович, говорили — основатель санатория… Только ребята никому, я говорю вам о том, о чём болтать не надо. Так вот, разоблачён как шпион. Потом выяснили — мучил детей, затягивал сроки лежания.
У Ганшина всё оледенело внутри. Увидев испуганные ребячьи физиономии, Юрка притормозил.
— Ну, таких у нас теперь нет, — объяснил он, — и говорить об этом нечего.
— Вот Зоя Николаевна… — неожиданно вставил Костя.
— Что Зоя Николаевна? — заинтересовался Юрка.
— Про бога говорила и вообще…
— Кому говорила? — остановился на полном ходу, что-то соображая, Юрка.
— Да вот Ганшину, и я слышал.
И Костя рассказал, что узнал недавно от Ганшина, про тот ночной разговор под звёздами.
В палате стояла тишина гробовая, даже Жаба перестал раскачивать кровать.
— О-о! — зацокал, покачивая головой, Юрка. — Зоя Николаевна прекрасный педагог, однако позволя-а-а-ет… И вы хороши, если не дали ей отпора. Вы же завтрашние пионеры и отлично знаете, что бога у нас нет. И если учитель заблуждается…
— Да нет, я ничего такого не говорю, — спохватился вдруг Костя. — Это так, случайный разговор вышел.
— В наши дни, когда люди гибнут на фронте, страна напрягает все силы для победы, ничего случайного нет, запомни это, Костя, — твёрдо возразил Юрка.
Костя уж не рад был, что начал, и лежал теперь с расстроенным лицом.
— Ну, ребята, сразу обо всём не переговоришь, — вскочил с его постели Юрка. — Я пошёл. А вы подумайте о плане работы будущего звена, о том, как помогать друг другу, вытаскивать отстающих.
— А на кино кто поедет? — заорал Жаба.
— Это вы сами, ребята, решайте, я попрошу ещё Изабеллу Витальевну к вам зайти, она скажет, — произнёс Юрка и был уже одной ногой в коридоре.
Костя повернулся к Ганшину:
— Ты что, Гашка, думаешь, я зря про Зою сказал?
Ганшину было не по себе. Чепуха понеслась в голове, какое-то колесо с крутящимися спицами. Всё смешалось: часы Фортунато, и слова Зои Николаевны, когда она показывала звёзды, и слова Юрки, что каждый должен, и Павлик Морозов, и мучающий детей Зиновий Петрович. Кому верить? И как всё это соединить, собрать, зажать, словно песок в горсти?
— Я вообще-то к ней хорошо отношусь, — смущённо бормотал Костя. — Ты не думай. Ну, что она такая скучная дура и на арифметике ко мне придралась.
— А всё ж зря ты её выдал, — неожиданно для себя пробормотал Севка и испугался. Таких слов Косте не говорили.
— Я выдал? Я выдал? — возмутился Костя. — Я только сказал, что было. Ты вот промолчал и остался сбоку припёку. А я, если хочешь знать, за тебя говорил. Мне что, я тебя спасал. Если бы старшие узнали, ты бы отвечал, что скрыл. И вообще, думаешь, мне приятно было…
«Опять он прав, — с тоскливым восхищением подумал Ганшин. — Что я за несчастный такой, что ни в чём разобраться не могу».
А Костя уже одолел минуту смущения.
— Хотите, я вам испытание сделаю? — обратился он к ребятам. — Пусть каждый скажет, только, чур, не врать, кого он больше всех на свете любит.
— Я мать больше всех люблю, — сказал, подумав, Гришка и насупил чёрные брови.
— И я маму… нет, маму и отца поровну, — сказал Поливанов.
— И я, как Игорь, — поспешил с облегчением Ганшин. Трудный всё же вопросик! Маму скажешь, отец обидится, отца назовёшь, а где мать?
Костя дальше слушать не стал.
— А теперь скажите, кого вы больше любите — Сталина или маму? — и с торжеством оглядел все лица.
— Сталина, — вздохнув, покорно сказал Гришка.
— И я, и я! — закричали ребята.
Мысль Севки билась, как пойманная птица. Как объяснить? Маму он любит больше всех, больше всех на свете, и потом отца, потом дедушку. Но ведь он знает, что все, решительно все больше всего любят Сталина. И он его любит. Но на втором месте. А разве можно сказать, что на втором? Разве Сталин может быть вторым? Но как же мама? И он упавшим голосом подтвердил:
— И я.
О Зое Николаевне никто уже не вспоминал, и Костя стал насвистывать марш из «Весёлых ребят».
— А мы не решили, кому в кино ехать, — напомнил вдруг Жаба.
Все поглядели на Костю.
— Надо голосовать, — сказал Костя, — кого решим, тот и поедет.
— А на следующее кино кто? — полюбопытствовал Игорь, понимая, что сегодня ему уж ни в коем случае не попасть.
— А на следующее установим очередь, — объяснил Костя, — чтобы всем по разику. Так будет правильно. Мы, сударь, имеем слабость соблюдать правила чести, — добавил он тоном Атоса.
Тут же и руки подняли: Косте ехать сегодня, в следующий раз Гришке, потом Ганшину, потом Поливанову, потом Жабе и, наконец, Зацепе. Да никто и не сомневался, что так будет: каждый знал своё место и заранее был с ним согласен.
— Только, братва, закон палаты — не трепать старшим про очередь.
«Закон палаты» было словечко, народившееся в последние дни. Когда Костя бил щелбаны, он приговаривал смачно: «Закон, ещё закончик». Вот и пошло. Стоило теперь сказать: «Закон палаты», — и значило, что надо отдать Косте гематоген, уступить очередь на книгу, оборвать игру с соседом и сыграть в шашки с Костей, если тому захотелось. И молчать, главное — молчать, чтобы взрослые не пронюхали.
«Но отчего про Зою можно было сказать, а про Костю молчи?» — подумал Ганшин и сам себе удивился. Даже шёпотом, вечером, во время дружеских разговоров с Игорем, не решился бы он этим сомнением поделиться. Нечего умничать. Да и разница ясней ясного. Одно дело о взрослом наябедничать — пусть сами расхлёбывают, на то они и старшие. А другое — о своих. И потом, Костя-то в бога не верит. Его через неделю в пионеры примут.
Изабелла Витальевна вошла в палату тихо, незаметно и остановилась рядом с кроватью Зацепы, сутулясь больше обычного и всматриваясь в лица ребят.
— Изабелла Витальевна, сегодня кино? — выкрикнул Жаба.
— Да, кино… — сказала она медлительно. — Вот я и думаю, заслуживаете ли вы, чтобы из вашей палаты тоже кино смотрели.
— Ещё бы… А чего мы? — зашумели ребята.
— Ну, а кто, по-вашему, должен ехать?
— Костя! Костя! — враз закричали Жаба и Гришка.
Остальные молчали.
— А ты, Костя, как думаешь?
— Я что? Я как ребята скажут, — сказал Костя, помигав короткими белыми ресницами, и отвернулся к Гришке с видом незаинтересованным.
— Ах, какие мы скромные, — заметила Изабелла, глядя на него в упор, и, пошутив, даже не осклабилась, как обычно.
Костя надулся и ничего не ответил.
— А как ты, Костя, с пионервожатым договорился? — снова пристала к нему Изабелла.
— Да никак. Я вообще про кино с ним не говорил.
— А про что говорил?
— А ни про что! — смутился Костя.
— Так совсем ни про что? — настаивала Изабелла. — А он сейчас о тебе сказал в учительской: такой боевой, принципиальный, остро думающий мальчик. Мы с ним интересно поговорили.
Костя молчал.
— Значит, я — не я, и кобыла не моя, и я сам не извозчик, — сказала Изабелла.
Она обвела глазами ребят, но никто не смотрел на неё и не отозвался на её остроту. Только Поливанов хмыкнул в кулак.
— Ну, ладно, — сказала Изабелла решительно и выпрямилась. — Пока никто из вас ни в учёбе, ни в поведении таких успехов не показал, чтобы его отличать, так пусть решает случай. Нарежем шесть бумажек, и кто вытянет жребий, тот поедет. Согласны?
— Согласны, — выкрикнула палата.
Изабелла скатала узкие газетные полоски, бросила их в карман халата, перемешала на ощупь и стала подходить боком к каждой кровати, чтобы ребята тащили. Бумажки условились разворачивать одновременно.
Пусто… Пусто… Пусто…
Жребий вытащил Ганшин.
Костя посмотрел на Ганшина коротко и недобро, губы его дрогнули.
— Изабелла Витальевна, можно, я уступлю Косте? А сам в другой раз, — выдавил Севка.
— Правильно! Пусть Костя едет! — снова закричали ребята.
— Нет, друзья, жребий есть жребий, — твёрдо сказала Изабелла. — Ганшин вытянул, он и поедет. Косте повезёт в другой раз, поедет Костя. Я сейчас няню за тобой пришлю, — обратилась она к Ганшину. — Приготовься. Кино длинное. К ужину не успеешь, тебе оставят.
Изабелла ушла, а Ганшин не знал, радоваться ли своему счастью. Вроде получилось, что он против всех и закон нарушил.
— Костя, может, всё же ты поедешь? Я няне скажу, чтобы тебя взяли, — насильно улыбаясь, предложил Ганшин.
— Нетушки. Ты вытянул, ты и смотри, — отрезал Костя и, отвернувшись, стал подробно объяснять Гришке, как садятся на воду гидропланы, тот ещё утром об этом спрашивал.
Пока Ганшина отвязывали, несли с гипсовой кроваткой по лестнице на второй этаж и устраивали на сенном тюфяке у двери в большом полутёмном зале, на душе у него было муторно; беспокойство и растерянность волочились за ним хвостом. Но вскоре он забыл обо всём. По комнате плыл приглушённо-радостный гул. В дверях, растопырив костыли, с улыбкой во всю рожу, стоял Толяб. Мальчики старшего отделения, хозяева большой палаты, негромко переговаривались, ожидая волшебного мгновения, когда на растянутой сдвоенной простыне загорится жёлтый прямоугольник, раздастся музыка и побегут титры. В заднем ряду, держась за спинки кроватей или примостившись на подоконнике, стояли и сидели красноармейцы в гимнастёрках, кто с рукой на перевязи, кто с забинтованной головой, — это пришли легкораненые из госпиталя. Ребята из нижних палат лежали прямо на полу, на сенных подстилках вдоль стены. Рядом с Ганшиным оказалась девчонка. Он, кажется, узнал её: это была Ленка Бугреева. Она поднялась на локтях, потом обернулась к Севке:
— Тебе так видно? — спросила она. — Я не загораживаю? — и внезапно просияла улыбкой во всю ширь лица и тут же, смутившись отчего-то, поправила светлую прядку на лбу.
Если бы рядом были ребята из палаты, он, наверное, должен был бы с презрением отвернуться от девчонки. Но сейчас их никто не видел, и её радость передалась ему.
Свет погасили, аппарат застрекотал, и мелодия вальса до краёв заполнила большую комнату, вылетела в коридор, прорвалась за покрытые инеем стёкла и, казалось, понеслась над холмами, над затерянной в снегах Белокозихой.
Красивый город, иностранные вывески, старинные экипажи, люди у дверей маленьких магазинчиков и кафе… Ганшин понял, что молодой музыкант полюбил дочку кондитера, а потом его полюбила знаменитая певица. Лошади скакали по парку, солнце падало сквозь вершины деревьев яркими пятнами на траву, героиня в широкополой шляпке покачивалась в коляске на дутых шинах рядом с молодым музыкантом, по городским улицам сновали люди во фраках и цилиндрах. Начинался какой-то бунт, кто-то объяснялся в любви, взмахивала дирижёрская палочка, и беспечные люди прямо на площади танцевали упоительный вальс.
Время от времени изображение исчезало, и экран светился пустым прямоугольником. Зрители терпеливо ждали в полутьме, когда механик поставит следующую катушку. На шестой или седьмой части Ганшин вдруг завертелся беспокойно: сколько там до конца? Ведь надо возвращаться в палату. А как ещё его встретят? Разве кино того стоит? И не про войну — рассказать нечего. Он поймал себя на том, что прилежно смотрит на экран, но ничего не видит. Все его мысли были о расплате. «Не думай, не думай, смотри». Сколько минут он отсутствовал — три, пять? Что-то, кажется, пропустил. Опять появилась дочка кондитера и зачем-то пришла к сопернице, красивая певица уезжала на большом белом пароходе… Но тут снова закрутилось в голове, что спросит Костя, как он ему ответит… Наверное, сначала все будут молчать — с чего начать тогда?
— Сапожник, рамку, — закричали раненые, кто-то засвистел в два пальца. Проскакивавшая вверх картинка вернулась на место.
Ганшин ощутил вдруг, что его замутило. Запах прелого сена, который сначала показался ему приятным, отвратительно сочился из тюфяка, на котором он лежал, и вызывал спазмы в желудке. Он уже не смотрел на экран и боялся одного: лишь бы не вырвало. Вот будет позор! И тут ещё Ленка! Скорей бы всё кончилось. Он нетерпеливо пересчитывал части: десятая, одиннадцатая… Кажется, говорили двенадцать частей. Ах, побыстрее бы!
А старый композитор стоял на балконе дворца рядом с императором, его приветствовали восторженные толпы, и под звуки восхитительного вальса где-то в облаках проплывала тень его возлюбленной.
Зажгли свет. Стоявшая у дверей сестра сморкалась в платок. Тихо переговариваясь и стуча костылями, стали расходиться раненые. Над ганшинским тюфяком наклонилась Маруля.
— Кино понравился? — спросила она.
Ганшин кивнул неопределённо.
— У, чёрт. Девушка бросил… А та шляпу надела и летит, — объяснила ему она.
Подхватив Ганшина под гипсовую спину и чертыхаясь на каждой ступеньке, Маруля снесла его по лестнице вниз.
В палате, против ожидания, его встретили миролюбиво.
— Ну, что? — сказал Костя. — Рассказывай, как кино.
— Дрянь, для девчонок, — ответил Ганшин.
— Я вам говорил? — обернулся Костя к ребятам.
Принесли остывший ужин. О еде не хотелось думать, но Маруля совала упорно, и пришлось взять пшённые биточки с чем-то белым и кислым поверху. Глотая холодные, скользкие куски, Ганшин почувствовал, что тошнота снова подступает к горлу. Он хотел вынуть из мешка, висевшего в головах, полотенце — вытереть рот и вдруг встревожился: а где шарик? Рука не находила его, наверное, в угол закатился. Ганшин привычно выщупал мешок снаружи — шарика не было. Тогда он снова запустил руку по локоть в сумку, так, чтобы доставать дно: пальцы хватали одни сухие хлебные крошки.
— Братцы, у меня шарик пропал, — растерянно сказал он.
— Ищи лучше, — отозвался Костя.
— Да нет, правда пропал.
— А ты с собой не брал? — спросил Игорь.
— Не брал.
— Ну и дурак, одно можно сказать…
— Игорь, брось, это ты взял? — с надеждой в голосе спросил Ганшин.
— Да не брал я.
— Дай честное слово.
— Че-е-естное слово.
— Поклянись.
— Фиг тебе, — обиделся Игорь.
Нет, Игорь взять не мог. И на Костю не похоже. А Жаба не добрался бы.
— Ты небось в кино его потащил да засмотрелся, вот у тебя его и стибрили, — сказал меланхолично Костя.
— Или, пока несли, в коридоре посеял, — предположил Гришка.
Ганшин вконец расстроился. Что за невезенье такое!
— Да не было этого, — попытался он объясниться. — Меня там на какую-то вонючую подстилку положили. Сено, что ли, гнилое. Не знал, как дотерпеть, затошнило даже…
И зачем он им это сказал? Неужели ждал сочувствия? Почему-то хотелось уверить, что завидовать ему не надо, ничего хорошего и не было. Да тут ещё пропажа. Лучше было не ездить в кино — и ребята бы не злились, и шарик остался цел.
— Ой-ой, Севка сена объелся, живот болит, — стал паясничать Жаба.
Ганшин на него и не взглянул.
— А не входил никто в палату? В мешке у меня не рылся? — уже без надежды допытывался Ганшин.
— Ты в кино, а мы тебе сторожить будем? — сказал, усмехнувшись, Костя. — Экий ты, паря, умный.
Ганшин поглядел на него растерянно и встретил невозмутимый, умный Костин взгляд. И вдруг подступила волна мучительной, долго сдерживаемой тошноты.
— Маруля, лоток! Лоток, скорее! — закричал он. Но его не вырвало. Спазмы схватили горло, и он зарыдал горько, безутешно, вздрагивая телом.
Ребята испуганно смотрели на него, а он плакал, тщетно пытаясь сдержаться, заслонившись локтем от света, кусая губы, временами взлаивая по-собачьи, — выплакивал всё, что накопилось за день: утреннюю историю с Зоей, и кино, и шарик… Даже пожаловаться некому: где там мама? где дед Серёжа? «Напишу домой, — размазывая по щекам слёзы, думал Ганшин. — Пусть забирают отсюда, хоть куда-нибудь, а не то я умру». Он закрылся одеялом с головой, чтобы не видели, как он ревёт, и вдруг всё предстало ему одним беспросветным ужасом одиночества. Со сладким ожесточением он стал воображать, как его не заберут домой, а он в самом деле возьмёт и умрёт, и все испугаются и станут жалеть его. Скажут: Севочка, зачем ты так, мы бы тебя взяли… Да поздно будет. Понесут его в гробу с кисточками, сзади музыканты с серебряными трубами из клуба, как недавно Нину Кудасову из третьего отделения по улице провожали — все на локти вскочили, чтобы видеть. Тогда и ребята скажут, зачем мы его так, и шарик отдадут, кто взял. А мама… Он представил себе искажённое горем, плачущее лицо матери и, забившись глубже под одеяло, зарыдал ещё сильнее, стискивая зубы, кусая край простыни. А может быть, он не до конца умрёт, привстанет из гроба, чтобы всё видеть хотя бы, — или уж так нельзя?
— Надоела эта музыка, — услышал он вдруг голос Кости. — Рёва-корова. Вылезай из-под одеяла. Мушкетёры таких убивали.
Пришли гасить свет, и палата угомонилась быстро. Севка ещё всхлипывал под одеялом. Прошло минут пятнадцать. В темноте, справа от своей постели, он услышал тихую возню. Игорь осторожно подтягивал свою кровать вплотную к ганшинской.
Еле слышный шёпот:
— Севк, ты спишь?
— Не-а.
— Слушай, я шарик не брал. Честное слово, не брал. Ты мне веришь?
— Да.
— А на кого думаешь? Ведь Костя не мог?
— Не мог, — согласился Ганшин.
Несколько минут молчали, прислушиваясь к сопению на соседних койках. И теперь уже Ганшин Игорю, в самое ухо:
— А я Коське не верю. Как он про Зою, а?
— Тшш. Ты что, с ума иль с глупа?
Снова помолчали, и опять тишайшим шёпотом:
— Севка, я только с тобой дружить хочу.
— И я.
— Хочешь, я тебе открытку с Дворцом Советов подарю? Разноцветную. Завтра утром подарю. А на Коську не злись. Сам говорил, что он хороший.
— Говорил.
И вдруг Ганшин почувствовал, как будто с него сдвинули давившую его тяжёлую, чугунную плиту. Он глубоко вздохнул, тёплая усталость разлилась по телу, сползла с горящих, с дорожками от слёз щёк. Он понял, что засыпает.
Глава восьмая
ВАННЫЙ ДЕНЬ

щё с утра тётя Настя объявила, что сегодня ванный день. Здорово! Значит, и уроков не будет?
Проснувшись в отличном настроении, Шаба вообразил себя чёрным пуделем. Тётя Настя просит достать из мешка полотенце, а он в ответ: «Ав!» — «да» означает. «А лицо уже умывал?» — «Ав-ав», значит «нет».

— Что это ты как на псарне, — удивилась Настя.
Но с ними только пошути: залаял Ганшин, затявкал Поливанов, и палата огласилась разноголосым лаем. Гришка лаял коротко и низко, а Костя смешно повизгивал.
— Успокойтесь, дети, — закричала, войдя, Евгения Францевна.
Тётя Настя поставила кувшин с тазиком на подоконник и заткнула уши пальцами.
Мало-помалу лай стал затихать, но вошедший в азарт Ганшин не сумел сразу остановиться. Круглая физиономия его пылала счастьем, чёрные глаза сияли, и он продолжал самозабвенно лаять, когда уже наступила тишина, и даже в увлечении хватил Евгению Францевну сзади собачьей лапой по накрахмаленному халату.
Евгения Францевна пошла пятнами:
— Да как ты смеешь? Забываешься, Ганшин! И ты, Жабин! Лежачие дети не должны так кричать. У вас, как говорится, сдерживающих центров нет… Вместо того чтобы организованно позавтракать и приготовиться к ванной процедуре…
«Процедура» для Евги священное слово, а ребятам только смешно.
Дождавшись паузы, Игорь Поливанов язвительно протянул:
— Евгения Францевна, а вы намордник Жабе наденьте!
Евга не сразу нашлась, что ответить, а тут ещё Костя сочувственно хмыкнул со своей постели, и Поливанов решил закрепить успех.
Вообще-то Игоря считали тихоней. Он не любил нарушать режим, не любил, когда его ругали, и по добросовестному лежанию числился в примерных. Но с некоторых пор он открыл у себя способность подсмеиваться над старшими, правда незаметно, слегка, так, чтобы скандала не вышло. «Ганшин — тот вояка-парень, а Игорёк всё исподтишка», — обронила как-то тётя Настя. Поливанова и впрямь точно бес за рукав дёргал. Евга была любимой мишенью его остроумия.
— А что, если Жаба бешеный и вас укусит? — не унимался Поливанов.
Все засмеялись.
— Тогда, может, вы взбеситесь? — в раже закричал, потеряв поводья, Ганшии.
Это была уже грубость. Севке хотелось острить так же тонко, язвительно и красиво, как это умел Игорь, — не придерёшься. Но у Ганшина так не получалось, а пропустить случай участвовать в общей потехе он не мог.
Евга же, кажется, рассердилась не на шутку. Мятый, розовый подбородок её задрожал от обиды, она стала грозно заикаться:
— Дрянной м-м-мальчик! Сейчас позову воспитателя, п-п-пионервожатого, ты у меня н-н-наплачешься!
И выбежала из палаты. Значит,
довели.
Доводить Евгу было небезопасно. До войны все её боялись. Разве что тайком, когда повернётся спиной, подвязывали к пояску её халата хвост — волочившийся на нитке бумажный бантик. А тут всё в мире кувырком — война, эвакуация, и мальчишкам море по колено. Только на этот раз, похоже, хватили через край.
Азарт остыл, и ребята оробело примолкли. Выскочила, как ошпаренная, что теперь придумает?
— Так её и надо, немку рыжую, она, наверно, за фашистов, — первым нарушил молчание Ганшин.
— Немецкий порядок, — поддержал его Костя. — Всякую соринку стряхивает. Я сам ещё в Москве слыхал, как тётя Настя на неё рассердилась и сказала: «Своих ждёт». Может, она к нам и заслана, чтобы вредить.
— Скоро в Германии революция будет, Юрка Гуль говорил, Гитлера убьют, и мы домой поедем, — мечтательно заметил Гришка.
В дверь влетела Изабелла с большой зелёной кружкой в руках, поставила её на тумбочку и молча обвела палату пристальным взглядом с угла на угол.
— Вы что тут с Евгенией Францевной устроили? — наконец промолвила она, грозно сведя чёрные брови. — Я знаю, это всё тихоня Поливанов, ему только бы развлечься… Теперь она у вас работать отказывается. Напишет заявление директору санатория — будет вам на орехи.
— Изабелла Витальевна, да она немка! — сказал Ганшин.
— Ну и что? — ответила Изабелла. — У немцев тоже были великие умы, революционеры, музыканты, поэты. Великий композитор Бетховен — немец, и Маркс — немец.
Ребята изумились. Вот так номер. Ну, ладно, Бетховен. Но Карл Маркс?
— А Евгения Францевна, если хотите знать, — продолжала Изабелла, — образцовая ортопедическая сестра…
Все прыснули. Ортопедическая сестра! Это ещё что такое? Ор-то-педи-ческая! С ума
сойти от смеха! Животики надорвёшь… Изабелла сама ухмыльнулась уголком рта, и Ганшин это заметил. Чего это Изабелла её защищает? Может, боится? Ведь был однажды случай, что Изабелла засиделась в их палате после отбоя, свет уже погасили: сидела на одеяле у Игоря и рассказывала, смешила, читала нарочно заунывным голосом стихи, от которых мороз по коже: «Я вышел из тёмной могилы, никто меня не встречал, лишь только кустик унылый облетевшею веткой качал. Я сел на могильный камень…» И тут, как назло, Евга в палату заглянула: «Что за шум?» Изабелла Витальевна от страха под поливановскую кровать залезла. Евга ничего не сказала, но всё заметила. Изабелла призналась потом по секрету: её за непедагогическое поведение на пятиминутке обсуждали.
— Евгения Францевна, ребята, заслуженный работник, ортопедическая сестра, — повторила, близоруко щурясь, Изабелла.
Как могла она объяснить Им, что знала сама? От педантичного, сухого характера Евгении Францевны всем было несладко, её и врачи побаивались. Она ведь в санатории чуть не с основания. Это с началом войны стала она молчаливее, незаметнее, только губы поджимала, если ей что не нравилось. Известно было, что во Франкфурте у неё двоюродный брат. До войны она как-то даже письмо от него показывала. Понятно, что присмирела. Но работник она — ничего не скажешь. Сам профессор Чернобылов, корифей лечения бугорчатки, её отмечал. Правда, зудит по любому поводу невыносимо. Но не станет же Изабелла обо всём этом мальчишкам из седьмой палаты докладывать?
А всё же надо знать Изабеллу: настоящего гнева в её голосе нет. Вообще-то всё она понимает. Просто должна защищать Евгу, как все взрослые.
Ганшин думал об этом, а сам поглядывал на стоявшую на тумбочке зелёную эмалированную кружку, что принесла Изабелла. В ней лежали два варёных яйца, и он знал, что они предназначались ему. Ему-то ему, да он их не увидит.
Едва мама узнала, что их довезли наконец до Белокозихи, она отправила Изабелле почтой 400 рублей и письмо. Просила покупать в деревне еду, подкармливать Севу, будто от неё трижды в неделю передачи.
И уже который раз к завтраку приносила Изабелла пару белоснежных, ещё тёплых, вкуснейших яиц. Впрочем, оба яйца достались Ганшину лишь однажды. В следующий раз он ел одно: другое проиграл Косте на спор. А потом Костя объявил, что всем надо делиться. Стыдно быть жмотом. Да и то рассудить — правда стыдно. И ребята так решили. Проголосовали и постановили:
закон палаты. Теперь одно яйцо шло Севке, а другое по кругу: Грише, Косте, Жабе, Поливанову, Зацепе.
Ну, это ещё туда-сюда. А вчера Костя сказал, что и так неверно. Справедливым быть надо. Что это Севка особенный какой, чтобы всякий раз по яйцу есть, когда другим в очередь? Стали голосовать и перерешили: одно яйцо Косте, как главному, а другое по порядку всем. В том числе и Севке, конечно, когда до него очередь дойдёт. Да почему же всё всегда Косте? Ганшин поначалу возмутился. Но на голосовании за него только Игорь был, да и тот едва рукой дёрнул и быстро опустил. Струхнул Поливанов. Вообще он парень хороший, но тюлень и бояка. Только подъязвит немного — и в кусты. И опять же
закон палаты. Костя на днях новое правило предложил. Раньше как голосовали? Правая рука у тебя есть? Голосуй, будет один голос. А теперь у Кости — два голоса, а у остальных по одному. Гришка всегда за ним. Жаба тоже. И голосовать неинтересно стало — всё равно всё его будет.
Изабелла подходит к Ганшину с кружкой и отдаёт ему два свеженьких, ещё не остывших яйца, протягивает ложечку и немного соли в бумажке. Теперь надо исхитриться как можно искуснее сделать вид, что начинаешь есть.
— Давай, помогу разбить скорлупку, — говорит Изабелла. — Ты остроконечник или тупоконечник? — привычно острит она.
— Сам разобью, Изабелла Витальевна, — пугается Ганшин. — Сейчас я не хочу… подожду завтрака. Через пять минуток я…
Изабелла выходит, и Севка протягивает кружку Косте, а тот одно яйцо вынимает для Гришки, сегодня его очередь.
Ганшин слышит, как хрустит проломанная скорлупа. Передавая друг другу ложку, Костя и Гришка объясняются односложно, а сами набивают рот яйцом, закусывая предусмотрительно оставленным от вчерашнего ужина хлебом. Слюнки текут… Через пять минут зелёная кружка с битой скорлупой и чисто облизанной ложкой возвращается к Ганшину и будет ждать появления Изабеллы.
— Так быстро управился? Молодец! — воскликнула Изабелла Витальевна, войдя в палату спустя четверть часа.
Костя, отерев с губ желток и придя в благодушное настроение, уже экзаменовал Зацепу. Все было на этого дохляка рукой махнули, а у него необычный дар обнаружился — перевёртывать слова.
— Скажи наоборот «хлеб».
— Белх.
— А «честное слово»?
— Оволс еонтсеч, — выпалил Зацепа без малейшей задержки.
Проверили — так и есть! Даже Изабелла заинтересовалась:
— А «преподаватель»?
— С мягкого знака нельзя, — сказал Зацепа.
— А «педагог»?
— Гогадеп, — не задумываясь, отвечал Зацепа.
Ребята грохнули: «Ну и ну! Гогадеп!»
— Смотрите, какая неожиданная способность, — сказала Изабелла. — Я в детстве тоже когда-то вывески навыворот читала. Но не так быстро и не в уме.
— А у меня книжка «Детство Тёмы» в изоляторе была, — объяснил Зацепа. — Я её раз десять прочитал, а других не давали, чтобы микробов не переносить. Тогда я ее с конца до начала прочел — и так три раза, все слова наоборот и запомнились.
Изабелла изумлённо покачала головой, похвалила Зацепу и ушла, унеся с собой зелёную кружку.
А навстречу ей уже шла тётя Настя со свежей простынкой, перекинутой через рукав. Каталка на колёсиках в санатории была одна, и сегодня Насте её не дали, так что надо было ребят в ванную прямо на руках носить.
Тётя Настя отвязала, раздела Гришку, взяла в простыню и понесла. Руки у неё короткие, но сильные, из-под засученных рукавов халата видны вздувшиеся вены.
В ожидании, пока вымоют Гришку и придут за ним, Костя привязался к Зацепе:
— И что такого особенного, что ты слова вертишь? А таблицу умножения на семь с закрытыми глазами можешь сказать?
Кроме Кости, таблицу на семь никто в палате не знал, и глупо было в этом с ним состязаться.
Но Зацепе обидно стало, и он сказал неведомо зачем:
— А тебе слова переворачивать слабо!
— Не собираетесь ли вы меня учить, сударь? — ответил Костя ледяным тоном Атоса.
Жаба тем временем уныло и методично упражнялся в плевках, устроив катапульту из двух пальцев. На подушечку указательного надо было взять с языка немного слюны и, придержав большим, — щёлк! — плевок летел к потолку.
— А до Гебуса доплюнешь? — подбодрил его Костя.
— Ещё как!
И Жаба стал обстреливать Зацепу. Недолёт, недолёт, перелёт — попал!
— Кончай! — закричал Зацепа. Он попробовал отвернуться и закрыться рукой.
— Рёбушки, а вы чего смотрите? — обратился Костя к Ганшину и Поливанову. — Ну-ка, залп!
Зацепа загородил лицо локтем, защищаясь от плевков, летевших уже отовсюду. Костя скомандовал, чтобы Жаба подъехал на кровати к нему и отогнул руку, — пусть не закрывается.
— Ребята, кончайте, — взмолился Зацепа. — Ну что я такого сказал?
— Сам помнишь, — ответил Костя как бы лениво.
— Ну, не буду больше, — проныл Зацепа.
— Повторяй тогда за мной, — сказал Костя. — «Я сопливый гад».
— Ну… Я — гад, — пробормотал потерянно Зацепа.
— Нет, ты скажи: «Я сопливый гад».
— Ты сопливый гад.
— Ах, вот ты как? — рассердился Костя. — Жаба, дай ему как следует.
— Не надо!!!
— Тогда повторяй за мной: «Я вонючий гад и фашист».
— Ну, я вонючий гад и фашист… Отпусти! Отпу-сти-и-и!
— Да хватит, — вступился Поливанов. — Он же сдался.
— А чего кобенился? — возразил Ганшин. — Что от него убудет? Сказал да забыл.
— Много вы с Игорем понимаете, — осадил их, мельком взглянув на обоих, Костя.
Ганшина восхищало это в Косте: как он умел обрезать на ходу, припереть любого к стенке! Как логично, точно, неоспоримо рассуждал! Спорить с ним невозможно. Кажется, кругом ты прав, только так и может быть, а он сказанёт что-то, будто невзначай, — и привет, нечем крыть. Оттого и все ребята за него.
Сейчас Костя мучительно морщил лоб, придумывая, что бы ещё потребовать от Зацепы.
— А теперь скажи: «Я никогда не буду ругать Костю».
— Я никогда не буду ругать Костю.
Зацепа повторял слова механически, послушно, и это начинало приедаться.
— Нет, скажи так: «Я никогда не буду ругать нашего дорогого Костю».
— Я никогда не буду ругать дорогого Костю, — покорно, безразличным тоном повторил Зацепа.
Наконец Косте это наскучило. Да и тётя Настя как раз появилась: внесла довольного, красного, распаренного Гришку. Развернула его из одеяла, уложила на постель и стала готовить к ванне Костю.
Ганшину давно до смерти хотелось попросить у Кости одну вещь, но он всё не решался. Два дня назад Изабелла принесла из поселковой библиотеки стопку книг: все были давно читанные, детские. «Таинственный остров» Костя раньше читал, он достался Поливанову. А Костя захватил толстенькую книгу в серо-голубой обложке: на ней был изображён какой-то необычный тупоносый самолёт с гусеницами, как у танка, под крыльями.
— Костя, пока тебя моют, «Истребитель два зет» дай почитать, — попросил противным самому себе, заискивающим голосом Ганшин. — Я верну.
— Ладно, держи, — великодушно согласился Костя и вынул из-под матраца книгу. — Учти, с тебя пятьдесят щелбанов, — добавил он небрежно.
Севка поспешно согласился, и теперь перелистывал книгу, вдыхая аромат типографской краски, клея и бумаги. В книге описывалось, как на московском аэродроме была найдена оброненная кем-то записная книжка с химическими формулами. Замечательный учёный Лебедев по просьбе Наркомвнудела попытался разобраться в ней и едва не стал жертвой шпиона по кличке Штопаный Нос. Этот Штопаный Нос уничтожал наших людей, давя кнопку на бумажнике и выпуская струю отравляющего газа…
«Пумпель подошёл к портрету и нажал рычаг, скрытый за оконной портьерой, — читал Ганшин, забыв про всё вокруг, с колотящимся сердцем. — Портрет отодвинулся в сторону, обнажив стену. Второй нажим на рычаг — и кусок стены приоткрылся, обнаружив замаскированный несгораемый шкаф. Маленьким ключом Пумпель открыл тяжёлую дверцу и вынул из шкафа чёрную шёлковую папку…»
— Сева, гони книгу, — прервал его Костя, которого уже принесли из ванной.
— Костенька, ну до главы, ну ещё немножко, — попросил Ганшин.
— Дочитал, как Лебедева в плен захватили? — спросил Костя. — У экватора посадили на воду аэролодку, когда он на Южный полюс летел, и в фашистскую подводную лабораторию…
— Не рассказывай! — взмолился Ганшин, не отрывая глаз от книги. — Сейчас… Уже война началась.
«— Что вы скажете, генерал, о пирожках с двойной начинкой профессора Мерца? — читал, летя по строчкам, Ганшин.
— Бомба этой системы тройного действия. Взрываясь, разрушает здания и поражает осколками насмерть. Уцелевшие получают хорошую порцию удушливого газа и тоже гибнут…»
Оглядка на Костю… Ещё страничка, ещё одна! Слава богу, Костя пододвинулся к Гришке и стал играть с ним в шахматы. Как сквозь туманную пелену долетали до Ганшина слова:
— Э-э! Ты уже пошёл.
— Нет, не пошёл.
— Да ты коня тронул.
— Тронул, но не отпустил.
«Казалось, что с лица Бенедетто упала маска и под ней оказалась оскаленная пасть зверя с торчащими клыками. Фашист захлебнулся злобой…»
Мирово написано! Жаль, Гришка скоро получит мат…
— А почему Урландо назвал истребитель «два зет», дошло? — спросил Костя, отбирая книгу.
— Да я же не дочитал, — сказал Ганшин.
— Ну и лопух. Я сразу догадался. Это был фашистский секрет. Напиши иностранную букву Z, а поперёк другое Z — получится фашистский знак.
Здорово! Всё-таки у Кости не голова, а Дворец Советов, как Юрка Гуль говорит.
Пришла тётя Настя и стала отвязывать Ганшина — сейчас его в ванную понесут. А книгу уже хочет перехватить Жаба, выпрашивает подобострастно.
— Ишь какой жирный, может, я сам буду читать, — обрезает его Костя.
— Костенька, ну за пятьдесят щелбанов…
— Держи карман шире.
— Ну за сто!
— Ладно, за двести до обеда, — соглашается Костя.
У Жабы счёт щелбанов, которые он задолжал Косте, подходит к тысяче, так что ему всё равно — сотней больше, сотней меньше. Костя передаёт книгу ему, а Ганшин, обхватив одной рукой шею тёти Насти, поддерживающей его снизу под гипсовую кроватку, едет на ней мыться.
Моют ребят в комнатке с окном, до половины замазанным грязными белилами. На края большой ванны во всю её длину настилаются три широкие доски. У стенки стоит топчан, покрытый чистой простынёй, — там раздеваться. Рядом, на двух табуретках, — таз с холодной водой и ведёрко с кипятком. Пар поднимается над ведёрком.
Гипсовую кроватку тётя Настя прислонила к стене, сняла с Ганшина нижнюю рубаху и бережно перенесла его на мокрые, скользкие доски над ванной. Она смешала воду в большом кувшине, намылила мочалку и стала с усердием тереть ему грудь, живот и ноги, больную — тихо, осторожно. Голову полагалось мыть самому, совали в руки серый обмылок. Если в глаза попадёт — чтоб не плакал, не маленький.
Тётя Настя тёрла его мочалкой, а сама добродушно приговаривала: «Мокни, мокни, волчий хвост…» Потом командовала: «На живот!» — и, повернувшись здоровым боком, Ганшин подставлял спину. Она мылила спину, бока и вдруг окатывала щедро прохладной водой из кувшина, так что Севка вскрикивал от неожиданности. А она, смеясь, слегка пришлёпывала его широкой ладонью по мягкому месту и говорила, довольная: «Ну вот, аж скрипишь весь…»
Теперь с ванных досок на топчан, в полотенце, потом в едва лезущую через голову чистую рубаху, наконец снова в гипсовую кроватку и на сильных, надёжных руках домой, в палатную постель, с блаженным чувством свежести и обновления.
В палате всё было по-прежнему. Принесли Ганшина, унесли Поливанова, вымыли Поливанова — унесли Жабу. Костя всё ещё играл в шахматы на щелбаны с Гришкой.
— Вот что, — сказал он, подняв голову от доски, стоявшей между сдвинутыми кроватями, — давайте условимся: кто проиграл тысячу щелбанов, тот будет раб.
— Как это? — заинтересовался Игорь.
— А так. Пусть делает всё, что я велю. И чтобы не отпираться потом.
Мысль эта понравилась. Даже голосовать не стали. Всё равно Костя всех заголосует.
— Тебе, кажись, Жаба тоже щелбаны должен? — спросил Костя Поливанова.
— Да. Сто щелбанов.
— Так вот, отдай их мне. А я твои пятьдесят прощу. Жаба будет тогда мой раб.
Поливанов чувствовал, что Костя его надувает, но не ссориться же с ним? Ещё и «Истребитель два зет», может, даст почитать. Ганшин вон как его расхваливал…
Дело шло к обеду, когда появилась Евга с красным, воспалённым лицом, припудренным под глазами.
— Тише, рёбушки, к нам идёт орто-пе-ди-ческая сестра, — негромко, но чтобы услышали ребята, протянул Поливанов. Ганшин и Зацепа прыснули. Евга, наверное, тоже слышала краем уха, но виду не подала.
Она остановилась в ногах у Поливанова и молча, с поджатыми губами стала прилаживать ему вытяжение: поставила на шпильку в блоке катушку из-под ниток, обновила шнур и перекинула через катушку чистый мешочек с песком. И вдруг заинтересовалась средним пальцем Поливанова на здоровой ноге. Он и правда был какой-то подозрительный — красный и пухлый.
— Ай-ай-ай, — сказала она, нарушив молчание. — У тебя палец не болит?
— Болит немного и чешется, — согласился Игорь.
— Да ты обморозился! — с испугом воскликнула Евгения Францевна. — И когда это могло случиться? Наверное, как на рентген возили… Тут и гной!
Поливанов и правда вспомнил, что, когда, через день после Ганшина, его возили на рентген, он долго ждал в санях у крыльца, а нога выбилась из-под меха и сильно стыла. Он, кажется, задремал тогда и мороза почти не заметил.
— Так ведь и палец потерять недолго, — бурчала себе под нос Евгения Францевна. — Если кожа заинтересована, то ещё ничего, а если, не дай бог, заинтересованы мягкие ткани… Вам говорят-говорят, дети, надо лежать хорошо, тем более когда мороз сорок градусов. Если бы можно было раскрываться, то вам бы это разрешили, а если вам не разрешают, то значит, как говорится, нельзя…
Привычно, как заведённая, Евга говорила само собой разумеющиеся вещи. Пока она возилась с марлевой салфеткой, смачивала её рыбьим жиром и прилаживала на воспалённый палец, настроение её заметно поправилось.
— А он не отвалится? — испугался вдруг, вспомнив рассказы об обмороженных, Поливанов.
— Если не почернел, а только покраснел — должен остаться на месте, — успокоила Евгения Францевна. — Теперь надо бинтовую повязку на всю ступню сделать. Держи, скатывай бинтик.
И она дала Поливанову старый, но хорошо выстиранный и высушенный бинт. Он привычно сунул один его конец под подбородок, зажав у груди, а другой стал скатывать двумя руками в тугую трубку. Этой науке в санатории были обучены все.
Евга заканчивала перевязку, когда в палату с ликующим криком въехал на тёте Насте вымытый Жаба.
— Ах, Жабину простыню не успели перевернуть, — захлопотала Евгения Францевна.
Чистое бельё давно уже экономили и через раз переворачивали простыни на другую сторону.
— Подождите, Настя, давайте мне ребёнка, я вам помогу.
Евга не совсем ловко приняла Жабу на руки. Она не рассчитала своих сил и повернулась так, что гипсовая кроватка описала в воздухе полукруг и задела об печку.
— Ой-ой-ой! — закричал Жаба что есть мочи. — Больно! — И, оглянувшись на ребят, заголосил ещё сильнее.
Евгения Францевна залилась краской.
— Вася! Что с тобой? Я ведь, кажется, только слегка тебя задела.
— Слегка! Ещё как ударили! — хныкал Жаба.
Евгения Францевна стояла растерянно с Жабой на руках у перестилаемой Настей постели.
— Ну, герой, замолчи, — вступилась тётя Настя. — Что губы-то развесил? Губернатор проедет — раздавит.
Все прыснули, Жаба нехотя улыбнулся, а Евгения Францевна оправилась наконец от смущения.
Едва взрослые вышли за дверь, как ребята стали обсуждать случившееся.
— Здорово она тебя головой об печку! — заметил Костя.
Жаба был горд, все смотрели на него.
— У-у, немка поганая, — сказал Жаба, потирая плечо. — Может, её, ребята, к нам заслали шпионить?
— А зачем?
Рассудительный Поливанов отверг это предположение.
— Чтобы всех поубивать, — не растерялся Жаба.
— Ну да, — не согласился с ним Ганшин. — Может, она в госпитале у раненых выведывает, а у нас так — для отводу глаз. Кто-нибудь растрепет про фронт, а она всё запишет. Болтун — находка для шпиона, — прибавил он фразу, вычитанную в «Пионерке».
Это показалось убедительным.
Но Костя неожиданно сказал:
— Есть болтуны, а есть дураки. Вот наш Жаба — дурачок.
— Дурачок, да наш, а она фашистка!
Это развеселило Костю, и он объявил, что отныне палата номер семь объявляется страной Дурландией. В ней будут жить дурландцы, а править Дурландией, так уж и быть, согласен он сам. Тем более что у него есть уже и свой раб — Жаба, который должен ему тысячу щелбанов.
Пока в седьмой палате происходили все эти события, Изабелла Витальевна, проводившая уроки у девочек и сильно уставшая, выбрала тихую минуту и пристроилась у стола в дежурке. Она решила не заходить сейчас к мальчикам, а до обеда написать несколько давно откладываемых писем.
«Многоуважаемая Антонина Дмитриевна! — писала она в Саратов матери Ганшина. — Получила от Вас письмо, где Вы волнуетесь о Севе. Можете быть совершенно спокойны. Было немного трудно при переездах с места на место. Но сейчас жизнь наладилась. Ребята живут дружно, подобрался хороший, боевой коллектив. С учёбой тоже всё обстоит неплохо. Сева пока немного ленится, но у него есть успехи и по чтению, и по арифметике. Кормят вполне сносно, и Сева к тому же получает дополнительное питание, как Вы просили. Яйца в деревне 2 р. за штуку, масло сливочное 80 р. кг. Из денег, что Вы прислали, осталось чуть больше ста рублей, и сегодня перевод на 200, итого 300. В деревне можно купить ещё мёда, но мёд ребятам и так дают к чаю. Желаю Вам и всем нам к Новому году разгрома немецко-фашистских оккупантов и скорейшего конца войны!»
Изрядно послужившее старое перо-вставочка на красной облезлой ученической ручке брызгало чернилами и оставляло кляксы. Изабелла вздохнула, свернула лист треугольником, надписала адрес и принялась за следующее письмо.
Глава девятая
КУПИМ ТАНК

ейчас, сейчас, — говорил Севка, не поворачивая головы к Евгении Францевне и книгу не выпуская из рук.
— Не сейчас, а сейчас же.
«Авиация фашистов опоздала перерезать путь тяжёлым эскадрильям майора Петрова. Гудящие громады зашли правым крылом и обогнули огневой вал фронта. Красные бомбы легко подавили две батареи…»

Перед самым мёртвым часом Ганшину удалось снова выпросить «Истребитель» у Кости — и вот звонок на дневной сон.
— Ганшин, что я сказала?
— Евгения Францевна, ну пожалуйста, ну до главки только, — умоляюще протянул Ганшин.
«Следующий эшелон расстрелял из пулемётов закопошившихся среди разбитых орудий людей. И грянула красная артиллерия мощными, неслыханными огневыми ударами…»
— Нет. Ты сказал «сейчас», будь хозяином своего слова.
— Ну, только до конца страницы… Я сказал сей час, а не сию минуту.
На отговорку Евгения Францевна рассердилась, выхватила книгу и унесла её на тумбочку у противоположной стены, в ногах у Зацепы, где прежде коптилка стояла.
Костя укоризненно взглянул на Севку: балда, теперь выручай книжку. Если бы вовремя спрятал, можно было ещё втихую на мёртвом часе почитать. Книгу раскрытую пристроить у плеча, накрыться с головой, одеяло домиком, только маленькое окошко для света оставить — и чеши. Правда, неудобно, душно, глаза в полутьме, косить надо, да ещё каждую минуту ожидай — войдут и одеяло сдёрнут. Ну да ладно, теперь что говорить: ищи-свищи.
А спать днём — всё равно не заснёшь. Ганшин сколько раз пробовал: и просто с закрытыми глазами лежал, и до ста считал — не выходит. Как быстро летит время, если о нём не думать! А если думать, кажется, никогда этот час не кончится. И разговаривать нельзя — Евга по коридору между палатами ходит.
Разве что шёпотом.
Ганшину сделалось вдруг жарко, и он раскрылся по пояс. Одеяло свесилось и стало мести пол.
— Ты что, с ума или с глупа? — спросил тихонько Поливанов. — Не холодно? — И он оглянулся на заледеневшее по краям окно.
— Не-а, я могу весь мёртвый час так пролежать, — неожиданно для себя похвалился Ганшин.
— Ну да! — шёпотом сказал, повернувшись к нему, Костя. — Спорим, не пролежишь?
— Спорим. На что?
— На «челюскинцев». («Челюскинцы» была серия марок, которую недавно прислали Севке, она ещё не перекочевала в Костин мешок.) До звонка голый пролежишь, десять французских колоний отдаю.
Спор сладился. Ганшин совсем сбросил одеяло, простыня повисла вслед, прикрывая одни торчащие ступни.
В палате было тихо — не дай бог, Евга накроет, — но никто и не думал спать. Десять пар глаз жадно следили за исходом поединка.
Ганшин твёрдо решил держаться. Лебедеву в фашистском плену было похуже, а он всё вынес, не выдал наших секретов… На счастье, Евга пока не объявлялась. Становилось, однако, прохладнее. Струйки холода поднимались от коленей к животу и бежали по рукам ознобом — холодные, противные мурашки. Чтобы время не тянулось так медленно, Ганшин попробовал считать до тысячи. Проползли, наверное, минут пять, потом десять. Что-то заскреблось в горле у Ганшина, защипало в носу, и он понял, что сейчас чихнёт. «Да ведь я после ванной», — вдруг вспомнил он. Что-то заходило у него в носу и потекло в глотку.
Костя заскучал и недобро посматривал на Севку.
— Ладно, укройся, — великодушно разрешил он.
Но Ганшин не шелохнулся. С какой стати, если столько пролежал?
Он мелко дрожал всем телом, но со злым упрямством повторял про себя: не сдамся, не уступлю.
— Укрывайся! — громким шёпотом снова сказал Костя. — Я ничью предлагаю.
Похоже, он боялся проиграть.
Ганшин лежал, весь покрытый гусиной кожей, пытаясь удержать маршевую дробь, которую выбивали зубы.
— Кончай, Севка, — поддержал Костю испуганный Игорь Поливанов. Спор принимал нехороший оборот.
— Вот что, — произнёс Костя неожиданно, — ты мне всё равно проиграл, потому что я спорил, что ты пролежишь голый, а ты ведь рубахи не снял. Ну, так и быть, пусть ничья.
Ганшин едва не расплакался от обиды. Но у Кости правота железная — скажет, не возразишь.
Севка молча подтянул, захватив с пола пальцами здоровой ноги, простыню и одеяло. Закрывшись с головой и жарко дыша в ладони, он стал понемногу согреваться…
Вот и мёртвый час проскочил, а после полдника кое-что хорошее ожидалось. Говорили с утра ещё, что в дежурке разбирают почту, там писем навалом. А потом Изабелла обещала привести настоящего военного, командира РККА. О нём давно все рассказывали. На войне он командовал артиллерийской батареей, приехал долечивать в тыл тяжёлые боевые ранения и в Белокозихе сразу стал знаменитостью: по званию капитан и только-только с фронта.
Но прежде возник Юрка Гуль с защитного цвета сумкой на боку. Он зажёг свет, прогоняя ранние сумерки, и объявил, что пришёл знакомить будущих пионеров с правилами противохимической защиты. Он натянул себе на лицо резиновую маску, отчего стал похож на слона с мотающимся хоботом. Большие круглые стёкла закрывали глаза, а на месте носа оказалась толстая серая трубка, собранная в гармошку.
Юрка попробовал что-то сказать, но из-под маски раздалось одно гнусавое ворчание. Палата громыхнула смехом. Гуль сорвал маску с красного прыщавого лица и почему-то рассердился.
— Вы не уважаете честь пионерского звена! — запальчиво закричал он. — Немедленно ухожу в другую палату.
Все испугались, что он унесёт противогаз, и дружно запротестовали. Его так жалостно просили объяснить действие этой штуки и хоть немного дать подержать её, что Гуль смилостивился.
Первым надевал противогаз Гришка, потом Костя, наконец, дошло и до Ганшина. Растянув послушную резину, он напялил зелёную маску и с трудом сделал первый вдох. Слабые лёгкие не могли продышать сквозь уголь, которым была наполнена сумка. Дыхание становилось всё короче, стёкла запотевали, резина хлюпала у носа и щёк, и пришлось сбросить маску, чтобы не задохнуться.
— Лучше всех у Гриши выходит, — отметил Гуль. — Надо, ребята, тренировать себя на задержку дыхания и сильный вдох. В боевых условиях противогаз нельзя снимать, пока не покинешь зону заражения газами. Непосредственно вам пока это не грозит, химическая война ещё не объявлена, но советские дети ко всему должны быть готовы. Будь готов к труду и обороне — вот наш девиз!
Противогаз рвали друг у друга из рук Поливанов и Жаба, а Юрка тем временем подошёл к Ганшину и протянул ему картонный узкий коробок. На нём был нарисован цветной забавный человечек с ведёрком и кистью в руках. Это были краски!
— Вот, с сегодняшней почтой тебе прислали, — сказал Юрка, наклонившись над постелью Ганшина и доверительно понизив голос. — К сожалению, коробка некомплектная. Родители, что ли, так послали или в дороге потерялось? Бандероль надорванная пришла. И перевод там ещё на двести рублей — я Изабелле Витальевне отдал.
— А письма от мамы нет? — спросил Ганшин. Он привык, что с бандеролями приходили и письма.
— Письма почему-то не было, — ответил Юрка. — На почте много теряют. Надо разобраться, я с директором поговорю. Вот у девочек тоже: Лякиной родители четыре блокнота послали — пришло два, Бухарцевой выслали двадцать открыток, а получили десять. И книги не все доходят. Может, военная цензура не пропускает? — наморщил лоб Юрка.
Но Ганшин уже его не слышал: он разглядывал краски. Синей и красной, жалко, нет — только оранжевая, зелёная, коричневая, фиолетовая… Зато в особом отделении тоненькая пушистая кисточка. Эх, порисуем!
А Гуль снова поднял руку, призывая ребят к тишине.
— Внимание! Жабин, отдай противогаз… Поливанов, не тяни трубку. Ти-хо! Вы знаете, все советские люди в тылу помогают фронту. Не только работают ударно, а шлют посылки с продуктами бойцам, вяжут варежки, носки, кисеты. Простой колхозник Ферапонт Петрович Головатый передал сто тысяч рублей в фонд обороны. Ему товарищ Сталин лично благодарность прислал, все газеты писали. У нас в крае тоже начат сбор денег на танковую колонну, и санаторий не останется в стороне. Каждый трудовой рубль — вклад в нашу победу. Кто хочет подписаться?
Ребята изумлённо молчали.
— А если денег нет? — первым решился Костя.
И все зашумели: «Ещё бы не хотеть…», «Мы бы тоже…», «А где деньги взять?».
— Ну, положим, некоторым родители посылают, — сказал Гуль. — Что я, не понимаю, что у вас при себе нет. Вам денег не положено держать. Но ведь подписаться вы можете. А тот, на чьё имя родители переводят, по вашему желанию обязан выдать в фонд обороны.
Все посмотрели на Ганшина. Он густо покраснел.
— Я что же, я согласен.
— На сто рублей подпишешься? — спросил Гуль.
Севка кивнул. В первую секунду ему стало немножко не по себе: не то что жалко, а не обиделась бы мама. Но тут же он устыдился: чего раздумывать? Ганшина затопила вдруг волна гордого удовольствия. Он сам, как взрослый, помогает фронту.
— А если на сто пятьдесят? — выпалил он неожиданно для себя.
— Ну что ж, отлично, — одобрил Гуль.
— А можно на двести рублей, Юра? — снова спросил Ганшин, замирая, как азартный игрок от счастливого риска. Ему страстно хотелось теперь по-своему распорядиться деньгами, помочь защитникам родины, всё отдать, всем пожертвовать.
— Конечно, можно, — поддержал его Юра. — Мне Изабелла Витальевна сказала, что у тебя триста с лишним родительских.
— Сева, — сказал вдруг, жалостно мигая куцыми белёсыми ресницами, Костя. — А мне пятьдесят рублей не продашь? Я тебе французские колонии отдам, те, на что днём спорили, и ещё тридцать открыток.
Ганшин был в каком-то весёлом угаре.
— Конечно, продам. Юра, запиши, Костя пятьдесят вносит.
Но тут и Поливанов попросил — ему тоже мама писала, что высылает перевод. А пока взаймы пятьдесят, а?
Ну, как откажешь другу? Бери, Игорь, сколько просишь, вноси на танковую колонну!
— И мне, и мне, и мне! — закричали Жаба, Гришка, Зацепа. Но им давать — велика честь. Больно жирно будет. Да и денег вроде не осталось.
— Ладно, ребята! — остановил разгоравшийся базар Гуль. — Молодцы. Вижу, в седьмой палате лежат патриоты. Да я в вас и не сомневался. Всё для фронта, всё для победы! Наш танк поможет бить врага. Кто знает, может, и мы телеграмму от товарища Сталина получим. А Севу Ганшина отметим особо, вынесем ему благодарность и ко дню Красной Армии, двадцать третьего февраля, — в пионеры.
Подойдя к тумбочке, Гуль стоя стал заполнять какой-то лист. Лицо его выражало глубокую сосредоточенность, а уши, и вообще-то напоминавшие крылья, ещё больше разлетелись в стороны.
В эту минуту в палату заскочил, далеко выбрасывая костыли при каждом шаге, Толик Белоусов. Остановился рядом с Жабой и, дурачась, запел:
Хорошо тому живётся,
У кого одна нога.
И портяночка не трётся,
И ботиночка одна.
Все заулыбались. Толик поздоровался и спросил:
— Рёбушки, вас на танк подписывали?
— Подписывали, — ответил за всех с показным равнодушием Ганшин.
— Я бы тоже подписался. Никто пять рубликов взаймы не даст?
— Держи карман шире, — сказал Костя, — у нас у самих больше нет. Да ты и не отдашь, с тебя взять нечего.
— А я вам стеариновую свечку достану, — пообещал, понизив голос, Толяб. Он воровато оглянулся на Юрку, всё ещё возившегося у тумбочки. Но тот, похоже, не слышал.
Никто на предложение Толяба не отозвался. Ему вообще уже мало кто верил. Менял Толяб, менял — и весь променялся. Последний раз доску свою клетчатую с дырочками променял Косте на сто щелбанов. Костя сразу перевёл щелбаны на Жабу, и Толик ему отщёлкал: лоб у Жабы медный, только и вся радость. А теперь прыгает с пустыми руками.
— А я что зна-а-ю! — протянул заманивающе Толяб. Ему теперь только новостями и торговать. — Зоя Николаевна больше уроков вести не будет… Она теперь не учительница. Её в кастелянши перевели и вместо Наточки нас стричь.
— Юра, верно? — заволновались ребята.
— Верно, — подтвердил Гуль, подняв голову над бума гой. — Проверили — не отвечает квалификации. Зачем она бралась вас испанскому языку учить? И чего, чудачка, придумала. Пуэрко, — фыркнул Юрка, — «свинья»… Надо же, наука… И вообще не соответствовала. Она и так на ниточке держалась.
— А куда же её? — спросил растерянно Поливанов.
— Толик правильно сказал. Парикмахерскую машинку осваивает, стричь вас будет. Хлебные карточки — они всем нужны. Мария Яковлевна пробовала её защищать: «старые кадры, старые кадры», но Ашот настоял. Кремень-мужик! А арифметику и географию буду я у вас временно… Аста ля виста!..
Юрка забрал у Жабы противогаз и, приобняв за плечи Толика, увёл его из палаты, расспрашивая по дороге, каким это образом и где именно тот намеревался достать стеариновую свечку. Глупо думать, что он, Юра Гуль, ничего не слышал.
А Ганшин весь ещё был переполнен счастливым возбуждением. На животе лежал присланный мамой коробок с красками. Он перебирал их, вынимая из картонных гнёзд, и расставлял по-новому. Но главное, он казался сейчас сам себе первым человеком в палате. Что ему Гришка с его бицепсами и вертлявый Жаба, что ему сам Костя, если он и за него отдавал деньги на танк!
Он уже видел в мечтах этот
свой танк с красной звездой на башне, грозно лязгающими гусеницами и надписью «Алтаец». Танк летел на полном ходу и стрелял из скорострельной пушки, а из люка высовывался краснощёкий танкист в боевом шлеме, придерживавший древко знамени.
Танкист был совсем такой, каких видел Севка до войны на улице Горького в день парада. Он снова отчётливо вспомнил себя в то майское синее утро, в длинном пальтишке и вязаной шапке, немного смахивавшей на будёновку. Они с отцом только что вышли из дома и остановились у самого устья переулка. Пробравшись вперёд, сколько можно было, Севка застыл в разрыве оцепления, просунув голову под чьими-то скрещенными руками. И понеслись из чёрных раструбов репродукторов боевые весёлые марши, и помчались, цокая копытами, огненные кони, запряжённые в тачанки. Замелькали перед глазами красноармейцы в будёновках, командиры в зелёных фуражках, задрожала земля, грозя пустить трещинами свеже положенный на булыжник асфальт, загремел воздух, глуша живые голоса, и появились, наконец, танки… А у Севки — звёздочка на груди, в одной руке сине-розовая вертушка, в другой — прозрачный малиновый петушок на палочке — счастье!
Ганшин вспомнил, как мечтали все во дворе, чтобы скорее началась война. Настоящая война! Мама с ужасом взмахивала руками, слыша эти слова. А в тот день, когда война в самом деле началась, он лежал с другими мальчиками на верхней террасе в Сокольниках. Перед обходом, во время солнечных ванн, вдруг забегали с озабоченными лицами, зашептались взрослые, и кто-то произнёс негромко: «Война». «Ура-а-а!» — завопила вся верхняя терраса. Ожидалось что-то необычное, весёлое, беспокойное! И потом — завывание сирен воздушной тревоги, буханье зениток, стоявших неподалёку в парке, ночёвки на тюфяках в подвале…
Вспомнил он и лицо мамы, когда она наклонилась над ним, поспешно прощаясь в палате московского санатория — через полчаса их увозили из города. Мама говорила, что не может взять его домой, как некоторых берут. Врачи не советуют, да и сама она не знает толком, куда их учреждение из Москвы поедет. И заплакала. Севка сказал смущённо: «Мама, я не знал, что война — такая гадость» — и тоже заплакал.
Ганшин мотнул головой, прогоняя эти видения. Лучше о другом думать. Теперь его танк будет бить врага. Интересно бы знать, сколько стоит танк? Эх, забыли спросить у Юрки. Ясно, что на его деньги не то что танк, наверное, и пушечку, стреляющую из башни, не купишь. Но хотя бы мушку на стволе — на неё-то Севкиных денег хватит?
Глава десятая
ФУРАЖКА В КАШЕ

авно обещанного гостя ждали, ждали и ждать перестали. Изабелла говорила, что приведёт его перед ужином, а сама прежде завела в девчачью палату. Он там целый час про войну рассказывал. Обидно, и что девчонки в этом понимают? Теперь ему отдохнуть надо, а после он в седьмую придёт.
— Видела я вашего героя в дежурке. Такой представительный, с нашивками, — сказала тётя Настя, ещё пуще разжигая нетерпение ребят. — Сейчас только подкрепится, ему котлетку сготовили, пюре картофельное, спиртику мензурку… Уже кончает.
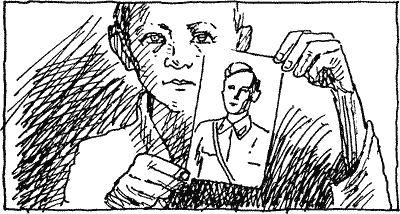
Изабелла залетела в палату чуть раньше гостя. Велела поправить постели, подтянуться, встретить командира организованно, по-военному.
— Хочу предупредить, у Петра Лукича тяжёлая контузия, ранение осколком в голову. Так что вопросами его слишком не допекайте. К тому же сами понимаете, о многом не расскажешь — военная тайна. Пусть говорит, о чём сочтёт нужным.
— А мы сегодня деньги на танк собирали! — не сумел промолчать Ганшин. — Можно, мы ему скажем?
— Слыхала, слыхала про ваши подвиги, — не отвечая на вопрос, отозвалась Изабелла. И, прищурившись, посмотрела на Севку, так что ему даже не по себе стало. — Мать Ганшина в каждом письме спрашивает, не голодает ли мальчик, не прислать ли денег. А деньги ей, наверное, не на блюдечке подносят… Конечно, дело важное, патриотическое, — спохватилась она. — Мне Юра рассказывал, как вы тут митинговали. Всё для фронта…
Ганшину стало стыдно за Изабеллу. Всегда она так всё понимает, а тут вроде не до конца, не совсем сознательная, что ли.
— Ну, где здесь седьмая палата? — раздался тем временем из коридора мужской, зычный, непривычный голос, и, чуть пригнув голову под притолокой двери, вошёл высокий военный в командирском кителе и с забинтованной головой. В руках он держал фуражку.
— Пионеры и октябрята, смирно! — скомандовала Изабелла.
Все вытянули руки по швам и застыли на кроватях, повернув головы к вошедшему.
— Вольно, вольно, — не торжественно, как-то по-граждански сказал он и остановился в ногах у Зацепы.
Лицо вошедшего было волевое, строгое, но неожиданно он улыбнулся широкой, расточительной улыбкой, и все заулыбались в ответ.
— Ух, какие бузотёры! — И капитан обвёл глазами палату. — Давайте знакомиться. Капитан Ломов Пётр Лукич, одна шпала. Воевал на Юго-Западном фронте, ранен под Харьковом. Контужен. Красная нашивка и две жёлтые — видите? — Капитан показал рукой на грудь. — Обычно спрашивают. Сразу отвечаю: красная — тяжёлое ранение, жёлтые — два лёгких. Долечиваюсь здесь в госпитале.
Ребята глядели во все глаза: перед ними человек с фронта, настоящий герой, раненный вражеским снарядом, в кителе, пропахшим пороховой гарью! О таких они только в газетах читали в рубрике «Боевые эпизоды» — у Кости навалом этих вырезок.
— Ну, что вам, ребята, рассказать? — обратился к ним гость.
— Про войну… — пискнул Жаба.
— Расскажите про боевые эпизоды, — побледнев от волнения, солидно попросил Костя.
— Га! — Капитан снова широко улыбнулся и провёл ладонью по забинтованной голове. — Когда воюешь, ребята, все эпизоды боевые. Я в артиллерии служил. Что в нашем деле главное? Главное — определиться на местности: противник — наши войска! — Капитан энергично разрезал воздух ладонью. — Вышел на позицию. Определяй цель по угломеру. Заряжай! Пли!
Его слушали с пылающими щеками.
— А ребята на войне бывают? — неожиданно звонко выкрикнул Зацепа.
Капитан оглянулся на мальчишку с огромной голой головой и тонкими ручонками.
— Случается. Могу рассказать про одного пацана. Лет тринадцать, наверное, ему было… Тебе сколько? — обратился он к Зацепе.
— Девять.
— А тебе? — спросил он у Кости.
— Ну вот, почти как вы был парнишка. Командование его потом к медали «За боевые заслуги» представило. Родом из-под Житомира. Когда отступали, потерял своих, скитался в прифронтовой полосе и к нашей батарее пристал. А у нас связиста убило, он линию потянул…
Гостя слушали как заворожённые. Слышно было временами, как свистит ветер в неплотно закрытой форточке да потрескивает что-то за старыми обоями на стене.
Мало-помалу осмелев, ребята засыпали гостя вопросами. Интересовались, скоро ли убьют Гитлера и когда ждать революции в Германии? Спрашивали, случалось ли видеть капитану настоящую психическую атаку?
При каждом вопросе капитан насторожённо хмурился, обдумывал что-то, потом широко и дружелюбно улыбался, вызывая встречную волну улыбок, и начинал напористо и убеждённо говорить. Рассказывая, он порою горячился, обрывая себя на полуфразе, что-то вспоминал, вскрикивал и вдруг хрипел, будто петлей перехлёстывало ему горло.
— Пётр Лукич устал, отпустите его, ребята, я же вам говорила, — уже не в первый раз негромко повторяла Изабелла.
Все начисто забыли её предостережения, а ведь она заранее объяснила, что у капитана снесено снарядом чуть не полчерепа, врачи едва вернули ему жизнь и на затылке у него тонкая плёнка кожи, так что долго мучить вопросами его нельзя. Но гость и сам разошёлся.
— Фрицев и Гансов, ребята, мы били, бьём и будем бить. Даже в условиях отступления крепко давали им прикурить… Главное, на местности определиться: противник — свои войска. А скоро начнём наступать. Я лично хочу вернуться скорее в часть.
— Мы тоже на войну хотим, — выкрикнул Жаба.
— Вот и молодцы! — неожиданно поддержал Жабу капитан. — Вставайте скорее, ребята, чего слушать врачей! Меня в госпитале трижды к смерти приговаривали, а я встал и пошёл!
Все яростно, с восторгом аплодировали. Ребята вертели головами, заглядывали друг другу в пламеневшие надеждой лица. Вот это да! Как и все, Ганшин чувствовал, что уже полюбил его, восхищался каждым его словом, преклонялся перед ним и в душе называл не иначе чем «капитанчик», не зная, как получше обласкать.
Но Изабелла решительно вмешалась, чтобы поправить положение:
— Не поймите, ребята, Петра Лукича буквально. Хорошо лежать, слушаться медперсонала — ваш лучший подарок фронту. Правильно я говорю, Пётр Лукич?
Капитанчик, соглашаясь, тряхнул
забинтованной головой.
— Слушайтесь старших, ребята, — сказал он, сообразив, что заехал чуть-чуть не туда. — В армии тоже без дисциплины не прожить. А выздоровеете — тогда на фронт!
Игоря Поливанова давно уже томил один вопрос, но он всё не решался поднять руку. Ему хотелось спросить про отца. В палате всем известно было, что отец Игоря, младший лейтенант Поливанов, с июня сорок первого ушёл на фронт, так что и на войне его, конечно, должны знать. От него давно, правда, не было вестей, но мама переслала Игорю в Белокозиху отличную фотографию отца в командирской форме. Фотография была большая, в половину тетрадной страницы, слегка коричневатая, на плотной бумаге. Игорь хранил её среди писем мамы в надёжнейшем месте. В ожидании гостя он заранее вынул её и положил под руку на одеяло.
— Пётр Лукич, — решился наконец Игорь, — вы не встречали на войне младшего лейтенанта Поливанова?
— Поливанова? — Лицо капитана выразило недоумение.
— Отца нашего Игоря, — пояснил Ганшин.
— Позвольте, Поливанова? — переспросил гость, как бы вороша что-то в памяти. — А на каком фронте воюет?
— На юге, кажется. Он маме из-под Киева писал. Вот его карточка.
Капитан подошёл к Игорю, наклонился над ним, и от него слегка пахнуло махоркой и спиртом. Он взял в руки фотографию чернобрового лейтенанта и долго глядел молча на молодое незнакомое лицо.
— Вроде встречал… Было, кажется.
Пётр Лукич кривил душой. Ничего ровно не сказало ему это лицо. Да если бы он где и видел невероятным случаем этого лейтенанта, разве запомнил бы в той сумятице отходных боёв, отступления по горящим дорогам Украины, переправ под бомбёжкой?
Игоря его ответ тоже обескуражил. И зачем он с этой фотографией полез? Почему-то он был уверен, что капитан отлично знает отца, и втайне ожидал минуты торжества, когда тот начнёт рассказывать о своих встречах с лейтенантом Поливановым, о его подвигах на войне. А он едва вспомнил… Что теперь ребята подумают?
Тётя Настя уже внесла миски с ужином — пшённую кашу, конечно, и капитанчик заторопился уходить.
— А нельзя вашу фуражку посмотреть? — попросил напоследок Гришка.
Капитан подошёл к нему и протянул фуражку защитного цвета, с таким же козырьком и маленькой красной звездой на ободе. Гришка повертел фуражку в руках и передал Косте. От Кости она перешла к Поливанову, от него — к Ганшину.
Севка первый догадался её примерить. Приподнялся на локте с маленькой плоской подушки и надвинул фуражку па затылок, а чёрный узкий ремешок под подбородок пустил. И ещё под козырёк прямой ладошкой взял.
Ну и Севка! Капитанчик улыбнулся, и все позавидовали Ганшину почему никто прежде не решился так сделать?
— Герой, и вид самый геройский, — поощрил его Пётр Лукич, зайдя между постелями Ганшина и Поливанова.
— Дай мне поносить, — нетерпеливо дёрнул его Поливанов, и Севка стал снимать фуражку.
— А-а! — вдруг коротко выдохнул Ганшин.
Капитанская фуражка выскользнула у него из рук и свалилась в миску с пшённой кашей.
— Ну вот, этого только не хватало, — сказала Изабелла Витальевна, помогая стереть кашу с тульи и козырька. — Как попадёт к Ганшину — пиши пропало.
«Да, всё-таки Севка шальной, вечно с ним история», — подумал Поливанов.
Ганшин между тем покраснел, как варёный рак, и с трудом выдавил:
— Я нечаянно.
— За нечайно бьют отчайно, — обрезала Изабелла.
Но капитан ничуть не огорчился.
— Великое дело, — сказал он, принимая мокрую фуражку и стряхивая остатки каши с козырька. — Будем считать, ребята, что мы крепко подружились. Выздоравливайте, и вместе пойдём бить врага.
Прощальные возгласы понеслись со всех постелей, и они провожали гостя, пока его рослая фигура с белой повязкой на затылке не исчезла в полутьме коридора.
Только Костя помалкивал. Его сердце томила обида. Как случилось, что он остался в стороне? И фуражку не решился надеть (уж он бы её в кашу не свалил), и фотографией отца, как Игорь, не смог похвалиться. Отца, правда, у Кости не было, но зато был старший брат-краснофлотец. В глубине тумбочки, сколько рука достанет, Костя тоже хранил обёрнутую в старую газету ещё довоенную, с измятыми краями глянцевую фотографию. На той фотографии была изображена его мать в белом с крапинками деревенском платке, казавшаяся старухой, а рядом прямо глядел в аппарат рослый, совсем юный, с едва пробившимися над губой усами матрос в полосатой форменке. Снимались, видно, в районном посёлке в день проводов. О брате Костя ничего больше не знал. Мать была малограмотна, кругом пищала младшая ребятня, и, как сдала Костю в санаторий, лишь в первый год раза два приезжала к нему, а писем совсем не писала. Что там, интересно, дома, в деревне? Он представил себе, как вечерами, уложив детей, вымыв посуду и отскребя чугунок, мать садится у края стола, сложив руки на переднике, и вздыхает привычно: «Где там наш Костенька, Кистинтин?»
От этих мыслей Косте стало совсем горько. «Ладно, маменькины сынки, попляшете вы у меня», — подумал он с мстительной обидой и принялся скрести ложкой края миски.
У Ганшина кашу унесли, вроде бы сочли её попорченной микробами с фуражки, и недовольная Евгения Францевна хлопотала заменить ему порцию. Но есть Ганшину не хотелось. Его знобило и подташнивало.
— Не надо, Евгения Францевна, не люблю я кашу, — с капризным раздражением сказал он.
— Кашу надо не любить, а кушать, — размеренно и привычно завела Евга. И вдруг, внимательно поглядев на Ганшина, прикоснулась ладонью к его лбу. — Господи, да ты совсем горячий.
Уже пришла ночная смена и колокольчик дежурной должен был вот-вот прозвенеть отбой, когда выяснилось, что у Ганшина подскочила температура. Вызвали Ольгу Константиновну, она послушала его, помяла живот, и тётя Настя, ворча и чертыхаясь, так как смена её давно кончилась, отнесла Ганшина в отдельную узенькую палату в другом конце коридора, называвшуюся изолятор.

Глава одиннадцатая
ЁЛКА

олова горит. Веки тяжёлые — разлепить трудно. А откроешь глаза, над тобой грязный потолок. Побелка осыпалась, и в углу ещё какие-то зелёные, в жёлтых разводьях пятна.

Стены изолятора голы, пусты, и только если нянька, выходя, не плотно затворит дверь, промелькивают из коридора тени, оранжевые отблески огня. Там, в прихожей, чуть вправо от двери, вспомнит Ганшин, большая печка топится. А неподалёку титан с кипятильником. Слышно, как вошедшие с улицы стучат ногами, обивая снег с валенок. Падают сброшенные на жестяной лист у печи дрова, скрипит чугунная дверца, потрескивают поленья, и наносит по полу вместе с тёплым печным духом горьковатую струйку дыма…
И снова чёрный провал. Пить, пить! Страшная сухость во рту, всё обметало, язык распух и еле ворочается. Пить!
Чьи-то руки тянут к губам эмалированную кружку с горячим чаем. Края кружки жгутся, много не отхлебнёшь. Не надо… хватит. Знакомый голос уговаривает проглотить лекарство:
— Сева, ну одну ложечку…
Мама?.. Не может быть. Не она. Кто это был — Оля или Евга?
В коридоре погромыхивают кружками у титана. Слышны разговоры вполголоса:
— Почему Шебякина не вышла?
— Отгул взяла за ночное дежурство.
— А Емельянова где?
— Сестру хоронит.
— В добрый час, пусть хоронит. Работать кто будет?
Какая, однако, голова мутная. И ледяные мурашки поползли по ногам. Руку на живот, под рубашку, — кожа сухая и горячая. Озноб пробежал по спине. Хочется подтянуть одеяло к подбородку. Мне холодно, холодно!
Приносят и наваливают на Ганшина какую-то тяжесть. Мех, наверное. Вот и теплее стало… Ух, а теперь жарко! Оранжевые и синие круги расплываются перед глазами, хочется скинуть мех на пол. И стучит в груди мелко и дробно: бух-бух-бух. И чьи-то лица возникают, как за марлевой занавеской.
— Вероятно, брюшняк. Третий случай за месяц. Но не исключено, что инфлюэнца, — слышит он голос Ольги Константиновны. — Больше пить тёплого… Наверное, тиф всё-таки.
На девятый день, проснувшись, Ганшин с утра почувствовал себя лучше — только слабость да особая лёгкость во всём теле. И сразу же стало скучно. Как там ребята? Всё-таки тошно лежать одному. За всё утро зайдёт раза два Оля — градусник поставить. Да Настя принесёт на завтрак кашу или рисовый отвар. Удивится:
— Ух, как похудел-то, Сева. Болезнь, она никого не красит.
Потом вернётся забрать тарелки, увидит, что он едва притронулся к еде, и скажет нараспев:
— Ешь, пока рот свеж, а завяня и не загляня.
Вот и все события с утра, и разговоры все.
Днём же огромное пространство пустого времени, тишины, немоты. Водишь пальцем по жёлтой дуге в изголовье кровати… Если долго смотреть на места, где облупилась краска, начинает казаться, что это человечки. Они шевелятся, перескакивают, беседуют друг с другом. Разглядываешь их и мало-помалу успокаиваешься. Можно и о Москве, о доме подумать. Но тогда скоро хочется реветь, становится всего жалко. Мама-то не знает, что с ним случилось. Впрочем, жалей не жалей… А что там в седьмой палате? Наверное, «Истребитель два зет» все уж прочли. Интересно, на кино кого возили? Чья очередь? Поливанову, наверное, посылку прислали, он давно ждёт… Почему-то кажется, что главное без тебя там случилось.
Если задрать голову, сквозь прутья кровати видно неширокое окно. Там улица в сугробах, снежные увалы за дорогой. А сбоку, у самой оконной рамы, — телеграфный столб с двумя белыми, фарфоровыми роликами на изогнутых крюках. Столб серый, сухой, щелистый, вымоченный дождями, высушенный морозным ветром. Смотришь на этот столб, и дурацкие мысли лезут в голову: сколько лет он так стоял и сколько ещё простоит? Наверное, ведь до войны поставили. И вот сейчас ты на него смотришь, потом забудешь, а он всё будет стоять… А что, если для интереса эту самую минуту, что сейчас, этот миг запомнить, а потом подумать о нём через месяц, через год? И именно эту секунду, как лежал и думал: «Вот вижу этот щелистый столб…» Странная штука время! Идёт, утекает зазря, и никогда о нём не жалеешь, даже подогнать хочется — когда там 1-е Мая или день рожденья. А ведь этой минуты больше никогда-никогда не будет…
Ганшин даже головой крутнул. Зафилософствовался, посмеялась бы Изабелла.
Протопали валенки по коридору, и мимо дверей, слегка их царапнув, зашелестело что-то, будто волоком протащили по полу большой веник, и запахло забытым, лесным, домашним. Ёлка! Господи, ведь Новый год скоро, а он позабыл совсем. Неужели не переведут в палату до ёлки?
Ганшин ещё здоров был, говорили, что директор заказал ёлки в лесничестве — на Рыжухе их привезут и в каждую палату поставят. Уже и игрушки начинали клеить с Изабеллой по вечерам, бусины и цепи. Цветные обложки старых журналов резали на полоски клинышками, навёртывали на спичку и клеили. И о подарках был разговор. Толяб пронюхал где-то, что дадут вафли, настоящие довоенные вафли в слюдяном пакете… И надо же, лежи себе тут!
Смеркалось в изоляторе рано, но никто не торопился принести свет. Хоть бы скорей пришли вечернюю температуру мерить.
— А ёлка когда? — почти выкрикнул он, едва Евгения Францевна возникла в его комнатке с керосиновой лампой в одной руке и градусником в другой.
— Ёлка? — неторопливо отозвалась Евгения Францевна. Она установила лампу на тумбочке и теперь прикручивала фитиль. — Да у мальчиков сегодня перед ужином проводят, у девочек — завтра. Наряжают уже, готовятся…
Она не заметила, что губы у Ганшина поползли вкривь. Он едва держался, чтобы не зареветь.
— Изабелла Витальевна снег делать придумала, — продолжала своё Евга. — Как будто у нас медицинскую вату, как говорится, девать некуда. — И она досадливо пожевала губами. — Зажми термометр крепче.
Но Ганшин её не слышал. То есть как сегодня? Почему сегодня? До ёлки вроде ещё столько дней было. И что же теперь — без него?
Севке захотелось сказать Евгении Францевне какую-нибудь дерзость. Но он не мог сообразить, что бы такое придумать. Сюда бы Игоря, как у него это тонко, ядовито получалось… И не прицепишься.
— А у фрицев Новый год когда? — вдруг выпалил он. Но тут же осекся, почуяв, что сглупил. Ведь рядом не было ребят, а шутка хороша, когда её поддержат гоготом и можно торжествующе переглянуться с соседом по койке.
Нехорошая тишина повисла. Евга вспыхнула, оборотилась спиной и вышла. Её не было долго, а когда она вернулась за градусником, в руках у неё был довоенный «Пионер» с цветными картинками. Спросила как ни в чём не бывало: «Сева, хочешь почитать?» Ещё бы! Нашла чего спрашивать!
Журнал был старый, читаный-перечитаный, с порванной обложкой и грязными, замусоленными уголками страниц. Но и то лафа, книги в изолятор носить запрещалось: их надо потом сжигать, наползут микробы.
Ганшин с наслаждением листал журнал и долго вглядывался в картинку: девочка-таджичка в расшитой тюбетейке, а рядом знакомое, усатое, улыбающееся, с отцовскими морщинками в углах глаз лицо любимого вождя. Повезло девчонке! Ну что она такого особенного сделала? Хлопок собирала двумя руками, насобирала — и нá тебе! На руке Мамлакат были часы, подаренные вождём. Ганшину бы такие. Коська сдох бы от зависти. Пусть кто посмел бы тогда Севку пальцем тронуть.
И мечты Ганшина понеслись, как подхваченные резвым ветром. А вдруг его и правда наградят? За что только? Ну, а если Евга немецкая шпионка? Сейчас-то ясно, она испугалась, нарочно к нему подлизывается, чтобы не заподозрили… Но вот она склонится вытяжение поправить, а из кармана халата у неё случайно бумажка выпадет… со шпионским шифром. Она не заметит, а Ганшин подберёт, спрячет и потом её разоблачит. И все узнают о подвиге эвакуированного в тыл пионера, и Сталин подарит ему точно такие часы… Но тут некстати, как во сне бывает, возник почему-то перед глазами стог соломы и корсиканские карабинеры, шарившие в нём штыками. И Изабелла, заложившая за спину руки, у доски, со своими подковырками…
Ганшин потёр ладонью виски и щёки: отчего это так страшно запутанно всё в жизни. Когда Изабелла объясняет на уроке, всё ясно. А одному — попробуй разберись.
Слышно стало, как в конце коридора заиграл баян Юрки Гуля: «Платком взмахну-у-ла у ворот…» И весёлый вопль мальчишеских голосов долетел издалека. Похоже, что в палате начинался праздник.
Дверь в изолятор распахнулась шире обычного. Евга торжественно несла перед собой пушистую еловую ветку. Она подошла к изголовью кровати и воткнула конец ветки в отверстие на верхней планке (до войны во время воздушных ванн на большой террасе туда зонты всовывали). Потом аккуратно стала закреплять ёлку жгутиком бинта.
Пока она возилась с бинтом, Ганшин, задрав голову, разглядывал казавшуюся ему огромной сине-зелёную ветку. На ней сверкала самодельная звезда из золотой бумаги, висела морковка из ваты, обмазанная клеем и розовой краской, с зелёным бумажным хвостиком, и маленький, но настоящий, покупной серебряный шар с сияющим зеркальным боком. Ёлка пахла смолой, московским домом, шоколадом «Золотой ярлык», порохом хлопушек с резными оборками по краям, забытым детством.
Тем временем Евга, с лицом важным и строгим, извлекла из кармана халата две тоненьких жёлтых свечи, посаженных в маленькие подсвечники-прищепки. Неужели зажжёт? Ведь она первая обыскивала тумбочки и туалетные мешки, отнимая спички.
— Я вообще-то против свечей, — сказала Евга, — и Ольга Константиновна в противопожарном отношении предупреждала. Помещение сухое, деревянное, сгорите, как говорится, заживо… У меня сейчас дежурство кончается. Бурмакина выйдет. Посижу у тебя немного.
Замелькали над стриженой головой Ганшина её красные руки с рябинками, видные по локоть из-под коротких рукавов халата, чиркнула спичка, пахнуло восхитительным запахом серы и воска, и затрепетали, легонько потрескивая, два ровных, с овальным остриём язычка пламени над синей хвоей. Севка глядел на них, как окованный, не отрываясь.
Евгения Францевна взглянула на Ганшина, на его счастливые оцепенелые глаза, задранный вверх подбородок, и её воспалённо-красноватое безбровое лицо посетило выражение сурового торжества. Она устроилась на стуле в углу, за тумбочкой, и стала сшивать мешок для песочника.
— Пока догорят, я с тобой посижу, — повторила она.
Ганшин кивнул. Помолчали немного.
— Когда я маленькая была, — сказала вдруг Евга, — старший брат всегда дарил мне на ёлку большую шоколадную бомбу в золотой бумаге, а внутри сюрприз — ангелок или обезьянка. Таких потом не делали, Сева.
Ганшин удивился, но виду не подал. Неужели Евга была маленькой, и у неё брат, и она ждала ёлки? Мура какая-то. Просто смех. Это она — старая, сварливая, поджимающая губы в нитку — ждала под Новый год подарков? Она, умевшая только зудеть о дисциплине и о том, как надо лежать больным детям?
Вот и сейчас, уже забыв про ёлку, Евга что-то привычное бурчит:
— …Сегодня опять в третьей палате режимные моменты нарушали. Букин сел в постели прямо, как говорится, у меня на глазах. Я его останавливаю, а он — ноль внимания.
Свечи горели долго, и, успокоенный их ровным светом и тихим бормотанием Евги, Ганшин стал задрёмывать.
Евгения Францевна услыхала, что он посапывает, поднялась со стула, прикрутила фитиль в керосиновой лампе и снова села. Домой идти ей не хотелось. Да и что это был за дом? Каморка у глухой старухи… Когда ставили в Белокозихе эвакуированных по квартирам, все разбирались по двое, по трое, в хороших избах. А ей предложили одной, в пристроечке, бывших тёплых сенях с заложенной дверью. Директор вид сделал, что так для её же удобства — одной спокойнее. Санаторские знали её нрав, и мало кому хотелось жить с ней под одной крышей.
Поселившись одна, Евгения Францевна долго возмущалась теснотой, грязью, тараканами, ходила жаловаться к эвакуатору и в дирекцию. Но потом смирилась, постелила покрывало на грязную перину, поставила у постели списанную тумбочку. Накрыла её привезённой из Москвы кружевной салфеткой, а на салфетку поставила будильник и фарфоровую чашку, ещё мамину, чуть треснутую, с голубыми саблями на донце. В её углу стало чисто, уютно. И всё же ей не хотелось возвращаться домой, слушать завывание ветра за косым оконцем да кашель глухой старухи-хозяйки.
Евгения Францевна взглянула на сладко спящего Ганшина и вздохнула. Другие сёстры, санитарки, врачи вечно спешили к концу дня, и минутой не пересиживали смену. Да и понятно. Бурмакина Оля спешила — так ей надо было успеть переодеться дома и на танцы в клуб, где ждал её какой-нибудь затянутый в ремни розовощекий курсант. Настя спешила — так у неё дома дети, и хотелось скорей донести в кастрюльке остатки санаторской каши или сметаны четверть кружки, если дадут по уговорённости в раздаточной… Изабелла спешила, потому что в избе, которую она снимала, в той же комнате, жили ещё две местные учительницы её возраста и после проверки тетрадок им весело было посмеяться, посудачить втроём, попить чайку, повздыхать. Однажды Евгения Францевна зашла к ним по делу, уже поздновато было, и понять ничего не могла: из перины летал пух, все глупо хохотали и носились по углам как угорелые, в ночных рубашках, а Изабелла, точно девчонка, била двумя руками по перине и кричала: «Берегись! Запушу!» Всё-таки она ещё не зрелая как педагог.
Евгении Францевне же спешить было некуда: ни родных, ни знакомых. Она давно жила одиноко и никому не рассказывала о себе. Ей самой временами казалось теперь странным, что был и у неё когда-то муж, Карл Петрович, Карлуша, незаметный служащий Коминтерна, то ли делопроизводитель, то ли курьер. Однажды он уехал, как всегда внезапно, на какое-то задание и не вернулся. С тех пор только золотое кольцо на безымянном пальце её красной руки ещё напоминало о нём… А тут сорок первый подкатил, немцы — враги, и все глядят косо из-за её отчества. Когда стали в эвакуацию собираться и списки персонала утрясали, Ольга Константиновна спросила её, глядя в упор: «Не поедете с нами, конечно?» — «Конечно, поеду», — ответила Евгения Францевна, покраснев всей шеей, и стала что-то ненужно, длинно объяснять.
А что объяснять? У неё и оставалось в жизни теперь что санаторий, да лечебный процесс, да эти ужасные, избалованные, вредные, дурно воспитанные дети. Как жаль, что так мало людей понимают, что такое настоящая ортопедическая сестра! Однажды на обходе, ещё до войны, Ерофей Павлович похвалил её за организацию вытяжения, и она побледнела от волнения. Все говорят: «школа Чернобылова, школа Чернобылова», а ведь она и вправду была его ученицей, но робкой, преданной, восхищённо глядевшей издали. Кто больше её страдал от того, что дети разболтались в эвакуации и плохо лежат? Что не у всех кольца по московской системе? Что один градусник на две палаты и вечно не хватает талька и марганцовки? Да что о том толковать!..
Между тем незаметно, беззвучно переломилась ночь, и часы, также ровно тикая, стали отстукивать минуты сорок второго года. Проходя после полуночи по тёмному коридору, дежурный врач, только что чокнувшийся мензуркой спирта с молоденькой медсестрой в директорском кабинете, заметил лучик света, пробившийся из изолятора, и приоткрыл дверь. При свете тусклой керосиновой лампы он увидел сладко спящего больного из седьмой палаты, над изголовьем которого, наподобие опахала, свешивалась ёлочная ветка с игрушками, и задремавшую на стуле в углу за тумбочкой медицинскую сестру из дневной смены.
Он постоял немного в недоумении, но не стал её будить и тихо вышел из изолятора.
Глава двенадцатая
НАХОДКА

ак давно это было, что Ганшин болел! Два, три месяца прошло? Зима заскользила к весне быстро, незаметно.
В окна по утрам било солнце, косые яркие квадраты ложились на доски пола, наползали на одеяла и простыни, заставляли блаженно жмуриться. Засверкали, закапали сосульки, свисавшие зубьями с козырька над балконом. В считанные дни побурели, осели сугробы за окном. Вдоль проезжей дороги снег стал пористым, жёлто-серым, сжался и потёк. Сани, в которые запрягали Рыжуху, заменили телегой, и теперь, когда по утрам везли к завтраку котёл с кашей, слышно было, как погромыхивают колёса по протаявшей колее. Шла скорая, жадная алтайская весна.

В конце апреля уже выставляли вторые рамы и распечатывали балкон. Маруля с треском оборвала присохшую за зиму балконную дверь, и длинные жгуты грязной слежавшейся ваты повалились на пол. У подоконника стояло ведро с нагретой водой — Маруля собиралась мыть окна.
Она была в добром расположении духа и, сдирая узкие полоски старых газет с остатками сухого клейстера, вычищая черенком ножа вату в пазах двери, мычала негромко:
Хаз-Булат молодой,
Бедна сакля твоя…
— Маруля, а дальше как? — спросил Гришка.
Но петь дальше Маруля не стала.
— Что вы всё Маруля да Маруля. Меня Мариолой звали. Дома один приезжал свататься — молодой, интересный. Мариола, говорит… А отец — колдун, борода чёрная…
— Как колдун? — заволновались ребята. — Чей отец?
Но от Марули, как известно, толка не добьёшься.
— Колдун — колдовал…
Она нагнулась с тряпкой над ведром, и па её коричневатой, с морщинками шее стали видны в просвет халата светлые кружочки монист.
— А балкон чтоб закрытый была, — говорила Маруля, размазывая вкруговую мокрой тряпкой зимнюю грязь по стеклу. — Жиган в селе балует…
В ту весну Белокозиху, что ни день, сотрясали ужасные слухи. Объявился молодой жиган, нападавший на людей то с ножом, то с обрезом. Однажды его было уже словили, но он убежал из-под стражи. А недавно в колодце на краю села нашли новую его жертву, девушку лет семнадцати, убитую самопалом.
Жиган был неуловим, хотя не раз объявлялись люди, наблюдавшие его самолично: то возчик на рассвете видел его на задворках клуба — бросился было за ним, а тот зашёл за угол и пропал; то двое эвакуированных, ходившие в лес за хворостом, повстречали его по дороге к Дунюшкиному лугу. Потом жиган куда-то исчез, слухи о нём примолкли. Но объявились два дезертира. Струсили ехать на фронт, бежали с оружием и скрываются в лесах на Синюхе, а по ночам выходят в село в поисках пропитания. С одного двора телёнка свели, у кого-то двух кур зарезали. Милицейская цепь с курсантами ходила на облаву в горы и вернулась ни с чем.
«Дезертиры, жиган — и откуда такие люди берутся? Скорее бы их переловили», — думал Ганшин. Но Маруля и тут толком ничего рассказать не умела. А жаль. С утра говорить об этом не страшно, только лёгкий холодок по ногам. Один Зацепа глаза таращит с испуга, да он маленький. А под вечер вспомнишь — и сам не заснёшь.
Маруля тем временем протёрла балконную дверь и стала сгонять мусор щёткой.
— Вот пыль. Вроде мела вчера. А лежит себе у плинтуса, как богата барыня. Ммм… — бормотала она, собирая в центре палаты кучку сора.
Ганшин заметил вдруг, как среди комков пыли, пожелтевших газетных клочков, грязной ваты что-то сверкнуло.
— Маруля! Подними!..
Она нагнулась и, отряхнув мусор, подняла железный кругляшок с серебристым, в пятнах ржавчины ободом. Это был шарик, пропавшее сокровище Ганшина! И как он сюда попал? Видно, пролежал в какой-то щели всю зиму, а сейчас вот вымелся из-под балконной двери.
— Рёбушки, шарик нашёлся! — завопил Ганшин.
Никто почему-то не удивился, не выразил восторга, а Костя едва взглянул в его сторону.
— Чего орать-то? Не слепые, — вяло проронил он и опять уткнулся в книгу. Шарик был некрасивый, грязный, и когда Ганшин попробовал, зажав серёдку двумя пальцами, крутануть его, колёсико скрежетнуло и едва подалось.
Повертев ещё немного в руках находку, Ганшин закинул шарик на дно мешка с полотенцем, где он когда-то лежал. Сказать по правде, и у самого Севки он не вызвал прежнего восхищения.
«Почему так? — раздумывал Ганшин. — Не потому же, что прежде был новый, а теперь ржавый, старый — его, между прочим, отчистить пара пустяков. А так просто — не нужен, и всё тут. И ребята не теребят: „дай, дай“. Другое на уме. Но всё же как он попал туда, под балконную дверь? Сам бы не завалился, кто-то закинул. Тогда кто? Гришка? Жаба? Неужели Костя? И зачем?»
Какая, однако, опасная, скользкая вещь — подозрение. Вот Костя, он умеет разоблачать. Посмотрит в упор и скажет раздельно: «Я тебя подозреваю». Даже страшно становится. А у Севки всё наоборот. Стал подозревать, вот уж уверился, а потом всё объясняется просто, и, выходит, ты в дураках. Как тогда с Евгой под Новый год и потом с красками, что мама прислала…
Неприятный, откровенно говоря, вышел недавно случай, вспоминать не хочется. Ко дню Красной Армии плакат надо было рисовать, и Ганшин получил от Гуля пионерское поручение. Их тогда к 23 февраля в пионеры готовили и приняли всех, кроме Жабы. И Жабу бы приняли, уж он и торжественное обещание вызубрил, но накануне отмочил штуку: Изабелла классный журнал на тумбочке забыла, и он все минусы на плюсы переправил. Против его фамилии «посредственно» с минусом стояло, значит почти «плохо», а стало «посик» с плюсом, то есть вроде «хорошо». Изабелла его и накрыла… Так вот, как в пионеры готовились, Гуль кусок отличного ватмана притаранил, кисточку новую достал, а краски, считалось, у Ганшина свои, ему и плакат делать.
Но только в его коробке, даже когда она новая была, синей и красной не хватало, так с пустыми гнёздами с почты и принесли. Да и другие краски почти все изрисовались, серёдка до донышка кисточкой вылизана. А у Юрки Гуля вдруг нужные краски нашлись, синий и красный прямоугольничек, тех самых цветов, каких у Ганшина не было. И точь-в-точь в гнёздышки коробки вошли… Вот так штука! А тут ещё заметил Ганшин, что у красной краски на донце кусочек картонки налип. И как раз такого кусочка в его коробке нехватка, будто второпях отодрали. Да что это, в самом деле? Как понять?
— Обычное совпадение, — наморщив нос, презрительно бросил Гуль. — Не подозреваешь же ты меня, в самом деле?
Ганшин опустил глаза, а Гуль объяснил поспешно:
— Эти две красочки я давным-давно под крыльцом подобрал. У почты. Прямо на снегу лежали… Шёл заказное письмо сдавать, вижу, валяются… Э, думаю, кто разбросал? Ты что, мне не веришь? — вскрикнул вдруг Юрка, поймав удивлённый взгляд Ганшина. — Мне… не веришь?
— Верю, — промямлил Севка.
— А почту потрясти надо, — продолжал напористо Гуль. — Там тянут, там тя-а-нут из посылок, а я уж директору докладывал.
И как не поверить Гулю? Одно, что почти взрослый, хоть и с ними на «ты». Другое — пионервожатый. О юных героях, о крови старших братьев, о трёх углах пионерского галстука начнёт говорить — заслушаешься.
Но кому, кому это надо — из маминой бандероли его краски выковырять и на снег бросить? — зашевелится ядовитое сомнение.
Но Ганшин гонит его прочь. Лучше — кисточку в банку с водой, мазок по сухой краске и ровной алой полосой по пупырчатой толстой бумаге: «Тыл — фронту!»
Теперь вот и шарик нашёлся. Не искать же виноватых? Может, сам под дверь закатился. Разве не бывает?
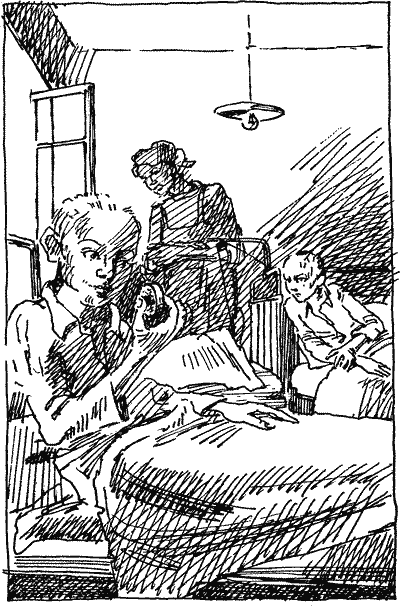
Глава тринадцатая
ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ

егодня ещё профессорского обхода ждут. Палатный врач Ольга Константиновна раза два в неделю обходы делает, да что толку? Откинет одеяло, ногу в коленке согнёт, разогнёт, возьмёт двумя пальцами складку на бедре (симптом Александрова!) и к следующей постели. А Ерофей — это событие. И в Москве-то раз в месяц пригребал. Он один мог позволить стоять, ходить… Сердце у Поливанова прыгнуло — а вдруг его сегодня?..

Маруля уже дважды тёрла хлоркой пол, а Оля из палаты не выходит — то одеяло сбоку подвернёт, а то простынку на грудь выдернет. Всё равно как с ума сошли, только и слышно: «Ерофей Павлович, Ерофей Павлович…»
Одной Изабеллы как не касается. Возникла в дверях с грудой деревянных планок и брусочков, прижатых руками к животу, и объявила урок труда в помощь фронту.
— Пока Ерофей Павлович в третьем отделении, мы ещё поработать успеем, — сказала она и свалила на стул ровные белые брусочки.
Поливанов размечтался: если б на обходе поставили, месяца два на костылях учиться ходить и можно написать маме, чтоб домой взяла… А Изабелла своё. Завела издалека, что на полях скоро сев, потом косить будут, а машины на фронт ушли, лошадей мало, надо наладить ручной сельхозинвентарь. Заброшенные серпы, старые косы колхозники очищают от ржавчины, точат наново, а не хватает самых обыкновенных граблей. Санаторий тоже фронту помогает, пришла разнарядка на сто граблей.
— Поливанов, ты что, с открытыми глазами спишь, — вдруг прервала свою речь Изабелла. — О каких небесных кренделях размечтался?
Игорь вздрогнул, вообразил на небе завитой крендель, обсыпанный сахаром, виновато улыбнулся и стал слушать объяснения Изабеллы.
Делать грабли пара пустяков, оказывается. Берётся длинная плашка, в ней надо просверлить шесть отверстий, их ребята в старшем отделении вертеть будут. А зубья отдельно выстругиваются, для них Изабелла маленькие чурочки принесла. И для примера показала готовый зубец: белую деревянную морковку, круглую и широкую с одного края и сходившую на нет к острию.
Каждый получил по два липовых брусочка, столовый нож и кусок наждачной бумаги. Изабелла велела постелить на грудь полотенце, чтоб белёсая пыль и стружки на пол не сыпались, и особо предупредила: с ножами осторожнее.
— Не порежешься, Поливанов?
Игорь высокомерно хмыкнул.
Она и Зацепу тоже спросила, нож ему передавая. Но тот растяпа: врубился лезвием в ребро бруска и тут же себя по пальцу. Обрезанную руку сунул под одеяло, деревяшку на пол уронил, простыню кровью перепачкал… И нож у него с позором отняли.
Да, надо резать аккуратнее. «Не торопись, не торопись», — твердил себе Поливанов.
Изабелла удалилась, а ребята строгали с озабоченными лицами. В палате запахло стружками, древесной пылью.
Лучше всего выходило у Гришки. Он работал мерно, неспешно, и стружка шла из-под ножа гладкими завитками. Ганшин, едва начав работу, заскучал и стал дёргать Игоря за рукав: «Смотри, как у меня получилось». Известно было, что Севка за всё берётся горячо, но так же быстро остывает. И зубец выходил у него кривой, неровный, но это его мало смущало, он надеялся поправить дело шкуркой. Костя работал неторопливо, чисто, но без подъёма. Зато Поливанов усердствовал, даже об обходе забыл. Ему так хотелось, чтобы на этот раз Изабелла его похвалила…
Вся 7-я палата признавала Изабеллу, но Игорю нравилось в ней решительно всё: и то, как она ходит, пригорбливая плечи, как щурит глаза, когда улыбается, как объясняет на уроке. А её остроумие? Скажет, как бритвой срежет! С утра ещё сегодня всех насмешила: «Жабин, очисти нос. И да будет тебе известно, что для этой цели пользуются платком, в крайнем случае концом полотенца, но не ладонью. Ибо уже в книге „Юности честное зерцало“, изданной, к вашему сведению, при Петре Великом, говорилось, что негоже молодым дворянам на царской ассамблее сморкаться на пол посредством двух перстов». — «Га, га, га!» — ликовала палата.
Ах, эта Изабелла: сдвинет в нитку чёрные брови и смотрит пронзительно на очередную жертву, ожидая узнать, дошло ли сказанное.
«А ты что, Поливанов, помалкиваешь в тряпочку? Сам с собой беседуешь? Ну, что ж, приятно побыть наедине с умным человеком…»
Она язвительно улыбалась, приоткрывая редкие, нехорошие зубы и будто вымогая улыбку. Все смеялись, и Игорь поневоле усмехался. Улыбка выходила кривая. Он восхищался ею и тайно страдал. Обидно, что она так к нему… Его остроумие было признано всей палатой, но Изабелле он не находился что ответить. Вот и накануне была история.
«Это ты сегодня при Маруле сказал „кавардак“? Эх, остряк-самоучка! Она в учительскую пришла жаловаться: ребята дурными словами ругаются. Избегай, будь добр, таких редкостных выражений».
Восхитительно! Сказала, как припечатала. И лежи себе с открытым ртом!
Но почему же, почему, если Игорь так её любит, всех в палате она зовёт по имени, а его неизменно — «Поливанов»? Казённо, по-учительски. Чем он не угодил? И признаться в своей досаде нельзя — засмеют…
Поливанов размышлял об Изабелле, а сам между тем строгал брусок. Получалось, кажется, недурно: с одного конца толсто и кругло, с другого — не толще простого карандаша. Но зубец не хотел приобретать заданной формы. Нож, как назло, то забирал слишком круто, отмахивая разом большую щепку и оставляя лунку сбоку, то снимал чересчур мелкий завиток, соскальзывая по ребру. Что за чертовщина! Слева снимешь побольше — скосит направо. Справа струганёшь — кривится влево. Уф! Прямо несчастье какое-то. И на указательном пальце розоватый болезненный пузырь стал натираться.
Оглянулся: Жаба и Гришка отстрогали по зубцу и взялись за второй. Ганшин тоже плохо-бедно закончил работу, отложил заготовку в сторону и здоровой ногой болтает: с него, видишь ли, довольно.
А Поливанов всё строгал и строгал в неудержимой жажде совершенства. Он смутно чувствовал, что может погубить всё, но не мог остановиться.
Хорошо Косте, ему Жаба и Гришка по зубчику скинут — у него три будет: он уже о том и распорядился негромко. Значит, опять Изабелла начнёт всем Костей глаза колоть. И попробуй скажи, что нечестно… В Дурландии у Кости теперь три раба: Гришка, Зацепа и Жаба. Они любое исполнить должны, что тот прикажет. Только он, Поливанов, ещё сам по себе да Ганшин.
Изабелла вошла, когда Игорь напористо тёр неровный зубец наждаком. Она стала обходить постели, собирая работу, похвалила Костю, ободрила Гришку и Жабина.
Стараясь не глядеть ей в глаза, Игорь подал свой исструганный кривой колышек. Изабелла повертела его в руках и покатилась:
— Вот так сосулька! Разве она в граблях удержится?
Игорь прикусил губу. Только б не зареветь. Почему так выходит: одним всё — раз плюнуть, а ему, как ни пыжься, — позор.
Изабелла увидела, что огорчила мальчишку, и решила соломки подстелить.
— Да ты, Поливанов, не тушуйся. Со всяким случается. Строгал и перестрогал. Зато ты нож держишь правильно. Зацепин вон вовсе изрезался.
А из коридора тем временем нёсся гул голосов. Изабелла с деревяшками вышла, вбежала Маруля со щёткой на палке, быстро сгребла в ведёрко стружки из-под кроватей и исчезла. Ещё раз пролетела по постелям Оля: там одёрнет одеяло, тут вытяжение поправит.
— Гришу будет смотреть, Зацепина и Ганшина, — бормотнула она и вылетела из палаты.
Зацепу-то, понятно, смотрят как тяжёлого. А вот Гришку или Ганшина… Вдруг поставят? Внутри у Поливанова дёрнулась ниточка зависти. Но вслух он ничего не сказал.
Обход был уже у дверей. Первой вошла Ольга Константиновна, беспокойным взглядом генерала на плацу перед императорским смотром окинула палату и, подняв указательный палец, бросила его сверху вниз, будто градусник стряхивала. Все замерли, а Ольга Константиновна, повернувшись лицом к двери, стала пятиться от неё, как бы выманивая оттуда кого-то. Ещё секунда, и на пороге возник высокий крепкий старик в академической чёрной шапочке и с острой серебристой бородкой. За ним семенила няня со стулом, следом шествовал Ашот, дальше Мария Яковлевна и хвостом — куча белых халатов, негромко переговаривавшихся между собой. «…Палыч, Ерофей Палыч, Ерофей…» — всклубилось, зашелестело и вмиг опало кругом.
Шесть пар глаз с любопытством и надеждой следили за каждым его движением. В Белокозихе-то он впервые, за ним в Вейск «эмку» посылали! И теперь все — и громогласный Ашот, и строгая, озабоченная Мария Яковлевна — мгновенно полиняли в его присутствии. Ерофей Павлович же вёл себя так, будто каждый день заходил к ним в палату и помнил любого из ребят. Слегка кивнул своей французской бородкой: «Здравствуйте, приятели!», устроился на стуле между постелями Поливанова и Ганшина и занялся разглядыванием рентгеновского снимка. Он чуть встряхнул его и поднял на свет к окну. Движения его были неторопливы и внушали покой, уверенность. Врачи и ассистенты толпились в ногах кровати.
Ольга Константиновна, волнуясь, как на уроке, и комкая платок во вспотевших ладонях, докладывала ганшинскую историю болезни. Ерофей Павлович делал вид, что внимательнейше слушает, а сам сосредоточенно разглядывал снимок. Одной рукой он держал чёрно-белую плёнку, другой — пенсне, снятое с переносицы, будто готовился дирижировать.
— Да, да… Как же, поражение головки сустава с левой стороны… Процесс прорвался в сумку… Выраженные изменения слева…
Ольга Константиновна смятенно переглянулась с Марией Яковлевной.
— У больного правосторонний коксит, — заикаясь от волнения, подсказала Ольга Константиновна.
Ерофей Павлович изумлённо вскинул на неё седые брови и перевернул снимок.
— Вот я и говорю, выраженные изменения справа, — невозмутимо промолвил он и обратился к шелестящей гурьбе белых халатов: — У нас, как правило, не умеют читать рентгенограмм. Принято думать, что положили больного под рентгеновский луч, и дело сделано. А важно не получить снимок, а прочесть его!
Белые халаты, образовавшие полукруг в ногах постели, восхищённо загудели. Один он умел так формулировать! Кажется, совсем просто, а врезается навек.
— На снимке вы можете наблюдать, где обнаруживает себя очаг… Но процесс уже не активен. Вот тут развилась лёгкая сеть трабекул…
Толстый указательный палец Ерофея Павловича уверенно путешествовал но снимку.
А дальше пошло, как всегда. С Ганшина сдёрнули одеяло, освободили больную ногу от вытяжения и подножников и попросили согнуть в колене. Опять вытянули, отвели влево, потом вправо.
«Атрофия мышц… контрактура… ротация кнаружи…» — поплыли привычные слова.
— Ну, что ж, поздравляю вас, процесс затихает, но в условиях нынешнего питания и режима… торопиться не надо… Пусть полежит до следующего обхода.
Всю жизнь Ерофей Павлович не терпел спешки, всю жизнь спорил с хирургами, пытавшимися лечить больную кость с помощью операций. «Не извольте гневаться, но тут пригоднее консервативный метод. Бугорчатка не терпит ножа», — упрямо твердил он, вспоминая швейцарские высокогорные санатории, где ещё до той войны немецкие фтизиатры обратили его в свою веру — в воздух, горное солнце и покой. Многолетний, если нужно, покой и отсутствие движений… Правда, этот метод тоже не давал стопроцентной удачи, и находились молодые самоуверенные костоломы, или как ещё можно их было назвать, которые иронизировали над ним. Напрасно, Ерофей Павлович прочно стоял на своём. Он, слава богу, прожил долгую жизнь и вошёл в свои отношения со временем, в котором, как он всегда убеждался, для надёжного медицинского успеха главное — не торопиться. Ну, полежит этот черноголовый мальчик ещё годок-другой, велика беда. Куда спешить? Впереди у него жизнь, а сейчас всё равно война и родителям не до него. Здесь же, по меньшей мере, кормят, поят, наблюдают…
Сказать по правде, Поливанов испытал облегчение, что Севку не поставили. Пусть уж всем одно. А Ганшин едва не плакал.
Но врачи уже перешли к Гришке. Один Ашот задержался на мгновенье у ганшинской постели, крутанул Севке пупок, так что тот взвизгнул тихонько, и сказал вполголоса:
— Жди. Через два месяца поставим. А что? Привезём снова Ерофей Павловича и поставим.
И поспешно присоединился к свите белых халатов.
Хоть не обидно, Гришку тоже не поставили. Зацепе дали назначение на пункцию из натёчника, прощупанного на бедре, и Ерофей Павлович громко, весело попрощался с ребятами.
В палате стало непривычно тихо. Значит, снова ждать. Хорошо, если два-три месяца. И кого ещё на следующем обходе покажут? «Ну, меня-то обещали», — думает Ганшин. «Вот уж тогда моя очередь, — соображает Поливанов, — может, к тому времени и война кончится, домой поедем…»
Балконная дверь полуоткрыта, и тянет из неё в палату свежие весенние запахи — оттаявшей, разбуженной земли, молодой травы, лопнувших почек. И с ними вместе еле слышно, издалека долетает песня. Она всё громче, ближе. Крепкие мужские голоса поют на мотив «Раскинулось море широко»…
От Вейска далёкой дорогой
Мы ехали ночыо и днём,
И сердце забилось трево-о-гой,
Кого и чего там найдём.
Зашла в палату Оля, распахнула раму и легла на подоконник грудью.
— Курсанты идут, — вздохнула она.
А в палате все уже вскочили на локти и пытаются разглядеть
что-нибудь за её широкой спиной в обтянутом халате, за белым колпаком на пышных волосах.
Песня смолкает, но ближе, ближе маршевая печать шагов: «Левай! Левай!» Идут, прибивая ногами пыль, молодые ребята: тонкие шеи в подворотничках, защитные фуражки на бритых затылках.
Гром сапог, слабеющая их чеканка, удаляющаяся дробь, и уже их едва слышно с дороги, поворачивающей к Синюхе, — у её подножья вот-вот начнутся полевые ученья.
И неведомо с чего надежда отворит сначала крохотную щель в душу палатного мальчишки, робко просочится туда и вдруг затопит её всю необъяснимым ожиданием счастья. Как ярко зелены первые листки акации у дороги, как бодр весенний холодок с голубых сопок! И кто знает, пока ты лежишь тут, давя затылком подушку, вылёживаешь пустые, ровные дни, в большом мире совершается что-то, что изменит твою жизнь, принесёт в неё радость. Мама приедет? Война кончится? Изобретут лекарство, как сразу их вылечить? Или по малой малости посылку с почты принесут?..
Глава четырнадцатая
ЛЕТО

еплынь вдруг настала такая, что днём лежали под простынями. Листва загустела, и пыльная дорога под окнами почти скрылась за плотной зелёной изгородью. В июне стали вывозить на улицу. Поверх ступенек крыльца положили дощатый помост и скатывали кровати прямо на землю, под акации.
Дом, в котором они провели зиму, открылся перед ними весь. Скучный, зашитый досками фасад, чешуя осыпающейся охры, давно не крашенные рамы, и в ровном ряду окон — окошко седьмой палаты, странно маленькое снаружи.

А в головах кровати, рукой достать, пахучие ветви акации и жимолости, и прямо за кустами огромный вольный мир. Пропылит по дороге совхозная полуторка, и струйка сгоревшего бензина долго-долго висит в воздухе, сладко щекоча ноздри. Лежишь плашмя, прикрученный к гипсовой кроватке, солнце ещё не вошло в силу, не печёт, а лишь слегка пригревает, и бьют золотые брызги из-за пышной кроны одинокого придорожного вяза. Над тобою же необъятный, чистейших лазурных красок небосвод. Будто великий декоратор натянул на незримый каркас огромный, без единой морщинки кусок тёмно-голубого ситца и нарочно пустил плыть по нему одно белое, плотное, с растрёпанным кудрявым краем облако.
Но на небо что глазеть — оно всегда при тебе. А повернёшь голову влево — и за грядой невысоких холмов настоящие горы: ближняя — Церковка, подальше — Круглая гора и возносящаяся надо всем Синюха.
В мёртвый час книги всё равно отнимают, и, сделав вид, что спишь, хорошо разглядывать горы. Можно не торопясь взбираться по склону, как Зоя Николаевна учила: внизу светло-зелёные пятна полян, окружённые кустами и мелколесьем — черёмухой, моральником; чуть выше — тёмная щётка сосен и пихт, и, наконец, лысые скалистые вершины, тонущие в полупрозрачной голубой дымке. Побывать бы там хоть разок! Тётя Настя хвалилась, что в прошлое воскресенье ходила на Церковку и едва домой дотащилась. Полное ведро дикой малины принесла: пусть детишки полакомятся.
В душные июльские ночи уже и спать не завозили в палату, оставляли на улице. Ганшин полюбил теперь просыпаться рано, до звонка, ещё сквозь дремоту слыша бесцеремонный птичий щебет над самым ухом. Набежавший с гор ветерок треплет края простыни. Улыбаясь, потягиваешься. Ночь унесла с собой все вчерашние огорчения. Утренний воздух с запахом акации и росы будто сам собою входит в грудь, и родится беспричинная радость. Всего хочется: и утренней каши, и книжку, лежащую под подушкой, скорее дочитать, и с Жабой, с которым вчера поссорился, помириться, и птицу подманить на кровать.
Как-то была Севке удача: поймал руками желтобрюхую синицу, присевшую на спинку постели. Птицы не боялись тех, кто лежал, лишь бы рядом не было ходячих и взрослых. Поливанов стал выпрашивать посмотреть, протянул к Ганшину руки. Птица затрепыхалась, запищала и вырвалась из ладоней. Держи, держи, растяпа!
Ребята потерянно оглядывались, а взлохмаченная синица перепархивала с куста на куст, всё дальше и дальше, пока не исчезла за дорогой. Ищи ветра в поле.
С переездом на улицу всё летающее, жужжащее и ползающее оказалось доступнее, ближе. Юрка Гуль притащил банку с травой, из неё пугливо выглядывала мордочка пятнистой ящерки. Выглянет и спрячется, сверкнув серым хвостом. Ловили ей мушек и комаров, и она хватала их быстрым, острым язычком. Банка кочевала с постели па постель, пока Жаба не оторвал ящерице хвост. На беду, кто-то из взрослых обмолвился, что ящерицы легко теряют свои хвосты и, если надо, могут отрастить их снова. В Жабе проснулся юный натуралист: он ждал, ждал падения хвоста, не умел дождаться и решил поторопить природу.
Ящерица с оторванным хвостом умерла, её забросили в кусты, а пустую банку Жаба использовал для отлова мух.
Муху, её, между прочим, тоже поймать не просто. Неумелый бьёт её ладонью сверху, подстерегая на простыне. Шик же состоял в том, чтобы мгновенным движением захватить её в полёте и с торжеством вынуть за ножку из зажатого кулака невредимой. Жаба знал это искусство.
Но ещё больше наслаждения доставляло ему, поймав муху, обречь её медлительной казни. Он отрывал трепещущей жертве сначала одно крылышко, потом другое, потом лапки по одной и следил, как она жужжала и билась, а в довершение жал на брюшко…
В девчачьем ряду взвизгивали, кое-кто из ребят отворачивался, Изабелла совестила за жестокость, но это лишь разжигало Жабу. Его маленькие тёмные глазки сияли торжеством, он вертел круглой головой, проверяя впечатление: пусть все видят, какой он беспощадный!
С некоторых пор его приблизил к себе Костя. Они и на улице теперь стояли рядом. А Гришку Костя разжаловал. «Какой-то ты малохольный», — неожиданно сказал он ему. И Гришку за Жабой поставили.
Что правда, то правда, Гришка и всегда соображал туго, книг вовсе не читал и будто спал с открытыми глазами. Конечно, был он Косте верен, но и Жаба верность доказал. Как-то Костя рассердился на Гришку, и Жаба щипал его, как гусак, с вывертом, до синяков. А тот и не сопротивлялся, только мычал тягуче.
И с Поливановым Костя стал больше дружить. Ведь Игорь что придумал — нарисовать карту, настоящую карту Дурландии, с проливами, островами, заливами и со своей столицей. Хотели назвать её Константинополь, но оказалось, такой город уже прежде был, Изабелла на истории о нём говорила. Да и Косте неловко перед взрослыми — пойдут ещё разговоры.
Карту выдумывали, чертили на большом листе, раскрашивали дня три… Надоело. И снова Игоря осенило: ведь можно ещё дурландские деньги делать. Нарезать из старых газет полосок и кружочков — вот вам и деньги. А банк, чур, весь у Кости для расходования — по числу щелбанов, сколько кто ему должен. Дальше — больше: загорелись писать историю Дурландии и все памятные события — с кем кто в палате дрался и кто победил, кого наказали по указу Кости, какие кто ему подарки сделал.
Случился у Ганшина с Игорем после отбоя один негромкий разговор.
— Я хорошим был, и надоело, — объяснил Игорь. — Сколько можно? Вечно я в дураках перед Жабой. А Костя, между прочим, не такой плохой, как ты думаешь.
— А я ничего не думаю, — промямлил Ганшин.
Дурландией позанимались неделю-другую и остыли. Но Игорь среди палатных приобрёл иное уважение. И Ганшину досадно было видеть, как советуется теперь Костя с Игорем и как преданно, по-собачьи смотрит его друг в глаза Косте.
Глава пятнадцатая
ЛЮБОВЬ

ровать Ганшина стояла теперь с краю, у прохода, вслед за Поливановым. Проход был устроен в том месте, где шла дорожка от крыльца. А за дорожкой сразу же начинался девчачий ряд. Случалось, Изабелла соединяла теперь обе палаты на пионерских сборах или в общих играх — в шарады или в города.

С краю, за пыльной, истоптанной дорожкой, лежала Лена Бугреева, или, по-санаторному, Бухря. Девчонка как девчонка, сто лет Ганшин её знал, ещё с Сокольников, и в кино недавно оказались рядом. Но будто только теперь увидел. Последнее время он частенько взглядывал на неё, и ему нравилось, как она фыркает, услышав что-нибудь смешное, и как закрывается голым локтем от солнца. Симпатичная! Правда, слишком засматриваться на неё было опасно — свои заметят, засмеют: влюбился, втюрился… Нет уж, извините, не для нас эти нежности.
Но однажды во время мёртвого часа он поймал на себе её пристальный, серьёзный взгляд. Раньше он отворачивался в таких случаях — не хватало ещё с девчонкой переглядываться, а тут нарочно поглядел на неё в упор. Было что-то упоительно-опасное и стыдное в этой встрече глазами. Ленка вдруг улыбнулась, сморщив нос с конопушками, покраснела и, повернувшись к своей подруге Гале Хромовой, зашепталась с ней быстро-быстро.
С той поры они оказались чем-то связаны, хотя Ганшин и не мог определить чем, и смотрели друг на друга, когда никто на них не глядел: утром, до звонка, или во время мёртвого часа, укрывшись с головой простынёй и проделав в ней круглое окошко.
Севка знал уже хорошо её лицо, и оно ему нравилось. Волосы девочкам разрешали чуть длиннее, чем ребятам, и они свешивались у Ленки на ухо светлой прядкой. Брови у неё были тонкие, а глаза, которые кто-то из взрослых назвал ореховыми, ярко-коричневые, живые, быстрые.
Ганшину приходилось слышать разговоры, что люди, и в особенности женщины, бывают красивыми и некрасивыми. Красивых любят, и по всей видимости, это не пустяк, иначе зачем об этом так много говорят и пишут в книгах. Но по правде сказать, сам он плохо понимал, что это значит. Красива ли Изабелла? Или сестра Оля? Или Настя? Вот уж он не мог бы определить. Сказать можно только — нравится или не нравится. А Ленка ему нравилась.
Был тихий предзакатный час после ужина, солнце скатилось за сопки и бросало оттуда на верхушки деревьев последние оранжевые стрелы, когда Маруля, забирая пустые миски, сунула ему на ходу клочок бумаги. «Тебе девочка передал», — сказала она скороговоркой и поплыла в раздаточную с нагруженным грязным подносом.
У Ганшина сухо стало во рту. Убедившись, что на него не смотрят, он сунул записку в книгу «Генрих начинает борьбу», лежавшую на кровати. Потом незаметно, воровски озираясь, развернул под простынёй записку и в зелёном свете гаснущих июльских сумерек прочёл: «Сева, я тебя люблю. А ты меня? Л.».
К этому он не был готов. Какая-то сумасшедшая радость прихлынула к груди и с нею удивление: «Ну и Ленка!» И тотчас испуг. Что это, в самом деле, происходит?
Наутро он боялся посмотреть на Ленку, но когда их взгляды встречались, оба отворачивались, он краснел и сердце начинало бухать, как в лихорадке.
Через день опять дежурили Оля с Марулей. После завтрака неожиданно заявился прощаться Гуль. Его отправляли в военное училище. Он пришёл, красненький, прыщавый, весёлый, с ремнём баяна на плече, и ещё издали, увидев Олю, рванул мехи:
— Э-эх, Олюша, помнишь наши встречи…
— Вы, Юра, сегодня немного не в форме и лучше по этой причине до меня не прикасайтесь, сказала Оля, взглянув на него исподлобья своими красивыми бараньими глазами.
Он попытался обнять её за широкую талию, но она ловко увернулась и стала с лишним усердием стряхивать крошки с постели Поливанова.
— Обещали мне, Юра, фильдекосовые чулки, а сами вот в армию уходите, — не глядя на Гуля, попрекнула она.
— Ну, чудачка, далеко не уйду, — сказал весело Юрка. — Только гимнастёрку надену, и уж позовёшь не позовёшь, а в увольнительную к тебе. И на танцы-шванцы!
Гуль вздёрнул баян и попробовал было, как прежде, заиграть марш, чтобы все колотили руками по постелям в такт, но получилось нестройно, лениво. Юрка полинял в их глазах, и его слушали больше из вежливости. Он понял это и оборвал музыку на растянутом трезвучии. Спустил на землю баян, придержав его за ремень, бросил за щеку кусочек сибирской смолы, «серки», и стал жевать её, изображая лицом полное довольство собой и безразличие ко всему на свете. Потом присел на кровать к Ганшину и, понизив голос, сказал заговорщицки:
— Сева, ты за краски на меня не дуешься? Нет? Ну и молодец. Так тогда получилось… Хочешь, я от тебя Лене записку передам?
— Нет, что ты!
Кровь бросилась Ганшину в лицо. Откуда он-то знает? Неужели Маруля предала? Не хватало, чтобы шалый Юрка орал о его тайне на всех углах!
Честно говоря, он ещё с утра приготовил Ленке ответную записку, но всё не решался передать. Там было: «И я тоже. С.». Напугавшие его в первое мгновение слова Юрки минуту спустя показались не слишком страшными. «Ну, а если и так, — сказал он сам себе, — и что тут такого особенного?»
Перед обедом он подозвал Марулю, незаметно положил ей в карман халата клочок бумаги и пробормотал: «Ленке отдай». Маруля ничего не ответила и только засмеялась понимающе тихим мелким смешком.
Он долго не решался посмотреть в Ленкину сторону, а когда взглянул, уже не мог оторваться. Сияя ослепительными коричневыми глазами, Ленка смело, весело смотрела на него и даже, как ему показалось, чуть-чуть, едва заметно кивнула. Что это? Что с ним случилось? Теперь отступать некуда, они связаны навек. Но ведь любовь — это так стыдно! Ребята пронюхают — животики надорвут. А если до Изабеллы дойдёт? Вот будет история…
С этой минуты Севка потерял покой. У него впервые была тайна, которую он никому в целом свете, даже Игорю Поливанову, не решился бы открыть. Чувство лёгкости и смелой свободы оставило его. Бывало прежде, какая ни случись неприятность за день, ночь слизывала без остатка вчерашние огорчения и утро являлось омытым, безмятежным. Теперь Ганшин засыпал, уткнувшись в подушку, беспокойно и сладко думая о Ленке, а просыпался от смутной тревоги, сознавая, что с ним произошло что-то непоправимое.
Евгения Францевна перестилала постель, когда из-под простыни вылетела и упала на землю сложенная вчетверо бумажка. Она нагнулась, чтобы достать её, и развернула, близоруко щурясь.
— Сева, что это? Какая-то любовь тут…
Ганшин вскочил на локти, выхватил записку из рук Евги и быстро порвал её. Но было поздно. Ребята смотрели на него. Евга накинулась с попрёками на сумасбродного, недисциплинированного мальчишку, потерявшего всякое уважение к персоналу. У Ленки, которая с ужасом следила издали за этой сценой, щёки полыхнули пожаром. А Костя сказал громко, с растяжечкой:
— Тэ-эк-с! Ясненько. Севка втюрился в Бухрю.
— Жених и невеста, жених и невеста, — дурашливо завопил Жаба.
Вытаращил глаза Зацепа, ухмыльнулся Поливанов, и Ганшин почувствовал себя так, будто летит головой вниз в бездонный тёмный колодец… Стыду и отчаянию его не было границ.
— А Ленка-дура ещё хрюкает, — заметил Костя, насмешливо глянув в сторону девчачьего ряда.
— Она свинья, свинка-картинка! — подхватил, ликуя, Жаба.
— Ленка не свинья, Ленка… — неожиданно для себя выкрикнул вдруг Ганшин и задохнулся.
«Что я говорю, — пронеслось ужасом в его голове, — себя только выдал… защищать девчонку — ведь это конец… пропал, пропал…»
Некоторое время все молчали.
— Скажите, пожалуйста, какой рыцарь нашёлся, — нарушил паузу Костя. — Господин Арамис, не подобрали ли вы её кружевной платочек?.. Поливанов, ты что молчишь, объясни Ганшину, что он баба.
— Факт, баба, — смущённо поддакнул Игорь.
— А баб и бабников в Дурландии клеймят и презирают, — твёрдо заключил Костя.
Севка уже не отвечал, будто не слышал. Он лежал, отвернувшись от ребят, крепко сжав губы и стиснув кулаки.
С этой минуты Ганшин будто отломился от всех, уткнулся в книжку и замолчал. Шли дни, он почти ни с кем не разговаривал. И странно: оказалось, и так жить можно. О Ленке он старался не думать. К тому же её переставили в дальний конец ряда, где они уже не могли видеть друг друга. И лишь когда случайно их койки встречались около гипсовальной или по пути на рентген, они молча взглядывали друг на друга, как будто их соединяла в прошлом какая-то тайна.
Глава шестнадцатая
ЧТО ТАМ — ЗА ДОРОГОЙ?

ётя Настя то и дело вынимала из кармана халата мятый платок и прикладывала его к покрасневшим уголкам глаз. Что, что случилось?
— Сироты теперь Лёнечка с Майкой, — сказала она, ни к кому не обращаясь, и яростно задвигала щёткой под кроватью. — Вчера извещенье принесли… пропал без вести, с февраля не числится в списках части…

И она некрасиво, потешно захлюпала, прижимая платок ко рту.
Ребята молчали. Видеть, как плачут взрослые, было непривычно.
— Тётя Настя, — насупившись, выдавил из себя Ганшин, — мы вырастем, тоже на фронт пойдём, отомстим…
Ещё продолжая хлюпать, тётя Настя улыбнулась, сунула мокрый платок в карман и провела ладонью по волосам Севки против ёжика.
— Эх, вояки, — сказала она уже обычным голосом. — У меня к вам кермендация… (Она хотела сказать «рекомендация», но ребята её поняли — тётя Настя любила редкие слова.) Лежите лучше, учитесь лишь на «хорошо» и «отлично». А то, знаю вас, в одно ухо впускаете, в другое выпускаете. Майка моя весной к переводным испытаниям готовилась, так я ей говорю: «Майка, по книжке учись!» — а она что? На крылечке сидит и шпангарки готовит…
Тётя Настя отошла к девчонкам и стала протирать влажной тряпкой гнутые жёлтые трубки кроватей. А ребята заговорили о войне.
— Рёбушки, а что, если па фронт удрать? — неожиданно бухнул Жаба.
— Как на фронт-то, если мы ходить не умеем? — рассудительно возразил Игорь.
— А чего, будто я не вставал! Ведь только до станции допереть, чтобы не поймали, факт! А там ночью в товарные вагоны заберёмся, спрячемся и в Москву покатим. А от Москвы до фронта — раз плюнуть.
Мысль эта в первую секунду показалась всем дикой, тем более что родилась она в шальной голове Жабы. Но прошла минута, другая, и соблазнительное мечтание, гуляя с одной постели на другую, пожаром воспламенило воображение мальчишек.
— Попробовать можно, рёбушки, — солидно, будто взвесив что-то про себя, сказал Костя. — Только без трёпа — подготовиться, припасов собрать, достать карту… Кто побежит?
— Я как Костя, — насупившись, сказал Гришка.
— И я! И я!
Поливанов, хоть и крикнул заодно со всеми, тут же и засомневался. Рассудок говорил ему, что из опасной затеи ничего не получится. Как-нибудь да лопнет, уж тысячу раз бывало — наутро рассыплется сама собой. Хорошо, если скандала не выйдет, а то ещё застукают, накажут… Но поделиться сомнениями вслух он ни за что бы не решился. Будь что будет! Важно, что сейчас он
как все. Ну, Жаба дурак. Но ведь и Костя бежит, а ведь уж Костя — не дурак…
Волна воодушевления и смутных надежд поволокла за собой Игоря, и он сказал, что готов бежать.
Зацепа заныл что-то невнятное — о свищике, перевязках.
— Садани ему от меня десятка два щелбанов… Да покрепче, с оттяжечкой, с сальцем, — попросил Костя Жабу.
Придвинувшись к Зацепе бортом кровати, Жаба с готовностью стал выполнять приказ.
Зацепа слабо повизгивал. Его голова в шишках, замазанных зелёнкой, моталась над подушкой. Взглянув на него, Костя брезгливо ухмыльнулся и велел отставить.
— Фиг с ним, пусть не бежит. Слабак, его ещё зашатает по дороге, да перевязки ему делай…
— И я не побегу, — негромко, но так, что все слышали, сказал Ганшин.
— Ясненько, — повернулся к нему Костя. — Чего от бабника ждать? Ему батистовым платочком обмахиваться, а не на войну. Но помогать нам всё равно должен. Побег готовит вся палата. Иначе, как предателя…
И Костя угрожающе щёлкнул пальцами.
Если бы взрослые были чуть наблюдательнее, они, наверное, заметили бы две важные перемены, случившиеся в седьмой палате. Во-первых, у всех, решительно у всех мальчиков открылся вдруг волчий аппетит и даже самые равнодушные к еде стали выпрашивать на добавок горбушку. Во-вторых, у Юры Жабина и Кости Митрохина, презиравших прежде любые девчачьи занятия, обнаружился внезапный интерес к рукоделию. Им захотелось научиться шить, и они просили принести им иголку, нитки и куски холстины. Впрочем, что тут особенного? Девочки шили кисеты для бойцов, почему бы и мальчикам не попробовать готовить подарки для фронта?
Искололись, намучились, но в конце концов соорудили то, что требовалось. С этого дня в два грубо сшитых мешка, хранившихся в тумбочке, украдкой складывали куски хлеба, оставшиеся от завтрака, обеда и ужина. Хлеб совсем перестали есть, нажимали на кашу.
Мало-помалу собиралось и снаряжение. Раздобыли крепкие верёвки, жестяную кружку в крапинках, с отбитой эмалью. На дно мешков, вместе с ломтями и горбушками, легли спичечный коробок, перочинный нож, напильник и кусачки… На случай. Кто знает, может, проволоку по дороге придётся перегрызать? Да и орехи ими отлично колются. Костя даже немного ихтиолки в баночке через Олю достал. Будет как матушкин бальзам у д’Артаньяна, вдруг кто поранится?
Компас только добыть не удалось. Обещал было Толяб, да куда-то пропал, не ходит. Может, заболел? Зато настоящую карту из учебника географии для 9-го класса Изабелла принесла. Кинулись её разглядывать: нашли Москву — звёздочкой, а Белокозиху не нашли, и даже Вейска на карте не было. Водили, водили пальцем, обнаружили Алтайские горы размером с пятачок, и только одна гора Белуха обозначена.
— Халтурно карты делают, — сказал задумчиво Костя.
Если прикинуть по масштабу, как Зоя Николаевна учила, от Белухи до Москвы по прямой около четырёх тысяч километров. Много это или мало? Глядишь на карту — мало. А если пешком идти? Но вот, ведя пальцем вверх и влево, на большом зелёном поле, изображавшем низменность, нашли Новосибирск. Через этот город сюда ехали. До него бы добраться, а там и Москва — рукой подать.
Поливанов смотрел на карту — и не видел её. Он переступал через коричневые хребты и кряжи, пересекал голубые жилки рек и легко обходил отмеченные чёрточками непроходимые болота. Он взбирался по горным тропам, на самой крутизне, одной рукой держась за кусты, обхватывая стволы деревьев, чтобы не заскользить: камешки сыпались у него из-под ног. Он спугивал с пригретых солнцем камней проворных ящерок, продирался сквозь заросли малины и ольшаника. Задыхающийся, с пересохшим ртом, с исцарапанными руками, он доплёлся до кедрового леса, подбирая и луща шишки с мелкими, пахнущими смолой орешками, и, наконец, вышел на весёлую солнечную лужайку, где доспевала на бугорках розовая земляника, а в высокой зелёной траве полыхали оранжевыми огнями жарки́.
— Ты чего, Поливанов, губы распустил? Проедет губернатор — отдавит, — где-то над самым ухом произнесла тётя Настя.
Игорь виновато улыбнулся и стал растерянно оглядываться: замечтался.
Сквозь железные прутья кровати в головах видны лишь пропылённые кусты акации, дорога, затравеневшая по обочинам, а прямо за нею увалы, подножия сопок, засаженные в нижней, покатой своей части картошкой. Наверное, она уже зацвела своими нежно-фиолетовыми и белыми цветами, потому что временами долетал из-за дороги слабый сладкий её запах.
— Тётя Настя, а что там, за холмами? — спросил во время обеда Поливанов, махнув рукой за дорогу.
— Да ещё холмы. За ними — поле колхозное.
— А деревня далеко?
— Далеко. Там только сторожка одна. Старик с берданкой поле с тыквами сторожит. А на что тебе знать? Ты вот лучше кашу ешь — смотри, сколько по краям тарелки размазал… Ешь, пока рот свеж…
По вечерам, после отбоя, Поливанов шёпотом обсуждал с Костей подробности побега. Бежать надо, конечно, ночью. Главное, за дорогу незамеченными уйти, чтобы не преследовали. Дальше всё казалось ясным: где пройдём, где проползём. Взберёмся на холм, потом в ложбину, потом опять на холм и через поле на огонёк, к сторожке. Хлеб с собой, воды в колодце достанем. Хорошо бы сторожа подкупить, хлеб на молоко поменять, отдохнуть и дальше к железной дороге двинуть.
— Можно ещё курицу зарезать, если поймается. Ножик с нами, — говорил Костя.
— А как её сготовить? — сомневался Поливанов.
— Запросто. Костёр в поле разожжём и изжарим. А перья в волосы засунем, как у индейцев, чтобы нас пугались. (С Костей всё становилось ясным, как полдень, и неопасным.) Через пару дней наверняка к железной дороге выйдем, а там забраться в пустой товарняк, затаиться и ехать в Москву; от Москвы же и фронт неподалёку.
Поливанов уже въявь видел этот щелистый, вздрагивающий на стыках вагон с грудой тряпья в углу, где они устроятся тайком; мелькающие платформы, водокачки, стрелки па запасных путях и наконец Москва… Москва с окошками крест-накрест, опущенными на ночь чёрными бумажными шторами, с фонариками в руках редких прохожих, с аэростатами на площадях и нарочно выставленным напоказ серебристым туловищем сбитого «Юнкерса-88», о котором недавно писала «Пионерка»… Что будет с мамой, когда он позвонит в дверь на Страстном бульваре! «Игорь?! Откуда ты, Игорёк?» Наверное, надо всё-таки пожить дома денька три, а там уж на фронт…
И вдруг беспокойная мысль: как же без компаса идти? Заблудимся, потеряемся. Если по карте смотреть, надо на северо-запад выбираться. Но как его, этот северо-запад, ночью найдёшь?
Вот Зоя Николаевна всё это знала: и как по звёздам идти, и направление в лесу без компаса. Почему её тогда плохо слушали?
В их отделении Зоя Николаевна бывала теперь редко, по разику в месяц, в день стрижки. Но, на удачу, как раз явилась с парикмахерскими ножницами, машинкой и железным гребешком. Прежде словоохотливая, она теперь больше помалкивала. Подходила к кровати, подкладывала под затылок чистую пелёнку и, придерживая голову одной рукой снизу, другой начинала двигать стрекочущую машинку от лба к макушке; там, где проползала машинка, оставалась гладкая, пустая полоса. Потом просила повернуть голову набок и также молча обрабатывала затылок.
Стригла она, закусив от напряжения нижнюю губу. Шпильки вылетали у неё из большого пучка чёрных с проседью волос и падали на одеяло, но она этого не замечала. Видавшая виды, давно не смазанная машинка то и дело заедала, дёргала, ребята охали и морщились, и тогда Зоя просила:
— Ну, Игорь, ну, потерпи ещё минуточку.
Поливанов старался не пищать, хотя Костя и уверял, что Зоя дёргает нарочно.
Зоя Николаевна кончила стричь Игоря и вытряхивала под кустами пелёнку, когда Костя как ни в чём не бывало задал гвоздём сидевший в его голове вопрос. Голосом паиньки он спросил, как найти в лесу север и юг, если нет с собой компаса.
— Вы, Зоя Николаевна, объясняли, а я позабыл…
Взглянув на Костю близорукими глазами, Зоя Николаевна безропотно объяснила, что муравейники обычно расположены у подножья дерева с южной стороны, а седой мох накипает на стволе с севера. Если же ночь ясная, то определить стороны света вообще не составляет труда. Найди на небе Большую Медведицу, она ковшом светится, возьми пять раз расстояние, образующее бок ковша, противоположный его ручке, и увидишь Полярную звезду — вот тебе и север.
— Богомолка, богомолка, а зна-а-ет, — протянул Костя одобрительно, едва она отошла к девчонкам.
День побега откладывали и перекладывали раз пять. С улицы бежать, казалось бы, и легче, да нельзя. Тут всю ночь у крыльца на табуретке дежурная, закутавшись в одеяло, сидит, дремлет. Лучше уходить из палаты через окно. Но как назло, стояли сухие, ясные дни, и ребят оставляли спать на воздухе.
Наконец дождались. С утра небо затянуло, стал накрапывать дождь. Едва упали первые капли, как всех втащили в палаты. Лишь к вечеру стало разъяснивать, ветер унёс рваные облака и, прежде чем скрыться за холмами, солнце успело немного подсушить землю. Свежий, прохладный воздух влетал в открытое окно. На ночь вряд ли на улицу повезут, сыровато, да и персоналу койки взад-вперёд таскать — не велика радость… Побежим!
Пока всей палатой обсуждали и готовили побег, Поливанову было весело и ни о чём не хотелось думать. Но чем ближе наступал решительный час, тем меньше, говоря по совести, хотелось ему бежать. Да и как, в самом деле, побежишь? Игорь и вставать-то путём не пробовал, не то что Севка или Жаба. Может, его и ноги не удержат. Хоть бы само сорвалось, ещё отложилось бы, что ли?
Возможно, такие же мысли посещали и других ребят, но кто решится признаться? А между тем с каждым часом побег обретал непреложность, как бы уже не завися от их изменчивых желаний. Запасы сделаны, роли распределены, опасности и неожиданные приключения в пути сто раз обговорены — не бежать было нельзя. Хорошо тем, кто сразу отказался…
— Может, всё же с нами пойдёшь? — с надеждой спросил Игорь Ганшина.
— Что я, осёл? — ответил Ганшин. — Скажи спасибо, что на атанде постою.
Поливанов совсем скис. И как он, Севка, Костю не боится, такие слова выговаривать?
Ужин в тот вечер проскочил незаметно. Оля сдала дежурство Евге, остававшейся на ночь, погасила свет и ушла. Стены палаты потонули в густых августовских сумерках. Из тёмного окна повеяло вечерними запахами омывшейся дождём листвы.
— Значит, так: ты первый пойдёшь, — сказал Костя Поливанову и протянул ему туго набитый мешок.
— Вот ещё, с какой стати. Давай жребий тянуть, — возразил Поливанов. «Накроют, как пить дать накроют», — беспокойно пробежало у него в голове.
— Тогда Жаба полезет, — сказал Костя тоном, не предполагавшим возражений. — Следом Игорь, потом мы с Гришкой.
— Костя, а если жиган за дорогой ходит или дезертиры? — тонким голосом спросил Жаба.
Показалось, что за окном дёрнулась какая-то тень. Зашевелились кусты — может быть, кошка проскочила? Всем стало не по себе.
— Дурак, мы же нож с собой берём, — прислушавшись к ночным шорохам и выждав паузу, устыдил Жабу Костя. — Гришка припасы понесёт… Ганшин, ты будешь на шухере.
Ганшин знал, что хоть с некоторых пор он и сам по себе, но палату подвести нельзя. И стал молча выполнять приказ Кости.
Обычно дверь в коридор оставалась на ночь полуоткрытой. Теперь ему надлежало тихо придвинуться к ней на кровати и плотно затворить её, чтобы ни один звук не потревожил дежурных.
Дверь скрипнула и закрылась, проглотив последние лучики света, шедшие из коридора, и палата погрузилась в кромешную тьму. Виден был лишь серый четырёхугольник окна. Надо было действовать.
Тихо задвигались, заскрипели кровати, теряя свой обычный ровный строй, вырываясь из ряда, становясь наискосок. Костя зажёг спичку, и в коротком её свете палата предстала картиной ночного хаоса: всё, казалось, опрокинулось вверх дном, кровати кружились в каком-то безумном танце, вздыбились простыни и одеяла, летели сорванные вытяжения и подножники, а по стенам и белёной печи метались косматые тени.
Спичка погасла, тьма стала ещё чернее, и Костя скомандовал:
— Жаба, давай!
Койка Жабы стояла третьей от окна, и, хотя он заранее выдвинул её к центру палаты, ему предстояло преодолеть ещё заметное пространство, прежде чем очутиться у подоконника. Держась за спинки чужих кроватей, Жаба кое-как заковылял по полу, припадая на больную ногу. Он влез животом на подоконник, перевесился за окно головой, так что кровь прилила к лицу, и с опаской обдумывал, куда спрыгнуть: до земли было метра полтора, и там, он знал это, росли лопухи и крапива. Костя предусмотрел, что в крайнем случае можно спускаться вниз и на верёвке, как это делал д’Артаньян, прикрутив один её конец к спинке Гришкиной кровати. А если всё-таки спрыгнуть на здоровую ногу?
— Не торопись, — жутким шёпотом руководил Костя. — Взгляни, нет ли на дороге кого…
Пока Жаба вглядывался в чернильную ночь за окном, пытаясь справиться с головокружением, спустил ноги с постели Поливанов. В правой руке его были зажаты напильник и кусачки, левую он никак не решался оторвать от спинки кровати. Голые его пятки робко нащупывали пол.
Настала страшная, погибельная тишина. Лишь где-то далеко на краю посёлка стучал движок да лаяла собака. Поливанову казалось, что сердце его вот-вот разорвётся.
Жаба всё выжидал чего-то, лёжа на подоконнике и крутя головой по сторонам. Все чувствовали, что время уходит.
— Ну, прыгай же, прыгай, дурак, — просипел Костя.
В ту же минуту послышались торопливые шаги. Ганшин едва успел выдавить задушенным голосом: «Атанда!» Кто-то шёл по коридору, быстро приближаясь к седьмой палате. Мгновение — и шаги уже у двери. Щёлкнул выключатель: палату затопило нестерпимо ярким электрическим светом.
— Что здесь происходит? — воскликнула Евгения Францевна.
Она влетела в палату из тёмного коридора и ещё сама щурилась от света, оглядывая ряды смятых, растерзанных постелей. Игорь кое-как прикрылся простынёй, но Жаба не успел добраться до своей кровати и рухнул прямо в ногах у Гришки. В повисшем на одном плече одеяле, в белой, распахнутой на груди рубахе, он лежал поперёк чужой постели, зажмурив глаза, и хотел притвориться спящим. Костя ещё в темноте успел передать мешок Севке, шепнув ему, чтобы тот спрятал его в свою тумбочку, и укрылся с головой одеялом.
Это была катастрофа.
Через пять минут в палату уже вбежала вызванная Евгой из дежурки Ольга Константиновна. Ашота не нашли, послали нянечку на квартиру за Марией Яковлевной, и она тотчас явилась.
В палате горел полный свет. Со всех по очереди сдёргивали одеяла, проверяли фиксаторы и вытяжение. Обнаружили и отобрали две холстинных самодельных сумки с сухим хлебом и горбушками. Только инструменты удалось спасти под матрацем у Игоря.
Жабу отнесли на его постель и долго ещё обыскивали и приводили в порядок. Он заревел, размазывая кулаками слёзы по щекам, и зло огрызался на расспросы. Его поставили к печке, поменяв местами с Зацепой, и крепко привязали подножниками и кольцами.
— А теперь, дети, постарайтесь спокойно заснуть. Завтра будем разбираться во всём, что здесь случилось, — сказала своим унылым, чуть в нос голосом Мария Яковлевна, оставляя трепет в душах.
И Евга погасила свет.
— Жаба засыпался, факт! — сказал в темноте среди полного молчания Костя. — Но Гришку и меня, чур, не выдавать. Закон палаты… Кто предаст, пусть потом не жалуется…
Никто ему не ответил. Поливанов слушал, как тихонько скулит у печки Жаба.
«Утро вечера мудренее», — говорила всегда мама, — вспомнил вдруг Игорь. И неведомо почему это успокоило его. Не может быть, чтобы Костя не придумал завтра, как обвести вокруг пальца взрослых.

Глава семнадцатая
«РАСКАССИРОВАТЬ ИХ, РАСКАССИРОВАТЬ!»

утра в окна било солнце, из коридора доносился скрип колёсиков, весело перекликались голоса малышей — третье отделение вывозили на улицу. А о них будто забыли, и это был недобрый знак: седьмую палату ждало возмездие.

Во время умыванья и за завтраком Оля была молчалива и предупредительна, как если бы все они внезапно тяжело заболели. Маруля бормотала под нос что-то невнятное:
— М-м-м… На север гулять холодно… Там погода.
— Что, что, Маруля, какая погода?
— Я разве что сказала? А ничего не сказала. Лежи, не балуй, и якши будет…
А дальше всё напоминало большой обход. Внесли два стула — для Ашота и Марии Яковлевны. Ольга Константиновна присела на краешек Гришкиной постели, а Изабелла встала у печки, сцепив руки за спиной, сдвинув в шнурок чёрные брови.
Ничем не обнаруживая своего волнения, ровным врачебным голосом, будто диктуя историю болезни, Ольга Константиновна объявила, что вчера, в половине десятого вечера, в санатории имело место чрезвычайное происшествие. Она рассказывала то, что все уже хорошо знали, но при этом выбирала такие слова, что у ребят мурашки по коже побежали. Выяснилось, что, сговорившись заранее, группа больных детей, нарушив все правила режима, вставала с постелей и по некоторым признакам пыталась покинуть стены палаты. Жабин был обнаружен на подоконнике, у Митрохина, Поливанова и Фесенко оказались не в порядке фиксаторы, было сорвано вытяжение… К тому же в особых самодельных мешках обнаружены значительные запасы засохшего хлеба, который в последние дни некоторыми из поименованных выпрашивался на добавок.
— Этот вопиющий случай, несомненно, результат педагогической недоработки. Дети, виновные в происшедшем, должны быть строго наказаны, а персонал отделения сделает для себя серьёзные выводы, — заключила Ольга Константиновна и ищущим одобрения взором поглядела из-под очков с железными дужками на директора.
Палата сокрушённо молчала.
— Тэ-эк-с! — сказал с расстановкой Ашот и медленно обвёл глазами аккуратно заправленные постели с ровными полосками простынок на груди. Перед ним лежали тихие ангелы с потупленными ресницами. Но эта идиллическая картина лишь распалила его гнев.
— Дэти! Вы в силах понять, что надэлали? (Накаляясь от собственного красноречия, Ашот начинал говорить с акцентом.) Я вам скажу, как это называть. Это — врэдительство! Это — бандитизм! Враги, шпионы, закинутые в наш тыл, портят станки, поджигают амбары с зэрном… А вы… Разве это рэбёнок? — И он ткнул указательным пальцем в сторону Жабы. — Мы его лэчим, а он губит рэзультат нашей работы. Кто так поступает? Врэдители. Врэдители, вот вы кто! Всэх выпишу из санатория! Убирайтэсь, куда хотыты!
Ашот был весь багровый от негодования. Закончив свою речь, он стал вертеть вздувшейся шеей в тесном воротничке и расстегнул верхнюю пуговицу.
— Вы совершенно правы, Ашот Григорьевич, — произнесла Изабелла со своего места у печки. — Но сначала, мне кажется, надо разобраться, кто всё это затеял. От кого сыр-бор загорелся?
И она сощурилась, ожидая подтверждения. Ашот кивнул.
— Ребята, скажите мне честно, в присутствии Ашота Григорьевича и Марии Яковлевны, зачем вы вставали и кто первый это придумал?
Глухой тишиной отвечала палата.
— Хорошо. Если вы будете упорствовать и запираться, — продолжала Изабелла, — придётся наказать всех — виновных и невиноватых, и наказать жестоко. Итак, Жабин, говори, зачем вы вставали?
— Скажи, Юра, по-хорошему, как всё было, — вставила Ольга Константиновна.
— Мы на войну хотели бежать, — тихо-тихо сказал Жаба.
— На войну? — изумилась Мария Яковлевна. — Дети, но ведь вы же должны понимать, что с больными конечностями, поражениями сустава вы и трёх шагов сделать не можете. Я уже не говорю, что за время, пока вы лежите, перестраивается вестибулярный аппарат, теряется равновесие тела, и вы непременно будете падать. Не зря же, когда процесс затихнет, вас заново учат стоять…
— А без одежды, без еды, куда бы вы ушли? — вмешалась Изабелла. — Смех один!
И пристальным взглядом своих антрацитовых глаз она пробуравила Игоря.
— Вот Поливанов мешок хлеба набрал. А подумал ли ты, Поливанов, что этот хлеб ты отнял у других больных, у раненых бойцов в госпитале?
— Я не отнимал, — буркнул Игорь.
— Ну да. Ты известный тихоня. Моя хата с краю — ничего не знаю.
Умеет же Изабелла съязвить! Игорь чувствовал, что краснеет под её упорным взглядом, и злился, и ничего не мог с собой поделать. Это была проклятая его черта. Стоило ему вообразить, что он не то что был, но мог быть виноват, и лицо заплывало краской. Так и сейчас. «Чёрт, я краснею!» — подумал Игорь и из розового стал пунцовым.
— И его дружок Ганшин тоже хорош. Это ты, конечно, придумал все эти мешки, припасы-запасы?
Севка пожал плечами.
— Говори, чего молчишь? Молчание — знак согласия.
— Не я, — сказал Севка, невольно оглянувшись на Костю.
Но Костя словно ничего не слыхал, перебирал на груди завязки от фиксатора.
— А кто же? — но унималась Изабелла.
— Все.
— То эсть как всэ? — взревел, будто раненый зверь, Ашот. — Раскассируем, нэмэдленно раскассируем по другим палатам!
Угрозой выписки ребят было не напугать, всем хотелось уйти из санатория, лишь бы домой взяли. Но раскассировать — хуже наказания не придумаешь. Месяцами, годами привыкаешь к соседям по палате, ссоришься и миришься, с одним дружишь, с другим воюешь, но все свои. А тут — снова среди чужих, опять новичок, всеми обижаемый и бесправный; это как второй раз в больничные стены угодить.
— Пора раскассировать, — снова вступила Ольга Константиновна. — Я ведь вам и раньше, Ашот Григорьевич, докладывала. Это палата хулиганов… Фашиствующие дети… Вот Ганшин…
— Сами вы фашиствующие! — вдруг выкрикнул с отчаянным всхлипом Ганшин.
— Вы слышали? — взвилась Ольга Константиновна. Она оставила свой ровный врачебный тон. — Нет, вы когда-нибудь слышали что-либо подобное? Ты ведь не меня, Ганшин, оскорбил. Ты Ашота Григорьевича, здесь присутствующего, оскорбил. А знаешь, что значит оскорбить директора санатория? Ему эту работу поручил наркомат. Выходит, ты с товарищем Митиревым, наркомом здравоохранения, не посчитался… А если ты наркома оскорбил, ты отдаёшь себе отчёт, на кого ты замахнулся? Наркома товарищ Сталин назначил…
Ганшин готов был заплакать.
— Ну, Ольга Константиновна, это, пожалуй, преувеличение будет, — вмешался Ашот.
Ольга Константиновна сконфузилась, сняла очки и стала их медленно протирать полой халата. Наступила неловкая пауза.
— Хорошо. Попробуем разобраться спокойно, — опять вступила Изабелла. — Кто у вас был главарь? Ганшин, наверное? Он всегда заводила озорства.
Хитрая всё же Изабелла, на обычное озорство повернула. Только зря она Севку подозревает — всё же взрослые глуповаты…
— Ну, так мы ждём, кто же? — повторила Изабелла. — Ганшин?
— Нет, — сказал Жаба.
— Значит, ты, Жабин? — снова насела Ольга Константиновна.
— Нет.
— Тогда кто же?
— Костя, — еле слышно проговорил Жаба.
Белые халаты разом повернулись в сторону Костиной постели.
— Костя, ты слышал, что сказал Юра? — проговорила Изабелла. — Говори, ты придумал этот кошмарный побег?
Костя страдальчески замигал белёсыми ресницами и провёл рукой по лбу, будто желал вспомнить что-то.
— Он сам первый на окно полез. И Гришка.
Поливанова Костя почему-то не захотел назвать.
Пробовали расспрашивать Гришку, с какой целью он вставал, но тот только тупо глядел на вопрошавших и отвечал: «Не знаю». Сонные глаза его выражали такое каменное равнодушие ко всему на свете, что можно было и вправду поверить, что он тут ни при чём.
Изабелла снова взялась за Костю.
— Позволь, Митрохин, ты старший в палате, отличник учёбы и не имеешь права лгать. Скажи сейчас при всех: «Честное пионерское…»
— Честное пионерское — не я… — пробубнил Костя. — Я только немножко… помогал…
Изабелла
облегчённо вздохнула и отстала от него.
«Ну, Коська! Теперь как пить дать всё на Жабу и Гришку свалят», — подумал Поливанов. А сказать правду — нельзя. Едва взрослые за дверь, заорут все: предатель.
…Предатель! Давнее детское воспоминание всплыло в памяти Поливанова… Глинищевский переулок, просторный двор, жара, лето. До войны ещё далеко, он совсем-совсем здоров и носится в коротких штанишках с ребятами, не успевшими разъехаться на дачи. Только недавно он переехал с родителями в этот высокий новый дом, построенный на месте разрушенного монастыря. Во дворе ещё доживают свой век «красные домики» (в них когда-то обитали монахи), два облупившихся карминного цвета строения, с выбитыми стёклами, провалившимися полами, обрушившейся лестницей. Здесь давно ни души, но на чердаке ещё стоит ободранный овальный стол, плетёный стул с продавленным сиденьем, а на столе почему-то ваза с крашеными перьями для дамских шляпок: то-то радость мальчишкам! «Красные домики» и были крепостью белых, осаждаемой войском Юры Данилевского.
Не было тогда для Игоря во всём свете, исключая разве маму с отцом, человека умнее, смелее и увлекательнее, чем Юра Данилевский. Он повторял всякое Юрино движение, бегал за ним собачонкой, и Юра великодушно принимал его добровольную преданность. Старшие ребята не брали его в игру, для них он был неуклюж и мал, а Юра позволил ему быть своим ординарцем.
На вооружении во дворе были деревянные кинжалы и щиты, круглые или в форме большой капли, выпиленные из фанеры и раскрашенные. Бились же по преимуществу дротиками. Это редкостное оружие добывали тут же, обрывая с осыпавшихся штукатуркой стен куски тонкой деревянной дранки. Дротики метали, как копья, и условие было: если дротик коснётся одежды, ты ранен, если голых коленок, рук или лица — убит. Игорь был неповоротлив, хорошо кричал «ура», но бегал плохо. Его быстро накололи дротиком и прогнали к угольной куче у котельной, где обычно отдыхали убитые. Он скучно бродил там, подбивая носком сандалии чёрные, с блёстками куски угля, пока пробегавший мимо мальчишка из 16-й квартиры, сражавшийся на стороне белых, не крикнул ему: «Айда с нами, всё равно убит». И, увлечённый волной контратаки, Игорь побежал за ними, громко вопя «ура!».
У «красных домиков» догорала битва, взвивалась столбом известковая пыль, валились ломаные кирпичи и штукатурка. Но скоро сражение закончилось. Ещё распаренный от волнения, краснощёкий и запыхавшийся, Игорь подбежал к Юре Данилевскому и с робкой преданностью тронул его за рукав. Тот неожиданно отдёрнул руку и, смерив его остужающим взглядом, произнёс: «Не подходи ко мне, предатель». Игорь не знал, что значило это слово.
Сколько раз и вечером, и на другой день, отпросившись у мамы погулять, он подбегал во дворе к Юре и пытался заговорить с ним, как раньше: тот будто не слышал.
На третий день дома, за обедом, водя ложкой по дну тарелки с бульоном, Игорь решился спросить отца, что такое предатель.
— А зачем тебе? — встревожился отец.
— Ну, во дворе говорили.
— А-а… — сказал отец успокоенно, ковыряя спичкой в зубах. — Ну, это… как тебе сказать… то же, что изменник.
Слово «изменник» было не многим понятнее, переспросить он не решился, а только дружба с Юрой Данилевским рассыпалась навсегда.
…Всё это в одну секунду пронеслось в голове Поливанова, а между тем Изабелла от Зацепы снова вернулась к Косте:
— Как же ты других не остановил? Ты же такой взрослый, ответственный. А тут, выходит, за какой-то малышнёй потянулся.
— А я сам бы не побежал, — сказал вдруг, напрягшись и сморщив лоб, как старичок, Костя. — Я знал, это одна глупость. А не остановил потому, что на храбрость испытывал.
Но здесь вмешалась долго молчавшая Мария Яковлевна.
— Довольно, мне кажется, Ашот Григорьевич, — сказала она, как всегда, своим негромким, немного скрипучим голосом. — Ясно, что дети потеряли все ориентиры, скатились, так сказать, по наклонной плоскости. Тут не одни они виноваты. — И она выразительно взглянула в сторону Изабеллы. — Мы ещё обсудим это и на пятиминутке, и на медико-педагогическом совете. То, что дети плохо лежат, нарушают режимные моменты, вынуждает нас к серьёзным дисциплинарным мерам.
— Раскассировать их, раскассировать! — снова взревел Ашот, мотая большой лохматой головой, как медведь на картинке, отбивающийся от тучи пчёл, и решительно встал.
— Давайте обсудим это без детей, — предложила Мария Яковлевна, и все вышли из палаты.
Как прибитые, провели ребята время до обеда. Говорить ни о чём не хотелось, каждый в своё уткнулся: кто книгой закрылся, кто марки стал перебирать, Зацепа бумажные пульки делал.
Перед обедом стало известно, что Жабина переводят в пятую палату, Фесенко в двенадцатую, где старшие ребята лежат, а остальных на три месяца лишают кино и всех развлечений. Кроме того, поставят вопрос о пребывании в пионерской организации: этим займётся новый пионервожатый, назначенный вместо Гуля, успевшего развалить работу.
Когда, объявив об этом, Изабелла оставила ребят одних, в палате долго висела тишина.
— Как же это ты, Костя? — внезапно для себя решился Игорь.
— Много ты понимаешь… Так нужно было, — огрызнулся Костя, но по тону его видно было, что и сам он вконец расстроен. — Если б я только сознался, ещё хуже бы всех наказали…
— Ты честное пионерское продал, — сорвался неожиданно Ганшин.
— Ду-у-рак! Я не продал. Я же сказал «честное пионерское», но не под салютом. А действует только под салютом. Ты что, не знаешь, маленький, что ли?
В другое время все ещё раз подивились бы Костиной находчивости, изобретательному уму, но сейчас все его увёртки и отговорки были безразличны и вызывали даже раздражение.
— А ловко Гашка вывернулся, — сказал Костя с недоброй усмешкой. — Знал, что нас поймают, вот и откололся заранее.
Севку замутило от ярости.
— Ты… Ты — трус, ты — дезертир, ты — хуже того! — как шальной закричал он.
— Заткнись, бабник, — пытался прервать его Костя.
— Предатель, — выговорил Игорь, будто летя с обрыва.
Костя посмотрел на него с немым изумлением.
— Что смотришь? Ты, ты предатель, — повторил Игорь и приготовился закрыться локтем: сейчас ударит.
Но Костя не бил. Он только часто-часто заморгал белёсыми ресницами и отвернулся.
И вдруг все, даже Зацепа, испуганно таращившийся на происходящее и беспокойно вертевший головой в пятнах зелёнки, почувствовали: старая жизнь палаты кончилась. А во время мёртвого часа Поливанов повернулся к Ганшину и сказал негромко:
— Сева, хочешь, я подарю тебе открытку с зенитчиками? Я только с тобой хочу дружить.
— Ага, — ответил Севка, улыбнувшись во всю пасть.
И как это всё случилось? Ведь казалось, что без Кости не прожить и дня и что так будет вечно. Верили, что, не будь его, всем станет плохо, скучно, что нельзя его огорчать и уж совсем невозможно в им сказанном усомниться.
Но прошло всего несколько дней со злосчастного побега, увезли в другую палату Жабу и Гришку, поставили к ним двух новеньких, и вдруг стало ясно, что Костя — обыкновенный белобрысый мальчик с оттопыренными ушами, да ещё не очень смелый и сильный. И кто сказал, что у него надо быть в рабстве? И почему все должны были ему что-то — кто щелбаны, кто марки? Да ещё нелепая Дурландия, «закон палаты»… Чушь, мираж, колдовство какое-то.
Кровать Кости стояла по-прежнему здесь же, рядом. С ним можно было поболтать, сгонять партейку в шахматы, поменяться книгой, но он ни в ком уже не вызывал ни ужаса, ни обожания. И Поливанову странно было думать, что этот бледный, хилый мальчик с небольшими, упорными, будто молоком разведёнными голубыми глазами, совсем ещё недавно казался им всемогущим и так долго владел его душой и волей.
Глава восемнадцатая
ШАГ

аркое лето плыло к концу. Запылилась и побурела акация при дороге. И о побеге седьмой палаты, перебудоражившем весь санаторий, вскоре стали забывать.
А спустя год и вовсе никто не помнил.

На площадке, где лежали старшие ребята, установили на столбе чёрную тарелку репродуктора, и оттуда всё чаще, вперемежку с «Вальсом-фантазией» и песнями Руслановой, долетал сурово-праздничный голос диктора Левитана, на Красной площади стреляли из пушек в честь взятия Орла и Белгорода.
Что ни день, гуляли теперь слухи, один другого беспокойнее и соблазнительнее, будто санаторий собираются возвращать то ли в Москву, то ли под Рязань. По палатам прошла комиссия из крайцентра, прошелестело незнакомое словечко — «реэвакуация».
— Скорее бы, — вздыхала тётя Настя. — Кому Белокозиха, а кому Бедоносиха. Не успеешь оглянуться, Майка школу кончит, Лёнечке портфель с тетрадками покупай. Хошь бы к тому сроку в Сокольники вернуться…
Но комиссия уехала, а ребята как ни допытывались, так толком ничего и не вызнали. Лишь однажды Настя проговорилась:
— Да нет, куда уж вас везти. Посоветовались, говорят, не всех и до места доставишь. Смотри, Зацепин, какие у тебя ручки слабые, тебя и тронуть страшно…
И Зацепа впервые внимательно, как на чужие, поглядел на свои голые тонкие руки. Ну, ноги тощие — дело привычное, атрофия мышц от долгого лежания. Но чтоб руки такие — жёлтые, кожей обтянутые. Нет, долго ещё не видать Москвы ни ему, ни Поливанову, ни Косте.
А тут новость из новостей — Ганшина поставили! Приехал Ерофей Павлович, снова смотрел снимки на свет. Долго раздумывал, сгибал Севкину больную ногу, отводил, «приводил», покачивал на весу, сравнивал со здоровой и наконец вымолвил, откинувшись на стуле:
— Похоже, что процесс затих. Будем учиться ходить.
Он объявил это, задорно вскинув вверх французскую бородку и как бы сам удивляясь своей решительности.
Люди! Люди! Все, кто ходит, бегает, танцует, несётся или хотя бы тащится на своих на двоих, кляня усталость и погоду и не ведая своего счастья, — что может сравниться, я вас спрашиваю, с этим днём? Рот у Севки до ушей, всякий, заглянувший в палату, поздравляет его как именинника. А остальные лежачие испытывают такой ворох пёстрых чувств — восхищения, тайной печали, гордости за своего, робкой надежды, что для зависти в их душах почти не остаётся места. И всё же досадно. Только что Севка был ровня всем, а с этой минуты как бы шагнул в другой мир: не им чета — ходячий.
По ко всему в жизни привыкаешь — привыкли и к этому. Прошёл час-другой, и радость Ганшина, щедро даримая в словах и улыбках, стала понемногу теряться и закисать. Даже странно: столько ждал этого дня, вот он пришёл, а всё как обычно. Так же мой руки над тазом, так же получай в алюминиевой миске свою порцию пшёнки или упругого, как резина, омлета из американского ленд-лизного порошка; так же, поднявшись на локти, заглядывай, как все, на улицу через окно, где равнодушно пылят прохожие. Непонятная штука счастье: ждёшь-ждёшь его, а оно всё равно совершается не полностью и не вдруг, а медлительно, по каплям — измаешься, ожидая.
Но на завтра Евга приносит мешковатую застиранную пижаму, спадающие, на резинке, штаны, разношенные высокие ботинки и два костыля. Под мышки Ганшину пропускают полотенце, чтобы держать концы его за спиной, и разрешают осторожно спустить ноги с постели.
…Поплыли окно, печка, потолок, спинки кроватей, голова пошла шальной каруселью. Тело то слишком тяжёлое, неуклюжее, то кажется почти воздушным. В ногах слабость, обвисаешь на костылях, клонишься вперёд, будто вот-вот упадёшь, но понемногу привыкаешь стоять и можешь, наконец, оглядеться.
Вся палата, бросив свои занятия, смотрит на Ганшина, а он, как загипнотизированный, глядит на тумбочку. На тумбочке стоят принесённые Евгенией Францевной песочные часы: две колбочки стеклянных одна под другой. Первый день — одна минута, второй — две, третий — три, дальше будут прибавлять сразу по две. Сыпется тонкой струйкой мельчайший белый песок из верхней колбочки в нижнюю, медленно утекает, почти не замечаешь, а в конце вдруг быстрее, быстрее и проваливается весь. Пора, значит, ложиться в постель и ждать следующего дня; завтра стоять на минуту больше. Четыре минуты… восемь… десять… двенадцать.
И вот настаёт день, когда ему разрешают сделать первый шаг. Шаг! Ганшин подпрыгивает, как молодой петушок, и чуть не валится вместе с костылями на печку.
— Эк, заплясал. Ты смотри стенку не расшиби, — смеётся тётя Настя.
Она держит вожжами сзади свободные концы полотенца. Ну, ещё шажок! Удержался… Боже мой, что за чудо такое! Он уже за последней кроватью, уже у порога… Он движется, он идёт!
Пожалуй, скоро и полотенце можно будет убрать. Ещё несколько деньков, и он поскачет на костылях не хуже, чем Толяб. Чем скакал Толяб…
Как раз накануне Ганшин сделал неприятное открытие: Толик-то вторую неделю в изоляторе и, кажется, загремел не на шутку.
Изолятор был в том же конце коридора, что гипсовальня, куда привезли Ганшина. Севка спокойно сносил изведанную и не слишком приятную процедуру, потому что знал: этот гипс — его последний, с ним к дому ближе. Когда гипс подсохнет, затвердевший белый панцирь аккуратно разрежут широкими кривыми ножницами, чтобы сделать по форме тутор. Лёгкий, съёмный корсет на шнуровке будет служить ему первые месяцы ходьбы и дома, после выписки.
Пока Севка лежал на боку и на него шлёпали, вызывая лёгкий озноб, тяжёлые, мокрые гипсовые бинты, он услышал за спиной клочок разговора. Два женских голоса — похоже, что старшая сестра с хирургической, — говорили негромко у шкафа с историями болезней.
— Отсосали гной с утра?
— Ольга Константиновна не велела. Говорит, лучше не тревожить повязку.
— И температура?
— Тридцать девять. Только что мерила. Прыгал-прыгал и напрыгал себе. Палочка, как взбесилась.
— Неужели миллиардный? — спросил голос.
— Врачи боятся… Не дай бог, менингит…
Но тут они стали шептаться, как заговорщики, так что Ганшин, хоть и напрягал ухо, ничего не мог разобрать.
Сказали «менингит» или ему послышалось? Ведь менингит — это конец. От него не лечат. В первую алтайскую зиму от менингита умерла Нина Кудасова, старшая девочка, он помнил её по Сокольникам, и ещё двое малышей из первого отделения… Это только считается, что в санатории никто не умирает. Смерть взрослые скрывают, как главную тайну, но ребятам-то всё известно.
«А ведь это они про Толика, — внезапно дошло до Севки, — это у него менингит?!»
Ганшина повернули на другой бок, потом положили на живот и снова на спину, и прогипсованные бинты, в которые его закутали, как в кокон, стали понемногу твердеть. Дальше надо было вылежать часок-другой под сушилкой в коридоре. Добрый десяток электрических ламп жарко горели под выгнутым мостиком, перекинутым поперёк кровати на уровне живота. Гипс высыхал, отставал от тела, небольно и приятно покалывали тоненькие иголки.
Чуть наискось, совсем рядом с тем местом, куда положили сушиться Севку, был вход в изолятор. И, задрав голову, Ганшин увидел сквозь приоткрытую дверь Толяба. Он даже потянулся на кровати, чтобы лучше его разглядеть.
Толяб лежал на спине неподвижно, упершись в потолок глазами, безразличный ко всему, с пылающими щеками. Он то ли бодрствовал, то ли спал и не сразу обернулся, когда Ганшин его оклинул.
— Поставили? — спросил Толяб.
Ганшин кивнул.
— А я ногу переходил… Свищи открылись. Наверное, долго теперь не поставят… А то бы я тебе одну тайну показал. За домом спрятано. У забора… — трудно, с остановками сказал Толяб.
— Я тоже секрет знаю, — похвалился Ганшин.
— Тайна важнее, чем секрет, — сказал Толяб после некоторого молчания.
— Ну да! Секрет важнее. Спорим?
Но Толяб спорить не стал, отвернулся к стене.
«Сказать, что я про него слышал, или не говорить? — пронеслось в голове у Ганшина. — Нет, не надо, ещё завопит… И вообще жалко… А может, сказать?»
Он посомневался немного, но желание удивить Толяба, первым объявить новость, подслушанную у взрослых, победило.
— Толик, а у тебя что, миллиардный туберкулёз? — спросил Ганшин.
— Иди на фиг… С чего ты взял? Просто обострение.
Не скажи Толяб с таким раздражением, так злобно, и Ганшин, наверное, ничего бы не добавил. Но зачем он огрызается?
— А я разговор в гипсовальной слышал, хочешь скажу? — бухнул Севка. — Тебе не хотят гной откачивать, и вообще… боятся, что менингит будет.
— Врёшь! — выкрикнул Толяб. — Ещё чего — менингит… На-кася выкуси!
Лицо его исказилось резкой гримасой, и он сложил неловкую маленькую фигу.
Севка спорить не стал — пусть как хочет. Но какой-то поганый осадок остался от этого разговора. Вернувшись к вечеру в палату, он всё вспоминал Толяба, его обиженное лицо, его слова. Всё же напрасно он ему про менингит ляпнул. А если это правда? Да нет, наверное, ерунда: Толяб поправится. Ганшин к тому времени совсем ходить научится, и они вместе поскачут за дом, к забору, смотреть Толикову тайну.
Раздумывая об этом, Севка вынул из мешка над кроватью свой старый маленький подшипник, долго тёр его клочком наждака, крутил, с усилием проворачивая колёсико и, когда шарик засверкал и стал послушно жужжать, подозвал Марулю и просил снести в изолятор.
Ганшин заранее воображал, как обрадуется Толяб его подарку, что по этому случаю скажет, и нетерпеливо ждал Марулю — расспросить.
— Отдала, — кивнула Маруля. — Да он и глаз не поднял.
Вот те нá: подарил и благодарности не услышал. Вроде напрасно старался. Ну да пускай. У ходячего своих забот много, что ему про других думать?
Прошло три-четыре дня. Ганшин уже уверенно прыгал по палате и даже совершил в сопровождении няни путешествие на костылях по коридору: мимо печки, титана с прохудившимся, капавшим в эмалированный таз краном, мимо палаты девчонок и выхода на улицу. Дверь в изолятор была плотно прикрыта.
Все желания Ганшина в последнее время сошлись на одном: скорей бы приехали забирать его домой. Мария Яковлевна говорила, что давно отправила письмо родителям с вызовом, но ответа не было, и Ганшин беспокоился. В мёртвый час и вечером после отбоя он только и думал о приезде мамы: утром приедет? Или вечером? И кто первый ему скажет об этом?
А вдруг письмо потерялось, и мама не знает ничего? Или того хуже, как у Желтухи… «Не будешь слушаться, будешь плохо себя вести, с тобой, как с Желтухиным, случится», — пугали сёстры. Генку Желтухина уже выписывали, когда от него отказались. Ну, Желтуха, правду сказать, какой-то полоумный, орёт громко, всех задирает. Да ещё, говорят, родители у него поссорились. К тому же война, вот и не захотели его домой брать. Он с полгода при санатории болтался, пока его в интернат не сдали. А если и с Севкой так? Нет, за ним-то приедут, непременно приедут… Вот только почему нет письма?
Ганшину уж надоело отвечать на участливые вопросы взрослых — когда, мол, домой? Зачем они так спрашивают? И мгновениями где-то вверху живота пробегала ледяная судорога ужаса: а если он навсегда останется здесь?
Всё же время не идёт зря. Каждый день по две минуты, потом по пять прибавляют: скоро полчаса ходить. И хоть письма нет как нет, но ведь совсем не то, что у Толяба. Бывает же невезуха! Всё ещё в изоляторе и, говорят, плох, третий день под сорок!
Ночью Ганшин смутно, сквозь сон, услышал долетавший из глуби коридора его тонкий, пронзительный крик: «Ня-а-ня-а!»
«Спать не даёт», — подумал он с досадой и повернулся на другой бок. Но заснуть не мог.
С вечера ходила за холмами и никак не могла разразиться гроза. Ветер гнул кусты акации, шумел в вершине большого дерева за окном. Ослепительные белые всполохи озаряли небо, но грома не было — видно, тучу сносило к посёлку. Дождь начал было стучать, но скоро прекратился. Ганшин стал задрёмывать.
Внезапный шум заставил его вздрогнуть. Он вскинул голову над подушкой. Что-то ударило, будто взорвалось неподалёку. Посыпались, звеня, осколки стекла, потом всё смолкло.
«Наверное, ветер распахнул раму, окно шарахнул в коридоре», — решил Севка и, укрывшись с головой, стал наконец засыпать.

Глава девятнадцатая
ТОЛЯБ, ПРОЩАЙ!

о это был не ветер.
Третьи сутки Толик чувствовал нестерпимую боль в затылке. Шея одеревенела, голова налилась чугунной тяжестью, и хотелось запрокинуть её назад. У него отобрали даже тощую волосяную подушечку, и он лежал подбородком вверх, выставив вперёд маленький кадык и часто дыша. Ноги сами собой согнулись в коленях, образовав холмик над одеялом.

Есть он не мог, его тошнило, и дежурная няня приносила на его крик зелёный тазик. Он делал конвульсивные движения языком и глоткой, но дно тазика было сухо: шла одна горькая, отвратительная слюна.
К вечеру боль в голове немного утихла. Он подозвал сестру и стал просить отсосать гной из натечника. Он помнил, прежде это приносило ему облегчение, и не понимал, почему теперь об этом забыли.
— Оля, сделай пункцию, — сказал он. — Я тебе полевую сумку отдам… В ногах возьми. Хорошая такая планшетка, с отделениями, новая совсем…
Планшетку эту он, когда ещё ходячий был, выменял у курсанта, и все тогда ему завидовали.
— Дурачок, зачем мне твоя планшетка? — пожала пышными плечами Оля. — Было б врачебное назначение, я и так бы всё сделала… Мне что, жалко? — И она укоризненно посмотрела на него своими выпуклыми глазами. — Не расстраивайся, — сказала она и поправила на Толике край одеяла. — Мать вызвали, она приедет, с врачами поговорит…
— Душно, убери одеяло, — попросил Толик.
— Гроза собирается, — отозвалась Оля. — Пройдёт дождик — посвежеет.
Оля ушла, а его стало знобить. Он подтянул одеяло к подбородку и ещё круче закинул назад голову. Замёрзли ноги, согнутые в коленях. Он громко застонал и, увидев в дверях сестру, пожаловался на холод.
Грелки в дежурке не оказалось. Оля достала было какую-то со дна медицинского шкафика, но сквозь резиновую пробку сочилось. Тогда она взяла пустую бутыль, наполнила её горячей водой из титана, обернула в полотенце и положила ему под одеяло, к ногам. От бутылки потекла блаженная теплота.
— Я не умру? — спросил он, сдерживая ознобное постукивание зубов.
— Конечно, не умрёшь, — ответила Оля с бодрой поспешностью.
За окном беззвучно вспыхивали белые зарницы, но дождя не было слышно.
Голова его пылала, простыня под затылком была неприятно влажной, глаза слезились.
Он забылся, и Оля на цыпочках вышла. Она вернулась в дежурку, села у тумбочки на стул и задремала, опершись на руку. Рядом, на медицинской кушетке, обтянутой дерматином, спала дежурная няня. Она прилегла на минутку, подтянув под себя ноги, прямо в халате, не заметила, как заснула, и теперь тихо присвистывала во сне.
Полчаса прошло или час? Толик очнулся, разбуженный, как ему показалось, новой ослепительной вспышкой, беззвучно разодравшей небо. Голова раскалывалась от пронзительной боли, пульсирующей от затылка к виску, тошнота подступала к горлу. Под коленками лежало что-то холодное, противное, скользкое: остывшая бутылка с водой выбилась из полотенца.
— Няня! — позвал Толяб. — Дежурная! Ня-а-ня-а!
Никто не отозвался. Его охватило чувство бессилия, всё вокруг стало безразлично. Ножевая боль в затылке расширилась, заполнила всё тело, заставила его изогнуться. Забила дробь в ушных перепонках. Плохо помня себя, он схватил бутылку с водой и, собрав последние силы, бросил её перед собой об стену.
Бх-дзынь-длень! — лопнуло и зазвенело в ногах кровати.
Ему показалось, что огромная лесистая гора, похожая на Синюху, с грохотом осела и обвалилась дымным оползнем, открывая у подножия чёрные щели и провалы, и он вошёл в глубокий сводчатый коридор с влажными, скользкими стенами и туманным пятном впереди. Зазвенели, запели лёгкими, нежными звонами трензеля, словно кто-то вызванивал на музыкальных треугольниках стальными палочками незнакомую ему прежде мелодию. Трензеля звенели ровно и неумолчно, пока он двигался в глубь узкой тёмной пещеры, потом бежал, потом летел, раскинув руки, вперёд головой, теряя на ходу вес тела.
Толик потянулся, опустил колени, дёрнулся головой и затих. Из-под кровати натекала, разливаясь по полу и уходя вялой струйкой за дверь, лужица воды. На белёной стене изолятора расплывалось огромное мокрое пятно.
* * *
Утром тётя Настя вошла в палату с таким потухшим, расстроенным лицом, что ребята мигом поняли: что-то случилось. Она раздражённо гремела суднами и ни с того ни с сего напала на Поливанова:
— Лежит, точно прынц какой… Поворачивайся…
— А что, тётя Настя? — растерялся Поливанов.
— Тётя Настя, тётя Настя — сто лет тётя Настя, — обрезала она его.
— Что это вы такая сердитая? — спросил Ганшин.
— Печень у меня болит, а печень — это наша печка… Это во-первых… А во-вторых… И того, что во-первых с вас будет…
— А что ночью в коридоре бахнуло? — поинтересовался Поливанов. — Севка, ты слышал?
— Приказал ваш Толяб долго жить, вот что, — сказала тётя Настя, глядя себе под ноги, и отвернулась к окну. Она знала, что нарушает строжайший санаторный запрет, но промолчать не сумела. Не по её характеру, да и всё равно ребята узнают.
В палате стояла тишина, только шаркали шлёпанцы тёти Насти.
«Как так умер? — стучало в голове у Ганшина. — Совсем умер? Умер и не живёт? Окончательно? Навсегда?»
Что-то чёрное, холодное надвинулось на Севку, перехватило дыхание и оставило после себя пустоту.
«Может, Настя ошиблась, может, Толик ещё оживеет? А что, если это летаргический сон, о котором Изабелла рассказывала? Лежит совсем как мёртвый, а просто спит?.. Нет, невозможно. Жил, смеялся, бегал на костылях, менялся марками и вдруг — умер? Да что ж это такое? И возьмут и положат в гроб (ещё это слово — чёрный ужас), и понесут на руках, и зароют в землю на кладбище, за водокачкой…»
И новый ряд невыносимых картин: могилу роют опускают гроб, заваливают землёй, мокрыми, грязными комьями…
«…А вдруг крышка слезет? Все уйдут, а он там живой и начнёт откапываться? В темноте загребает руками землю, а она в рот лезет, забивает уши… Вот что: а если и я умру, не дождавшись мамы? — внезапно пугается Ганшин. — У-уф! Даже спине холодно стало. Толяб тоже на костылях прыгал, как здоровый, все ему завидовали… Нет, нет, я не умру. Это Толяб умер, у него миллиардный. А я уже выздоровел. Я никогда не умру. Я не могу умереть. Вот и зимой не умер, а как болел, дней пять подряд за сорок было…»
И Ганшин мало-помалу успокоил себя.
Шёл обычный палатный день. Евга помалкивала, поджимая губы. Мерили температуру, перекладывали, посыпали спину тальком; прошёл ежедневный обход, будто ничего не случилось. И ребята виду не подавали, что знают: пусть взрослые думают, что они дураки.
Изабелла не отходила от них целое утро. Разлетелась рассказывать о Москве, о своём детстве, о представлениях в театре «Летучая мышь» и ещё что-то потешное, но никто не смеялся.
А когда перед обедом Ганшина вывели на костылях в коридор, он увидел, как из изолятора две незнакомые няни, молча и торопясь, провезли к выходу каталку, на которой лежало что-то, едва угадываясь маленькими белыми горбиками под ровно, без морщинок, натянутой по краям простынёй. Толяб, прощай!

Глава двадцатая
ДОМОЙ!

конце августа стояли поздние тёплые деньки. Ночами заметно холодало, но ребят ещё оставляли спать па улице, и, пригревшись под одеялом, Ганшин заспался поутру.
Проснулся он перед самым звонком, от того, что кто-то наклонился над ним и отвернул свесившийся на лицо край простыни.

Солнце било в глаза, просеиваясь лучами сквозь крону большого одинокого вяза, и Севка заморгал часто-часто, пытаясь разлепить веки. Сладко потянувшись, он глубоко вдохнул свежий, лёгкий, пришедший с утренних гор воздух. Высокие ребристые облака плыли на промытом, будто новорождённом, утреннем небе.
— Ну, Сева, пляши, — говорил над его ухом голос Марули, пока он тёр ладошкой глаза. — Мать приехал, домой пойдёшь.
Неужели дождался? Сна как не бывало. Да где же она, где? Почему не здесь сразу?
Ганшин механически глотал остывшую тыквенную кашу, а сам то и дело косил на дорогу, выхватывая издали и провожая глазами каждую женскую фигуру, пока не убеждался разочарованно: не она.
Мама появилась с другой стороны, чем он ждал, и Севка не сразу узнал её. Невысокая женщина без привычного белого халата, в чём-то светло-зелёном, быстро шла вдоль ряда кроватей, вглядываясь в одинаковые детские лица.
— Мама!
Она подбежала к постели, он приподнялся на локтях, она наклонилась к нему, бросилась целовать в нос, лоб, ухо, куда придётся, зачем-то заплакала. Теперь, когда она была рядом, Ганшин узнал на ней довоенное, выгоревшее, в кленовых листиках платье, такое знакомое по дому, по Сокольникам. Загорелое, усталое лицо матери с незнакомыми морщинками в первую минуту показалось ему некрасивым.
— Мама, какая ты… — сказал Севка.
— Какая?
— Старая…
Мать улыбнулась растерянно.
— Ведь два года не виделись, Севочка… И дорога трудная была. Знаешь, девять суток к тебе добиралась. Приехала почти без вещей — такая неудача, баул стащили в поезде… И босоножки, — засмеялась мама.
Она смотрела на него, сияя глазами, гладила его лицо и руки и говорила обо всём сразу — о московской квартире, о том, что налёты кончились, о жуткой пересадке в Новосибирске, о письме от отца, о здоровье бабушки, и о босоножках, которые она сняла в купе на ночь, а утром нагнулась со своей полки — нет как нет.
— Не знаю, как бы и добралась, если б не добрая душа одна, представляешь, тапочки мне уступила, в них и доехала.
Через пять минут Ганшину уже казалось диким, как это он мог сразу не узнать её. Такая же, как всегда, и всё в ней такое своё, московское, домашнее. Они говорили и говорили, перебивая друг друга, забывая, с чего начали, — о том, что он ходит уже по двадцать минут в день, и как они поедут, и во что оденут Севку, и что костыли дадут, наверное, санаторские, на них ещё год ходить, и в какой школе учиться, и кто их встретит в Москве…
— А это мои товарищи, мама, — спохватился Ганшин, совсем забывший было о ребятах, которые давно уже восхищённо глазели на них. — Игорь… Ты его узнала? — И Севка широким, великодушным жестом указал на Поливанова, как бы приглашая его разделить свою радость. — Мой главный друг, помнишь, ещё с московского санатория.
— Поливанов?.. Узнала, конечно, узнала, — закивала мама. — Как вырос!
— А там Зацепин, Костя Митрохин…
В этот миг торжества Ганшину все палатные, без разбора, казались добрейшими и вечно преданными друзьями. Прошлые ссоры, унижения, обиды, драки были забыты, и ему искренне хотелось, чтобы мама знала теперь о ребятах только хорошее.
— У вас тут один мальчик тяжело заболел, — сказала вдруг мама, приглушив голос. — Я с его матерью на попутных из Вейска добиралась. Хорошая такая женщина, совсем простая, из Иванова-Вознесенска, ткачиха…
— Это Толяба мать, — сказал, опустив глаза, Ганшин.
Она поняла, что он знает всё, и стала тихо рассказывать, комкая в руках платок и временами прижимая его к лицу:
— Мы сегодня всю ночь не спали. Как с вечера приехали, и она узнала… И вот убивается: опоздала, опоздала. Телеграмму, говорит, поздно дали, да с фабрики освободиться надо, да билетов не достать. Пока ещё дочку маленькую к сестре отвезла, пристроила, еду кое-какую собрала, банку тушёнки, сальца, как он любил, где-то выпросила… Мануфактуру везла, нитки, чтобы на мёд здесь поменять и на яйца. Я её всё утешала: поправится он, только усиленным питанием немного поддержать. Вот Севу, говорю, моего поставили, врачи в санатории отличные…
Мама захлюпала и отвернулась. Севка сконфуженно смотрел на неё.
— Так всё в эту войну, Севочка, горе сбоку у радости ходит, — сказала она, глядя себе в колени и оглаживая на них платье.
По правде сказать, Ганшину вовсе не хотелось, чтобы мама говорила с ним об этом. Запретный разговор вызывал у него смущение. Да и просто не терпелось опять повернуть на своё — уезжаем ведь! — и он спросил, привезла ли она штаны, в каких ему домой ехать.
— Папины укоротила, — улыбнувшись, сказала мама, и они стали обсуждать подробности отъезда.
А спустя четыре дня Ганшина провожали в дорогу.
Севка был готов уже накануне вечером и, проснувшись спозаранку, терял последнее терпение. Отъезд дважды откладывался: никак не могли сговориться о транспорте — в районе шла уборка, и все машины были в поле… Лишь бы до Вейска добраться, говорила мама, а там уж железная дорога сама повезёт, билеты через коменданта обещали достать.
Прошёл час, другой, мать дежурила у конторы совхоза, но попутных машин всё не было. Наконец предложили ехать: везут в Вейск картошку-скороспелку на полуторке. Картошка мелкая, мешки плотные, стелите поверх одеяло и поезжайте.
Газуя и пыля, совхозный грузовик развернулся и притормозил за акацией у дороги.
Пока Ольга Константиновна суетилась с выписками из истории болезни и оделяла маму последними рекомендациями о строжайшем домашнем режиме, а та рассеянно слушала и послушно кивала, Ганшин раздавал своё добро. Книжка о войне, привезённая мамой, пошла Поливанову, ему же — краски с кисточкой. Зацепе перепало десяток открыток с надписью «Смерть немецким захватчикам!» и жестяная коробка из-под монпасье с отверстиями, пробитыми для жуков, чтоб дышали. Севка поколебался немного и отдал Косте плоскогубцы и старый альбомчик для марок. Чего уж там, пусть помнит Ганшина!
Потом его одели в домашнюю одежду — настоящие мужские брюки, серые в полоску, подпоясанные кожаным ремешком, и сатиновую рубашку с открытым воротом. Проворные руки мамы застёгивали тугие, не влезавшие в петли пуговицы. Ганшин чувствовал себя смущённо и гордо: скорее бы только, скорее, чтобы ничто не задержало!
Прыгая на костылях, он обошёл постели, каждого из мальчишек тряхнул за руку, кивнул издали девочкам и поскакал к машине.
— Махни мне с грузовика, как поедешь, — крикнул ему вслед Игорь Поливанов.
У заднего борта полуторки Ганшина ждала тётя Настя. Она подхватила Севку под спину и, держа, как большой куль, на вытянутых руках, погрузила на ватное одеяло, брошенное на мешки с картошкой. Туда же забралась мама с коричневым истёртым чемоданом, перевязанным крест-накрест бельевой верёвкой, и какими-то узелками, набитыми дорожной снедью. Сбоку положили костыли, и молодой водитель в драной кепке захлопнул задний борт и лязгнул задвижкой.
— Ты, гляди, ровнее нашего робёнка-то вези, — звонко прокричала шофёру тётя Настя. — Притормаживай, где колдобины. А то я тебя знаю, устроишь тут гонку Осовиахим…
Полулёжа на мешках, Ганшин приподнялся и выглянул за борт. Сквозь разрывы в кустах акаций он увидел вдруг сразу весь, как на картинке, серый двухэтажный прямоугольник санатория с крохотными балкончиками по фасаду и покатым спуском у крыльца. А где-то внизу, у земли, ровный ряд одинаковых кроватей.
Шофёр дал газ, полуторка дёрнулась и медленно пошла, тяжело переваливаясь в придорожных ямах.
Ольга Константиновна, Евга, Изабелла, Настя стояли у обочины и взмахивали белыми рукавами халатов. Где-то далеко мелькнули ещё раз сквозь прутья кроватей лица ребят. Они выбрасывали вверх руки и что-то кричали, но что кричали, было уже не разобрать. Ганшин махнул наугад Поливанову, поискал кого-то глазами в девчачьем ряду, и ему показалось, что увидел Ленку: она смотрела на него, заслонившись локтем от солнца.
Грузовик набрал скорость и, покачивая бортами в разбитых колеях, поплыл по дороге, оставляя за собой долго оседавшее облако белой вонючей пыли.
А ребята из седьмой палаты, которым наскучило затянувшееся прощанье, уже через минуту были заняты каждый своим делом.
Зацепа разложил на одеяле подаренные Севкой открытки и перебирал их своими тощими, как соломка, руками. Костя, часто мигая белёсыми ресницами, достал из-под подушки книгу и, поставив на груди, принялся её читать.
А Игорь Поливанов, которому почему-то ничего не хотелось делать, мотал руками, стиснутыми у плечей кольцами, раскачивая кровать из стороны в сторону и слушая, как она мерно поскрипывает под ним.

Эпилог
ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

о средам день «отдалённых результатов». Все в этот день бывают — кто лежал и десять, и пятнадцать, и, странно подумать, двадцать лет назад. Сколько раз Ганшин пропускал этот ежегодный осмотр. А тут подумал: надо всё же съездить в Сокольники…
Проходя больничным двором, Ганшин внезапно вспомнил той глубокой, дальней памятью, какой обладают лишь запахи, как ветер, бывало, надует, нанесёт из сада на верхнюю террасу душный, сладкий аромат белых и розовых флоксов и с этим запахом раздвинется щель в ещё более давнее детское воспоминание: подмосковное лето, заросли лиловой сирени по глухому забору, тёплая пыль на тропинке, по которой бежишь босиком… Ходить, ловить рукою ветки, сорвать набухший, готовый лопнуть стручок акации, нагнуться за одуванчиком и, раздув щёки, пустить по ветру маленькие пушистые зонтики! Их белые точки едва можно разглядеть сверху в той срезанной наискось барьером части мира, какую видишь, поднявшись на локти…
Накинув на плечи белый халат, Ганшин поднимается широкими мраморными ступенями в огромный вестибюль с хрустальной люстрой, камином и деревянными антресолями, опоясывающими второй этаж. Разбогатевший архитектор строил особняк для себя, не скупясь: мрамор, зеркальные стёкла дверей, дубовые панели по стенам. Медицина приспособила к себе безвкусную роскошь дома. Из вестибюля в одну сторону двери в рентген и светолечебницу — длинную веранду. В другую — палаты и террасы 3-го отделения. В углу вестибюля — широкий, на две кровати, лифт на второй этаж — к малышам и в изолятор.
Тут нет ни одной палаты, ни единого закоулка, где бы не лежал, ещё до войны, Ганшин. Идя наверх, к кабинету главврача, он невольно взглядывает на знакомые двери. Через толстое, отливающее по краям радугой стекло видны ровные ряды постелей. Коротко стриженные, круглолицые ребята, опутанные системой лямок, колец, вытяжений, с любопытством крутят головами. Его заметили, а каждое незнакомое лицо в вестибюле — происшествие.
И вдруг опять какая-то толстуха в белом халате и колпаке громко окликает его:
— Сева! Да тебя Зинаида Эдуардовна не узнает!
Для всех он здесь не тридцатилетний, с залысинами кандидат наук, уважаемый коллегами и внушающий трепет студенткам, а Сева из второго отделения, ещё недавно привязанный к постели и известный разве что своим медицинским случаем, да, быть может, родителями, да ещё какими-то памятными случаями озорства.
— Ну, присядь со мною на минутку, — добродушно улыбаясь, приглашает его Оля Бурмакина. — Всё равно на осмотр опоздал. Ты ведь к Зинаиде Эдуардовне? Только-только уехала.
— Как уехала? — удивился Ганшин.
— Да она теперь у нас не задерживается. Можешь, конечно, показаться Голубикиной. Только не думаю, чтобы это было тебе интересно.
Олю трудно узнать — постарела, располнела и старшей сестрой теперь работает. Но улыбнётся и станет похожа на прежнюю, молодую, что с ними в эвакуацию ездила.
— К Голубикиной не пойду, — сказал Ганшин. — А кто тут из старых?
— Ты не представляешь, Сева, как всё у нас изменилось, — понизив голос, сказала Оля. — Мария Яковлевна на пенсию вышла. После смерти Ерофея Павловича набрали новых, а Зинаида Эдуардовна только раз в неделю бывает… Мне грех жаловаться, не трогают пока, член месткома, квартиру вот обещают. Но разве то теперь, что было, когда вы лежали — Игорь, ты, Лена. Родной дом был, привыкали, как к своим детям. Теперь, знаешь, у нас не залёживаются: стрептомицин, ПАСК… В необходимых случаях показана хирургия…
Оля посмотрела на Ганшина и умильно покачала головой.
— Да, Севочка, годы-то идут… И всё же, скажу, жалко старых врачей. Марию Яковлевну вот обидели, — почему-то оглянувшись, сказала она. — Был юбилей санатория, ведь она с первых дней с Ерофей Павловичем работала, а её даже не пригласили. Нам всем неудобно было. Конечно, она не сильный фтизиатр, скорее, администратор, и всё же, знаешь, не ценят у нас старые кадры… Ты бы её навестил, вот обрадуется!
«А не зайти ли в самом деле к Марии Яковлевне?» — думает Ганшин.
Деревянный домишко Марии Яковлевны с чахлым кустом сирени под окном, с весны уже пропылённым, гут же, в двух шагах от санаторского двора. На верёвке проветривается чья-то шуба. Пёстрый половик свешивается с перила крыльца.
Пройдя заставленные сундуками, отслужившей мебелью и старыми тазами сени, Ганшин нащупывает в полутьме медную ручку, стучит в дверь и входит в чистенькую комнату с кружевными занавесками на окнах.
Мария Яковлевна не суетится, не всплёскивает руками. Она почти не удивляется Ганшину, хоть и рада ему.
— Молодец, что зашёл, а в прошлом году, осенью, у меня Ляля Сухарова была.
Скрипят сохлые половицы, часы в продолговатом ореховом футляре отбивают четверти. На комоде — старые коричневые фотографии в деревянных рамочках, под ними резные круглые салфетки. Рядом книжный шкаф с медицинскими журналами и сочинениями Брет-Гарта, кожаное кресло, в которое уходишь, будто проваливаешься по пояс.
Мария Яковлевна неторопливо готовит чай, нарезает лимон на блюдечке, ставит перед Ганшиным начатую коробку с сухим тортом. Голова её чуть-чуть трясётся. Седые волосы гладко зачёсаны назад и собраны в пучок. Она садится напротив него, в лиловой вязаной кофте с глухим воротом. Веки её полуопущены, отчего у неё вечно усталый вид. Говорит она чуть в нос, тщательно подбирая слова, крепким, немного скрипучим голосом:
— Иногда, Сева, не верится, что жизнь прошла. Сейчас говорят: консервативный метод устарел, лечат эффективнее. Персонал новый, Ерофея Павловича критикуют. Конечно, результаты достигнуты большие, особенно с антибиотиками. Кто спорит. Наука вперёд ушла. А попробовали бы, как мы, пережить войну и сохранить больных детей. Ведь ничего не было: гипса не было, термометров не было, простой марли и то не было…
Мария Яковлевна прикрывает веками глаза, как подбитая птица. Спросит что-то о родителях, помолчит немного и продолжает:
— А как я вас в эвакуацию вывозила? Вы маленькие были,
не помните… Бомбёжки в Москве начались, все из города едут, транспорта не достать, родители нервничают, персонал не соберёшь. А вы у меня в подвале на полу, на тюфяках вповалку лежите и отъезда ждёте. Я и в райздрав, и в Наркомздрав, и через знакомых. Сколько порогов оббила, пока автобусы дали. Ребят на лавки, как были, в гипсовых кроватках. Между сиденьями, чтобы на пол не попадали, положили доски. Персонал в проходе стоит, за стойки держится. Да не все и поехать могли, уговорили проводить до Владимира. Думала, на месте новых наберу. Куда там… Пристроились за Золотыми воротами, на горке, тубдиспансер к себе пустил. В самом здании мест не было, а я для вас две летних терраски отхлопотала — такие там дощатые голубенькие павильончики отдельно стояли, над обрывом к реке. Сначала, помнишь, неплохо ведь было? А тут октябрь, заморозки начались. Вы и под мехами лежите дрожите, да ещё Игорь Поливанов коклюш подхватил… И немцы до Владимира долетать стали. Как вечер, гудит сирена, немецкие аэропланы бросают зажигалки, светло как днём. Терраска деревянная, сгорите, думаю, заживо. Поставила в дежурство ночную сестру, сама в тулупе кругами хожу — жду, когда вас хватать, выносить. Забежишь в дежурку, вздремнёшь часа два-три, а под утро снова к вам. Помню, сухая трава на склоне с изморозью, скрипит под ногами, будто соль. Что делать, думаю? Каждый день в горисполком ходила, к начальнику вокзала — надо вас дальше, в Сибирь, отправлять. А составов нет, вагоны переполнены, эвакуированные по пятеро на одной лавке сидят, а мне для каждого ребёнка — полка… Шла я однажды, знаешь, от вокзала, голову повесила, в платок сморкаюсь, плакать хочется. И вдруг окликает меня знакомый один. Я его до войны на врачебных курсах встречала. «Вы как здесь?» Разговорились. Представь, главный врач санитарного поезда. Рассказала нашу беду. Он спрашивает: «А сколько больных?» — «Шестьдесят детей, да ещё персонала человек десять наберётся». Он говорит: «Вагона полтора мог бы освободить, раненые мои потеснятся, да не один я тут командую, есть и железнодорожное начальство. Словом, чтобы погрузку устроить, надо кое-кому спиртиком помочь». — «А много?» — спрашиваю. «Да пустяки, бидончика, думаю, хватит». «Бидончика»!.. А где его возьмёшь столько? У нас спирт, сам понимаешь, тогда на вес золота был. Собрала сестёр, разъяснила обстановку. Мы этот спирт изо всех пузырьков сливали, ватки со спиртом выжимали. Понесла я бидончик начальнику состава. Он крышку приподнял, нюхнул, поморщился. «Ладно, — говорит, — везите детишек. Девятый вагон будет пустой. Завтра в три погрузка, в четыре выезжаем». И поехали… Ещё чаю, Сева?
Ганшин слушает молча, будто не про себя. Чу-у-дно. И Мария Яковлевна казалась ему другой. В санатории все её боялись — сёстры, няньки, по ниточке ходили, хотя ни разу ни на кого она голос не повысила, говорила также ровно, чуть в нос. Она была вершиной пирамиды прочно устроенного, надёжного мира взрослых, где всё было наперёд обдумано и предусмотрено и никаким дурным случайностям уже не оставалось места…
— Ещё чаю, Сева?
Мария Яковлевна сидит напротив, в лиловой кофте под вороток, и Ганшин, слушая её, почти механически кивает.
— Да, война… — повторяет Мария Яковлевна, подливая кипятку в заварной чайник. — Сейчас забыли, как тогда было. На Алтае нам старую школу выделили. Отопление печное, кухня в полутора километрах, рентген в двух, всё неприспособлено, грязно, а тут морозы начались. Ашот Григорьевич, кирицкий директор, — я тогда на должность главврача перешла — в Барнаул уехал связываться с местной властью, пайки выхлопатывать. А я одна осталась. Кормить вас нечем. Бывало, сидишь с поварихой — голову ломаешь, из чего сто порций на ужин сделать. Потом пойдёшь в госпиталь к начмеду, выпросишь десяток тыкв — на тыквенную кашу. После уже с совхозом договор заключили: выделили нам на три месяца пшена и сала немного, а остальное — вертись как знаешь. Персонала нет, няни не обучены простейшим гигиеническим правилам. И учить некому — сёстры от усталости с ног валятся. Набрали молодых, из деревни, да ведь пока обучатся! Но люди, согласись, Сева, были с нами замечательные. Евгению Францевну помнишь? Образцовая ортопедическая сестра. Всю себя отдавала детям. А из педагогов кто?
— Изабелла Витальевна, — подсказывает Ганшин.
— Да, Изабелла, — соглашается Мария Яковлевна. — Она ведь совсем девочка была, только-только перед войной институт кончила. Озорная, легкомысленная. Как-то вечером, помню, после звонка, истории вам рассказывала, испугалась ночной сестры и под кровать залезла, разбирали потом на пятиминутке, — без тени улыбки, всё так же в нос говорит Мария Яковлевна.
Она вообще не улыбается.
«Какая же Изабелла молодая? — думает про себя Ганшин. — Конечно, не старая, но пожилая была, с седой прядкой, горбилась заметно. Правда, хорошая, смелая, всё время острила, нравилась ребятам. Но разве же ей едва за двадцать было?»
— А какие ребята с тобой лежали отличные — Игорь, и Гриша Фесенко, — продолжает Мария Яковлевна. — А Костю помнишь?
Ганшин молчит. Ещё бы он не помнил Коську!
— Такой серьёзный, развитой мальчик, он, кажется, был у вас атаман?
— Да, — отвечает Ганшин, помедлив. — Там многое чего было.
Он помешивает ложечкой чай и видит, как Мария Яковлевна напряглась, забеспокоилась.
— Помню, помню, вы, кажется, собирались в горы бежать. Но ты же не станешь отрицать, что в палате был в целом хороший, здоровый детский коллектив? Как вы помогали фронту! Грабли к сенокосу делали, девочки кисеты вышивали для бойцов. Это, кажется, ваша палата отличилась сборами на танк? Нас Сталин благодарил телеграммой — теперь вот рассказываю, не верят… Да, все мы жили одним.
Чай остыл. Торт, который Мария Яковлевна незаметно подложила ему, раскрошился на блюдечке. Ганшин засиделся в одной позе и теперь с трудом, опираясь на подлокотники, поднимается из поглотившего его кресла.
Ему хочется проститься с ней как-то особенно, сказать что-то важное, может быть, обнять. Но она опережает его — первая строго подаёт сухонькую руку, высунувшуюся из широкого лилового рукава. Он прощается, и дверь хлопает за ним.
Похоже, что он никогда уже не вернётся сюда.
1983–1984
Художники В. Басков, Н. Филиппов


Оглавление
Глава первая
УТРО
Глава вторая
НА РЕНТГЕН
Глава третья
СО СВЕТОМ
Глава четвёртая
ШАРИК
Глава пятая
ЭКЗЕКУЦИЯ
Глава шестая
УРОК ИСПАНСКОГО
Глава седьмая
В КИНО!
Глава восьмая
ВАННЫЙ ДЕНЬ
Глава девятая
КУПИМ ТАНК
Глава десятая
ФУРАЖКА В КАШЕ
Глава одиннадцатая
ЁЛКА
Глава двенадцатая
НАХОДКА
Глава тринадцатая
ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ
Глава четырнадцатая
ЛЕТО
Глава пятнадцатая
ЛЮБОВЬ
Глава шестнадцатая
ЧТО ТАМ — ЗА ДОРОГОЙ?
Глава семнадцатая
«РАСКАССИРОВАТЬ ИХ, РАСКАССИРОВАТЬ!»
Глава восемнадцатая
ШАГ
Глава девятнадцатая
ТОЛЯБ, ПРОЩАЙ!
Глава двадцатая
ДОМОЙ!
Эпилог
ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ





 вухэтажный, с низкой крышей дом, бывшая школа — двенадцать окон по фасаду и крыльцо посерёдке, — стоял, отделённый от накатанной проезжей дороги сверкающими на зимнем солнце овалами сугробов, из которых торчали кое-где чёрные прутики замёрзшей акации.
Дом был стар, некрасив, но ещё прочен. Прежде говорили, что пустят его на слом — перед самой войной школе построили в Белокозихе кирпичное здание, — да вовремя передумали. Срубленный когда-то из доброго кедрача, он был обшит досками, изъеденными потом жучком, с облупившейся чешуйками охрой. Но крышу поправить, печи переложить — верно, не один годок постоит.
вухэтажный, с низкой крышей дом, бывшая школа — двенадцать окон по фасаду и крыльцо посерёдке, — стоял, отделённый от накатанной проезжей дороги сверкающими на зимнем солнце овалами сугробов, из которых торчали кое-где чёрные прутики замёрзшей акации.
Дом был стар, некрасив, но ещё прочен. Прежде говорили, что пустят его на слом — перед самой войной школе построили в Белокозихе кирпичное здание, — да вовремя передумали. Срубленный когда-то из доброго кедрача, он был обшит досками, изъеденными потом жучком, с облупившейся чешуйками охрой. Но крышу поправить, печи переложить — верно, не один годок постоит.

 ыжая лошадь, запряжённая в крестьянские розвальни, стояла у крыльца, понурив голову. Сквозь широкие ноздри пыхали в морозный воздух облачка пара. Грива свисала набок нечёсаными прядками, закрывая большой печальный глаз. Возчик Николай в шапке с болтающимися ушами ходил возле саней, скрипя подшитыми валенками по снегу, и дымил махрой, когда вынесли закутанного в одеяла, запелёнатого, как мумия, Ганшина.
ыжая лошадь, запряжённая в крестьянские розвальни, стояла у крыльца, понурив голову. Сквозь широкие ноздри пыхали в морозный воздух облачка пара. Грива свисала набок нечёсаными прядками, закрывая большой печальный глаз. Возчик Николай в шапке с болтающимися ушами ходил возле саней, скрипя подшитыми валенками по снегу, и дымил махрой, когда вынесли закутанного в одеяла, запелёнатого, как мумия, Ганшина.

 сторожней, Ашот Григорич, не дай бог, убьётесь, — говорит тётя Настя, придерживая за спинку ходящий под директором стул. — Дайте я.
Но он уже захватил одной рукой свисающий с потолка шнур, а другой ловко ввинчивал лампочку в проржавевший патрон.
сторожней, Ашот Григорич, не дай бог, убьётесь, — говорит тётя Настя, придерживая за спинку ходящий под директором стул. — Дайте я.
Но он уже захватил одной рукой свисающий с потолка шнур, а другой ловко ввинчивал лампочку в проржавевший патрон.


 о коридору гремят костыли, и в палату, приволакивая ногу в гипсовой шинке, входит Толяб, одетый во взрослую, когда-то синюю, застиранную пижаму с подвёрнутыми рукавами.
— Здорово, рёбушки! Лампочкой разжились?
о коридору гремят костыли, и в палату, приволакивая ногу в гипсовой шинке, входит Толяб, одетый во взрослую, когда-то синюю, застиранную пижаму с подвёрнутыми рукавами.
— Здорово, рёбушки! Лампочкой разжились?


 ет хуже, как проснуться среди ночи. Если болит, то кажется, болит раз в пять сильнее, чем днём. А-а, эта подлая боль — тянущая, далёкая, сладкая, настораживающая, — она идёт от колена к бедру и замирает где-то в суставе. Напряжение мышц — и вдруг острый, пронзительный укол, насквозь пробивающий кость, а потом опять тихое, сладкое побаливание… Боишься шевельнуться и ждёшь этого мига — спазм мышц, укол, ещё один, целая серия пронзающих ударов… И снова отпустило, надолго ли?
ет хуже, как проснуться среди ночи. Если болит, то кажется, болит раз в пять сильнее, чем днём. А-а, эта подлая боль — тянущая, далёкая, сладкая, настораживающая, — она идёт от колена к бедру и замирает где-то в суставе. Напряжение мышц — и вдруг острый, пронзительный укол, насквозь пробивающий кость, а потом опять тихое, сладкое побаливание… Боишься шевельнуться и ждёшь этого мига — спазм мышц, укол, ещё один, целая серия пронзающих ударов… И снова отпустило, надолго ли?

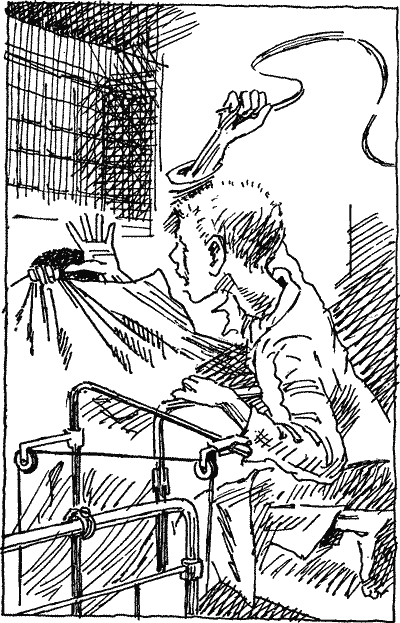
 естра Оля, молодая, белолицая, дежурила с няней Марулей, то ли мордовкой, то ли татаркой. В её дежурство процедуры после завтрака — тряска постелей, перекладывание в гипсовой кроватке, посыпание спины тальком, чтобы пролежней, упаси бог, не завелось, — проходили быстрее, незаметнее. «Ну ты, чурбачок, поворачивайся», — скажет, бывало, Оля добродушно и по спине пришлёпнет. Не то что Евга — стоит-стоит над тобой минут пятнадцать, сбросив одеяло и простыню, и всякую завязку общупает, каждую складочку разгладит, пока не спохватится, что в палате холодно. А у Ганшина уж мурашки по всему телу.
естра Оля, молодая, белолицая, дежурила с няней Марулей, то ли мордовкой, то ли татаркой. В её дежурство процедуры после завтрака — тряска постелей, перекладывание в гипсовой кроватке, посыпание спины тальком, чтобы пролежней, упаси бог, не завелось, — проходили быстрее, незаметнее. «Ну ты, чурбачок, поворачивайся», — скажет, бывало, Оля добродушно и по спине пришлёпнет. Не то что Евга — стоит-стоит над тобой минут пятнадцать, сбросив одеяло и простыню, и всякую завязку общупает, каждую складочку разгладит, пока не спохватится, что в палате холодно. А у Ганшина уж мурашки по всему телу.

 олдник раздавала Маруля. Она внесла на подносе дымящиеся миски с чаем. В Москве чай давали в беленьких поильниках, и так удобно было, не обжигаясь, тянуть его из носика. И в дорогу поильники взяли. Но за месяцы эвакуации они лишились сначала ручек, потом носиков, приходилось пить через край. Потом поильники и вовсе побились. Остались миски алюминиевые — им всё нипочём, они вечные.
олдник раздавала Маруля. Она внесла на подносе дымящиеся миски с чаем. В Москве чай давали в беленьких поильниках, и так удобно было, не обжигаясь, тянуть его из носика. И в дорогу поильники взяли. Но за месяцы эвакуации они лишились сначала ручек, потом носиков, приходилось пить через край. Потом поильники и вовсе побились. Остались миски алюминиевые — им всё нипочём, они вечные.

 щё с утра тётя Настя объявила, что сегодня ванный день. Здорово! Значит, и уроков не будет?
Проснувшись в отличном настроении, Шаба вообразил себя чёрным пуделем. Тётя Настя просит достать из мешка полотенце, а он в ответ: «Ав!» — «да» означает. «А лицо уже умывал?» — «Ав-ав», значит «нет».
щё с утра тётя Настя объявила, что сегодня ванный день. Здорово! Значит, и уроков не будет?
Проснувшись в отличном настроении, Шаба вообразил себя чёрным пуделем. Тётя Настя просит достать из мешка полотенце, а он в ответ: «Ав!» — «да» означает. «А лицо уже умывал?» — «Ав-ав», значит «нет».

 ейчас, сейчас, — говорил Севка, не поворачивая головы к Евгении Францевне и книгу не выпуская из рук.
— Не сейчас, а сейчас же.
«Авиация фашистов опоздала перерезать путь тяжёлым эскадрильям майора Петрова. Гудящие громады зашли правым крылом и обогнули огневой вал фронта. Красные бомбы легко подавили две батареи…»
ейчас, сейчас, — говорил Севка, не поворачивая головы к Евгении Францевне и книгу не выпуская из рук.
— Не сейчас, а сейчас же.
«Авиация фашистов опоздала перерезать путь тяжёлым эскадрильям майора Петрова. Гудящие громады зашли правым крылом и обогнули огневой вал фронта. Красные бомбы легко подавили две батареи…»

 авно обещанного гостя ждали, ждали и ждать перестали. Изабелла говорила, что приведёт его перед ужином, а сама прежде завела в девчачью палату. Он там целый час про войну рассказывал. Обидно, и что девчонки в этом понимают? Теперь ему отдохнуть надо, а после он в седьмую придёт.
— Видела я вашего героя в дежурке. Такой представительный, с нашивками, — сказала тётя Настя, ещё пуще разжигая нетерпение ребят. — Сейчас только подкрепится, ему котлетку сготовили, пюре картофельное, спиртику мензурку… Уже кончает.
авно обещанного гостя ждали, ждали и ждать перестали. Изабелла говорила, что приведёт его перед ужином, а сама прежде завела в девчачью палату. Он там целый час про войну рассказывал. Обидно, и что девчонки в этом понимают? Теперь ему отдохнуть надо, а после он в седьмую придёт.
— Видела я вашего героя в дежурке. Такой представительный, с нашивками, — сказала тётя Настя, ещё пуще разжигая нетерпение ребят. — Сейчас только подкрепится, ему котлетку сготовили, пюре картофельное, спиртику мензурку… Уже кончает.
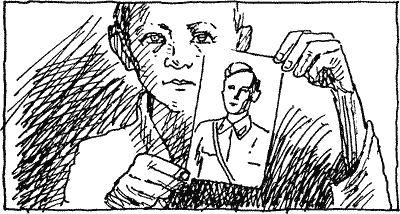

 олова горит. Веки тяжёлые — разлепить трудно. А откроешь глаза, над тобой грязный потолок. Побелка осыпалась, и в углу ещё какие-то зелёные, в жёлтых разводьях пятна.
олова горит. Веки тяжёлые — разлепить трудно. А откроешь глаза, над тобой грязный потолок. Побелка осыпалась, и в углу ещё какие-то зелёные, в жёлтых разводьях пятна.

 ак давно это было, что Ганшин болел! Два, три месяца прошло? Зима заскользила к весне быстро, незаметно.
В окна по утрам било солнце, косые яркие квадраты ложились на доски пола, наползали на одеяла и простыни, заставляли блаженно жмуриться. Засверкали, закапали сосульки, свисавшие зубьями с козырька над балконом. В считанные дни побурели, осели сугробы за окном. Вдоль проезжей дороги снег стал пористым, жёлто-серым, сжался и потёк. Сани, в которые запрягали Рыжуху, заменили телегой, и теперь, когда по утрам везли к завтраку котёл с кашей, слышно было, как погромыхивают колёса по протаявшей колее. Шла скорая, жадная алтайская весна.
ак давно это было, что Ганшин болел! Два, три месяца прошло? Зима заскользила к весне быстро, незаметно.
В окна по утрам било солнце, косые яркие квадраты ложились на доски пола, наползали на одеяла и простыни, заставляли блаженно жмуриться. Засверкали, закапали сосульки, свисавшие зубьями с козырька над балконом. В считанные дни побурели, осели сугробы за окном. Вдоль проезжей дороги снег стал пористым, жёлто-серым, сжался и потёк. Сани, в которые запрягали Рыжуху, заменили телегой, и теперь, когда по утрам везли к завтраку котёл с кашей, слышно было, как погромыхивают колёса по протаявшей колее. Шла скорая, жадная алтайская весна.

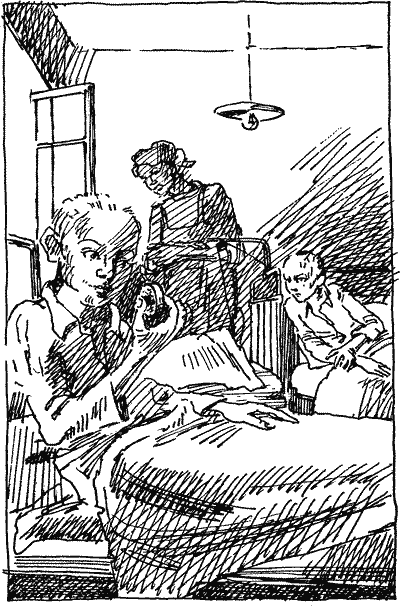
 егодня ещё профессорского обхода ждут. Палатный врач Ольга Константиновна раза два в неделю обходы делает, да что толку? Откинет одеяло, ногу в коленке согнёт, разогнёт, возьмёт двумя пальцами складку на бедре (симптом Александрова!) и к следующей постели. А Ерофей — это событие. И в Москве-то раз в месяц пригребал. Он один мог позволить стоять, ходить… Сердце у Поливанова прыгнуло — а вдруг его сегодня?..
егодня ещё профессорского обхода ждут. Палатный врач Ольга Константиновна раза два в неделю обходы делает, да что толку? Откинет одеяло, ногу в коленке согнёт, разогнёт, возьмёт двумя пальцами складку на бедре (симптом Александрова!) и к следующей постели. А Ерофей — это событие. И в Москве-то раз в месяц пригребал. Он один мог позволить стоять, ходить… Сердце у Поливанова прыгнуло — а вдруг его сегодня?..

 еплынь вдруг настала такая, что днём лежали под простынями. Листва загустела, и пыльная дорога под окнами почти скрылась за плотной зелёной изгородью. В июне стали вывозить на улицу. Поверх ступенек крыльца положили дощатый помост и скатывали кровати прямо на землю, под акации.
Дом, в котором они провели зиму, открылся перед ними весь. Скучный, зашитый досками фасад, чешуя осыпающейся охры, давно не крашенные рамы, и в ровном ряду окон — окошко седьмой палаты, странно маленькое снаружи.
еплынь вдруг настала такая, что днём лежали под простынями. Листва загустела, и пыльная дорога под окнами почти скрылась за плотной зелёной изгородью. В июне стали вывозить на улицу. Поверх ступенек крыльца положили дощатый помост и скатывали кровати прямо на землю, под акации.
Дом, в котором они провели зиму, открылся перед ними весь. Скучный, зашитый досками фасад, чешуя осыпающейся охры, давно не крашенные рамы, и в ровном ряду окон — окошко седьмой палаты, странно маленькое снаружи.

 ровать Ганшина стояла теперь с краю, у прохода, вслед за Поливановым. Проход был устроен в том месте, где шла дорожка от крыльца. А за дорожкой сразу же начинался девчачий ряд. Случалось, Изабелла соединяла теперь обе палаты на пионерских сборах или в общих играх — в шарады или в города.
ровать Ганшина стояла теперь с краю, у прохода, вслед за Поливановым. Проход был устроен в том месте, где шла дорожка от крыльца. А за дорожкой сразу же начинался девчачий ряд. Случалось, Изабелла соединяла теперь обе палаты на пионерских сборах или в общих играх — в шарады или в города.

 ётя Настя то и дело вынимала из кармана халата мятый платок и прикладывала его к покрасневшим уголкам глаз. Что, что случилось?
— Сироты теперь Лёнечка с Майкой, — сказала она, ни к кому не обращаясь, и яростно задвигала щёткой под кроватью. — Вчера извещенье принесли… пропал без вести, с февраля не числится в списках части…
ётя Настя то и дело вынимала из кармана халата мятый платок и прикладывала его к покрасневшим уголкам глаз. Что, что случилось?
— Сироты теперь Лёнечка с Майкой, — сказала она, ни к кому не обращаясь, и яростно задвигала щёткой под кроватью. — Вчера извещенье принесли… пропал без вести, с февраля не числится в списках части…


 утра в окна било солнце, из коридора доносился скрип колёсиков, весело перекликались голоса малышей — третье отделение вывозили на улицу. А о них будто забыли, и это был недобрый знак: седьмую палату ждало возмездие.
утра в окна било солнце, из коридора доносился скрип колёсиков, весело перекликались голоса малышей — третье отделение вывозили на улицу. А о них будто забыли, и это был недобрый знак: седьмую палату ждало возмездие.

 аркое лето плыло к концу. Запылилась и побурела акация при дороге. И о побеге седьмой палаты, перебудоражившем весь санаторий, вскоре стали забывать.
А спустя год и вовсе никто не помнил.
аркое лето плыло к концу. Запылилась и побурела акация при дороге. И о побеге седьмой палаты, перебудоражившем весь санаторий, вскоре стали забывать.
А спустя год и вовсе никто не помнил.


 о это был не ветер.
Третьи сутки Толик чувствовал нестерпимую боль в затылке. Шея одеревенела, голова налилась чугунной тяжестью, и хотелось запрокинуть её назад. У него отобрали даже тощую волосяную подушечку, и он лежал подбородком вверх, выставив вперёд маленький кадык и часто дыша. Ноги сами собой согнулись в коленях, образовав холмик над одеялом.
о это был не ветер.
Третьи сутки Толик чувствовал нестерпимую боль в затылке. Шея одеревенела, голова налилась чугунной тяжестью, и хотелось запрокинуть её назад. У него отобрали даже тощую волосяную подушечку, и он лежал подбородком вверх, выставив вперёд маленький кадык и часто дыша. Ноги сами собой согнулись в коленях, образовав холмик над одеялом.


 конце августа стояли поздние тёплые деньки. Ночами заметно холодало, но ребят ещё оставляли спать па улице, и, пригревшись под одеялом, Ганшин заспался поутру.
Проснулся он перед самым звонком, от того, что кто-то наклонился над ним и отвернул свесившийся на лицо край простыни.
конце августа стояли поздние тёплые деньки. Ночами заметно холодало, но ребят ещё оставляли спать па улице, и, пригревшись под одеялом, Ганшин заспался поутру.
Проснулся он перед самым звонком, от того, что кто-то наклонился над ним и отвернул свесившийся на лицо край простыни.


 о средам день «отдалённых результатов». Все в этот день бывают — кто лежал и десять, и пятнадцать, и, странно подумать, двадцать лет назад. Сколько раз Ганшин пропускал этот ежегодный осмотр. А тут подумал: надо всё же съездить в Сокольники…
Проходя больничным двором, Ганшин внезапно вспомнил той глубокой, дальней памятью, какой обладают лишь запахи, как ветер, бывало, надует, нанесёт из сада на верхнюю террасу душный, сладкий аромат белых и розовых флоксов и с этим запахом раздвинется щель в ещё более давнее детское воспоминание: подмосковное лето, заросли лиловой сирени по глухому забору, тёплая пыль на тропинке, по которой бежишь босиком… Ходить, ловить рукою ветки, сорвать набухший, готовый лопнуть стручок акации, нагнуться за одуванчиком и, раздув щёки, пустить по ветру маленькие пушистые зонтики! Их белые точки едва можно разглядеть сверху в той срезанной наискось барьером части мира, какую видишь, поднявшись на локти…
Накинув на плечи белый халат, Ганшин поднимается широкими мраморными ступенями в огромный вестибюль с хрустальной люстрой, камином и деревянными антресолями, опоясывающими второй этаж. Разбогатевший архитектор строил особняк для себя, не скупясь: мрамор, зеркальные стёкла дверей, дубовые панели по стенам. Медицина приспособила к себе безвкусную роскошь дома. Из вестибюля в одну сторону двери в рентген и светолечебницу — длинную веранду. В другую — палаты и террасы 3-го отделения. В углу вестибюля — широкий, на две кровати, лифт на второй этаж — к малышам и в изолятор.
Тут нет ни одной палаты, ни единого закоулка, где бы не лежал, ещё до войны, Ганшин. Идя наверх, к кабинету главврача, он невольно взглядывает на знакомые двери. Через толстое, отливающее по краям радугой стекло видны ровные ряды постелей. Коротко стриженные, круглолицые ребята, опутанные системой лямок, колец, вытяжений, с любопытством крутят головами. Его заметили, а каждое незнакомое лицо в вестибюле — происшествие.
И вдруг опять какая-то толстуха в белом халате и колпаке громко окликает его:
— Сева! Да тебя Зинаида Эдуардовна не узнает!
Для всех он здесь не тридцатилетний, с залысинами кандидат наук, уважаемый коллегами и внушающий трепет студенткам, а Сева из второго отделения, ещё недавно привязанный к постели и известный разве что своим медицинским случаем, да, быть может, родителями, да ещё какими-то памятными случаями озорства.
— Ну, присядь со мною на минутку, — добродушно улыбаясь, приглашает его Оля Бурмакина. — Всё равно на осмотр опоздал. Ты ведь к Зинаиде Эдуардовне? Только-только уехала.
— Как уехала? — удивился Ганшин.
— Да она теперь у нас не задерживается. Можешь, конечно, показаться Голубикиной. Только не думаю, чтобы это было тебе интересно.
Олю трудно узнать — постарела, располнела и старшей сестрой теперь работает. Но улыбнётся и станет похожа на прежнюю, молодую, что с ними в эвакуацию ездила.
— К Голубикиной не пойду, — сказал Ганшин. — А кто тут из старых?
— Ты не представляешь, Сева, как всё у нас изменилось, — понизив голос, сказала Оля. — Мария Яковлевна на пенсию вышла. После смерти Ерофея Павловича набрали новых, а Зинаида Эдуардовна только раз в неделю бывает… Мне грех жаловаться, не трогают пока, член месткома, квартиру вот обещают. Но разве то теперь, что было, когда вы лежали — Игорь, ты, Лена. Родной дом был, привыкали, как к своим детям. Теперь, знаешь, у нас не залёживаются: стрептомицин, ПАСК… В необходимых случаях показана хирургия…
Оля посмотрела на Ганшина и умильно покачала головой.
— Да, Севочка, годы-то идут… И всё же, скажу, жалко старых врачей. Марию Яковлевну вот обидели, — почему-то оглянувшись, сказала она. — Был юбилей санатория, ведь она с первых дней с Ерофей Павловичем работала, а её даже не пригласили. Нам всем неудобно было. Конечно, она не сильный фтизиатр, скорее, администратор, и всё же, знаешь, не ценят у нас старые кадры… Ты бы её навестил, вот обрадуется!
«А не зайти ли в самом деле к Марии Яковлевне?» — думает Ганшин.
Деревянный домишко Марии Яковлевны с чахлым кустом сирени под окном, с весны уже пропылённым, гут же, в двух шагах от санаторского двора. На верёвке проветривается чья-то шуба. Пёстрый половик свешивается с перила крыльца.
Пройдя заставленные сундуками, отслужившей мебелью и старыми тазами сени, Ганшин нащупывает в полутьме медную ручку, стучит в дверь и входит в чистенькую комнату с кружевными занавесками на окнах.
Мария Яковлевна не суетится, не всплёскивает руками. Она почти не удивляется Ганшину, хоть и рада ему.
— Молодец, что зашёл, а в прошлом году, осенью, у меня Ляля Сухарова была.
Скрипят сохлые половицы, часы в продолговатом ореховом футляре отбивают четверти. На комоде — старые коричневые фотографии в деревянных рамочках, под ними резные круглые салфетки. Рядом книжный шкаф с медицинскими журналами и сочинениями Брет-Гарта, кожаное кресло, в которое уходишь, будто проваливаешься по пояс.
Мария Яковлевна неторопливо готовит чай, нарезает лимон на блюдечке, ставит перед Ганшиным начатую коробку с сухим тортом. Голова её чуть-чуть трясётся. Седые волосы гладко зачёсаны назад и собраны в пучок. Она садится напротив него, в лиловой вязаной кофте с глухим воротом. Веки её полуопущены, отчего у неё вечно усталый вид. Говорит она чуть в нос, тщательно подбирая слова, крепким, немного скрипучим голосом:
— Иногда, Сева, не верится, что жизнь прошла. Сейчас говорят: консервативный метод устарел, лечат эффективнее. Персонал новый, Ерофея Павловича критикуют. Конечно, результаты достигнуты большие, особенно с антибиотиками. Кто спорит. Наука вперёд ушла. А попробовали бы, как мы, пережить войну и сохранить больных детей. Ведь ничего не было: гипса не было, термометров не было, простой марли и то не было…
Мария Яковлевна прикрывает веками глаза, как подбитая птица. Спросит что-то о родителях, помолчит немного и продолжает:
— А как я вас в эвакуацию вывозила? Вы маленькие были,не помните… Бомбёжки в Москве начались, все из города едут, транспорта не достать, родители нервничают, персонал не соберёшь. А вы у меня в подвале на полу, на тюфяках вповалку лежите и отъезда ждёте. Я и в райздрав, и в Наркомздрав, и через знакомых. Сколько порогов оббила, пока автобусы дали. Ребят на лавки, как были, в гипсовых кроватках. Между сиденьями, чтобы на пол не попадали, положили доски. Персонал в проходе стоит, за стойки держится. Да не все и поехать могли, уговорили проводить до Владимира. Думала, на месте новых наберу. Куда там… Пристроились за Золотыми воротами, на горке, тубдиспансер к себе пустил. В самом здании мест не было, а я для вас две летних терраски отхлопотала — такие там дощатые голубенькие павильончики отдельно стояли, над обрывом к реке. Сначала, помнишь, неплохо ведь было? А тут октябрь, заморозки начались. Вы и под мехами лежите дрожите, да ещё Игорь Поливанов коклюш подхватил… И немцы до Владимира долетать стали. Как вечер, гудит сирена, немецкие аэропланы бросают зажигалки, светло как днём. Терраска деревянная, сгорите, думаю, заживо. Поставила в дежурство ночную сестру, сама в тулупе кругами хожу — жду, когда вас хватать, выносить. Забежишь в дежурку, вздремнёшь часа два-три, а под утро снова к вам. Помню, сухая трава на склоне с изморозью, скрипит под ногами, будто соль. Что делать, думаю? Каждый день в горисполком ходила, к начальнику вокзала — надо вас дальше, в Сибирь, отправлять. А составов нет, вагоны переполнены, эвакуированные по пятеро на одной лавке сидят, а мне для каждого ребёнка — полка… Шла я однажды, знаешь, от вокзала, голову повесила, в платок сморкаюсь, плакать хочется. И вдруг окликает меня знакомый один. Я его до войны на врачебных курсах встречала. «Вы как здесь?» Разговорились. Представь, главный врач санитарного поезда. Рассказала нашу беду. Он спрашивает: «А сколько больных?» — «Шестьдесят детей, да ещё персонала человек десять наберётся». Он говорит: «Вагона полтора мог бы освободить, раненые мои потеснятся, да не один я тут командую, есть и железнодорожное начальство. Словом, чтобы погрузку устроить, надо кое-кому спиртиком помочь». — «А много?» — спрашиваю. «Да пустяки, бидончика, думаю, хватит». «Бидончика»!.. А где его возьмёшь столько? У нас спирт, сам понимаешь, тогда на вес золота был. Собрала сестёр, разъяснила обстановку. Мы этот спирт изо всех пузырьков сливали, ватки со спиртом выжимали. Понесла я бидончик начальнику состава. Он крышку приподнял, нюхнул, поморщился. «Ладно, — говорит, — везите детишек. Девятый вагон будет пустой. Завтра в три погрузка, в четыре выезжаем». И поехали… Ещё чаю, Сева?
Ганшин слушает молча, будто не про себя. Чу-у-дно. И Мария Яковлевна казалась ему другой. В санатории все её боялись — сёстры, няньки, по ниточке ходили, хотя ни разу ни на кого она голос не повысила, говорила также ровно, чуть в нос. Она была вершиной пирамиды прочно устроенного, надёжного мира взрослых, где всё было наперёд обдумано и предусмотрено и никаким дурным случайностям уже не оставалось места…
— Ещё чаю, Сева?
Мария Яковлевна сидит напротив, в лиловой кофте под вороток, и Ганшин, слушая её, почти механически кивает.
— Да, война… — повторяет Мария Яковлевна, подливая кипятку в заварной чайник. — Сейчас забыли, как тогда было. На Алтае нам старую школу выделили. Отопление печное, кухня в полутора километрах, рентген в двух, всё неприспособлено, грязно, а тут морозы начались. Ашот Григорьевич, кирицкий директор, — я тогда на должность главврача перешла — в Барнаул уехал связываться с местной властью, пайки выхлопатывать. А я одна осталась. Кормить вас нечем. Бывало, сидишь с поварихой — голову ломаешь, из чего сто порций на ужин сделать. Потом пойдёшь в госпиталь к начмеду, выпросишь десяток тыкв — на тыквенную кашу. После уже с совхозом договор заключили: выделили нам на три месяца пшена и сала немного, а остальное — вертись как знаешь. Персонала нет, няни не обучены простейшим гигиеническим правилам. И учить некому — сёстры от усталости с ног валятся. Набрали молодых, из деревни, да ведь пока обучатся! Но люди, согласись, Сева, были с нами замечательные. Евгению Францевну помнишь? Образцовая ортопедическая сестра. Всю себя отдавала детям. А из педагогов кто?
— Изабелла Витальевна, — подсказывает Ганшин.
— Да, Изабелла, — соглашается Мария Яковлевна. — Она ведь совсем девочка была, только-только перед войной институт кончила. Озорная, легкомысленная. Как-то вечером, помню, после звонка, истории вам рассказывала, испугалась ночной сестры и под кровать залезла, разбирали потом на пятиминутке, — без тени улыбки, всё так же в нос говорит Мария Яковлевна.
Она вообще не улыбается.
«Какая же Изабелла молодая? — думает про себя Ганшин. — Конечно, не старая, но пожилая была, с седой прядкой, горбилась заметно. Правда, хорошая, смелая, всё время острила, нравилась ребятам. Но разве же ей едва за двадцать было?»
— А какие ребята с тобой лежали отличные — Игорь, и Гриша Фесенко, — продолжает Мария Яковлевна. — А Костю помнишь?
Ганшин молчит. Ещё бы он не помнил Коську!
— Такой серьёзный, развитой мальчик, он, кажется, был у вас атаман?
— Да, — отвечает Ганшин, помедлив. — Там многое чего было.
Он помешивает ложечкой чай и видит, как Мария Яковлевна напряглась, забеспокоилась.
— Помню, помню, вы, кажется, собирались в горы бежать. Но ты же не станешь отрицать, что в палате был в целом хороший, здоровый детский коллектив? Как вы помогали фронту! Грабли к сенокосу делали, девочки кисеты вышивали для бойцов. Это, кажется, ваша палата отличилась сборами на танк? Нас Сталин благодарил телеграммой — теперь вот рассказываю, не верят… Да, все мы жили одним.
Чай остыл. Торт, который Мария Яковлевна незаметно подложила ему, раскрошился на блюдечке. Ганшин засиделся в одной позе и теперь с трудом, опираясь на подлокотники, поднимается из поглотившего его кресла.
Ему хочется проститься с ней как-то особенно, сказать что-то важное, может быть, обнять. Но она опережает его — первая строго подаёт сухонькую руку, высунувшуюся из широкого лилового рукава. Он прощается, и дверь хлопает за ним.
Похоже, что он никогда уже не вернётся сюда.
о средам день «отдалённых результатов». Все в этот день бывают — кто лежал и десять, и пятнадцать, и, странно подумать, двадцать лет назад. Сколько раз Ганшин пропускал этот ежегодный осмотр. А тут подумал: надо всё же съездить в Сокольники…
Проходя больничным двором, Ганшин внезапно вспомнил той глубокой, дальней памятью, какой обладают лишь запахи, как ветер, бывало, надует, нанесёт из сада на верхнюю террасу душный, сладкий аромат белых и розовых флоксов и с этим запахом раздвинется щель в ещё более давнее детское воспоминание: подмосковное лето, заросли лиловой сирени по глухому забору, тёплая пыль на тропинке, по которой бежишь босиком… Ходить, ловить рукою ветки, сорвать набухший, готовый лопнуть стручок акации, нагнуться за одуванчиком и, раздув щёки, пустить по ветру маленькие пушистые зонтики! Их белые точки едва можно разглядеть сверху в той срезанной наискось барьером части мира, какую видишь, поднявшись на локти…
Накинув на плечи белый халат, Ганшин поднимается широкими мраморными ступенями в огромный вестибюль с хрустальной люстрой, камином и деревянными антресолями, опоясывающими второй этаж. Разбогатевший архитектор строил особняк для себя, не скупясь: мрамор, зеркальные стёкла дверей, дубовые панели по стенам. Медицина приспособила к себе безвкусную роскошь дома. Из вестибюля в одну сторону двери в рентген и светолечебницу — длинную веранду. В другую — палаты и террасы 3-го отделения. В углу вестибюля — широкий, на две кровати, лифт на второй этаж — к малышам и в изолятор.
Тут нет ни одной палаты, ни единого закоулка, где бы не лежал, ещё до войны, Ганшин. Идя наверх, к кабинету главврача, он невольно взглядывает на знакомые двери. Через толстое, отливающее по краям радугой стекло видны ровные ряды постелей. Коротко стриженные, круглолицые ребята, опутанные системой лямок, колец, вытяжений, с любопытством крутят головами. Его заметили, а каждое незнакомое лицо в вестибюле — происшествие.
И вдруг опять какая-то толстуха в белом халате и колпаке громко окликает его:
— Сева! Да тебя Зинаида Эдуардовна не узнает!
Для всех он здесь не тридцатилетний, с залысинами кандидат наук, уважаемый коллегами и внушающий трепет студенткам, а Сева из второго отделения, ещё недавно привязанный к постели и известный разве что своим медицинским случаем, да, быть может, родителями, да ещё какими-то памятными случаями озорства.
— Ну, присядь со мною на минутку, — добродушно улыбаясь, приглашает его Оля Бурмакина. — Всё равно на осмотр опоздал. Ты ведь к Зинаиде Эдуардовне? Только-только уехала.
— Как уехала? — удивился Ганшин.
— Да она теперь у нас не задерживается. Можешь, конечно, показаться Голубикиной. Только не думаю, чтобы это было тебе интересно.
Олю трудно узнать — постарела, располнела и старшей сестрой теперь работает. Но улыбнётся и станет похожа на прежнюю, молодую, что с ними в эвакуацию ездила.
— К Голубикиной не пойду, — сказал Ганшин. — А кто тут из старых?
— Ты не представляешь, Сева, как всё у нас изменилось, — понизив голос, сказала Оля. — Мария Яковлевна на пенсию вышла. После смерти Ерофея Павловича набрали новых, а Зинаида Эдуардовна только раз в неделю бывает… Мне грех жаловаться, не трогают пока, член месткома, квартиру вот обещают. Но разве то теперь, что было, когда вы лежали — Игорь, ты, Лена. Родной дом был, привыкали, как к своим детям. Теперь, знаешь, у нас не залёживаются: стрептомицин, ПАСК… В необходимых случаях показана хирургия…
Оля посмотрела на Ганшина и умильно покачала головой.
— Да, Севочка, годы-то идут… И всё же, скажу, жалко старых врачей. Марию Яковлевну вот обидели, — почему-то оглянувшись, сказала она. — Был юбилей санатория, ведь она с первых дней с Ерофей Павловичем работала, а её даже не пригласили. Нам всем неудобно было. Конечно, она не сильный фтизиатр, скорее, администратор, и всё же, знаешь, не ценят у нас старые кадры… Ты бы её навестил, вот обрадуется!
«А не зайти ли в самом деле к Марии Яковлевне?» — думает Ганшин.
Деревянный домишко Марии Яковлевны с чахлым кустом сирени под окном, с весны уже пропылённым, гут же, в двух шагах от санаторского двора. На верёвке проветривается чья-то шуба. Пёстрый половик свешивается с перила крыльца.
Пройдя заставленные сундуками, отслужившей мебелью и старыми тазами сени, Ганшин нащупывает в полутьме медную ручку, стучит в дверь и входит в чистенькую комнату с кружевными занавесками на окнах.
Мария Яковлевна не суетится, не всплёскивает руками. Она почти не удивляется Ганшину, хоть и рада ему.
— Молодец, что зашёл, а в прошлом году, осенью, у меня Ляля Сухарова была.
Скрипят сохлые половицы, часы в продолговатом ореховом футляре отбивают четверти. На комоде — старые коричневые фотографии в деревянных рамочках, под ними резные круглые салфетки. Рядом книжный шкаф с медицинскими журналами и сочинениями Брет-Гарта, кожаное кресло, в которое уходишь, будто проваливаешься по пояс.
Мария Яковлевна неторопливо готовит чай, нарезает лимон на блюдечке, ставит перед Ганшиным начатую коробку с сухим тортом. Голова её чуть-чуть трясётся. Седые волосы гладко зачёсаны назад и собраны в пучок. Она садится напротив него, в лиловой вязаной кофте с глухим воротом. Веки её полуопущены, отчего у неё вечно усталый вид. Говорит она чуть в нос, тщательно подбирая слова, крепким, немного скрипучим голосом:
— Иногда, Сева, не верится, что жизнь прошла. Сейчас говорят: консервативный метод устарел, лечат эффективнее. Персонал новый, Ерофея Павловича критикуют. Конечно, результаты достигнуты большие, особенно с антибиотиками. Кто спорит. Наука вперёд ушла. А попробовали бы, как мы, пережить войну и сохранить больных детей. Ведь ничего не было: гипса не было, термометров не было, простой марли и то не было…
Мария Яковлевна прикрывает веками глаза, как подбитая птица. Спросит что-то о родителях, помолчит немного и продолжает:
— А как я вас в эвакуацию вывозила? Вы маленькие были,не помните… Бомбёжки в Москве начались, все из города едут, транспорта не достать, родители нервничают, персонал не соберёшь. А вы у меня в подвале на полу, на тюфяках вповалку лежите и отъезда ждёте. Я и в райздрав, и в Наркомздрав, и через знакомых. Сколько порогов оббила, пока автобусы дали. Ребят на лавки, как были, в гипсовых кроватках. Между сиденьями, чтобы на пол не попадали, положили доски. Персонал в проходе стоит, за стойки держится. Да не все и поехать могли, уговорили проводить до Владимира. Думала, на месте новых наберу. Куда там… Пристроились за Золотыми воротами, на горке, тубдиспансер к себе пустил. В самом здании мест не было, а я для вас две летних терраски отхлопотала — такие там дощатые голубенькие павильончики отдельно стояли, над обрывом к реке. Сначала, помнишь, неплохо ведь было? А тут октябрь, заморозки начались. Вы и под мехами лежите дрожите, да ещё Игорь Поливанов коклюш подхватил… И немцы до Владимира долетать стали. Как вечер, гудит сирена, немецкие аэропланы бросают зажигалки, светло как днём. Терраска деревянная, сгорите, думаю, заживо. Поставила в дежурство ночную сестру, сама в тулупе кругами хожу — жду, когда вас хватать, выносить. Забежишь в дежурку, вздремнёшь часа два-три, а под утро снова к вам. Помню, сухая трава на склоне с изморозью, скрипит под ногами, будто соль. Что делать, думаю? Каждый день в горисполком ходила, к начальнику вокзала — надо вас дальше, в Сибирь, отправлять. А составов нет, вагоны переполнены, эвакуированные по пятеро на одной лавке сидят, а мне для каждого ребёнка — полка… Шла я однажды, знаешь, от вокзала, голову повесила, в платок сморкаюсь, плакать хочется. И вдруг окликает меня знакомый один. Я его до войны на врачебных курсах встречала. «Вы как здесь?» Разговорились. Представь, главный врач санитарного поезда. Рассказала нашу беду. Он спрашивает: «А сколько больных?» — «Шестьдесят детей, да ещё персонала человек десять наберётся». Он говорит: «Вагона полтора мог бы освободить, раненые мои потеснятся, да не один я тут командую, есть и железнодорожное начальство. Словом, чтобы погрузку устроить, надо кое-кому спиртиком помочь». — «А много?» — спрашиваю. «Да пустяки, бидончика, думаю, хватит». «Бидончика»!.. А где его возьмёшь столько? У нас спирт, сам понимаешь, тогда на вес золота был. Собрала сестёр, разъяснила обстановку. Мы этот спирт изо всех пузырьков сливали, ватки со спиртом выжимали. Понесла я бидончик начальнику состава. Он крышку приподнял, нюхнул, поморщился. «Ладно, — говорит, — везите детишек. Девятый вагон будет пустой. Завтра в три погрузка, в четыре выезжаем». И поехали… Ещё чаю, Сева?
Ганшин слушает молча, будто не про себя. Чу-у-дно. И Мария Яковлевна казалась ему другой. В санатории все её боялись — сёстры, няньки, по ниточке ходили, хотя ни разу ни на кого она голос не повысила, говорила также ровно, чуть в нос. Она была вершиной пирамиды прочно устроенного, надёжного мира взрослых, где всё было наперёд обдумано и предусмотрено и никаким дурным случайностям уже не оставалось места…
— Ещё чаю, Сева?
Мария Яковлевна сидит напротив, в лиловой кофте под вороток, и Ганшин, слушая её, почти механически кивает.
— Да, война… — повторяет Мария Яковлевна, подливая кипятку в заварной чайник. — Сейчас забыли, как тогда было. На Алтае нам старую школу выделили. Отопление печное, кухня в полутора километрах, рентген в двух, всё неприспособлено, грязно, а тут морозы начались. Ашот Григорьевич, кирицкий директор, — я тогда на должность главврача перешла — в Барнаул уехал связываться с местной властью, пайки выхлопатывать. А я одна осталась. Кормить вас нечем. Бывало, сидишь с поварихой — голову ломаешь, из чего сто порций на ужин сделать. Потом пойдёшь в госпиталь к начмеду, выпросишь десяток тыкв — на тыквенную кашу. После уже с совхозом договор заключили: выделили нам на три месяца пшена и сала немного, а остальное — вертись как знаешь. Персонала нет, няни не обучены простейшим гигиеническим правилам. И учить некому — сёстры от усталости с ног валятся. Набрали молодых, из деревни, да ведь пока обучатся! Но люди, согласись, Сева, были с нами замечательные. Евгению Францевну помнишь? Образцовая ортопедическая сестра. Всю себя отдавала детям. А из педагогов кто?
— Изабелла Витальевна, — подсказывает Ганшин.
— Да, Изабелла, — соглашается Мария Яковлевна. — Она ведь совсем девочка была, только-только перед войной институт кончила. Озорная, легкомысленная. Как-то вечером, помню, после звонка, истории вам рассказывала, испугалась ночной сестры и под кровать залезла, разбирали потом на пятиминутке, — без тени улыбки, всё так же в нос говорит Мария Яковлевна.
Она вообще не улыбается.
«Какая же Изабелла молодая? — думает про себя Ганшин. — Конечно, не старая, но пожилая была, с седой прядкой, горбилась заметно. Правда, хорошая, смелая, всё время острила, нравилась ребятам. Но разве же ей едва за двадцать было?»
— А какие ребята с тобой лежали отличные — Игорь, и Гриша Фесенко, — продолжает Мария Яковлевна. — А Костю помнишь?
Ганшин молчит. Ещё бы он не помнил Коську!
— Такой серьёзный, развитой мальчик, он, кажется, был у вас атаман?
— Да, — отвечает Ганшин, помедлив. — Там многое чего было.
Он помешивает ложечкой чай и видит, как Мария Яковлевна напряглась, забеспокоилась.
— Помню, помню, вы, кажется, собирались в горы бежать. Но ты же не станешь отрицать, что в палате был в целом хороший, здоровый детский коллектив? Как вы помогали фронту! Грабли к сенокосу делали, девочки кисеты вышивали для бойцов. Это, кажется, ваша палата отличилась сборами на танк? Нас Сталин благодарил телеграммой — теперь вот рассказываю, не верят… Да, все мы жили одним.
Чай остыл. Торт, который Мария Яковлевна незаметно подложила ему, раскрошился на блюдечке. Ганшин засиделся в одной позе и теперь с трудом, опираясь на подлокотники, поднимается из поглотившего его кресла.
Ему хочется проститься с ней как-то особенно, сказать что-то важное, может быть, обнять. Но она опережает его — первая строго подаёт сухонькую руку, высунувшуюся из широкого лилового рукава. Он прощается, и дверь хлопает за ним.
Похоже, что он никогда уже не вернётся сюда.

