Валерий Дмитриевич Осипов
Факультет журналистики
(Журнальный вариант)
Часть первая
Кафедра физкультуры
Моим, друзьям, студентам факультета журналистики, и всем, кто учился в Московском университете в середине пятидесятых…
Рисунки Ю. Вечерского

1
Давно уже отзвенели все утренние девятичасовые звонки, возвещавшие о начале занятий в старых университетских корпусах в центре Москвы на Манежной площади, давно уже был впущен удивленным преподавателем известный зубрила, впервые в своей жизни опоздавший к началу лекции, а студент четвертого курса факультета журналистики Пашка Пахомов — руки в брюки, кепочка на затылке — только еще входил с рассеянным видом на широкое университетское подворье с каменными статуями великих революционных демократов Герцена и Огарева.
Постояв минут десять в задумчивости перед висевшей на чугунной ограде университета футбольной афишей, Пашка, тяжело вздохнув, нехотя продолжал двигаться дальше. По дороге он использовал каждую, даже самую малейшую возможность, чтобы придать своему приближению к храму науки наиболее замедленный характер.
Пашка «тормозил» буквально на каждом шагу. Он то перевязывал шнурки на ботинках, то неожиданно начинал причесываться, то подтягивал штаны, то почему-то снимал с головы кепку и пристально разглядывал этикетку фабрики, сработавшей этот немудреный головной убор, то вдруг, резко остановившись и оглянувшись, подолгу смотрел назад, будто подозревал, что по пятам за ним крадется внезапно спрятавшаяся шайка разбойников с остро отточенными кинжалами.


Убедившись, что его молодой жизни в данный момент прямая опасность не угрожает, Пашка, еще раз тяжело вздохнув, продолжал приближаться к входу на факультет журналистики.
Оказавшись на лестнице, на знаменитой железной университетской лестнице, сработанной если не рабами Рима, то, во всяком случае, много-много лет назад (по ее нетленным чугунным ступеням, опаздывая на лекции, может быть, взбегали однокурсники Лермонтова и Белинского), Пашка Пахомов «гасил» свое поступательное движение вверх до пределов, уже совершенно недоступных человеческому восприятию. Он втаскивал ногу на очередную ступеньку и застывал в неподвижной позе. Казалось, жизнь умерла в нем навсегда. Но проходило несколько мгновений, и Пашка снова оживал. Он подтягивал отставшую ногу, а потом опять погружался в небытие. Со стороны Пашка был похож на человека, поднимающегося по ступеням эшафота, на вершине которого ему суждено было положить под топор палача свою буйную голову в серой клетчатой кепке.
Однако последние ступеньки перед дверью, ведущей непосредственно на факультет, студент Пахомов преодолевал с беззаботной легкостью человека, которому в последнюю минуту перед казнью сообщили о замене четвертования женитьбой на царской дочери.
Взявшись за дверную ручку, Пашка придавал своему лицу крайнюю степень озабоченности и только после этого торопливо вбегал на факультет. И здесь он каждый раз попадал в «объятия» Глафиры Петровны— технического секретаря деканата, молодящейся блондинки с хорошо сохранившейся фигурой. В руках Глафира Петровна держала хрустящий лист бумаги. Это был список опоздавших, который каждый день, как утренний кофе, подавался после начала первой лекции на стол декану факультета для принятия против вконец обнаглевших лодырей и прогульщиков строгих административных мер.
Несколько секунд Глафира Петровна молча смотрела на Пашку. Глаза технического секретаря от приступа благородного гнева постепенно темнели и становились почти бархатными. Пашка же, напрягая легкие, добросовестно обозначал тяжелое дыхание человека, сломя голову мчавшегося к началу занятий.
— Опять? — зловещим шепотом выдавливала из себя Глафира Петровна.
— Опять, — уныло разводил руками Пашка.
— Это возмутительно! — шипела Глафира Петровна.
— Это возмутительно, — горевал Пашка.
— Это становится невыносимым!
— Это становится невыносимым, — сокрушался Пашка.
Молодящаяся блондинка гневно буравила Пашку своими бархатными глазами. Студент Пахомов уже давно отравлял ей жизнь. Глафира Петровна обрушивала на клетчатую Пашкину кепку все имевшиеся в ее распоряжении неприветливые цензурные выражения.
Глафира Петровна метала громы и молнии, но Пашка по-прежнему не возражал ей. Как человек опытный, он знал — Глафире нужно прежде всего дать высказаться.
Выдержав необходимую паузу, Пашка перешел к наступательным действиям. Уняв тяжелое дыхание, он хорошо поставленной скороговоркой поведал трогательную историю о том, как на троллейбусной остановке стал свидетелем обморока, случившегося с пожилой гражданкой. Гуманные соображения, естественно, не позволили студенту Пахомову оставить старушку одну до прихода «скорой помощи».
Глаза Глафиры сузились до размеров смотровой щели рыцарского шлема. Лицо ее пылало холодным пламенем презрения.
— Обморок с пожилой женщиной на троллейбусной остановке, — тщательно выговаривая каждую букву, начала Глафира Петровна, — был уже в прошлом месяце. Вы лжец, Пахомов, и притом бездарный. Завтра постарайтесь придумать что-нибудь пооригинальнее.
И она взмахнула роковым карандашом, чтобы занести Пашку в крамольный список опоздавших.
— Глафира Петровна! — проникновенно сказал Пашка, сделав робкий шаг вперед. — Глафира Петровна, — расчетливо повторил Пашка, — а что бы вы сделали, если бы сейчас здесь стоял не я, а ваш собственный сын?
Карандаш замер над списком — пущенная Пашкой отравленная стрела попала прямо в цель.
Глафира Петровна тяжело вздохнула. Глаза ее раскрылись до нормальных размеров.
— Что вы от меня хотите? — дрогнувшим грудным голосом спросила она.
— Глафира Петровна, дорогая, у меня же последнее предупреждение. Выгонят — куда деваться? Ведь вы сами знаете, как трудно сейчас куда-нибудь устроиться…
Да, это Глафира Петровна знала хорошо. У нее был большой опыт по устройству собственного сына в текстильные и пищевые институты.
— Ладно, — снова вздохнув, сказала Глафира Петровна и сделала слабый жест рукой, — прощаю в последний раз.
Произнося эти слова, она была абсолютно уверена в том, что завтра — в крайнем случае послезавтра — весь спектакль повторится заново.
Пашка сделал Глафире ручкой и помчался вниз по железной лестнице.
— Не забудьте вернуться на второй час лекции! — кричала сверху снова ставшая очень строгой Глафира Петровна. — Я проверю!
Но студент Пахомов уже не слышал ее. На душе у него было легко и свободно. День начинался совсем неплохо. Первая схватка с деканатом окончилась в его пользу. Правда, можно было бы и просто не опаздывать. Прийти, например, к началу лекции вместе со всеми. Но этот вариант был мало знаком Пашке, и он опасался к нему прибегать.
2
Перебежав улицу Герцена перед поворачивающим с Манежной площади направо троллейбусом № 5, Пашка устремился в новое здание старых университетских корпусов, перед которым стоял со свитком в руке (а может быть, с большой бронзовой шпаргалкой, отобранной у студента восемнадцатого века) Михайло Васильевич Ломоносов. Говоря точнее, студент Пахомов торопился по строго определенному адресу, а именно— на кафедру физкультуры и спорта, находившуюся на первом этаже нового здания. Из всех имевшихся в университете кафедр Пашка Пахомов отдавал кафедре физкультуры наибольшее предпочтение.
В тот год, с которого начинается наше повествование, кафедра физического воспитания и спорта Московского университета представляла собой длинный прокуренный коридор, в который справа выходили двери двух небольших спортивных залов, а левую сторону занимали огромные высокие окна с деревянными подоконниками. Эти удивительные, уникальные и, очевидно, единственные в своем роде подоконники и были главной достопримечательностью кафедры физкультуры. Во-первых, они были необычайно широкими и длинными — на каждом свободно умещалось человек шесть-семь одновременно — и, несмотря на то, что находились на уровне груди среднего по росту человека, чрезвычайно удобными.
Во-вторых, в отличие от всех других подоконников в университете, с тех, что на кафедре физического воспитания и спорта, студентов никогда не сгоняли.
И, наконец, в-третьих, — и это было самое главное — подоконники кафедры физического воспитания и спорта считались общепризнанным местом демократического духа, свободомыслия и вольнодумства, присущих во все века всем университетам на свете, в том числе и университету Московскому.
Живописнейшая публика собиралась на подоконниках кафедры физкультуры. С шахматными досками под мышками приходили сюда всегда мрачные и растрепанные студенты механико-математического факультета. Особой доблестью среди шахматистов-мехматовцев считалось умение «звонить». Ставил, например, один из соперников фигуру на особо важное для себя поле и, словно стараясь придать дополнительную прочность своей позиции, говорил при этом:
— Укрепился!
Его противник, если только он умел «звонить», тотчас отвечал:
— Как турок на колу!
И зрители, те же самые мехматовцы, всегда по
достоинству оценивали это высокое словесное искусство.
Аккуратные физики приходили на спортивную кафедру только для того, чтобы, сидя на подоконниках, безудержно острить по адресу всех, кто проходил мимо них и не был посвящен в глубинные тайны квантовых противоречий, единой теории поля и хлопотливого быта частиц и античастиц внутри, а равно снаружи атомного ядра.
Беззаботные, легкомысленные филологи водили от подоконника к подоконнику стройных, доверчивых девушек с географического и биологического факультетов и вкрадчивыми голосами читали им стихи классиков, выдавая за свои собственные.
И только бледнолицые химики, от которых всегда пахло модными нуклеиновыми кислотами, молча си дели на подоконниках в своих черных и синих халатах, прожженных самыми новейшими реактивами. Они ни с кем не вступали в бесплодную словесную борьбу. Химики просто курили. Им было давно уже все ясно. Вплоть до того, что и сами-то они, химики, всего лишь навсего сложные молекулярные соединения.
…Ощущая себя моложавым ангелом, который, покинув грешную землю, вновь оказался в любезных своему сердцу райских пущах и кущах, Пашка Пахомов подошел к первому подоконнику и мгновенно почувствовал, как легкие его вновь наполняются чистейшим кислородом вольнолюбивой студенческой беззаботности и легкомыслия.
На первом подоконнике играли в шахматы два могучих интеллекта — Тарас и Курдюм. Рядом с шахматной доской, приходясь озабоченными лицами до уровня пешек, стояла густая толпа болельщиков.
Тарас, двигавший фигурами за черных, не имел себе равных по количеству учебных заведений, в которых когда-либо обучался. Это был крупный и уже довольно немолодой мужчина. Тараса последовательно изгоняли со всех имевшихся в университете факультетов, несколько лет он учился на стороне, но потом снова вернулся в альма-матер и вновь был принят на первый курс.
Тарас имел звание кандидата в мастера по шахматам, но был весьма неплохо развит и физически: рост Тараса достигал почти двух метров, а вес — ста двадцати килограммов. Несмотря на большие параметры и сидячий образ жизни, который ему приходилось вести благодаря своей основной специальности — игре в преферанс, Тарас тем не менее обладал еще и некоторой резвостью движений, которая даже позволила ему в молодые годы установить рекорд университета по метанию диска. И хотя он метал неудобный классический снаряд тем самым способом, которым бросают через забор пустую бутылку, присутствовавшие на стадионе судьи зафиксировали рекордное достижение, которое продержалось много лет.
Тарас вообще был человеком необычайно разносторонним и склонным к универсализму. На университетских спартакиадах его неизменно включали в состав волейбольных и баскетбольных команд. А в шахматных состязаниях он бессменно играл на первой доске всех факультетов, которые когда-либо имели честь видеть его в рядах своих студентов.
Таким образом, польза от Тараса, несмотря на его бесспорную ветреность в науках, была немалая.
В тот самый год, с которого начинается наше повествование, в университете вообще было мало мужчин, а спортсменов и подавно. И поэтому на фоне остальных студентов, в основном худосочных очкариков, освобожденных от физкультуры еще в первом классе, Тарас выделялся своей олимпийской разносторонностью, своеобразным эллинизмом и вообще редкой гармонией физических и духовных начал.
Пашка Пахомов уже минут десять стоял около первого подоконника, а Тарас и Курдюм, уткнувшись в шахматную доску, не обнаруживали пока никаких признаков разумной жизни. Наконец Тарас тяжело вздохнул и протолкнул черную пешку вперед сразу на две клетки. Курдюм тут же убил ее своим белопольным слоном.
— А молодого пешехонца несут с разбитой головой, — сказал Курдюм певучим речитативом, снимая черную пешку с доски.
Тарас, не ожидавший от Курдюма такой прыти, снова погрузился в пучину тягостных раздумий.
— Вообще эта партия с Тарасом, — снисходительно сказал Курдюм, — напоминает мне борьбу Егора с коровой. Причем в тот самый момент, когда корова вынуждена была наконец дать молочка!
Болельщики-мехматовцы, стоявшие около первого подоконника, одобрительно закивали головами. По общему мнению, Курдюм высказался весьма недурно.
— Где Егор и где корова? — парировал Тарас курдюмовскую шутку, не поднимая головы от доски, и болельщики заулыбались, поняв, что Тарас готовит контрудар.
— А еще эта партия с Тарасом, — пытаясь снова перетянуть всеобщие симпатии на свою сторону, сказал Курдюм, — напоминает мне нападение греков на водокачку…
Болельщики сладко захохотали. Шутка была абсолютно свежая. Не смог сдержать улыбки, все так же не поднимая головы от доски, даже Тарас.
Пашка Пахомов стоял в толпе мехматовцев и улыбался вместе со всеми. Ничего не понимая в хитросплетении белых и черных фигур, он, конечно, больше всего ценил в шахматных поединках на кафедре физкультуры умение противников «обзванивать» друг друга. Это был настоящий разговор! А что в это же самое время мог бы услышать Пашка на лекции? Как раскопали где-нибудь в пустыне очередную несимпатичную мумию? Студенту Пахомову все эти почтенные древности надоели хуже лютой смерти. Гораздо интереснее было следить за словесным состязанием Курдюма и Тараса.
Курдюм торжествовал. Симпатии болельщиков-мехматовцев теперь снова были на его стороне.
— А у Тараса-то позиция, кажись, будет похуже, — подобострастно заметил один из болельщиков. — Глядите, братцы, сколько у Курдюма пешек!
— Как у дурака махорки! — быстро отреагировал Тарас.
Болельщики завыли, заухали, задохнулись от счастья. Ответ Таруса (если только это не была домашняя словесная заготовка) так и просился в первую десятку экспромтов, рожденных на кафедре физкультуры за всю ее историю.
Курдюм поздно опомнился. Слишком долгое пребывание на пьедестале, на который он был воздвигнут рождением фразы «нападение греков на водокачку», ослабило его бдительность.
— Ну ты, чемпион Африки по лыжам! — яростно закричал Курдюм на Тараса. — Рекордсмен мира по прыжкам в ширину! Ты долго еще будешь думать? У меня уже шнурки на ботинках развязались от твоей быстроты!
Болельщики кисло улыбались скороспелым курдюмовским хохмам. Их симпатии окончательно перешли на сторону Тараса. Умница Тарас действительно создал непревзойденный шедевр кафедрального «звона». Дурак, сколько бы махорки у него ни было, обязательно всю раздаст ее другим. Значит, и Тарас обдумывал сейчас такой ход, после которого Курдюм вынужден будет отдать свои лишние пешки. Значит, фраза «как у дурака махорки» была сложным соединением высокого образца кафедрального «звона» и точной оценки шахматной позиции. Это было великолепно! Болельщики-мехматовцы замерли в предчувствии исполнения грозного тарасовского прогноза.
А Курдюм, впившись лихорадочным взором в расположение фигур, надеялся только на одно: спасение должно было прийти к нему из глубины его разнузданного, но все-таки могучего (как это признавали абсолютно все) математического интеллекта.
Первый раз в университет Курдюм пришел на математическую олимпиаду, еще будучи школьником. Он быстро обставил всех своих соперников, решив каждую задачу двумя, а то и тремя способами, а все остальное время, отведенное малолетним гениям на выявление своих способностей, провел в коридоре кафедры физкультуры, с восхищением наблюдая за ее колоритными обитателями.
Потом Курдюм каждый год завоевывал призы на алгебраических, геометрических и даже астрономических турнирах, а в четырнадцать лет ему вообще надоело учиться в школе — он кончил за один год последние три класса и был принят на мехмат как исключительно одаренный в математических науках юноша.
В университете Курдюм тоже не задержался — каждый год он проглатывал по два курса и к семнадцати годам уже имел диплом об окончании высшего учебного заведения. Его приняли в аспирантуру, с которой он расправился довольно небрежно— всего за полгода. Но даже написание диссертации не пробудило в легкомысленном Курдюме серьезного отношения к своим необычным способностям, хотя уже в двадцать лет он стал доктором наук и почетным членом-корреспондентом какого-то старинного европейского академического общества. Курдюм был математиком, что называется, милостью божьей. С помощью сложной математической «бюрократии» (а + в + с и так далее), небрежно жонглируя многостраничными уравнениями, Курдюм мог доказать все, что угодно, — любую нелепость. Ему, например, ничего не стоило в течение пяти минут легко убедить какого-нибудь бородатого профессора в том, что сумма углов в треугольнике гораздо больше ста восьмидесяти градусов, или в том, что параллельные прямые не только могут, но и просто обязаны пересекаться друг с другом, и даже быть перпендикулярны друг другу, не теряя при этом своей первоначальной невинной параллельности. И все было правильно: плюсы, минусы, интегралы, дифференциалы… И только очень опытные математики могли разоблачить Курдюма, найдя в многостраничном уравнении такое место, где почетный член-корреспондент европейского общества, как говорится, слегка «передернул»… В таких случаях Курдюм обычно говорил: «Плюс-минус трамвайная остановка», — и снимал, ухмыльнувшись, сразу все свои необычные доказательства.
Курдюм давно уже стал бы и настоящим академиком, если бы в его стремительную научную карьеру неожиданно не ворвалась весьма обыденная и банальная страсть. К огромному удивлению и огорчению всего университетского ученого математического мира, Курдюм вдруг оказался совершенно диким, необузданным, первобытным игроком. Причем во что бы он ни играл, его интересовал в первую очередь не конечный результат, а сам процесс игры, так сказать, неисповедимые пути судьбы-индейки, которая одних приводила к счастливому выигрышу, а других — к печальному проигрышу. Получая тайные сигналы из глубин своей гениальной натуры, Курдюм предпринял дерзкую попытку познать законы азартных игрищ с помощью достижений высшей математики.
Он начал с карт. Тарас ввел моложавого гения в круг любителей преферанса и уже через два месяца растерял всех своих бывших партнеров: никто не садился играть против Курдюма, так как это было равносильно игре с электронным запоминающим устройством, в механической «голове» у которого находится загадочное беспроигрышное приспособление.
Курдюм перешел к шахматам и стал потихоньку матовать признанных университетских корифеев. Тарас пытался было направить успехи Курдюма в шахматах по полезной линии, но у того не хватило терпения доиграть до конца ни один квалификационный турнир, и, таким образом, шахматные таланты Курдюма официального признания не получили.
В дальнейшем Курдюм перепробовал все виды игры как таковой, начиная с номеров на автобусных, троллейбусных и всех прочих билетах городского транспорта и кончая ипподромом, где ему дали колоритное прозвище «Кулибин» — очевидно, за то, что он самоучкой постиг все тайные законы бегов. Одним словом, пройдя тернистый путь познания многообразной природы азартных игрищ, Курдюм остановился на древней, бесхитростной народной игре, именуемой в просторечье «подкидным дураком». Курдюм говорил, что его симпатии к этому состязанию вызваны тем, что «подкидной дурак» чрезвычайно точно соответствует той работе в области теории вероятностей, которой он был в последнее время занят, и, таким образом, является для него как бы необходимым практическим подспорьем, чем-то вроде лабораторной работы.
Постоянным соперником Курдюма в этих лабораторных занятиях был, разумеется, Тарас. Тарас и Курдюм играли в «подкидного дурака» исключительно один на один. Они садились друг против друга за шахматный столик и ставили сбоку турнирные часы с двумя циферблатами. Каждый имел перед собой длинную полоску чистой бумаги, на которой, как в шахматах, записывались свои ходы и ответы противника, а также особые комментарии, вызванные спецификой игры, — как, например, «бито», «принято» и т. д. Сдавалось по восемь карт (это правило ввел Курдюм), Тарас объявлял, что младший козырь у него, кощунственным жестом бросал на шахматные клетки какую-нибудь пиковую семерку или бубновую шестерку, включал нажатием кнопки часы противника, и новоизобретенное игрище начиналось по всем строго соблюдаемым правилам русского «подкидного дурака» (в отличие от японского, корейского и т. д.).
Игра велась так называемой большой колодой: то есть с двойками, тройками, четверками, пятерками и джокерами. Впоследствии Курдюм ввел в употребление новую суперколоду и даже ухитрился напечатать несколько экземпляров ее в какой-то малоизвестной типографии. Новая колода-модерн состояла уже не из 52 карт, как обычная, а из 72, так как в каждую масть Курдюм добавил по пять новых карт, а именно: после десятки шли «двадцатки», «тридцатки», «сороковки» и «полсотни», а после обыкновенного туза — еще один туз, старший. Теперь уже старый бубновый туз назывался «туз бубен младший», а новый— «туз бубен старший».
Курдюм пытался также к четырем существующим мастям (бубна, черва, пика и трефа) добавить еще две новые — красную «альфа» и черную «бета», но Тарас, голова у которого и так уже разламывалась от курдюмовских нововведений, решительно восстал против этих добавлений, и Курдюм, чтобы не потерять последнего партнера, вынужден был снять предложение об увеличении мастей.
Каждая серьезная партия в «дурака» продолжалась обычно час, а то и полтора (для тренировки, правда, Тарас и Курдюм гоняли иногда «блицы» по две-три минуты). Противники частенько попадали в жестокий цейтнот, просрочивали время, но потом, имея перед глазами весь записанный ход игры, тщательно анализировали перипетии борьбы и скрупулезно отыскивали те ходы, на которых кто-то из них «дал сок», или «выпал в осадок», или «лег на грунт», или «врезал дуба» и т. д.
Прослышав о карточных оргиях, которым предавался Курдюм, общественность математического факультета призвала доктора наук к ответу. В середине выступления одного из свидетелей обвинения Курдюм неожиданно попросил слова. Оно было ему предоставлено. Курдюм быстро вышел на кафедру и прочитал собравшимся лекцию по одному из разделов теории вероятностей, в которой модернизированная суперколода из 72 карт была представлена на грифельной доске, висевшей за спиной обвиняемого, как некая сложная математическая функция, в которую последовательно включались и исключались следующие величины: «семерка пик», «десятка треф», «валет бубен», «шестерка альфа», «король бета» и т. д.
Аудитория, которая в первую очередь являла собой математику, а потом уже грозную силу общественного воздействия, так заинтриговалась курдюмовской задачей, что первоначальная причина собрания как-то незаметно забылась. Профессора и доценты столпились около грифельной доски, кричали, шумели, спорили, размахивали руками. Курдюма обвиняли и в широте, и в узости, и в простоте, и в сложности, но общее резюме тем не менее было единодушным: для множественных рядов с постоянно взаимодействующими переменными задача Курдюма, построенная на не совсем обычных и даже несколько странных, но весьма убедительных аналогиях, представляла собой несомненный интерес.
Справедливости ради, забегая вперед, следует сказать следующее. К тому времени, когда начались первые запуски искусственных спутников, Курдюм, уже забывший многие «невинные» шалости своей веселой математической юности, занимал довольно видное положение среди теоретиков, подготовивших расчеты орбит, систем управления, телевизионных каналов связи и автоматики. А ту самую сложную математическую функцию, которая впервые родилась на свет божий во время некоего общественного судилища и в системе доказательств которой встречались тогда еще такие странные величины, как «туз треф старший» или «дама альфа», эту сложную функцию, получившую теперь уже вполне пристойный вид, «причесанную» и очищенную от вульгаризмов, можно было найти во всех научных книгах, посвященных космическим полетам, под названием «теоремы Курдюма».
Итак, шахматная партия Тарас — Курдюм продолжалась. И в это время к первому подоконнику подошел Каг
ан. Это была не менее могучая личность, чем Тарас и Курдюм.
Если бы ткацкая машина, работающая пряжу из черного конского волоса, внезапно испортилась и ее механизмы начали бы беспорядочно сваливать в одну кучу все вырабатываемые узелки и кольца, то приблизительно минут через двадцать непрерывной деятельности эта машина смогла бы изготовить то, что носил на своей голове Каган. Буйное непотребство его прически напоминало малоисследованные районы верхнего течения Амазонки, а может быть, даже первобытные джунгли на далеких западных плоскогорьях острова Ява.
Когда-то и Каган учился на мехмате. Но это было так давно, что теперь его помнили только очень пожилые академики. Не имея к университету в общем-то никакого прямого отношения, Каган тем не менее регулярно, практически каждый день, появлялся на кафедре физкультуры. Он где-то минимально преподавал математику, на каких-то курсах по повышению, а все остальное время посвящал составлению шахматных этюдов на поддавки. Каган был фантастически предан торжеству чистой логической мысли и шахматам как ее наиболее яркому воплощению, но в области композиции, проявляя поистине дьявольскую изобретательность, упорно придерживался только тех идей и проблем, которые позволяли проигрывать как можно более красиво, быстро, логично и убедительно.
Подойдя к первому подоконнику, Каган, как любили говорить на кафедре физкультуры, «положил глаз» на позицию и несколько секунд с выражением крайней скуки рассматривал ситуацию на доске.
— У Курдюма элементарно плохо, — сказал наконец скрипучим голосом Каган. — Конь бьет с6, ферзь работает на е4, ладья а2, и нет спасенья от твоих объятий страстных. Курдюм сгорел, как швед под Полтавой. Аминь!
— Уберите от меня этого психа! — нервно закричал Курдюм и отпихнул Кагана от подоконника.
Но Каган снова придвинулся к шахматной доске и, щекоча лица болельщиков своей огромной папуасской шевелюрой, мрачно заявил, что ферзь должен работать только на е4.
Эти слова вывели Тараса из состояния полной коматозности, в которое он был погружен с момента убития своей активной пешки курдюмовским белопольным слоном. Тарас внимательно посмотрел на Кагана и, положив ему на грудь свою могучую длань, молча отодвинул в задние ряды болельщиков. Но неугомонный Каган и оттуда продолжал подавать громкие реплики о ферзе, который должен работать на е4.
— То есть, Каган выдает здесь совершенно ублюдочные варианты, — вынужден был сделать заявление для болельщиков Тарас. — То есть, я играю абсолютно другой вариант. Слон аЗ — чих!
Слово «чих» на языке кафедры физкультуры обозначало обыкновенный «шах». «Олимпиец» Тарас не зря так долго анализировал позицию: в расположении курдюмовских пешек мгновенно образовалась смертельная брешь. Курдюм пытался было наглым выходом короля навстречу тяжелым фигурам противника создать абсурдную ситуацию, но Тарас тут же перебросил обе свои ладьи на другой фланг.
— Матуй его, матуй! — закричал из задних рядов болельщиков нетерпеливый Каган. — Куда же ты уходишь к далекой бабушке?
— Сперва харчить легкий материал, — лаконично объяснил Тарас свой фланговый маневр.
Курдюм проигрывал с катастрофической быстротой. Он последовательно, как и обещал Тарас, потерял половину своих пешек.
— Клен ты мой опавший, — позволил себе наконец Тарас первую самостоятельную шутку.
Болельщики сочувственно захохотали, и Курдюм высокомерно сдался.
С разгромом Курдюма шахматная толпа около первого подоконника распалась. Тарас и Курдюм отправились на лабораторные работы, то есть пошли играть в «подкидного дурака» по часам, Каган поехал сеять разумное, доброе, вечное на свои минимальные курсы по повышению, а Пашка Пахомов, вполне удовлетворенный всеми услышанными во время шахматной игры разговорами, перешел ко второму подоконнику кафедры физического воспитания.
Расстояние между первым и вторым подоконниками было небольшое — всего несколько шагов, но разница между ними была огромная. Если первый подоконник олицетворял собой буйство логической мысли (стиль Курдюма), хотя и облеченной в форму шахматной игры (стиль Тараса), то второй подоконник ничего общего ни с одним видом рационального мышления не имел, а, наоборот, был полностью эмоционален, являя, так сказать, романтическое, женское начало кафедры физического воспитания и спорта. Здесь собирались поклонники только двух видов спорта — волейбола и баскетбола, которые были представлены двумя постоянно действующими персонажами, а именно: Славкой и Нонкой.
Это были даже не просто постоянно действующие персонажи. Славка и Нонка если не дежурили на втором подоконнике круглосуточно, то во всяком случае первыми приходили сюда и последними уходили. Совершенно невозможно было понять, когда же они учатся. Славка кончала философский факультет, Нонка была аспиранткой химического факультета.
Славка считалась лучшей баскетболисткой университета. Это была стройная белокурая девушка с приятным, твердым лицом и красивыми серыми глазами. Она играла в первой сборной команде университета в нападении и отличалась быстротой, резкостью, напористостью и прыгучестью. От Славки вообще веяло чем-то нордическим, варяжским — холодным и сильным. За ней многие пытались ухаживать, но Славка презирала любовь и была безраздельно преданна только баскетболу и философии.
Нонка играла в волейбол. Она была старше Славки. Всю войну Нонка провоевала летчицей в женском авиаполку, имела много боевых наград и еще больше — ранений, и поэтому весной и осенью, когда начинали болеть старые раны, приходила на кафедру физкультуры прихрамывая, а иногда даже с палкой. На кафедре физкультуры Нонку называли «бабушкой русского волейбола».
Когда Пашка подошел ко второму окну, Нонка и Славка, как обычно, уже сидели на подоконнике, а внизу около них группировалась компания болельщиков человек в десять.
— Нонка! — выступил вперед один из болельщиков. — Ты видела в МАИ нового нападающего?
— Сапог, — презрительно сморщилась Нонка.
— А ты видела, как он поливает с обеих рук? Гвозди забивает!
— А пас? — ехидно спросила Нонка. — Есть у него пас, у этого гвоздильщика?
— Зачем ему пас, когда он до пупка над сеткой выпрыгивает? Ему всегда на удар выкинут.
— Ты бы помолчал, теоретик, — холодно сказала Нонка. — Вам бы только гвозди заколачивать да пупок над сеткой показывать. Где ты видел приличную команду без хорошего паса, а?
Зарвавшийся «теоретик» не нашелся что ответить на этот профессионально поставленный вопрос и ретировался.
— Колы, гвозди, клопштосы, — недовольно ворчала Нонка, — одни будут на афишку играть, а другие за них пшенки по всей площадке подбирать. Это раньше так играли…
Слушатели, почувствовав, что Нонка настраивается на воспоминания, придвинулись к подоконнику ближе.
— Раньше, знаете, какие «кузнечики» были? — рассказывала Нонка. — Не только пупок — пятки противнику над сеткой показывали. Один Чинилин чего стоил. Зря, что ли, его «козлом» прозвали?.. Бывало, кэ-эк выпрыгнет, кэ-эк сложится назад пополам, да кэ-эк врежет! Только пыль столбом стоит! После его ударов мяч снова зашнуровывать приходилось.
— А он сейчас играет? — спросил кто-то из болельщиков.
— Сейчас не играет, — вздохнула Нонка.
— Почему?
— Руку ему на войне оторвало, — сказала Нонка и потрогала лежащую за спиной на подоконнике палку, которую она в тот день почему-то захватила с собой, хотя осень уже давно прошла, а до весны еще было далеко.
На третьем подоконнике физики-лыжники «звонили» по поводу предстоящего лыжного кросса. На физическом факультете были самые лучшие лыжники в МГУ, но первое место в прошлом году почему-то заняли пронырливые химики. На третьем подоконнике этот печальный факт объясняли тем, что накануне соревнований (буквально в ночь перед кроссом) химики изобрели совершенно новую мазь, в создании которой принимал участие якобы сам академик Несмеянов, бывший декан химического факультета, и что именно эта новейшая мазь и решила исход борьбы.
Пашка не стал задерживаться и возле четвертого подоконника, на котором проходило заседание бюро фехтовальной секции — и, кстати сказать, весьма своеобразно. Председатель секции, разложив справа и слева от себя ведомости по уплате членских взносов, одиноко и гордо сидел на подоконнике, а все остальные члены бюро, находясь на уровне колен председателя своей секции, стояли около подоконника.
Эта разница в «высоте положения» между председателем и членами бюро никого из постоянных посетителей кафедры физкультуры, конечно, не удивила бы. В те годы, о которых идет наше повествование, в старых корпусах университета на Моховой улице царила жуткая теснота: академики и лауреаты толпой, плечо к плечу, стояли возле приборов и электронных установок; признанные материалисты вынуждены были сидеть в одних комнатах с недобитыми идеалистами; стены одной и той же лаборатории зачастую вмещали в себя радетелей как органической теории происхождения жизни на Земле, так и неорганической, не говоря уже о том, что сторонникам учения академика Лысенко сплошь и рядом приходилось мыть пробирки под одним краном с вейсманистами и морганистами. В связи с этим коммунальным перенапряжением в старых корпусах Московского университета прочно вошло в привычку проводить комсомольские собрания на лестничных клетках, коллоквиумы — на чердаках или в подвалах, членские взносы собирать в гардеробе, а заседания всемирно известных научных кафедр порой проходили на запасных, черных и винтовых лестницах: председательствующий — профессор, глава кафедры, — сидел на железных ступеньках где-нибудь на третьем этаже, доценты на втором и на первом, а самые нижние чины кафедры, аспиранты, ютились в котельных, невольно посвящая в тайны своей науки коренных обитателей этих помещений — истопников.
Не задержался Пашка и около пятого подоконника, где верзила-самбист Леня Цопов с исторического факультета, имевший два прозвища — Бульдозер и Стегоцефал, — рассказывал о недавно закончившемся первенстве мира по самбо. Леня входил в сборную страны и только что вернулся из Парижа. На нем был умопомрачительный зелено-желто-бело-малиново-голубой свитер.
Леня самозабвенно рассказывал о том, как он чуть было «коротко» не познакомился на Монмартре с одной невероятно шикарной девчонкой и как она приходила на все дни соревнований, в которые он работал на ковре, как они чуть было не «прошвырнулись» с ней ночью по Елисейским полям и только чувство дисциплины заставило его отказаться от этой многообещающей прогулки. Леня врал красочно и выразительно, но его увлекательный рассказ никто не слушал. Все смотрели только на свитер, и, таким образом, великая жертва, которую Леня принес во имя торжества спортивной дисциплины над минутными увлечениями сердца, осталась никем не оцененной.
Не стал Пашка задерживаться и около шестого подоконника, где в застиранных брезентовых штормовках и тяжелых, как кандалы, горных ботинках стояли люди с лицами изможденными и суровыми от тягот походной жизни — туристы и альпинисты. Но около седьмого подоконника студент Пахомов остановился. Все дело было в том, что седьмой подоконник издавна считался местом сборища университетских футболистов и хоккеистов.
Из всех университетских футболистов Пашке Пахомову больше всего импонировал мастер спорта Леве Капелькин. Не существовало во всем мире спортсмена, который был бы ниже его ростом — Лева Капелькин был самым маленьким футболистом на всем белом свете. В университете Лева официально числился на юридическом факультете, но столько воды уже утекло с тех пор, когда он в последний раз засыпался на экзамене по историческому материализму, что считать себя студентом в этих запутанных обстоятельствах мог только такой выдающийся и жизнерадостный человек, как мастер спорта Лева Капелькин.
Пашка хотел постоять около седьмого подоконника подольше, но в это время кто-то тронул его сзади за плечо. Пашка оглянулся. Перед ним топтался биолог Люсьен, который, впрочем, охотно откликался и тогда, когда его называли просто Гаврилой.
— Здорово, — улыбаясь, протянул Люсьен Пашке руку.
Пашка тоже улыбнулся и пожал шершавую люсьено-гавриловскую ладонь.
— Пошли? — кивнул Люсьен головой в сторону дальнего конца коридора.
— Пошли, — согласился Пашка и, выбравшись из толпы приверженцев футбола, зашагал рядом с Люсьеном-Гаврилой, уже нигде не задерживаясь, в дальний конец коридора, где около последнего подоконника собиралась так называемая «хива» — самое демократическое и самое «дикорастущее» детище кафедры физического воспитания и спорта, ее запорожская сечь и кубано-урало-амуро-донская казачья вольница одновременно.
И пока Пашка Пахомов и Люсьен-Гаврила идут к последнему подоконнику, самое время дать некоторые объяснения по поводу происхождения термина «хива», который, конечно, никакого отношения к ныне здравствующему среднеазиатскому городу Хиве абсолютно не имеет.
…Впервые слово «хива» на кафедре физкультуры произнесла Нонка. Однажды часов в десять вечера Нонка шла со своего химического факультета мимо окон спортивного зала, выходящих на улицу Герцена. Окна были ярко освещены, в открытые форточки доносились крики яростной спортивной схватки, слышались характерные звуки дриблинга — ударов баскетбольного мяча по полу, когда кто-то из игроков ведет мяч рукой по площадке.
Нонка удивленно остановилась. Никаких официальных соревнований по ее сведениям — а Нонка знала расписание всех соревнований на кафедре физкультуры и спорта наизусть — сегодня быть не должно.
Тем не менее крики из окон и удары мяча по полу продолжали раздаваться, а топот ног игроков, напоминавший грохот копыт бизоньего стада, гонимого первобытными охотниками к обрыву, неуклонно нарастал.
Нонка, конечно, не могла позволить себе пропустить какое-либо университетское спортивное мероприятие даже в десять часов вечера. Обогнув здание старого клуба МГУ на улице Герцена, она прошла мимо молчаливой фигуры Михаила Васильевича Ломоносова со свитком-шпаргалкой в руке и поторопилась на кафедру физкультуры.
Взору ее представилось странное зрелище. По баскетбольному залу метались От кольца к кольцу несколько разноцветных и разношерстных личностей, одетых в майки, рубашки, свитеры, гимнастерки, трусы, шаровары, брюки, галифе (одна из личностей была облачена даже в нечто смахивающее на кальсоны).
Нелепые фигуры, сталкиваясь, падая, размахивая руками, цепляясь друг за друга ногами, усиленно делали вид, что играют в баскетбол. На самом же деле это было похоже на что угодно, только не на баскетбол. Мяч пересекал зал в самых разных направлениях, ударялся в потолок, стены, в спортивные снаряды, попадал в лица и головы играющих, а иногда, выпав из чьих-либо рук, просто катился по полу, и тогда игроки всей сворой тоже бросались на пол и, давя, лягая, царапая, а может быть, даже и кусая друг друга, продолжали свой дикий коллективный поединок уже в партере.
Время от времени кто-нибудь из сражающихся, напрягая до предела свои снайперские возможности, судорожно швырял мяч в сторону кольца. Игроки собачьими взглядами провожали бросок, а когда мяч, отскочив от стены, возвращался на площадку, всей кучей бросались на него, и псевдобаскетбольное побоище продолжалось.
Несмотря на то, что ни одно из существующих правил игры не соблюдалось, на площадке имелся даже судья. Это был аспирант экономического факультета Костя Хачатуров, страстный болельщик всех видов спорта вообще, и баскетбола в частности. Во рту у Кости воинственно торчал свисток, из которого он то и дело извлекал заливистые трели.
…Мяч, непонятно каким образом вырвавшись из общей свалки, ударился в щит и оказался в корзине.
Хачатуров засвистел и показал рукой, что мяч засчитывается.
— Двести шестнадцать на сто девяносто четыре! — торжественно объявил Костя счет,
— Сколько, сколько? — испуганно переспросила Нонка.
— Двести шестнадцать на сто девяносто четыре, — гордо повторил Костя.
Нонка задумалась. В нормальном баскетбольном матче счет обычно не превышал семидесяти — восьмидесяти очков…
— Сколько же они тут играют? — спросила Нонка.
— Четыре часа, — ответил Костя, — в шесть начали.
— Хива, — произнесла Нонка историческое слово.
— Что-что? — переспросил Хачатуров, словно предчувствуя, что присутствует при рождении великого термина.
— Хив
а, — многозначительно повторила Нонка, не утруждая себя разъяснениями.
— В каком смысле «хив
а»? — заинтересовался Костя,
— А в таком, — снизошла наконец до объяснений Нонка. — Разве это баскетбол? В бронзовом веке уже так не играли.
— Ну, это ты напрасно, — запротестовал Хачатуров, — ребята просто дико преданы баскетболу. А в секцию заниматься не пускают.
Подготовочки, говорят, физической не хватает. Вот они и тренируются на общественных началах. Осваивают, как говорится, азы баскетбольной техники.
На войне Костя Хачатуров потерял руку. Путь в большой спорт по этой невеселой причине был закрыт для него навсегда. Но Костя до самозабвения— вплоть до забвения всех своих прямых аспирантских дел — любил все то, что так или иначе имело отношение к «малому» спорту, то есть спорту на общественных началах. Его хлебом не корми, но только поручи организовать какой-нибудь лыжный кросс первокурсников, или туристическую вылазку преподавателей, или шлюпочный переход аспирантов. Он был прирожденным организатором всякого спортивного процесса вообще, неукротимым общественником и бескорыстным педагогом одновременно и всегда охотно судил всякие дворовые игрища и первенства, помогал доставать бесплатный спортивный инвентарь или безвозмездно арендовать стадионы и бассейны для всевозможных студенческих соревнований.
3
Пашка Пахомов приобщился к «хиве» три года назад, в середине первого курса. Тогда он был на распутье — крутая метаморфоза, которая стряслась с бывшим школьным отличником и золотым медалистом Павликом Пахомовым на границе средней и высшей школы, неожиданно забросившим занятия и лекции, раскручивала Пашку в совершенно неведомом даже ему самому направлении. Он поругался с однокурсниками, рассорился с лучшим своим другом комсоргом группы Тимофеем Головановым. Его тут же обвинили в противопоставлении личности коллективу — формулировка Тимофея Голованова — и начали прорабатывать и склонять на собраниях. Вокруг Пашки образовалась пустота.
На первом курсе, посещая академические занятия по физкультуре, готовясь вместе с однокурсниками к сдаче норм ГТО, Пашка впервые обнаружил существование на кафедре физического воспитания и спорта особых, ни на кого из его однокурсников не похожих людей. Здесь не было разделения студентов на курсы и факультеты, а такие слова, как, например, «лекция» или «семинар», вообще произносились очень редко. Студенты, аспиранты, преподаватели, доценты и даже доктора наук (Курдюм, например), сидели рядом на подоконниках, непрерывно острили, хохотали над каждой удачной шуткой, играли друг с другом в шахматы, «обзванивали» вовсю своих противников, не обращая никакого внимания ни на разницу в возрасте, ни на то, что ты, скажем, всего лишь навсего второкурсник, а напротив тебя сидит за шахматной доской почтенный член-корреспондент, давно уже избранный в какую-нибудь королевскую академию.
Здесь обо всем на сеете спорили только на равных, не признавали никаких авторитетов, не давили степенями и званиями, охотно выслушивали заведомые парадоксы. Здесь можно было высказать любую мысль, даже самую нелепую, и никто не назвал бы ее несостоятельной сразу, а корректно и вежливо был бы произведен подробный анализ твоего поспешного умозаключения, и молодой, здоровый научный задор был бы отделен от нездоровой наукообразной шелухи, и первый — одобрен, а вторая — осуждена.
Здесь горячо обсуждались самые жгучие проблемы современной физики, химии, биологии, истории, географии, геологии, математики, философии, филологии, и от этого казалось, что в узком коридоре кафедры физического воспитания и спорта на его длинных деревянных подоконниках сосредоточен весь огромный современный мир со всеми его жгучими и нерешенными проблемами.
И Пашка, рассорившись с однокурсниками и даже с Тимофеем Головановым, целиком перекочевал на кафедру физкультуры. «Хива» приняла его в свое лоно дружелюбно и на равных началах.
Со временем Пашка, конечно, примирился и с однокурсниками и с Тимофеем Головановым, но принадлежность и привязанность к «хиве» осталась неизменной и постоянной.
…В тот день, с которого началось наше повествование, «хива», как обычно, сложив на последнем подоконнике портфели, книги и конспекты лекций, гоняла мяч в баскетбольном зале. И, как всегда, судьей этого дикого игрища был Костя Хачатуров. Пашка и Люсьен-Гаврила мгновенно подключились к поединку и были введены в состав одной из команд.
К началу третьего часа игры счет перевалил (как это часто бывало) за двести очков. Привлеченные беспорядочным топотом ног, громкими криками, взрывами смеха и непрекращающимся весельем в зале, постепенно начали накапливаться всякие случайные зрители, для которых доступ на все «дикие» сражения «хивинцев» — в отличие от тренировок клубных университетских команд — был всегда абсолютно свободен.
Потом стали собираться и постоянные обитатели кафедры физического воспитания. Первым в зал вошел Леве. Капелькин. Потом появился в своем зелено-желто-бело-малиново-голубом свитере Леня Цопов. Владелец выдающегося трикотажного изделия, несмотря на то, что входил в сборную страны по борьбе, испытывал к «хиве» некое снисходительное расположение — не увенчанные разрядами, но страстно преданные спорту «хивинцы» напоминали ему его спортивную юность.
Опираясь на палку, в зал вошла Нонка, сразу же за ней прибыли Тарас и Курдюм. Последней в зале появилась стройная и белокурая Славка. И тут же все сразу поняли, что не пройдет и двух минут, как в зале окажется Валера — лучший баскетболист университета, мастер спорта по легкой атлетике.
Валера влетел вслед за Славкой не через две минуты, а через две секунды. Вместе с ним в зал вошли Федот, Хрусталев и Барашкин — коллеги Валеры по баскетбольной команде мастеров МГУ. Это все были высокорослые, атлетически сложенные ребята с разных факультетов университета: Федот был биологом, Хрусталев — мехматовцем, Барашкин числился на химфаке, но самой выдающейся фигурой среди них, несомненно, был Валера.
Валера обладал выдающейся спортивной фигурой и в прямом, физическом смысле слова. Представьте себе на мгновение мраморного микеланджеловского Давида, стоящего на первом этаже Музея изобразительных искусств в Москве в углу возле лестницы. Оденьте его мысленным взором в трусы, майку и баскетбольные кеды, вдохните в него жизнь, и перед вами возникнет Валера — лучший баскетболист университета, аспирант физического факультета, безнадежно влюбленный в Славку, в нордически недоступную, по-варяжски холодную, стройную, как газель, сероглазую, белокурую и невозмутимую Славку.
Познакомившись со Славкой в первые дни ее поступления в университет на философский факультет, Валера — он был тогда уже на третьем курсе физфака, — к всеобщему изумлению, немедленно бросил легкую атлетику и тут же переключился на баскетбол. За два года он добился невероятных успехов, проделав путь от новичка до команды мастеров, но гордой и недоступной Славки Валера добиться так и не смог. На пылкого, «полумраморного» Валеру она не обращала вроде бы никакого внимания. Валера мрачнел, худел, все лучше и лучше играл в баскетбол и, не теряя все-таки последней надежды, постоянно преследовал Славку.
…Первым оценил создавшуюся в зале лирическую ситуацию Лева Капелькин. Обведя взглядом всех игроков и зрителей, Лева уставился наконец в ту сторону, где около шведской стенки, возле вытянувшейся струной белокурой Славки нежно громоздился несчастный греческо-римский Валера.
— Кончай игру! — закричал Лева Косте Хачатурову, выскакивая на середину зала. — Давай свисток! Есть гениальное предложение — матч века! «Хива» против мастеров.
— «Хива» устала, — мрачно сказал Костя Хачатуров.
— Тогда я за «хиву» выйду, — выдвинул Лева на всеобщее обсуждение следующую часть своего плана. — Кто со мной против мастеров встанет?
— То есть, конечно, я, — тут же отозвался Тарас.
— И я, — встал рядом с Тарасом Курдюм.
— И я, — медведем шагнул вперед верзила Леня-Бульдозер.
— Так, четверо уже есть, — констатировал Лева, — нужен пятый.
Он посмотрел на собственно «хиву», устало толпившуюся вокруг Кости Хачатурова.
— Одного человека можете выделить? — обратился Лева к «хивинцам». — Ну, кто самый смелый?
— Пускай Пашка Пахомов попробует, — неуверенно сказал Костя Хачатуров. — Он сегодня лучше всех играл.
— Идешь к нам, Пашка? — спросил Лева.
Пашка не верил собственным ушам. Его, рядового «хивинца», зовет играть в одной с ним команде сам Лева Капелькин, великий Лева Капелькин. И в какой команде! Где будут сразу трое мастеров спорта — Тарас по шахматам, Леня Цопов по борьбе, Лева по футболу, да еще Курдюм — общепризнанный гений математики.
А против кого они будут играть? Против первой сборной МГУ, против Федота, Хрусталева и Барашкина, а главное — против самого Валеры, который всегда был Пашкиным идеалом, Пашкиным кумиром, недостижимой и неосуществимой Пашкиной мечтой.
Задохнувшись от счастья и проглотив подошедший к горлу комок, Пашка молча подошел к Леве и преданно встал рядом.
Между тем первая сборная — Федот, Хрусталев и Барашкин — не только не выражала никакой готовности встретиться с вновь организованной командой (болельщики тут же окрестили ее «нью-хивой»), но вроде бы даже и не замечала никаких Левиных организационных усилий по подготовке «матча века».
Но не таким человеком был Лева Капелькин, чтобы, начав какое-то дело, оставить его незаконченным. Лева подошел к Валере, извинился перед Славкой и, обращаясь непосредственно к лидеру первой сборной, спросил его в упор:
— Будете с нами играть?
— С кем это с вами? — неохотно повернулся к Леве Валера.
— С «хивой».
— С «хивой»? — удивился Валера. — А зачем?
— Матч века, — объяснил Лева, — «хива» против мастеров. Два тайма по десять минут. Даете нам двадцать очков форы.
— Нас только четверо, — попытался отвязаться от Левы Валера, — неполный состав.
— А вы Славку возьмите пятой, — подмигнул Лева Валере.
— Славку? — еще более удивился недогадливый Валера. — Но ведь она…
Он хотел было произнести слово «женщина», но хитрый Лева, перебив его, обратился прямо к Славке:
— Слава, сыграешь за мастеров?
— С какой это стати я с мужиками буду ломаться? — пожала плечами Славка. — Убьете еще. Один Ленька-Бульдозер чего стоит. Толкнет плечом — и ничего от меня не останется.
И тут сработала главная идея глубоко задуманного Левой плана.
— Славочка, — гордо выпрямился Валера, — давай сыграем вместе. Никто тебя не только плечом — пальцем не тронет. Я лично за это отвечаю.
Перспектива защищать Славку от опасности и целых двадцать минут находиться в непосредственной близости от нее полностью захватила Валеру. Возможность сразиться с верзилой-самбистом Ленькой Цоповым сильнейшим образом увеличивала его шансы в ухаживаниях за Славкой. Безответной Балериной любви судьба в лице Левы Капелькина предоставляла счастливый случай продвинуться вперед к успеху и добиться хотя бы небольшой взаимности. Валера с благодарностью посмотрел на Леву, и сердце маленького футболиста сжалось от радости: план его, кажется, приближался к осуществлению.
— Играть предлагается на двенадцать бутылок пива, — выдвинул Лева последний аргумент. — Если через двадцать минут, то есть к концу второго тайма, счет будет в вашу пользу, — пиво ваше, если не отыграете фору — пиво наше.
— Ребята! — крикнул Валера Федоту, Барашкину и Хрусталеву. — «Хива» хочет выставить нам дюжину пива. Просит двадцать очков форы и предлагает, чтобы за нас играла Славка!
Федот, Барашкин и Хрусталев отвесили в сторону Славки галантный полупоклон, как бы давая этим понять, что принимают ее в свои ряды.
— Ладно, согласна, — тряхнула белокурой головой Славка. — Пойду переоденусь.
И, сопровождаемая возбужденным гулом болельщиков, пошла в женскую раздевалку.
Известие о великом баскетбольном поединке между мастерами и «хивой» с быстротой молнии облетело все старое университетское здание на Моховой улице. Из библиотек и читальных залов, из аудиторий и научных кабинетов спешили на кафедру физкультуры и спорта все новые и новые толпы болельщиков и зрителей. Зал, где должно было произойти неповторимое состязание, был забит до отказа.
Судить поединок взялся Костя Хачатуров, Нонке было поручено вести протокол встречи — фиксировать изменения в счете и полученные игроками штрафные замечания. Серьезная и важная Нонка торжественно восседала за принесенным откуда-то маленьким судейским столиком.
Когда в зал вошла Славка, все ахнули от удивления— до того красива была она в своей белоснежной спортивной форме. Майка плотно обтягивала круглые Славкины плечи. На белых полотняных трусах были заглажены спереди и сзади острейшие стрелки. Умопомрачительной прямоты и стройности Славкины ноги были облачены в элегантные белые носки и такие же белые баскетбольные кеды. Великий скульптор итальянского Возрождения Микеланджело Буонарротти, пожалуй, совсем не ошибся бы, если б одновременно со своим Давидом изваял из мрамора и прекрасную Славкину фигуру, которая могла стоять рядом с Давидом как на центральной площади города Флоренции, так и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Словно бы исправляя допущенную Микеланджело оплошность, Славка подошла к первой мужской сборной команде МГУ и встала рядом с Валерой. Зал замер в немой паузе. Стоящие друг возле друга Валера и Славка на самом деле были похожи на воплощенную мечту великих скульпторов всех времен и народов об идеальной человеческой паре.
Раздался свисток Кости Хачатурова, и великое состязание «хивы» и мастеров началось. Мяч, конечно, сразу оказался у мастеров, Федот, не глядя, откинул его Хрусталеву, Хрусталев, тоже не глядя, подбросил мяч вверх в сторону щита Левиной команды, над штрафной площадкой «хивы» взвилась вверх фигура Валеры, и лидер первой сборной забросил мяч в корзину.
Зал взорвался аплодисментами.
— Лева, готовь пиво! — крикнули из толпы болельщиков.
Теперь игру от своего кольца начала «хива». Лева, собрав всех игроков в кружок, долго и многозначительно объяснял им что-то шепотом. Точно выполняя Левины инструкции, два великана, Тарас и Леня-Бульдозер, поперли напрямик от своего кольца к щиту мастеров. Курдюм в это время метался с вытаращенными глазами и растопыренными пальцами в штрафной площадке мастеров.
Лева Капелькин немного пробежался дриблингом. На него напал Хрусталев. Но Лева недаром был мастером спорта по футболу. Он ловко увернулся от Хрусталева и закрыл мяч корпусом. За Пашкой Пахомовым должна была следить Славка, но она чувствовала себя еще не совсем уверенно среди огромных мужских рук, плеч и спин, и Пашка Пахомов на мгновение оказался свободным от опеки. Этим тут же воспользовался хитрый Лева Капелькин. Он послал Пашке молниеносный пас. Пашка поймал мяч, подпрыгнул и направил бросок в корзину мастеров.
— Ура-а! Ура-а! — завопили болельщики и зрители. — Дави мастеров! Молодец, Пашка! Валера, готовь пиво!
Пашка, бывший на седьмом небе от счастья, мчался обратно к своему щиту. И вдруг среди радостных и веселых болельщиков он увидел хмурое и озабоченное лицо своего групкомсорга Тимофея Голованова. «Ага, — подумал Пашка, — и Тимоха выполз из своего любимого читального зала, не удержался. И его захватило. И что же он увидел? Как его друг Павел Пахомов, которого он, Тимоха, ругает на каждом собрании, играет среди сплошных мастеров спорта».
Первая сборная между тем, раздраженная нахальством «хивинца» Пахомова, пошла в ответную атаку. Три передачи, и Валера, сделав от центрального круга два огромных шага, рванулся вверх в неимоверном прыжке к щиту соперников. Пролетев по воздуху чуть ли не половину всего зала, Валера точно вышел под кольцо и заработал два очка.
Это, безусловно, был выдающийся мяч. Такое можно было увидеть только на больших соревнованиях — на первенстве Москвы, например. И зал, несмотря на то, что девяносто процентов зрителей болело за «хиву», наградил Валеру взрывом восторженных криков и аплодисментов.
Мастера снова сократили фору на два очка, но хитроумный Лева тут же предпринял ответный демарш.
Тарас и самбист тяжеловес Леня оттеснили своей массой от щита игроков противника, и Лева, нырнув в образовавшееся пространство, забил мяч в кольцо мастеров.
Это была уже настоящая сенсация. «Нью-хива» на равных играла с мастерами! Зал недоуменно гудел. Мастера разозлились. За две минуты Федот, Барашкин и Хрусталев, разыграв несколько молниеносных комбинаций, забили «хиве» подряд три безответных мяча.
Левина команда начала нервничать. Курдюм несколько раз выронил мяч из рук, хотя на него никто не нападал. Тарас, споткнувшись на ровном месте, растянулся на полу под веселый хохот зрителей во весь свой огромный рост.
Мастера начали атаку. Барашкин и Хрусталев, передавая мяч друг другу мелкими пасами, красиво и ловко двигались почти плечом к плечу к щиту «хивы». Самбист Леня, будучи не в силах выдержать это обидное зрелище, ринулся на них и уложил на пол обоих.
— С поля Стегоцефала! — заорали возмущенные болельщики. — Долой Бульдозера! Гнать его в шею! Эта дубина нам всех мастеров перекалечит!
Лева Капелькин совсем приуныл. «Хива», даже «нью-хива», все-таки оставалась «хивой», а мастера— мастерами. С Тараса пот лил в три ручья. Курдюм давно уже «вешал лапшу». В Левиной команде оказывать хоть какое-то сопротивление противнику могли только он сам, Лева Капелькин, и Пашка Пахомов.
— Пашка, — свистящим шепотом заговорил Лева, — неужели мы просто так, за здорово живешь, отдадим им такую фору? Надо играть, Пашка! Надо ложиться костьми!
Лева отдал Пашке пас, но перед Пашкой, как молния, сверкнула греческо-римская фигура Валеры, который, перехватив адресованный Пашке мяч, уже неудержимо мчался к их кольцу.
— Держите его! — отчаянно закричал Лева. — Что же вы стоите, как вареные?
Валера взметнулся вверх в своем знаменитом прыжке. Мгновенно оценив ситуацию, он увидел, что все девять игроков обеих команд столпились под щитом и только десятый игрок — Славка — стоит, никем не прикрытая.
И вместо того, чтобы самому забрасывать верные два очка, Валера откинул мяч Славке. И Славка, изогнув в талии белоснежную и стройную свою фигуру, бросила мяч женскими руками в кольцо мужской команды и под гром аплодисментов всего зала точно попала в корзину.
На Леву Капелькина страшно было смотреть. Лицо его пылало гневом. Благородная инициатива — свести Валеру и Славку в одной команде — оборачивалась теперь против него ужасным унижением pro личного спортивного честолюбия.
— Кто Славку держит? — заорал Лева на своих игроков. — Почему она свободно по всему полю гуляет? Не хватало нам еще Славке проигрывать, да?
— Я Славку держу, — упавшим голосом признался Пашка Пахомов.
— Так держи ее плотнее! — рявкнул Лева Капелькин. — Не отходи от нее ни на шаг! Приклейся к ней! Мужик ты или повидло?
Это был горький, а главное — совершенно незаслуженный упрек. Весь зал видел, что Славка забила мяч не потому, что Пашка плохо держал ее, а потому, что прыгучий и ловкий греческо-римский Валера подарил ей эти два очка из собственных рук. Но тем не менее обидный упрек в том, что он, Пашка, мужчина, играет хуже Славки, женщины, был брошен публично, во всеуслышанье.
От Славки пахло духами и еще бог знает чем — женским, кружащим голову. У Пашки рябило в глазах, подкашивались ноги, когда он видел туго обтянутую майкой Славкину грудь, стройную спину и пушистые белокурые завитки волос на шее. Но с какой бы стороны ни пробовал Пашка подступиться к Славке, его постоянно встречало то правое, то левое Валерино плечо. Валера то нападал на Пашку и незаметно, в рамках правил, бил его резким движением плеч в грудь и спину, то вставал на пути Пашки к Славке, и Пашка, бессильно тыкаясь в него своими худыми ключицами, непрерывно испытывал боль от постоянных столкновений с Валерой.
И Пашкой постепенно овладело какое-то новое, незнакомое ему раньше чувство. Неожиданно он поймал себя на мысли о том, что голова его гораздо больше, чем Славкой, занята непосредственно самим Валерой, великим и неподражаемым Валерой.
И Пашке вдруг захотелось стать лучше Валеры. Не в том смысле, чтобы быть физически сильнее его, — этого просто не могло произойти. Пашке вдруг захотелось доказать всем, что он может стать не таким, каким он был вот в эти самые последние секунды — нелепым, неуклюжим «хивинцем», жалко тыкающимся в плечи Валеры, не умеющим удержать на баскетбольной площадке даже Славку, женщину, хотя и белокурую, хотя и белоснежную, но все-таки женщину.
Слово «повидло», произнесенное Левой Капелькиным в азарте игры, от горечи надвигающегося поражения, вдруг отбило в Пашкином состоянии какую-то границу, какую-то черту, которую ему захотелось немедленно переступить.
Пашка не желал быть больше «повидлом», ему не хотелось быть больше «хивой» — жалкой и бесправной «хивой», ютящейся на последнем подоконнике кафедры физического воспитания и спорта. Пашке вдруг захотелось стать лучше самого себя.
— Лева! — громко закричал Пашка неожиданным для всех ломающимся басом. — Неужели мы просто так, за здорово живешь, отдадим им такую фору? Играть надо, Лева! Костьми надо ложиться!
Пашка прошел от своего кольца несколько метров дриблингом и вдруг, неожиданно ускорившись и невольно, не осознавая еще этого, подражая Валере, сделал два разрешенных правилами больших шага и рванулся вверх в прыжке — конечно, не в таком мощном и высоком, как Балерин прыжок, но рванулся.
Мастера, не ожидавшие от Пашки такой прыти, тоже рванулись к нему, но было уже поздно. Долетев почти до самого щита Балериной команды, Пашка взмахнул рукой, и мяч оказался в корзине.
Зал взорвался аплодисментами.
— Ура, Пашка, ура-а! Дави мастеров!
Мастера начали игру со своей половины. Мяч попал к Славке. Привыкшая к близости Пашки около себя, Славка неуверенно оглянулась по сторонам и не очень сильно бросила мяч в ту сторону, где стоял Валера.
Пашка, как метеор, кинулся наперехват. Опередив на какую-то долю секунды Валеру, не догадывавшегося даже о том, что Пашка Пахомов обладает такой стартовой скоростью (а никакой стартовой скоростью Пашка не обладал, просто дух окреп в нем, проснулось самолюбие), Пашка поймал мяч перед самым лицом лучшего игрока университета, взметнулся под кольцом и точно положил мяч в корзину.
В спорте иногда так бывает: то, что сначала получается у одной команды, потом начинает получаться только у другой. Удача, сопутствовавшая мастерам, переметнулась на сторону «хивы». И лидером «хивинских» атак единолично сделался Пашка Пахомов. Вся «хива» играла теперь только на него, Пашка забил еще два мяча. Зрители и болельщики неистовствовали, бесконечно скандируя Пашкины имя и фамилию. Мастера недоумевали — никогда еще им не приходилось видеть, чтобы в течение одного тайма так резко изменился класс игры одного и того же человека.
Фора выросла до восемнадцати очков. Растерявшаяся Славка изо всех сил пыталась держать Пашку, бегала за Пашкой по всей площадке. Серые Славкины глаза и белокурые волосы порой находились всего в нескольких сантиметрах от Пашки, сердце которого чуть было снова не дрогнуло от тайной влюбленности в Славку.
Но в этот день в душе Пашки Пахомова родился настоящий спортсмен. Он отогнал чувства, в очередной раз обвел Славку и хотел было уже бросить мяч по кольцу, но в это время раздался свисток судьи Кости Хачатурова. Первая половина «матча века» окончилась. Был объявлен пятиминутный перерыв между таймами.

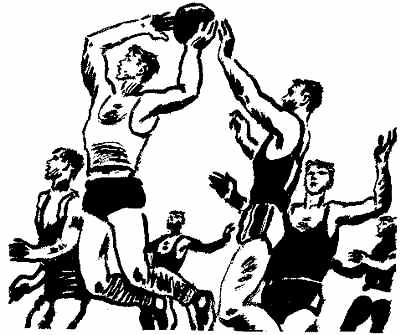
В перерыве все только и делали, что говорили о Пашке. Фамилия его была у всех на устах. Было совершенно ясно, что в университете появился новый классный баскетболист… Вот вам и «хива»! Вот вам и бессистемные тренировки под руководством рыцаря печального образа на общественных началах Кости Хачатурова. Вот вам и «дикие» многочасовые игры, которые так любили осуждать штатные тренеры клубных команд. Был, оказывается, смысл во всех этих бессистемных тренировках, во всех этих «диких» многочасовых играх, если вырос в «хиве» такой игрок, как Пашка Пахомов, сумевший забить пять мячей подряд мастерам?
Да, Пашка действительно был героем первой половины матча «нью-хивы» с мастерами. Он сидел в раздевалке, и вся команда — Курдюм, Леня Цопов, Тарас и Лева Капелькин — с удивлением разглядывали его, будто видели первый раз в жизни.
— Ты вообще-то не устал, Пашка? — озабоченно спросил Лева. — Все-таки два часа перед этим гонял, а?
— Нисколько, — храбрился Пашка. — Я чем больше играю, тем меньше устаю.
Все заулыбались. Пашка был младше всех, и поэтому хвастовство его было понятно и всеми оправдывалось.
— То есть я совершенно точно считаю, что сегодня у Пашки звездный день, — глубокомысленно изрек Тарас.
— А ты, лоб здоровый! — напустился на Тараса Лева Капелькин на правах капитана. — Не мог, что ли, Валеру пару раз прихватить, чтобы он своими козлиными прыжками не красовался?
— Прихвачу, — пообещал Тарас, — во втором тайме обязательно прихвачу.
— Теперь задача для Курдюма, — повернулся к нему Лева. — Толку от него сегодня в игре было как от козла молока. Больше мешал, чем помогал. Поэтому во втором тайме Курдюм должен будет следить за всеми мячами, которые окажутся на полу… Как только увидишь, что мяч уронили где-нибудь на пол, так сразу беги туда и ложись на него, чтобы мастерам не достался. А в остальное не вмешивайся, понял?
Доктор наук радостно согласился со своим новым амплуа — вести борьбу за мяч только на полу.
— Ну, вот вроде бы и все, — подвел итоги Лева. — Держитесь крепче, ребята! Ведь дело же не в двенадцати бутылках пива, правда? Характер надо показать, волю, выдержку! Сумели же мы у них первый тайм выиграть? Почему бы и второй не выиграть?
В коридоре заливался свисток судьи Кости Хачатурова, вызывавшего команды на второй тайм.
— Пошли, — коротко сказал Лева, и «нью-хива» двинулась из раздевалки.
В коридоре, у входа в зал, Пашку окликнул Тимофей Голованов.
— Здорово! — дружелюбно улыбнулся Тимофей.
— Здорово, — сдержанно ответил Пашка.
— Играешь ты сегодня как бог! — восхищенно сказал Голованов.
— Благодарю за внимание, — усмехнулся Пашка. — Чем обязаны вашему присутствию в столь несерьезном месте, как кафедра физкультуры?
Тимофей Голованов внимательно посмотрел на Пашку.
— Да, играешь ты сегодня как бог, — задумчиво повторил Тимофей, — а вот ни на одной лекции не был.
— Ладно, — поморщился Пашка, — смени пластинку, надоело.
Ему было просто смешно слушать сейчас Тимофея. Он, Пашка Пахомов, показал сегодня игру высочайшего класса, о нем говорит весь университет, и в этот торжественный день вдруг появляется зануда Тим Голованов и начинает читать ему нотации.
— Если говорить откровенно, — серьезным голосом начал Тимофей, — то я пришел сюда совсем не случайно. Я искал тебя.
— Ну, вот нашел. И что дальше?
— Завтра у нас будет комсомольское собрание. Явка обязательна.
— Буду, — коротко пообещал Пашка.
— Собрание назначено на восемь часов утра…
— Зачем в такую рань-то?
— После девяти часов нет ни одного свободного помещения.
— Пашка! Пахомов! — закричал, выскакивая из зала в коридор, Лева Капелькин. — Ты где? Иди скорее, там без тебя не начинают!
— Иду! — отозвался Пашка. — Иду!
Он снисходительно посмотрел на строгого и серьезного Тимофея, и ему вдруг стало жалко друга: вот ведь педант, не поленился прийти на кафедру физкультуры, которую он искренне ненавидел, чтобы предупредить комсомольца своей группы Пахомова о том, что собрание назначено на восемь часов утра.
…С самых первых минут второго тайма игра пошла не по тому стратегическому плану, который нарисовал «нью-хиве» в раздевалке Лева Капелькин. В первом тайме мастера хотели порезвиться, поразвлекаться с «хивой», но неожиданная игра Пашки Пахомова поставила под угрозу их репутацию. Теперь требовалось срочно восстановить авторитет первой сборной. И мастера вышли на поле совершенно новой командой. Во-первых, была посажена на скамейку Славка, а во-вторых, никто не позволял себе уже никаких вольностей и красивых прыжков. Мастера действовали как хорошо налаженный, четкий механизм: три-четыре передачи, кто-нибудь выскакивал на свою любимую «точку», получал пас и точным, почти автоматическим броском посылал мяч в корзину «хивы».
Первая сборная не показала во второй половине ни одного индивидуального приема. Игра ее строилась на академическом коллективизме и сухом практицизме, и счет матча неудержимо менялся. К началу шестой минуты фора была уже полностью ликвидирована. Болельщики, по дилетантскому своему недомыслию ценившие в баскетболе только красивое индивидуальное мастерство и личный романтизм каждого игрока — стиль Пашки Пахомова, — сдержанно приветствовали успех первой сборной,
Несколько раз срывал аплодисменты Курдюм. Доктор наук, не проявлявший никакого интереса к мячу, пока он находился в руках игроков, зорко следил за всеми падениями мяча на пол. И как только он, выпав из чьих-либо рук, оказывался на полу, Курдюм стремительно, головой вперед бросался под ноги игроков, накрывая мяч своим телом. И это дало повод болельщикам для разговоров о том, что Курдюм, занимаясь с младенческих лет высшей математикой, по всей вероятности, совершенно напрасно сгубил свою молодость на алгебраические формулы и уравнения. Из него мог бы получиться весьма неплохой регбист.
Пытались повлиять на ход «матча века» своими мамонтообразными фигурами и Тарас с Леней-Бульдозером. Забыв все наставления Левы Капелькина, они, легкомысленно оставив без защиты свое кольцо, пытались забросить в корзину противника несколько мячей.
Но аспирант Валера не дал Тарасу и Лене Цопову ни малейшего шанса изменить счет. И борец-верзила не выдержал Валериного успеха и позора своей команды. Улучив момент, он сделал попытку бросить Валеру через бедро, но Валера что-то такое сделал с ногой и рукой Лени Цопо ва одновременно, в результате чего Леня-Стегоцефал сам полетел в толпу болельщиков под оглушительный хохот последних.
Это было началом конца. Рассвирепевший Бульдозер кинулся на Валеру. Барашкин и Хрусталев, надеясь спасти жизнь лучшему баскетболисту университета, бросились оттаскивать Цопова от Валеры. Неожиданно Лева Капелькин, издав воинственный клич, в котором была вся горечь поражения, как пантера, прыгнул с разбега на спину Барашки-на. Федот пытался стащить Леву, но «олимпиец» Тарас, решив не давать в обиду маленького футболиста, оттолкнул Федота. В живот Тарасу врезался Хрусталев, которого немедленно атаковал Пашка Пахомов.
И тут-то Курдюм, задумчиво наблюдавший всю сцену со стороны, бросился в ноги динамичной скульптурной группе, и вся «нью-хива» вместе с мастерами завалилась на пол.
Рыцарь на общественных началах Костя Хачатуров отчаянно свистел в свой свисток, Нонка стучала в пол палкой, Славка требовала вызвать милицию. На поле хлынули болельщики, и противоборствующие стороны были, наконец, расцеплены и разведены каждая под свое кольцо.
Мастера, не пожелавшие больше иметь с дикой «хивой» никаких дел, высокомерно отказались от выигранных двенадцати бутылок пива и гордо покинули зал.
Уже в дверях их догнала Славка и носовым платком вытерла пот со лба изрядно помятого в столкновении греческо-римского Валеры.
Валера обнял Славку, Славка положила голову на Валерино плечо, и на глазах замерших от удивления зрителей и болельщиков они вышли из зала рядом друг с другом.
Увидев это, Лева Капелькин, несмотря на всю драматичность и даже трагичность ситуации, печально улыбнулся. Один положительный результат встреча мастеров с «нью-хивой» все же дала: судьба Валеры и Славки была решена. Благородный замысел будущего юриста Левы Капелькина был приведен в исполнение.
Часть вторая
Пятая французская
1
На следующий день ровно в восемь часов утра Пашка Пахомов вошел в длинный и узкий коридор факультета журналистики, расположенного на втором этаже одного из старых университетских зданий на Моховой улице, во дворе которого стояли в противоположных углах каменные фигуры великих революционных демократов Герцена и Огарева. Как новая восходящая звезда университетского баскетбола, Пашка Пахомов опаздывать на комсомольское собрание своей группы не имел теперь, конечно, уже никакого права.
Пройдя мимо пустынных в этот ранний утренний час маленьких и тесных аудиторий, Пашка уловил в конце коридора жужжание голосов своей родной комсомольской группы и непосредственно устремился на эти звуки, узнать которые, как пчела узнает издалека гул родного улья, Пашка, наверное, тоже смог бы на очень далеком расстоянии.
Пятая французская группа четвертого курса факультета журналистики, к которой имел честь принадлежать студент Пахомов, томилась около входа в шестнадцатую аудиторию — самую большую аудиторию второго этажа, полукруглые ряды которой крутым амфитеатром восходили от черной грифельной доски к потолку.
— Ребята, смотрите, кто пришел! — радостно закричал, увидев Пашку, Боб Чудаков, первый франт и щеголь пятой французской группы. — Сам Пахом пожаловал. Здорово, Павел Феоктистович! Сколько лет, сколько зим?
Пашка солидно, за руку, поздоровался с Чудаковым (не мог же он после вчерашнего своего успеха на кафедре физкультуры по-прежнему изображать из себя легкомысленного и ветреного Пахома?). Борис Чудаков считался хорошим Пашкиным приятелем. Не другом, как, например, Тимофей Голованов, а просто приятелем. Боб Чудаков слыл не только первым франтом и щеголем в пятой французской группе, но и первым музыкантом и знатоком джазовой музыки на всем четвертом курсе. Он хорошо играл на рояле, знал наизусть множество модных мелодий и вообще был сверхсовременным и сверхмодерновым юношей.
Потом студент Пахомов все так же солидно пожал руку Юрке Карпинскому, по прозвищу Карпо, бывшему балетному танцору; Степану Волкову — выходцу из глубин Псковской области, выучившему длинными зимними вечерами в своей деревне под завывание метелей наизусть почти всю Большую Советскую Энциклопедию; Рафику Салахяну — лучшему курсовому поэту; Эрику Дарскому — сыну знаменитого кинорежиссера музыкальных комедий на колхозные темы; Лехе Белову — демобилизованному из армии старшине; и, наконец, башкирскому вундеркинду Фариду Гафурову, самостоятельно изучившему в городе Уфе пять европейских языков.
После этого Пашка повернулся к девицам пятой французской группы и отвесил в их сторону несколько галантных полупоклонов. Девицы все были как на подбор: пышноволосая блондинка Руфа; две подруги-модницы Инна и Жанна; черноокая горянка Сулико Габуния; непрерывно изображавшая из себя, лев-толстовскую героиню (Наташу Ростову) Светка Петунина; дочь известного дипломата Изольда Ткачева; неизлечимая сплетница и скандалистка Галка Хаузнер (по прозвищу Кляузнер); и, наконец, отличница, певунья и хохотушка Оля Костенко — самое миловидное существо во всей пятой французской группе.
И только проделав все это — рукопожатия и поклоны, Пашка Пахомов подошел к своему лучшему другу групкомсоргу Тимофею Голованову и чопорно поздоровался с ним.
— Здравствуй, Павел, — торжественно ответил Тимофей Голованов.
Он поставил в списке комсомольцев пятой французской группы против фамилии Пахомова жирный черный крест и, аккуратно сложив вчетверо список, спрятал его в карман.
Жест этот обозначал следующее: все комсомольцы группы в сборе, собрание можно начинать.
— Товарищи, прошу занимать места, — голосом радиодиктора объявил Голованов и гусиным шагом двинулся в шестнадцатую аудиторию.
Все толпой хлынули за ним.
Пятая французская с шумом рассаживалась в полукруглых рядах круто уходящего к потолку амфитеатра. По установившейся еще с первого курса традиции в первом ряду всегда одиноко восседал староста группы Леха Белов; за ним, во втором ряду, помещались Степан Волков, Рафик Салахян и Фарид Гафуров; средние ряды занимали обычно девицы, а уж зато на самый последний ряд под потолком не мог претендовать никто, кроме Боба Чудакова, Карпо, Эрика Дарского и уж, конечно, самого Пашки Пахомова.
Тимофей Голованов стоял внизу возле трибуны, с которой университетские профессора и доценты читали студентам факультета журналистики свои зажигательные лекции. На фоне грифельной доски Тимофей (темный костюм, белая рубашка, галстук) выглядел весьма внушительно. Значительность его позы подчеркивала большая коричневая папка делегата комсомольской конференции. С выражением снисходительной терпеливости групкомсорг наблюдал за своими непоседливыми подопечными.
Наконец, все расселись по местам и угомонились. Голованов положил перед собой на трибуну делегатскую папку и вытащил из нее несколько исписанных листов бумаги.
— Товарищи, — проникновенно начал Тимофей, — на повестке дня нашего сегодняшнего комсомольского собрания два пункта. Первое: об участии нашей группы в работе курсовых агитбригад на строительстве нового здания университета на Ленинских горах. И второе: разное.
При слове «разное» сидевший в последнем ряду между Бобом Чудаковым и Юркой Карпо Пашка Пахомов саркастически усмехнулся. Уж кто-кто, а Пашка прекрасно знал, что на каждом собрании лучший друг затевает «разное» только для того, чтобы лишний раз пропесочить Пашкину крамольную личность.
Свое сообщение по первому пункту повестки дня Тимофей Голованов начал издалека. Сначала он рассказал об опыте работы агитбригад, о которых говорилось на районной комсомольской конференции. Потом рассказал об опыте работы агитбригад, о которых говорилось на вузовской комсомольской конференции. Потом он рассказал об опыте работы агитбригад, о которых говорилось на факультетской комсомольской конференции.
И только подробно и обстоятельно изложив все это, он начал говорить об опыте работы агитбригад на их собственном четвертом курсе.
— Агитбригады нашего курса работают на строительстве новых зданий университета на Ленинских горах пока еще очень плохо, — сурово говорил Тимофей, и в голосе его звучал металл непримиримости к этому отстающему участку комсомольской работы. — Не составляет исключения в этом вопросе и агитбригада нашей пятой французской группы. Половина наших агитаторов в этом году еще ни разу не была на строительстве нового здания. Как можно оценить этот факт? Только как нашу собственную безответственность, перерастающую в беспринципность. Можно ли дальше терпеть такое положение? Дальше такого положения терпеть нельзя. Я предлагаю ликвидировать это отстающее звено нашей комсомольской работы. А вытащив одно звено, мы вытащим всю остальную цепь. Нам нужен аврал. Да, да, самый настоящий аврал. Я предлагаю, чтобы сегодня, после окончания занятий, вся наша группа, как один человек, без исключения — подчеркиваю, без исключения! — выехала на строительство нового здания университета и выполнила свой комсомольский долг.
Ах, какой тут шум поднялся в шестнадцатой аудитории! Пятая французская сверхбурно реагировала на любимый лозунг своего комсомольского вожака «все как один, без исключения». Причем наиболее активно выступала, конечно, женская часть собрания.
— Я не могу сегодня после занятий! — драматическим контральто кричала Светка Петунина. — У меня репетиция! Я сегодня Наташу Ростову художественному совету клуба должна показывать!
— И я не могу сегодня! — кричала Галка Хаузнер, по прозвищу Кляузнер. — Почему заранее нельзя было предупредить? Хотя бы за два дня? Ко мне сегодня родственники из Ростова должны приехать!
— И мы тоже не можем сегодня, — высказались вместе Инна и Жанна. — У нас сегодня весь вечер абсолютно занят.
— А почему именно сегодня? — внесла свою лепту в общую сумятицу Изольда Ткачева и тут же дипломатично добавила: — Разве нельзя выбрать какой-либо другой день?
Потом в обсуждение выдвинутого предложения включилась и мужская часть собрания.
— Опять аврал, — басом изрек из последнего ряда Юрка Карпинский. — У других людей, все как у людей, а у нас сплошные авралы.
— Я, например, сегодня в концерт иду, — заявил Боб Чудаков, — повышаю свой, так сказать, культурный уровень. И вот на тебе!
— А у меня сегодня ответственное заседание литературной студии! — темпераментно сказал Рафик Салахян. — Разве могу я пропустить ответственное заседание литературной студии?
— В шведском языке есть прекрасная поговорка, — привел иностранный пример невозмутимый башкирский вундеркинд Фарид Гафуров. — Все хорошие дела делают только не торопясь.
Тимофей Голованов, философски скрестив на груди руки, терпеливо наблюдал за аудиторией. Пока высказала свои доводы против аврального похода наиболее несознательная, с точки зрения комсорга, часть пятой французской группы. Тимофей ждал поддержки со стороны сознательных комсомольцев. И эта поддержка не замедлила последовать.
— Товарищи, — встал в первом ряду демобилизованный старшина Леха Белов и согнал за спину складки своей гимнастерки, выцветшей от долгой и безупречной армейской службы. — Как-то нехорошо сегодня у нас получается, недисциплинированно. Товарищ Голованов выдвинул предложение. Надо его обсудить, а не кричать, как цыгане на базаре. Все-таки дисциплину надо соблюдать. Дисциплина должна быть во всем. Дисциплина и порядок.
— Каждый только об себе печется, — тряхнул русой головой выходец из глубин Псковской области Степан Волков. — Один на концерт бежит, будто рояля никогда в жизни не видел. Другая тетку из Ростова обнять торопится, будто тетка последний день на земле живет. А ведь там, на строительстве, нас люди ждут. Многие из деревень приехали, образования пока не имеют. Им с нами поговорить хочется, узнать, как и чего в разных странах делается, живое слово от нас услышать. Так неужто мы не подсобим людям глаза шире на белый свет открыть? Неужто от богатства нашего, от профессоров наших да от лекций услышанных ничем с ними не поделимся?
— Товарищи! — качнулась, изгибая стройную талию, Сулико Габуния. — Волков правильно сказал: каждый, кто отказывается ехать сегодня на стройку, думает только о личных интересах. Но ведь мы же прежде всего комсомольцы, а уж потом любители музыки, театра, литературы и своих собственных родственников.
Аудитория дружно захохотала. Смеялись все, даже те, кого задела своей шуткой Сулико.
— Мы все будущие журналисты, — напористо продолжала Сулико, — поэтому встречи и разговоры с рабочими, строящими такое огромное и современное здание, как дворец науки на
Ленинских горах, это не только наш прямой комсомольский долг, но и наша будущая профессия. Так что же нам интереснее — пить чай с тетушкой из Ростова или изучать судьбы и проникать в интересы тех людей, о которых нам в будущем придется писать на страницах газет и журналов? Разве это не интересно — знать, как живут и работают, о чем думают современные рабочие и строители?
— А кто говорит, что неинтересно? — подал голос из последнего ряда сын знаменитого кинорежиссера Эрик Дарский. — Давайте рассуждать логически. Надо прежде всего выяснить — почему Голованов выбрал именно сегодняшний день? Если есть в этом какой-то смысл, надо ехать сегодня. Если нет, можно назначить и на другой день.
— Прошу слова! — метнулась к трибуне тоненькая фигурка Оли Костенко.
Она встала около скрестившего на груди руки, серьезного и важного Тимофея Голованова, и вся пятая французская группа невольно заулыбалась. Тимофей был строг и хмур. В своем темном, наглухо застегнутом костюме он был похож почти на профессора комсомольских наук, а Оля в полудетском синем платье с белым отложным воротничком напоминала скорее школьницу-отличницу из десятого класса на выпускном экзамене, так юна, свежа и непосредственна была она, таким розовым румянцем пылали ее круглые щеки, такими искренними блестками искрились ее живые и добрые глаза.
— Ребята! — весело, звонко и радостно начала Оля, и в шестнадцатой аудитории сразу стало тихо, потому что все знали — Костенко всегда говорит интересно и дельно. Все помнили также и о том, что еще в школе в своем Ставропольском крае Ольга Костенко была одной из лучших старших пионервожатых страны и за это ее избрали тогда делегаткой на всесоюзный комсомольский съезд.
— Ребята, — повторила Оленька, и голос ее дрогнул, как будто она собиралась сказать сейчас о чем-то самом главном в своей жизни, — мне кажется, что наше собрание пошло сейчас куда-то не в ту сторону. Мы начинаем обвинять друг друга. Одни считают важным для себя одно, другие — совсем другое. Но для человека все важно — и пить чай с тетушкой из Ростова, и слушать концерт, и репетировать любимую роль, и читать свои стихи в литературной студии. И совсем не надо противопоставлять все это нашей комсомольской работе. Я повторяю, все важно в человеческой жизни — и личное и общественное. И поэтому сейчас не нужно обвинять друг друга, не нужно выяснять — кто прав, а кто неправ. Гораздо важнее выяснить другое. В одних случаях мы получаем удовольствие от поступков, которые делаем только для себя. В других случаях мы получаем удовлетворение от дел, которые совершаем для других. Я предлагаю сейчас каждому подумать и дать ответ прежде всего самому себе: что вообще в жизни приносит тебе больше удовлетворения — первое или второе? И может быть, не надо употреблять здесь такое слово, как «аврал». От него пахнет каким-то пожаром или стихийным бедствием. А ведь мы не горим и не тонем, нас насильно никто никуда не гонит. Мы сами— и вместе и каждый по себе — решаем наши дела.
И застучала каблучками, возвращаясь на свое место.
Пашка Пахомов смотрел сверху из последнего ряда на Ольгу Костенко, и она чем-то напоминала ему баскетболистку Славку. «Вот ведь сижу здесь, — думал Пашка, — слушаю всякие возвышенные слова о сочетании личного и общего счастья, а на кафедре физкультуры, наверное, только и разговоров сейчас, как о моей вчерашней игре против мастеров. А я ничего этого и не слышу. Обидно».
Вообще-то говоря, Пашка Пахомов испытывал к Оле Костенко некие симпатии. Но все это было очень неопределенно и расплывчато, потому что такие же симпатии Пашка испытывал, например, и к пышноволосой блондинке Руфе, и к надменной синеокой красавице Изольде Ткачевой, и даже к воображале Светке Петуниной.
Справедливой истины ради надо было бы, конечно, сказать, что за годы своего пребывания в «хиве» Пашка Пахомов так и не сумел до конца выяснить для себя вопрос, какое место в его жизни должна занимать женская половина человечества. Напряженное «хивинское» бытие на кафедре физкультуры не оставляло совершенно никакого времени для твердых сердечных привязанностей.
И тем не менее Пашка иногда увлекался девицами как со своего факультета и курса, так и с других факультетов. Но увлечения эти и начинались и заканчивались в основном внутри Пашкиного сердца, прочно отданного кафедре физкультуры вообще, и баскетболу в частности.
Но как уже было сказано выше, к Оле Костенко Пашка Пахомов хотя и «заочно», но некоторые постоянные симпатии все-таки испытывал. И поэтому во время ее выступления Пашка, который в обсуждении проблемы аврала никакого участия не принял — он берег силы для «разного», — внимательно наблюдал за Оленькой из своего последнего ряда.
…Тишину нарушила пышноволосая и пышная во всех отношениях Руфа.
— Товарищи, — лирическим грудным сопрано заявила Руфа, — я предлагаю поставить на голосование два предложения: первое — не ехать сегодня всей группой на стройку, и второе — ехать сегодня всей группой на стройку.
— Кто за то, чтобы голосовать за поступившие предложения? — обратился к собранию долго молчавший Тимофей Голованов.
Взметнулись руки.
— Итак, кто за то, — сурово произнес Тимофей, — чтобы не ехать сегодня всей группой на строительство нового здания университета на Ленинских горах?
Поднялись три руки — Боба Чудакова, Рафика Салахяна и Галки Хаузнер.
— Трое, — торжественно и одновременно злорадно отметил групкомсорг Голованов, — всего трое…
Голос групкомсорга окреп.
— Теперь ставлю на голосование второе предложение… Кто за то, чтобы всей группой ехать сегодня на строительство нового здания университета на Ленинских горах?.. Считаю: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать… Абсолютное большинство!
Пашка Пахомов, внимательно наблюдавший за Олей Костенко, мечтательно задумался, улетел мыслями куда то в заоблачные дали и по этой немаловажной причине участия в голосовании как по первому предложению, так и по второму, конечно, не принял.
Но в это время сияющая Оленька обернулась к последнему ряду, за который она боялась больше всего, и почти одновременно с этим раздался голос групкомсорга. Тимофей Голованов, соблюдая до конца все правила демократического централизма, которые он в избытке радостных чувств по поводу торжества массовой комсомольской сознательности своей группы чуть было не нарушил, «снял» Пашку с его розовых небес:
— Кто воздержался?
И Пашка Пахомов, так толком и не поняв, за что он голосует, возвращенный «обратно» в шестнадцатую аудиторию лишь поворотом Оленькиной головы и зычным тимофеевским голосом, автоматически поднял руку.
Собрание захохотало навзрыд. Смеялись вез, даже те, кто голосовал против аврала.
— Ну, Пахом, ну ты даешь! — булькал рядом с Пашкой Боб Чудаков.
— Пахом, как всегда, в своем репертуаре! — веселился бывший балетный танцор Юрка Карпинский.
— Зачем человека разбудили? — умирал со смеху Фарид Гафуров. — Человеку, может быть, хороший сон снился, а вы его голосовать заставили!
— Ну чего вы к нему пристали? — возмущался во втором ряду справедливый Степан Волков. — Ну, воздержался и воздержался. Чего тут смешного?
— А когда он не воздерживался? — съехидничала Галка Кляузнер. — Я такого случая что-то и не помню.
Остальные девицы, кроме Оли Костенко и Изольды Ткачевой, дружно подхихикнули Галке. Оля догадывалась о тайных Пашкиных симпатиях в свой адрес, а Изольда вообще никогда не смеялась и даже не улыбалась — берегла лицо от морщин.
— А ты, Кляузнер, молчи! — набросился на Галку Рафик Салахян. — Человек, может быть, стихи сочинял, а вы тут ржете, как лошади на конюшне!
Рафик знал о том, что когда-то Пахомов, еще на первом курсе, в бытность свою не Пашкой, а Павликом, тяготел к сочинительству и написанию на чистом листе бумаги зарифмованных строчек — это и привело золотого медалиста Пахомова на факультет журналистики. И поэтому теперь, в силу поэтической солидарности, защищал бывшего товарища по цеховой принадлежности от грубых нападок однокурсников.
— Тихо, товарищи, тихо! — миротворящим жестом поднял на кафедре обе руки Тимофей Голованов. — Первый пункт нашей повестки исчерпан. Абсолютным большинством голосов принято решение ехать сегодня на стройку всей группой. После окончания последнего часа занятий все собираются около раздевалки и оттуда коллективно следуют на Киевский вокзал, где мы садимся в электричку и едем до станции «Матвеевская», от которой я поведу вас кратчайшей дорогой через овраг к поселку строителей университета…
— …а теперь переходим ко второму пункту нашей повестки, — продолжал Тимофей Голованов. — Товарищи, вчера меня вызывали к декану нашего факультета…
— К самому декану?! — в один голос ахнули Инна и Жанна.
Для них это была совершенно фантастическая по своей недоступности инстанция.
— Как вы уже, наверное, все догадываетесь, — продолжал Тимофей, — речь шла о студенте нашей группы Павле Пахомове. Число пропущенных лекций и семинарских занятий дошло у Пахомова до астрономической цифры…
«Вот он зачем вчера на кафедру физкультуры приходил. И ведь не сказал, что к декану из-за меня вызывали. У, змей», — беззлобно подумал про себя Пашка, который, конечно, был обижен на родную комсомольскую группу за то, что она подвергла его, когда он воздержался при голосовании, такому неслыханному конфузу и осмеянию, но теперь, после сообщения о вызове групкомсорга к декану, обижаться было уже некогда — Пашка весь обратился в слух и внимание.
— Декан просто ужаснулся, когда один из работников деканата положил перед ним справку о количестве пропущенных Пахомовым занятий за три с половиной года, проведенных в университете, — продолжал Тимофей Голованов. — «Вырисовывается такая картина, — сказал мне декан, — что студент Пахомов все эти три с половиной года в университете практически как бы и не обучался…»
«А все Глафира наябедничала», — подумал про себя Пашка.
— «Но позвольте, — сказал мне декан, — каким же тогда образом ухитрился этот ваш Пахомов сдать все экзамены и зачеты за три курса? Ведь он же не слушал до конца ни одного курса лекций, не занимался толком ни в одном семинаре. Ведь это же сплошная липа получается, все его сданные экзамены и зачеты. Выгнать его надо немедленно из университета!»
«Ну и пускай выгоняет, — уныло подумал про себя Пашка, — в баскетбол буду играть, мастером спорта стану, не пропаду».
— Декан также сообщил мне, — продолжал Тимофей, — что он поручает работникам деканата подготовить проект приказа об отчислении Пахомова из университета. «Одновременно, — сказал декан, — я буду просить все наши комсомольские организации — факультетское бюро, курсовое бюро и вашу пятую французскую группу— обсудить персональное дело студента Пахомова. Решение об исключении Пахомова будет принято на основании решений всех названных комсомольских инстанций».
«Курсовое бюро. Факультетское бюро. Персональное дело, — подумал про себя Пашка. — Это уже что-то новенькое. Пожалуй, такого «разного» не было еще ни разу».
— Сегодня нам предстоит решить вопрос о том, на какой день мы назначим обсуждение персонального дела Пахомова, — продолжал Тимофей Голованов. — Докладчиком как групкомсорг, наверное, должен быть я. Прошу высказать свои мнения, товарищи комсомольцы.
Пятая французская молчала.
Конечно, все знали, что нахальное Пашкино поведение по отношению к деканату рано или поздно вызовет ответный гром небесный, то есть строгие карательные меры. Но меры эти представлялись всем максимум в форме «самого что ни на есть последнего строгого выговора с самым что ни на есть последним строгим предупреждением». Все-таки перебирался же студент Пахомов с курса на курс — с грехом пополам, но перебирался. Тем более удивил всех холодный и бесстрастный тон групкомсорга Голованова, которым тот «подвешивал топор» персонального дела над головой своего лучшего друга.
— Ну, что же вы молчите, товарищи комсомольцы? — суконным голосом спросил Тимофей Голованов. — Я, кажется, ясно поставил вопрос: на какое число назначаем мы обсуждение персонального дела Пахомова?
У Пашки вдруг как-то нехорошо сделалось на душе. До сегодняшнего утра и буквально до последней минуты ему казалось, что последняя черта все же не так близка. Да, конечно, он сам все сделал для того, чтобы истощить всякое терпение деканата. Но теплилась все-таки, всегда теплилась в продувной Пашкиной душе некая нереальная мысль об отдаленности давно заслуженного им решающего наказания, не угасал луч надежды на разлитую будто бы в окружающей атмосфере некую всеобщую гуманность и всепрощающую справедливость.
И вот теперь луч этот гас, надежды остывали, справедливое возмездие приближалось стремительно и неотвратимо.
— У меня есть вопрос, — раздался неожиданно в тишине голос Бориса Чудакова. — Почему мы должны сразу назначать день обсуждения персонального дела Пахомова? Может быть, мы сначала обсудим другой вопрос — стоит ли такое дело начинать вообще?
— Стоит, — четко ответил Тимофей Голованов. — Есть твердое указание разобрать персональное дело Пахомова.
— Чье указание? — крикнул из последнего ряда Юрка Карпинский.
— Деканата и лично декана, — ответил Тимофей.
— Деканат, а тем более лично декан не могут давать комсомольской группе никаких твердых указаний, — встал с места Эрик Дарский. — Комсомольская группа сама должна решать вопрос о персональных делах своих комсомольцев.
— Вот мы сами и решаем этот вопрос, — поднялся в первом ряду староста группы Алексей Белов. — Вчера Пахомов пропустил шесть часов лекций и два часа семинарских занятий. Позавчера — четыре часа лекций и два семинара подряд. В понедельник— целых три лекции. Что же это, товарищи, получается? А получается весьма печальная картина— двадцать два часа только за первые три дня недели. А сколько раз приходил Пахомов на лекции на прошлой неделе? Всего один раз… Так вот, я вас спрашиваю, товарищи комсомольцы, разве этого недостаточно для того, чтобы возбудить против Пахомова персональное дело за его недисциплинированность?
— Ты еще уголовное дело против него возбуди! — крикнул Рафик Салахян.
— Я поддерживаю предложение Белова о персональном деле Пахомова, — сказал Степан Волков. — Государство отпускает средства на наше образование, профессора читают нам лекции, чтобы расширять наш кругозор. А что делает в это время Пахомов? Он эти средства пускает на ветер, он свой кругозор расширять не желает. Зачем же он тогда числится в университете? Зачем занимает место среди студентов нашего факультета? Ведь он же совсем не использует право на образование, которое бесплатно дает ему государство. Так, может быть, этим правом на бесплатную учебу воспользуется кто-нибудь другой? Может быть, на эти денежки поучится какой-нибудь парень или девушка, которых папа с мамой способностями не наградили, которые золотых медалей не получили, н. о которые хотят учиться, хотят лекции слушать, на семинарах заниматься и приобретать знания?
— Молодец, Степан, правильно! — крикнула Сули-ко Габуния. — Хватит нам с Пахомовым нянчиться, хватит его на руках носить! Он взрослый мужчина, а не мальчик, и должен нести ответственность за свое поведение. Мы все видим — Пахомов совершенно не хочет учиться. И прав был декан, когда сказал, что все сданные Пахомовым экзамены — сплошная липа! Разве мы не знаем, как сдавал их Пахомов? Все это происходило на наших глазах. Пахомов морочил головы преподавателям, требовал вопросы на сообразительность и не знал никакого конкретного материала. Но когда мы окончим факультет журналистики и начнем работать в газетах и журналах, от нас будут требовать знаний, а не умения сдавать на халтуру экзамены. А таких знаний у Пахомова никогда не было и не будет. Я поддерживаю предложение о разборе персонального дела Пахомова.
— Разрешите мне? — поднял руку Боб Чудаков и, быстро сбежав вниз, встал рядом с Тимофеем Головановым. — Я смотрю, у нас здесь все жутко принципиальные люди собрались. Разве это собрание? Это же утро стрелецкой казни, а не собрание. Выбрали одного человека и долбим его кувалдой по голове: ты и такой, ты и сякой, и при голосовании воздержался, и экзамены сдаешь на халтуру. Ужас, а не человек! Просто демон какой-то с хвостом и рогами… А мы все сами ангелы, да? У нас крылья расти начали? Лопатки на спине болят? Да кто из вас ни разу не халтурил на экзаменах? Кто ни разу шпаргалкой не пользовался? Поднимите руку!.. То-то и оно. И поэтому не надо, дорогие товарищи однокурсники, все на одного человека сваливать. Сначала на самих себя надо посмотреть, а потом уж других воспитывать. Как говорится, в чужом глазу соломинку увидели, а в своем!..
И, не закончив мудрое изречение, Боб Чудаков с досады махнул рукой и рысью взбежал к потолку, в свой последний ряд.
А навстречу ему уже мчался к трибуне Юрка Карпинский.
— Сулико Габуния говорила здесь о нашей будущей профессии, — безо всяких вступлений начал Карпо. — Так вот и я хочу об этом поговорить. Вчера у нас была лекция по политэкономии. На ней нам рассказывали о прибавочной стоимости. Скажи мне, пожалуйста, Сулико, если в будущей твоей газете, где ты станешь работать, тебе предложат написать статью о прибавочной стоимости — хватит тебе только тех знаний, которые ты получила на вчерашней лекции?
— Карпинский, ты уводишь собрание не в ту сторону, — строго сказал Тимофей Голованов. — На что ты намекаешь, когда говоришь о прибавочной стоимости?
— А намекаю я вот на что, — поучительно поднял вверх указательный палец правой руки Карпо. — Скажем, Боб Чудаков хочет в своей будущей журналистской жизни заниматься проблемами музыки. Имеет он на это право? По-моему, да. Боб сам играет на рояле, хорошо знает ноты, разбирается во всяких там гармониях, сольфеджиях и прочих фа-диезах. А где он узнал об этом? На лекциях? Как бы не так! Он сам всем этим интересуется, на концерты ходит, специальную литературу изучает. Вот это и есть та самая прибавочная стоимость, те самые знания, которые он в своей будущей работе будет использовать.
— А какое имеет отношение то, о чем ты говоришь, — нахмурился Голованов, — ко второму пункту нашего собрания?
— Самое прямое. Пахомова ругают за то, что он увлекается спортом и слишком много времени проводит на кафедре физкультуры. А может, он хочет стать после окончания нашего факультета спортивным журналистом? Где же он еще сможет изучить проблемы спорта, как не на кафедре физкультуры? Ведь нам-то лекций о спорте никто не читает…
— Оставь ты свою демагогию, — поморщился Тимофей. — Для того, чтобы изучать проблемы спорта, совсем не обязательно пропускать лекции. Почему это проблемы спорта нужно изучать именно во время лекций по политэкономии или диалектическому материализму?
Слова попросила Изольда Ткачева. Одернув свой модный заграничный костюм (Инна и Жанна так и впились пламенными взглядами в иностранное швейное изделие), Изольда вышла на трибуну и гордо вскинула голову — гордость была главной чертой характера студентки Ткачевой.
— Товарищи, — сказала Изольда, — я предлагаю взглянуть на проблему, которую мы сейчас обсуждаем, с двух точек зрения. С одной стороны, Павел Пахомов действительно очень плохо посещает занятия. Он редко бывает на лекциях и не ведет никаких конспектов. В этом году я не видела его почти ни на одном семинаре. Но, с другой стороны, Пахомов действительно сдает все экзамены и зачеты. Как объяснить этот парадокс, я не знаю. Но тем не менее он существует, этот парадокс. Поэтому я и предлагаю обсудить проблему Пахомова с двух точек зрения. С одной стороны…
— Конкретно! — крикнула Светка Петунина. — Что ты предлагаешь конкретно?
Изольда гордо передернула плечами, фыркнула и сошла с трибуны. Она принципиально не терпела, когда ее перебивали во время выступления. Принципиальность была второй главной чертой характера студентки Ткачевой.
Место Изольды немедленно заняла Светка Петунина.
— То-ва-ри-щи!.. — взвыла Светка надломленным голосом.
Ей казалось, что именно так должна была выступать на комсомольском собрании сама Наташа Ростова, если бы она была не только графиней, но одновременно еще и комсомолкой.
— Товарищи! — в немом восторге перед трагичностью своего голоса закинула назад голову Светка и несколько секунд молча смотрела в потолок прямо над собой. — Мы решаем сейчас человеческую судьбу. На многие месяцы, а может быть, даже на годы вперед мы определяем сейчас жизнь человека, который три года учился вместе с нами. Когда Лев Толстой был зеркалом русской революции, он открыл законы диалектики человеческой души. Заглянем в душу Павла Пахомова. Что мы увидим там? Мы увидим там тоже диалектику души. Своеобразную, но диалектику — единство и борьбу противоположностей, переход количества в качество и, может быть, даже отрицание отрицаний. Передо мной выступала Изольда Ткачева, и она была абсолютно права, когда сказала, что на проблему Пахомова нельзя смотреть с одной точки зрения — исключить, мол, и все. Нет, на проблему Пахомова надо смотреть с двух точек зрения, то есть диалектически. Когда Лев Толстой…
— …был зеркалом русской революции! — хором крикнули из последнего ряда Боб Чудаков и Юрка Карпинский.
— Вот именно, — радостно подтвердила Светка, — когда он был им, он говорил, что в человеке все должно быть прекрасно…
— Это Чехов говорил, а не Толстой! — закричал Эрик Дарский.
— Не имеет зна-чей-ния! — снова завыла Светка надломленным голосом. — Тем более мы не должны исключать Пахомова из университета!
— Петунина, ты, как всегда, все путаешь, — степенно сказал Тимофей Голованов. — Речь пока идет не об исключении Пахомова, а об его персональном деле,
Светка махнула на групкомсорга рукой и сошла с трибуны.
— Кто еще просит слова? — спросил Тимофей.
— Дай скажу, — поднял руку Фарид Гафуров. — Я с места буду говорить. Не надо никакого персонального дела! Что мы, первокурсники, что ли? Почему нам должен кто-то приказывать? Хотя бы даже декан факультета?
— А я что говорил? — крикнул из последнего ряда Эрик Дарский.
— Надо голосовать, — кратко закончил свое немногословное выступление Фарид Гафуров. — Я против персонального дела.
— Рано голосовать, — возразил Тимофей, — еще не все высказались.
На трибуну поднялась Руфа.
— Я за персональное дело, — кокетливо качнув своей замысловатой прической, сказала Руфа.
— Доводы! — крикнул Юрка Карпинский. — Какие у тебя есть доводы?
— У меня нет никаких доводов, — близоруко сощурилась Руфа, — я за персональное дело без всяких доводов. Пахомов — прогульщик, его поведение бросает тень на всю нашу группу.
— А я против персонального дела! — яростно вскочила с места Галка Хаузнер-Кляузнер.
Вся пятая французская знала, что маленькая, худая и коротко стриженная Галка всей душой ненавидит пышноволосую и вообще пышную во всех отношениях Руфу. И поэтому никто даже не стал спрашивать у Хаузнер, почему она против. Причина была и так ясна. За три с половиной года, проведенных в одной группе, Галка ни разу и ни в чем не согласилась с Руфой. На любом собрании, на любом семинаре Галка всегда была против любых предложений и высказываний Руфы. Сердце невзрачной и щуплой Галки сжигала ненависть к красавице Руфе, и, собственно говоря, именно это прискорбное биологическое обстоятельство и было главной Причиной возникновения и закрепления за Галкой Хаузнер ее прозвища — Кляузнер.
— Хорошо, Хаузнер, садись, мы тебя поняли, — миролюбиво погасил возможный конфликт Тимофей Голованов.
Тимофей пытливо смотрел в список комсомольцев своей группы. Выступили по второму пункту повестки дня вроде бы все — против каждой фамилии у Тимофея был поставлен крестик. Оставалась только одна Оля Костенко. Ее-то Голованов и побаивался больше всего. Он знал, что Оля с ее богатым комсомольским опытом — все-таки делегатом всесоюзного съезда была — может в любую минуту повернуть собрание на сто восемьдесят градусов.
— Костенко, — напряженно спросил групкомсорг, — а ты почему молчишь? Ты за персональное дело или против?
Оля тихо спустилась вниз.
— Ребята, — начала она странным и каким-то непохожим на свой собственный голосом, — мы учимся вместе три с половиной года, но сегодня я будто в первый раз увидела некоторых из вас, и мне, откровенно говоря, стало как-то не по себе, как-то грустно сделалось на сердце. Ну почему мы каждый раз превращаем комсомольское собрание в судебное разбирательство? Ведь мы же не милиция и не прокуратура. Кто дал нам моральное право фабриковать персональное дело Пахомова как основу для его будущего исключения из университета? Ведь это уже получается не только персональное дело, а просто настоящее обвинительное заключение!
В шестнадцатой аудитории стало тихо-тихо.
— А во всем виноват ты, — повернулась Оля Костенко к Тимофею Голованову. — Это ты с самого начала дал собранию неверное направление. Ты как бы заранее предрешил судьбу Пахомова: деканат, мол, его все равно исключит, и поэтому нам, то есть комсомольскому собранию, остается только бумажку для деканата приготовить — протокол обсуждения персонального дела, на основании которого декан подпишет приказ об отчислении. Почему же ты оказался таким черствым человеком, Голованов? Ведь Пахомов считается твоим другом…
— Разговор сейчас идет не о том, кто кому друг, — надменно поднял вверх подбородок Тимофей, — а о персональном деле Пахомова. Говори прямо — ты за персональное дело или против?
— Ты так ничего и не понял, о чем я говорила, — тяжело вздохнула Оля Костенко.
Несколько секунд она молча и пристально смотрела на групкомсорга.
— Ну, ладно! — вдруг сделала решительное движение рукой Оля. — Придется, видно, Голованов, разговаривать с тобой на другом языке.
Она резко повернулась к аудитории.
— Товарищи комсомольцы, — бодрым и немного официальным голосом заговорила Ольга Костенко, — комсорг нашей группы Голованов сформулировал второй пункт повестки дня нашего собрания так: на какое число назначаем мы разбор персонального дела комсомольца Пахомова? В ходе обсуждения формулировка этого пункта изменилась, потому что мнения выступавших разделились — большинство. поставило под сомнение целесообразность персонального дела Пахомова вообще. Таким образом, появились, два. новых предложения. Первое: персональное дело Пахомова разбирать надо. И второе: персонального дела Пахомова разбирать не надо, или, говоря другими словами, такого дела начинать вовсе не следует. Правильно я говорю?
— Правильно, правильно! — загудела аудитория.
— Насколько я разбираюсь в правилах проведения первичных комсомольских собраний, — продолжала Костенко, — такое изменение первоначальной формулировки повестки дня Уставу комсомола не противоречит. — Она повернулась к Тимофею. — Вы не находите нарушения Устава в этом изменении, товарищ Голованов?
— Нет, не нахожу, — с достоинством ответил Тимофей.
— Ребята, — снова обратилась Оля к аудитории своим обычным веселым голосом, — а не кажется ли вам, что мы уже об, судили персональное дело Пахомова? Не формально, не в официально назначенный день и не в соответствии с заранее намеченной повесткой дня, а просто так, непроизвольно, в ходе естественного развития нашего комсомольского собрания? Ведь каждый комсомолец уже высказал свое мнение о Пахомове. Так зачем же нам заниматься формализмом и назначать какой-то особый день, когда мы уже имеем сложившееся мнение всей нашей группы о Пахомове?
В шестнадцатой аудитории повисла многозначительная тишина. Все поняли — что-то произошло. В затеянной Тимофеем громоздкой процедуре предварительного назначения дня собрания по персональному делу Пахомова образовалась какая-то трещина. Умная и опытная в комсомольских делах Оля Костенко сократила многоэтажный бюрократический «проект» групкомсорга Голованова до простейшего вида, до понятной и до конца ясной всем сути дела.
— Что же ты предлагаешь конкретно? — нахмурился Тимофей.
— Я предлагаю, — радостно начала Оля Костенко, и голос ее опять зазвучал так, как будто она собиралась сказать сейчас о чем-то самом главном в своей жизни, — я предлагаю исключить слова «персональное дело» из повестки дня нашего собрания вообще. Я предлагаю проект решения по второму пункту записать в такой редакции: комсомольское собрание пятой французской группы, обсудив поведение студента Пахомова, объявляет ему за неоднократное нарушение учебной дисциплины, пропуски лекций и семинарских занятий строгий выговор без занесения в учетную карточку. Комсомольское собрание пятой французской группы считает возможным ходатайствовать перед деканатом об оставлении Пахомова в числе студентов факультета журналистики. Комсомольское собрание пятой французской группы берет на себя ответственность за дальнейшую учебную дисциплину студента Пахомова и возлагает на всех членов группы контроль за исполнением этого решения, а также коллективно обязуется в том, что впредь студент Пахомов без уважительных причин не пропустит ни одной лекции и ни одного семинара.
Оля перевела дыхание и добавила:
— Но этот проект решения станет нашим официальным решением только в том случае, если Пахомов встанет сейчас и скажет, как он относится к высказанным сегодня критическим замечаниям в его адрес. Мы должны убедиться в том, что Пахомов сделал правильные выводы из той критики, которая прозвучала здесь по поводу его поведения.
— Кто за то, чтобы по второму пункту повестки дня была поставлена на голосование формулировка, предложенная Костенко? — поспешно и вроде бы даже слишком поспешно обратился к собранию Тимофей Голованов.
За предложенную Олей Костенко формулировку почему-то голосовали все, даже недавние самые суровые Пашкины обвинители — в том числе и Леха Белов, и Степан Волков, и даже Сулико Габуния.
— Единогласно, — удовлетворенно и вроде бы даже слишком удовлетворенно, к немалому удивлению собрания, констатировал просиявший вдруг неожиданно для всех Тимофей Голованов.
И, глядя на своего групкомсорга, впервые улыбнувшегося за целый час собрания, просияла вслед за Тимофеем и вся пятая французская. И в самом деле, зачем нужно было назначать какой-то особый день для разбора персонального дела Пахомова, когда такой разбор уже произошел? Умница Оля Костенко тонко подметила и четко объяснила эту ускользнувшую от всеобщего внимания особенность сегодняшнего собрания. И нужно ли оно вообще, это злополучное персональное дело, когда и так уже все ясно, когда общее мнение группы о Пахомове действительно уже сложилось? Теперь все зависит только от самого Пахомова. Понял ли он достаточно глубоко то, о чем говорилось сегодня на собрании? Принял ли близко к сердцу критические замечания, высказанные в его адрес? Умница Оля Костенко очень здорово поставила в прямую зависимость результаты предстоящего голосования от позиции самого Пахомова. Убедят его слова пятую французскую, что группа не зря ходатайствует перед деканатом? Если убедят, тогда результаты голосования будут одни. Не убедят — совсем другие.
— Павел, — торжественно и строго, словно государственный обвинитель, дающий особо опасному преступнику последнюю возможность спасти свою криминальную жизнь, сказал Тимофей Голованов, — тебе предоставляется слово…
Пашка, просидевший как бы в прострации всю вторую половину собрания, встал и молча уставился на лучшего друга. Сказать, что студент Пахомов был удивлен или озадачен всем происшедшим, значило бы не сказать ничего. Когда его ругали и клеймили позором Леха Белов, Степан Волков и Сулико Габуния, Пашка, в общем-то, был спокоен. Ничего другого именно от них он и не ожидал. Когда его изощренно защищали, прибегая ко всяческим выкрутасам и хитростям, Боб Чудаков, Юрка Карпинский и Эрик Дарский, Пашка тоже был спокоен — Боб, Эрик и Карпо считались все-таки его друзьями-приятелями.
Но когда обсудить «проблему Пахомова» с двух точек зрения предложила холодная синеокая красавица Изольда Ткачева, когда со своей «диалектикой души» нелепо вылезла на трибуну Светка Петунина, когда Фарид Гафуров впервые произнес знаменательную фразу «никакого персонального дела не надо», когда исторгла свой нервный выкрик против персонального дела даже вздорная Галка Хаузнер, — когда случилось все это, Пашка насторожился.
Ситуация была сверхнеобычная. Пашка всегда считал, что пятая французская относится к нему, студенту Пахомову, резко отрицательно. А из-за чего, собственно говоря, пятой французской относиться к нему по-другому?
Пашка жил в «хиве», в не в группе. На девяносто девять и девять десятых процента Пашка был законченным «профессиональным» обитателем кафедры физкультуры и спорта, а не студентом пятой французской. Со своей группой он вечно ссорился, непрерывно ругался, она, группа, как бы вовсе и не существовала для него, ее делами и жизнью он откровенно пренебрегал.
И вдруг выяснилось, что не вся пятая французская относится к нему резко отрицательно. Вдруг выяснилось, что не только Карпинского, Чудакова и Дарского волнует судьба студента Пахомова. Оказалось, что судьбой этой озабочены и Фарид, и Рафик, и Светка с Изольдой, и даже Галка Хаузнер-Кляузнер.
Было от чего насторожиться.
Но самый главный удар по болезненному Пашкиному самолюбию пятая французская нанесла, конечно, в тот момент, когда вопреки строгому указанию деканата и лично самого декана единогласно проголосовала за отмену персонального дела студента Пахомова, а также за то, чтобы ходатайствовать перед деканатом об оставлении этого злополучного студента на четвертом курсе. Голосовали, забыв о своих нападках на Пашку, и Леха Белов, и Степан Волков, и Сулико Габуния, и — что было уже совершенно непонятно — сам Тимофей Голованов, идейный, так сказать, вдохновитель и строгий охранитель второго пункта повестки дня, который, как успел заметить Пашка, почему-то первый поднял руку за новую формулировку второго пункта, предложенную Олей Костенко.
Этого великодушия, этого поголовного гуманизма, этого единогласно проявленного благородства по отношению к своей, в общем-то, малопочтенной особе — столь самокритичное убеждение родилось у Пашки, естественно, уже во время собрания — студент Пахомов выдержать, конечно, не мог уже никак.
И что-то такое произошло внутри у Пашки, сдвинулась в его уме и сердце некая устойчивая конструкция. Он был уязвлен в самые потаенные глубины своего существа. Он был одновременно и унижен, и возвышен родной комсомольской группой, а если говорить совсем откровенно — впервые в своей жизни студент четвертого курса факультета журналистики Павел Феоктистович Пахомов по-настоящему испытал столь сильное коллективное воздействие всей группы на свое внутреннее состояние, главным регулятором которого до этого чаще всего были, пожалуй, только личные настроения и оценки; разве что в «хиве», благодаря коллективному характеру баскетбольного игрища, удавалось ощутить иногда похожие чувства — краткие секунды единения своего «я» с общим состоянием всей команды.
Да, перепад высот — от грозного «немедленно исключить» до ходатайства группы «об оставлении» — был слишком велик. И поэтому Пашка потерянно стоял в последнем ряду, молча глядя на возвышавшегося внизу, около трибуны, лучшего друга.
— Ну, что же ты молчишь, Пахомов? — нарушил наконец тишину Тимофей Голованов. — Мы ждем.
— Пускай вниз сойдет! — крикнул из второго ряда Фарид Гафуров. — Пускай с трибуны говорит!
Пашка уныло поплелся по ступенькам шестнадцатой аудитории вниз.
Пятая французская в шестнадцать пар любопытных зрачков с интересом смотрела на студента Пахомова, стоящего на кафедре.
Сдержанно, прямым и открытым взглядом отличника боевой и политической подготовки наблюдал за Пашкой демобилизованный старшина Алексей Белов.
Поблескивая очками (пять европейских языков все-таки не шутка), пытливо изучал Пахомова башкирский вундеркинд Фарид Гафуров.
Пышноволосая и пышная во всех отношениях Руфа смотрела на Пашку пригорюнившись, подперев по-деревенски щеку ладонью.
Инна и Жанна, непрерывно прихорашиваясь и поправляя многочисленные бантики, пряжки и пуговицы, успевали все-таки бросать иногда на Павлика (они называли его только уменьшительно-ласкательным именем) мгновенные, как булавочный угол, взгляды-бусинки.
Светка Петунина, не забывая ни на минуту о диалектике души и повторяя одновременно про себя монолог Наташи Ростовой, улыбалась Пашке своим пунцовым, восторженно-пламенным лицом.
Галка Хаузнер, злобно, по-лошадиному косясь на Руфу, все время мрачно, с заговорщицким видом подмигивала Пахомову.
Боб Чудаков рисовал в воздухе сложные нотные знаки, словно пытался передать Пашке на расстоянии музыкальную партитуру наиболее подходящего в эту ответственную минуту поведения.
Юрка Карпинский, вспомнив свои старые балетные замашки, изображал из себя «умирающего лебедя», каковым, с его точки зрения, и надлежало быть Пашке на трибуне.
И, наконец, Эрик Дарский старался облегчить трудное положение студента Пахомова показом отдельных сцен из популярных фильмов, адресуясь в основном к эре немого кино, так как безмолвное Пашкино стояние на трибуне, по мнению Эрика, наиболее полно соответствовало именно дозвуковому периоду развития кинематографа, а говоря
точнее, первому этапу существования неподвижных фотографических изображений — плохо проявленных и примитивных дагерротипов.
Одним словом, вся пятая французская по мере своих сил и возможностей старалась помочь Пахому обрести дар речи и произнести ожидаемые от него заветные слова, но Пашка безнадежно молчал.
— Так мы готовы выслушать тебя, Павел, — солидно и спокойно повторил свой педагогический призыв Тимофей Голованов. — Комсомольцы нашей группы хотят знать, какие выводы ты сделал из сегодняшнего обсуждения твоего поведения.
Пашка затравленно посмотрел на лучшего друга: групкомсорг Голованов олицетворял своим безупречным внешним видом полное соединение всех общественных и личных добродетелей. А студент Пахомов, в короткой куртке, грубошерстном свитере, помятых штанах и стоптанных ботинках, являл собой, конечно же, безрадостную картину самых глубоких противоречий между началами общественными и личными.
Пашка отвернулся от Тимофея… Оля Костенко в синем своем платье с белым отложным воротничком грустно смотрела на взъерошенного Пахома. И было в ее взгляде какое-то новое, незнакомое Пашке выражение — затаенная женская тревога за него, Павла Пахомова, отъявленного прогульщика и разгильдяя. Оля словно опасалась чего-то, словно ждала от забубённого баскетболиста неожиданной выходки, и Пашке, увидевшему в Олиных глазах это новое выражение, вдруг сделалось очень горько на душе — ни разу в жизни еще не было так горько.
— Ребята, — выдавил из себя Пашка, — ребята…
Он вдруг быстро-быстро заморгал ресницами и отвернулся.
— Да хватит вам его мучить! — визгливо крикнула, ко всеобщему изумлению, маленькая Галка Хаузнер. — Ну, что мы отцы-инквизиторы какие-то, что ли? Он уже давно все понял, пускай на место идет!
Пятую французскую словно прорвало.
— Давай, Пахом, топай сюда! — рявкнул из-под потолка Юрка Карпинский.
— Измучили малого! — поддержал его справедливый Степан Волков.
— Кончай, Голованов, утро стрелецкой казни! — поднялся в последнем ряду Боб Чудаков.
— Диалектически надо подходить к человеку! — взвыла Светка Петунина. — Когда Лев Толстой…
— Долой Голованова! — яростно перебил ее Рафик Салахян. — Это он, бюрократ, во всем виноват!
— Садись, Павел! — сделала энергичный жест рукой Сулико Габуния. — Что ты там стоишь?
— Пахомов, ну скажи хоть что-нибудь! — сердито требовала Изольда Ткачева вопреки своему твердому правилу не волноваться и не проявлять эмоций ни при каких обстоятельствах.
— Он, может быть, не все понял головой, но зато все почувствовал сердцем! — доказывала грудным голосом взволнованная Руфа.
— Голосовать надо! — с итальянским акцентом закричал Фарид Гафуров.
— Верно, голосовать! — присоединился к Фариду Эрик Дарский.
— Пашечка, бедненький! — щебетали Инна и Жанна.
— Тише, товарищи, тише! — согнал за спину складки гимнастерки Леха Белов. — Все-таки дисциплину соблюдать требуется…
— Ты будешь голосовать или нет?! — вскочила с места, обращаясь непосредственно к Голованову и буравя его горячим, ненавидящим взглядом, Оля Костенко.
Но Тимофея не так просто было сбить с намеченной линии.
— Костенко, ты противоречишь сама себе! — громко парировал групкомсорг. — Ты же сама говорила, что мы должны сначала выслушать Пахомова и убедиться, что он сделал правильные выводы!
— Он уже сделал все выводы! Он уже все понял! — посыпалось со всех сторон. — Сколько можно одного человека воспитывать? Не тяни резину, Тимоха! Ставь второй пункт на голосование!
При слове «Тимоха» групкомсорг напружинился. Неуважительно-пренебрежительное производное «Тимоха» от многозначительно-величественного «Тимофей» тревожно коснулось головановского слуха. Это был первый сигнал о том, что собрание затянулось и аудитория проявляет признаки раздражения. Как опытный комсомольский вожак Голованов сразу же принял решение — повестку дня необходимо сворачивать.
Но из разговорчивого обычно и даже болтливого Пахома сегодня не удавалось вытащить ни одного слова.
— Пашка! — с отчаянием в голосе спросил Тимофей. — Ну, почему ты все время молчишь? Неужели тебе совершенно нечего нам сказать?
Неожиданная интонация тимофеевского голоса произвела на Пашку впечатление. И, кроме того, лучший друг не произнес надменно-официальное слово «Павел», а первый раз за все собрание назвал его привычно и доверительно — Пашкой.
— Ребята, — неловко шагнул Пахом вперед, — ребята… — В горле у Пашки застрял предательский комок. — Ребята, — повторил Пашка, и на глазах у него навернулись слезы.
Легкой тенью метнулась вниз к кафедре стройная фигурка Оли Костенко.
— Голосую! — нервно крикнула Оля, обращаясь к аудитории. — Кто за то, чтобы, объявив Пахомову строгий выговор без занесения учетную карточку, взять за него коллективную ответственность перед деканатом?
Пятая французская единым порывом, разряжающим наконец-то общую
напряженную обстановку, единогласно проголосовала за предложение Оли Костенко.
И что было самое удивительное во всем этом — первым, так и не дождавшись от Пашки покаянных слов, поднял руку Голованов.
Все завершилось, казалось бы, самым благополучным образом. Групкомсорг невзирая на личные отношения с Пахомовым проявил принципиальность и настойчивость в выполнении данного ему деканатом поручения… Но для того-то и существует демократия общего комсомольского собрания, чтобы исправлять излишнюю строгость и категоричность решений администрации. Комсомольцы пятой французской, понимая всю тяжесть совершенных Пахомовым проступков, тем не менее нашли возможным дать ему еще один шанс на исправление. С педагогической точки зрения собрание поступило, безусловно, правильно, снизив Пахомову меру наказания, так как в каждом наказании главным является не сама степень кары, а результат, который (судя по состоянию Пашки) без всяких сомнений был достигнут. Пахомов понял всю глубину своей вины и то, что коллектив комсомольской группы кровно заинтересован в его судьбе. Таким образом, все получалось как нельзя лучше: порок был наказан, гуманизм проявлен, добродетель восторжествовала. Теперь можно было и расходиться, можно было заканчивать собрание, тем более что до первой лекции, то есть до звонка, который должен был возвестить о начале учебного дня, оставалось всего лишь несколько минут…
И тут в шестнадцатой аудитории факультета журналистики на комсомольском собрании произошло нечто такое, чего не мог ни угадать, ни предвидеть даже самый проницательный прорицатель в мире.
Групкомсорг пятой французской группы Тимофей Голованов — одна из наиболее положительных личностей не только на своем курсе, но, может быть, даже во всем университете: золотой медалист в школе, круглый отличник в университете, именной стипендиат, член не только курсового комсомольского бюро, но и факультетского комитета комсомола, постоянный обитатель всевозможных президиумов и досок почета — этот самый сверхположительный и даже сверхидеальный Тимофей Голованов совершил непонятный и даже в какой-то степени отрицательный поступок.
Неожиданно непоколебимый комсорг вдруг повалился на стоящий рядом с профессорской кафедрой стул и оглушительно захохотал.
Недоуменная, мертвая тишина повисла в шестнадцатой аудитории — только булькающий, радостный и в то же время совершенно нелепый тимофеевский смех плескался около грифельной доски.
Рядом с комсоргом с глупейшим видом стоял его лучший друг, пребывание которого в университете еще несколько минут назад висело почти на волоске.
А из-за полукруглых деревянных рядов круто уходящей к потолку аудитории здесь и там торчали неподвижные головы.
Приступ безудержного хохота, столь внезапно овладевший групкомсоргом Тимофеем Головановым, стал постепенно ослабевать. Очнулись от всеобщего оцепенения и участники собрания. Кто-то сделал робкое движение, кто-то перевел дыхание, кто-то испуганно спросил: «Ой, что это с ним?»
Наконец, Тимофей замолчал. Дернувшись еще несколько раз, он немалым усилием воли подавил в себе последние раскаты беспричинного смеха и, достав аккуратный белый носовой платок, вытер набежавшие на глаза слезы.
— Что с тобой? — неуверенным голосом спросила наконец Оля Костенко, находившаяся ближе всех остальных к Тимофею.
Групкомсорг продолжал вытирать носовым платком слезы.
— Что с тобой? — повторила Оля и сделала робкий шаг к Тимофею. — Что случилось?
Голованов встал со стула и спрятал платок в карман.
— Ребята, — улыбнувшись, начал Тимофей, — а ведь я ни в каком деканате не был, никто меня туда не вызывал…
В шестнадцатой аудитории снова стало тихо.
— Да-да, — продолжал Тимофей, — никто меня в деканат не вызывал, никто не говорил, что Пахомова хотят исключить…
— Как не вызывал? Как не говорил? — единым выдохом ахнула вся пятая французская.
Голованов сокрушенно покивал головой, как бы подтверждая абсолютную правдивость своих теперешних слое, опровергавших его прежнее, ложное заявление о вызове в деканат.
— И декан не предлагал тебе обсудить персональное дело Пахомова? — в ужасе спросила Оля Костенко, начиная догадываться о том, что вся пятая французская пала жертвой какого-то дьявольски хитроумного тимофеевского плана.
— Конечно, не предлагал! — радостно подтвердил Тимофей. — Разве мог бы декан предложить мне такое вопиющее нарушение комсомольской демократии?
— Так зачем же ты устроил всю эту комедию? — отшатнулась от Голованова Оля Костенко. — Зачем был нужен весь этот маскарад?
— А затем я устроил всю эту комедию, что я действительно лучший друг Пахомова! — заорал Тимофей на всю шестнадцатую аудиторию. — Затем я устроил всю эту комедию, что до сегодняшнего собрания всем вам наплевать было на Пахомова! Он погибал у вас на глазах из-за своего проклятого баскетбола, а никто из вас ни разу даже не подумал о том, что его действительно могут выгнать из университета за прогулы! Никто из вас даже не почесался, чтобы остановить этого запойного баскетболиста в его гибельном увлечении!
Пятая французская, пристыженная справедливостью предъявленных обвинений, подавленно молчала.
— Я не собирался устраивать никакого маскарада! — продолжал орать Тимофей. — Я хотел просто обсудить поведение Пахомова на собрании! Но вчера, разыскивая его, я увидел, как он играл против команды наших мастеров… Эх, ребята, если бы вы видели, как играл вчера этот негодяй против мастеров! Ведь он же талант в спорте! Ведь он почти один чуть было не обыграл и Валеру, и Федота, и Хрусталева, и Барашкина! Вы бы только послушали, что о нем говорили вчера на кафедре физкультуры! Его же называли почти гением!.. И вот тогда я подумал о том, что если Пахомова выгонят за прогулы из университета, то все мы — вся пятая французская! — будем виноваты в том, что наш факультет потерял такого замечательного спортсмена, а наша группа, — в общем-то, неплохого парня и, может быть, даже способного журналиста в будущем. Ведь он же писал когда-то стихи, этот Пахомов, подумал я вчера на кафедре физкультуры. Ведь он же окончил школу с золотой медалью… И тогда я решил, что лечить Пахомова нужно каким-то очень сильным средством — таким же сильным, как и его страсть к баскетболу. И я придумал всю эту историю с персональным делом, исключением и вызовом к декану. Я сознательно пошел на это, чтобы как следует дать Пахомову по мозгам, чтобы встряхнуть его! — А теперь можете судить меня, теперь можете назначать мое персональное дело — я заранее согласен на любое наказание…
Пятая французская молчала. Пожалуй, еще ни разу за все три с половиной года, проведенных вместе в университете, никому из группы не приходилось испытывать столько разнообразных и противоречивых чувств одновременно. Тот перепад высот (от грозного «немедленно исключить» до ходатайства «об оставлении»), который ощутил в середине собрания Павел Пахомов, теперь, в конце собрания, переживала вся группа. Слишком большой контраст был в поведении и манере говорить начинавшего собрание Тимофея Голованова— и Тимофея Голованова, завершающего грозное судилище над криминальной и теперь уже совершенно легендарной личностью студента Пахомова.
Умом, конечно, все понимали, что на такую сложную и даже опасную авантюру (с точки зрения своего авторитета групкомсорга) Тимофей мог пойти действительно только из чувства большого товарищества. Инспирируя мнение деканата и даже самого декана, Голованов рисковал очень многим, но, как говорится, чего не сделаешь для лучшего друга.
А вот сердцем принять столь сложный замысел Тимофея Голованова, удавшийся, кстати сказать, почти на сто процентов, сердцем принять эту многоходовую «педагогическую» комбинацию было, конечно, трудно.
И поэтому пятая французская напряженно молчала.
— Ребята, — как всегда, первой овладела своим настроением Оля Костенко и обратилась сразу ко всей аудитории. — Ребята, у меня есть два предложения, голосовать за которые, наверное, можно одновременно. Первое: объявить комсоргу нашей группы Тимофею Голованову устный выговор за дезориентацию комсомольского собрания. И второе: объявить комсоргу нашей группы Тимофею Голованову благодарность…
— За что? — хищно крикнула с места Галка Хаузнер.
— За что? — задумалась Оля. — Пожалуй, я сейчас не смогу дать точную формулировку этому предложению… Может быть, за то, что после сегодняшнего дня Тимофея действительно можно уверенно считать самым лучшим другом Паши Пахомова…
— Голосуй, Ольга! — хором рявкнули из последнего ряда Боб Чудаков и Эрик Дарский. — Время идет!
— Кто за эти предложения? — улыбнулась Оля Костенко. — Повторяю: голосовать можно одновременно…
И снова шестнадцать рук взметнулось над полукруглыми, круто уходящими к потолку деревянными рядами аудитории.
И почти одновременно в коридоре зазвенел звонок, возвещавший о начале очередного учебного дня как на самом факультете журналистики, так и во всем Московском государственном университете имени Ломоносова.
2
Великое и бесконечное движение многочисленных университетских «народов» можно было наблюдать на углу Моховой улицы и улицы Герцена каждый день в девять часов утра в те самые времена, о которых рассказывает наше повествование. Знаменитый студенческий перекресток в самом центре Москвы, напротив Манежа, разделявший два главных корпуса старых зданий университета, в буквальном смысле этого слова кишел представителями всех областей знания.
Река молодости, жаждущей познать мир — его прошлое, настоящее и будущее — во всех многочисленных проявлениях, плескалась своими беспокойными волнами в девять часов утра у стен университета оживленно, задиристо и весело и растекалась говорливыми ручейками по факультетам и этажам, по лекционным залам и научным кабинетам, по библиотекам и аудиториям.
В потоке «гуманитариев» (юристов, философов, историков, экономистов, филологов), шагавших по устоявшейся традиции в начале каждого учебного дня в сторону больших аудиторий в том самом здании, перед которым с бронзовым свитком в руках задумчиво стоял Михаил Васильевич Ломоносов, — в этом самом потоке «гуманитариев» плыл и маленький кораблик пятой французской группы, на борту которого всего лишь несколько минут назад произошли едва ли не самые серьезные события за всю трехлетнюю историю ее существования.
Закончив свое бурное комсомольское собрание, пятая французская торопилась теперь к шестьдесят шестой аудитории — третьей по вели-. чине гуманитарной аудитории университета, где должна была начаться общая для всего четвертого курса факультета журналистики лекция по всеобъемлющему, многолетнему и не имевшему, казалось, ни начала, ни конца почти энциклопедическому курсу, носившему неопределенное и замысловатое название — «Теория и практика периодической печати». Технический секретарь факультета журналистики Глафира Петровна сокращенно обозначала эту громоздкую научную дисциплину в расписании занятий, огромной бумажной простыней висевшем на дверях деканата, всего лишь пятью буквами: «тр. и пр.», то есть «теория и практика». Студенты же факультета мгновенно переделали это «тр. и пр.» в живописное сочетание из двух слов — «тыр-пыр», каковым словосочетанием и назывался чаще всего этот курс — один из главных предметов, изучаемых на факультете журналистики, — во всех студенческих, а иногда даже и преподавательских разговорах.
Влившись в шестьдесят шестую аудиторию, пятая французская тут же потеряла свои строгие очертания и мгновенно растворилась среди четырех остальных языковых групп курса — трех английских и одной немецкой. Всем «французам», особенно женской половине группы, естественно, не терпелось поскорее поведать о своем необычном комсомольском собрании тем однокурсникам, «англичанам» и «немцам», которые ничего еще об этом не знали.
Шум и гул, характерные для каждой студенческой аудитории перед началом лекции (движение стульев, скрип столов, пересаживания с места на место, торопливые разговоры и перешептывания: «Дай карандаш», «Одолжи тетрадь», «Будешь в «морской бой» а?»), постепенно прекратились, когда в шестьдесят шестую медленно вошел лектор по «тыр-пыр» — низенький коренастый, краснолицый и весьма пожилой крепыш в зеленом полувоенном френче, такого же зеленого цвета галифе и в ярко начищенных хромовых сапогах.
Это был доцент кафедры теории и практики периодической печати Эдуард Феофилович Купцов. Взойдя на кафедру и внимательно оглядевшись, доцент Купцов громко высморкался, разложил перед собой листки конспекта очередной лекции и, придав своему кумачовому лицу по возможности научное выражение, углубился в публичное исполнение конспекта.
В своей лекторской манере доцент Купцов старался в основном не прибегать к старомодным приемам древнегреческого красноречия. Находясь на трибуне, он никогда не использовал и повадок римских ораторов (скажем, забытого теперь уже всеми Цицерона), не вскидывал гордо вверх подбородок, не разводил картинно руками, не играл модуляциями голоса. Спокойно и ровно он аккуратно прочитывал сверху донизу каждый листок конспекта, потом, послюнявив палец, переворачивал прочитанное и начинал читать следующий лист.
Надо сказать, что и в жизни Эдуард Феофилович был так же прост, как и на лекторской кафедре. Представляясь, например, кому-либо, он стремился предельно облегчить для собеседника выговаривание своего сложного имени и называл себя не «Эдуардом», а с присущим ему произношением «Одувардом», за что и получил на факультете свое прозвище.
Простоту нравов в житейском обиходе доцент Купцов пытался перенести и в сферу науки. Будучи узким специалистом в области дореволюционной периодической печати, Одувард сосредоточил свои исследовательские интересы главным образом на теоретических проблемах таких изданий, которые были выпущены в свет наименьшим количеством номеров — тремя, двумя, а то и вовсе одним. В итоге, будучи пожалован кандидатской степенью, он как бы навсегда утолил в себе жажду познания и целиком переключился на педагогическую деятельность, неутомимо сея в течение многих лет зерна знаний в умах будущих журналистов, причем тематически круг своих лекций после «остепенения» он значительно расширил: в публичные чтения Одуварда теперь вплетались леденящие душу истории из современной буржуазной печати.
Иногда, извлекая из своего конспекта неопровержимые факты, проливающие особо яркий свет на продажность буржуазной прессы, доцент Купцов с отвращением отбрасывал от себя листы конспекта и, горестно зажмурившись, проникновенно шептал аудитории:
— Не могу дальше читать — противно!
И это была чистая правда. Лицо Одуварда искажала гримаса такого отвращения, что уголки его губ горько изгибались.
…Пашка Пахомов сидел на лекции по «тыр-пыр» рядом с Тимофеем Головановым. После столь неожиданно закончившегося комсомольского собрания Пашка, не отдавая себе отчета в своем поведении, почему-то ни на шаг не отходил от Тимофея. Он молча шел рядом с ним через улицу Герцена, молча поднимался по ступеням парадной университетской лестницы в шестьдесят шестую аудиторию, молча сел рядом за один стол.
Молчал и Тимофей. Он озабоченно достал из своей делегатской папки толстую тетрадь с лекциями по «тыр-пыр» и аккуратно записал названную Феофилычем тему сегодняшней лекции. Пашка, неосознанно подчиняясь все тому же своему состоянию, ни на шаг не отпускавшему его от Тимофея, тоже достал несколько смятых листков бумаги, случайно оказавшихся у него, нашел в кармане огрызок карандаша и, нахмурившись, уставился на Одуварда.
С Феофилычем студент Пахомов был довольно близко знаком по многочисленным индивидуальным встречам на экзаменах и зачетах. И надо откровенно сказать, что обоюдной радости от этих встреч ни Пашка, ни Феофилыч, разумеется, ни разу не испытали. Студент Пахомов, как всегда, нес какую-то чепуху, доцент интересовался знанием первоисточников, студент Пахомов, в свою очередь, нагло требовал вопросов на сообразительность, после чего Феофилыч регулярно заворачивал Пашку на пересдачу, и в результате «тыр-пыр» приходилось сдавать с двух, а то и с трех заходов. Именно поэтому, впервые попав за многие месяцы на «одувардовскую» лекцию, студент Пахомов смотрел на доцента Купцова не только хмуро, но и даже отчасти враждебно. И только присутствие рядом Тимофея Голованова — память о необычной концовке комсомольского собрания гвоздем сидела в Пашкиной голове — заставляло студента Пахомова, имитируя запись лекции, водить карандашом по бумаге.
Глядя на Одуварда, Пашка вспомнил, как однажды во время третьего захода на экзамен, потеряв всякую надежду получить у принципиального Феофилыча спасительную тройку, прибегнул к запрещенному приему. Замогильным, трагическим голосом Пашка доверительно поведал доценту о том, что дедушка у него, у студента Пахомова, был почти профессиональным революционером, а ему, студенту Пахомову, приходится, мол, теперь так мучиться на экзаменах — за что же тогда боролся дедушка? — и сообщение это настолько растрогало Одуварда, что он в конце концов выставил Пашке необходимую тройку.
…Следующей после «тыр-пыр» была лекция па истории русской журналистики XIX века. И читал ее профессор Эраст Павлович Метельский — величайший либерал всех времен и народов, один из самых снисходительных экзаменаторов на белом свете, получивший от студентов за это благородное качество прозвище Друг Человечества Эраст.
Упругой рысцой взбежав на кафедру, профессор Метельский небрежным движением руки отбросил назад длинные волосы, расправил красивую бороду и улыбнулся. Улыбка эта была хорошо знакома всему четвертому курсу. Обычно с нее начиналась каждая лекция и все экзамены. «Ну-с, милостивый государь, — улыбнувшись, начинал экзаменовать очередного студента Эраст Павлович, — на какую отметку изволите претендовать? Тройка, я думаю, вам обеспечена заранее. Не хотите ли попробовать получить четверку, а может быть, даже и пятерку, а?»
Двоек Друг Человечества принципиально не ставил никогда. Ни разу не отправил он ни одного студента и на переэкзаменовку. Предельно гуманная формулировка — «тройка вам обеспечена заранее» — открывала как бы второе дыхание у экзаменующихся, и большинство студентов факультета всегда получали у профессора Метельского пятерки, (Даже студент Пахомов ухитрился сдать однажды Эрасту Павловичу его предмет на четверку.)
Читал свой курс Друг Человечества Эраст легко и непринужденно. Удерживая в памяти огромное количество сведений, фамилий, фактов и аналогий, профессор Метельский никогда не пользовался никакими предварительными записями и строил все свои лекции как увлекательные исторические новеллы с лихо закрученным и почти детективным сюжетом. На лекторской кафедре он чувствовал себя будто рыба в воде, а вернее сказать, — как птица в полете.
Обязательный темный костюм в светлую полоску подчеркивал сухощавость и стройность его фигуры и в сочетании с общей горделивой осанкой придавал иногда Эрасту Павловичу вид традиционно-обобщенного английского лорда, но беспокойный жизнерадостный нрав и неиссякаемое веселье, не покидавшее его ни на одну минуту, дополняли образ профессора Метельского чертами французского парламентария конца прошлого века, завзятого говоруна и острослова, поклонника изящной и тонкой мысли, любителя витиеватой и афористичной галльской фразы, знатока живописи и музыки, ценителя женщин, цветов, редких вин и всех прочих земных человеческих удовольствий.
Несмотря на такой интернациональный и будто бы несколько старомодный внешний облик, Друг Человечества Эраст был в то же время очень современным и практичным деятелем науки, одним из лучших университетских профессоров. В кругах начальства из Министерства высшего образования он слыл дипломатом и постоянно участвовал во всевозможных международных симпозиумах и конференциях. Поговаривали даже о том, что Метельского за импозантность и дружелюбную обаятельность прочат в проректоры университета, но разговоры эти ходили пока только на уровне слухов и предположений.
Но главным в характере Эраста Павловича была, конечно, не импозантность, а величайшая, не знающая никаких границ преданность своему предмету. Русскую журналистику XIX века профессор Метельский знал вдоль и поперек. Осведомленность его в делах российских газет и журналов этого периода была настолько всеобъемлющей, что практически не поддавалась никакому учету и соизмерению. Друг Человечества Эраст знал буквально все о каждой русской газете и каждом журнале.
Свободно оперируя датами, цифрами, фактами, играючи перечисляя фамилии десятков литераторов, очеркистов, фельетонистов, репортеров и хроникеров, Эраст Павлович нередко заставлял своих слушателей подолгу сидеть в абсолютной тишине, не шелохнувшись, пока он рисовал перед ними картины быта и нравов обеих русских столиц и необозримой российской провинции — по судебным отчетам, полицейским хроникам, уголовным очеркам, криминальным заметкам, скандальным фельетонам, необычным происшествиям и детективным корреспонденциям с мест пожаров, грабежей и наводнений, опубликованным в разные времена в русских газетах и журналах прошлого столетия.
Иногда, самозабвенно погрузившись в этот «океан» житейских, политических, нравственных, коммерческих, придворных, дворянских, уездных, губернских, купеческих, церковных, помещичьих, крестьянских и иных подробностей, захваченный и увлекаемый потоком (а точнее сказать, «потопом») исторической информации, неудержимо хлещущей из всех закоулков его памяти, Друг Человечества Эраст независимо от своих намерений и желаний никак не мог остановиться.
В таких случаях Эрасту Павловичу приходилось производить над собой чисто физическое усилие: он поднимал к своему раскрасневшемуся лицу белоснежные манжеты и, коротко хохотнув, как говорится, наступал на горло собственной песне. И только таким решительным приемом ему удавалось потушить пожар бушевавших в его голове фактов.
Приступы подобного рода «недержания» информации случались с профессором Метельским не часто (их замечали очень немногие, в основном именные стипендиаты и отличники).
Основной же студенческой массе взрывы исторической эрудиции Друга Человечества шли только на пользу, так как, во-первых, рождали потребность в личном ознакомлении с газетами и журналами ушедшего века, а во-вторых, придавали огромный вес и романтический ореол их будущей журналистской профессии как одной из главных форм летописи истории.
В отличие от собственной лекторской манеры (подробности и частности быта и. нравов) исследовательскую деятельность — докторскую диссертацию — Метельский посвятил генеральному процессу развития русской журналистики девятнадцатого века: журнальной тактике великих революционных демократов Белинского, Добролюбова и Чернышевского. О, редакционную практику и политику этих гигантов русской журналистики Эраст Павлович изучил и знал в совершенстве) Со скрупулезной точностью, с микроскопическим вниманием, с хирургической пристальностью почтительно препарировал а течение многих лет будущий доктор наук Метельский журнальные судьбы титанов передовой демократической печати России. И поэтому докторская его диссертация, по сути дела, стала одним из первых образцов рождающейся новой науки — науки о журналистике, возникшей на стыке таких солидных дисциплин, как история, филология, литературоведение, философия, текстология, лингвистика и т. д.
Возникновение этой науки было насущной потребностью времени.
Нужно было выявить и научно обосновать сложившиеся функции и проблемы журналистики. И здесь фигура профессора Метельского явилась как бы ответом на запрос жизни. Соединив в своей многогранной личности разноплановые качества и способности, будучи от природы эдаким многоборцем-гуманитарием (что и соответствовало, очевидно, самой природе журналистики), Эраст Павлович как бы органично заполнил рождающейся вместе с его диссертацией новой наукой о журналистике место среди остальных, потеснившихся научных дисциплин в храме человеческих знаний.
Обычно лекций Эраста Павловича никто не записывал (их было и невозможно записывать). Метельского только слушали. Причем никто из слушателей не старался ничего запоминать из лекций Друга Человечества. Метельского слушали, как слушают оперного певца — важны не слова, которые произносит артист, а музыка, мелодия, модуляции голоса. Важно не «что», а «как» поет певец. И профессор Эраст Павлович Метельский вел свою партию с лекторской кафедры широко, красиво, размашисто. Он исполнял перед сидевшими в аудитории юношами и девушками гимн журналистике (и каждый раз на новые слова и с новыми интонациями). Он воздавал хвалу могучему языку своего предмета, он необыкновенно возвышал перед студентами их будущую профессию.
И наградой за это была оперная тишина в аудитории — десятки юных лиц неподвижно были устремлены к лекторской кафедре, над которой «сверкал» голос профессора и летали его белоснежные манжеты.
…Пашка Пахомов, как и на предыдущей лекции, опять сидел рядом с Тимофеем Головановым. Жертва, на которую пошел ради него на комсомольском собрании Тимофей, не выходила из Пашкиной головы. Шутка ли — Тимофей намеренно обманул собрание, взял на себя смелость выдумать историю вызова в деканат, он сознательно пошел, на то, чтобы после разоблачения выдумки — а разоблачения этого не могло не произойти — получить хоть и устный, но все-таки выговор… И это сделал Тимофей — безупречный групкомсорг Голованов, именной стипендиат и круглый отличник.
И ради чего (вернее, ради кого) сделал он все это? Ради него, Пашки Пахомова, отъявленного прогульщика. Тимофей пожертвовал собой, своей репутацией, чтобы предотвратить реальный вызов Пашки в деканат, который на самом деле мог бы случиться, если бы Пашка еще несколько дней резвился в «хиве» на кафедре физкультуры и спорта.
Да, Тимофей поступил как настоящий друг, и от навязчивых мыслей об этом Пашка не мог отделаться никак, плохо соображая, что происходит вокруг него, хотя и прислушиваясь автоматически к словам Друга Человечества Эраста.
— …но эта сторона творческой манеры Салтыкова-Щедрина как публициста до сих пор еще остается непростительно мало изученной, — обличал между тем с кафедры неведомых оппонентов профессор Метельский, завершая ранее сформулированную мысль, начало которой Пашка Пахомов, занятый думами о поступке Тимофея, прослушал. — А между тем сам Щедрин высоко ценил присутствие в материалах журнальной полемики некоего незримого будто бы, но совершенно очевидного народного сатирического элемента.
Друг Человечества Эраст выхватил из внутреннего кармана полосатого пиджака три твердых бумажных прямоугольника и ловко, как старый опытный картежник, веером распустил их у себя в руке.
— Вот, например, как Щедрин модифицирует содержание и обновляет структуру известного изречения «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Вот, пожалуйста: в старину градоначальники именно так и поступали. Прослышит, бывало, генерал, что в вверенном ему крае происходит неблагополучие, и тут же издает циркуляр — дошло, мол, до моего сведения, чтоб этого не было!.. И разом все в губернии делается тихо. А почему? А потому, что в старину о журавлях не разговаривали, а прямо указывали на синицу. Зато уж если потребовал генерал синицу, то хоть тресни, а подай, а не подал — умри!!
Эраст Павлович коротко хохотнул и жестом банкомета сбросил первый прямоугольник на кафедру.
— А вот второй пример — «Знай, сверчок, свой шесток». Щедрин рассуждает: кажется, что может быть распространенней этого правила, а вот поди же ты… Во-первых, нет точного определения обязанностей сверчка-человека, и поэтому каждый мнит себя сверчком особенным, а иной даже сверчком-орлом. Во-вторых, такою же неопределенностью страдает и понятие о шестке, так что всегда есть опасность впасть в ошибку и неумышленно занять шесток рангом повыше. А отсюда — вечное и безобразное препирательство, возникающее каждый раз, как только заходит речь об обращении сверчка к его натуральному шестку.
Метельский сбросил вторую «карту» и весело посмотрел в аудиторию.
— Недурственно ведь сказано, а?.. Или вот еще: «Взглянул, словно рублем подарил». Ах, этот рубль! — восклицает Щедрин. Сколько государственных и публицистических усилий, сколько полемики потрачено, чтобы он настоящим рублем смотрел, а он все на полтинник смахивает. Придется, видно, старую пословицу на новую менять… Или еще: «Ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами». Что же Щедрин? Вот, прошу: из тлетворного продажного запада тянуло домой, на север, в печное тепло, за двойные рамы, в страну пирогов с грибами и держания языка за зубами… Ха-ха-ха! Смешно-с, не правда ли?
Друг Человечества, еще раз хохотнув, сбросил на кафедру последний прямоугольник.
— Что же здесь происходит? Раскрытие и конкретизация известного изречения в новом контексте служат приему сатирического преувеличения. Скрытый юмор усиливается, живущая в подтексте горькая усмешка становится более прозрачной. Широкое и абстрактное толкование распространенной словесной формулы сменяется более узким, но зато и сатирически более заостренным. А ведь что такое истинный смех? Смех — одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и еще держится бог знает на чем важной развалиной, мешая расти свежей жизни и пугая слабых. Смех вовсе не шуточное дело. В церкви, во дворце, вытянувшись во фрунт перед частным приставом, перед начальником департамента, никто не смеется. Слуги лишены права улыбки в присутствии господ. Одни лишь равные смеются между собой. Если низшим позволить смеяться над высшими, если низшие, глядя на высших, не могут удержаться от улыбки, тогда прощай чинопочитание. Заставить человечество улыбнуться над богом Аписом, говорил Герцен, значит расстричь его из священного сана в простые быки…
Часть третья
Сессия
1
Пришла сессия. Сдавать надо было целую кучу экзаменов и еще больше зачетов — седьмой семестр был до предела перегружен всевозможными спецкурсами и спецсеминарами.
К немалому своему удивлению, студент четвертого курса факультета журналистики Павел Пахомов обнаружил, что о половине этих спецкурсов и спецсеминаров он не только никогда не слышал, но и вообще даже не подозревал об их существовании на белом свете.
Весьма опечаленный неожиданным открытием, Пашка сидел на последних лекциях седьмого семестра рядом с Тимофеем Головановым и предавался мрачным раздумьям.
Тимофей потребовал от Пашки клятвы в том, что до окончания сессии он, студент Пахомов, ни разу не зайдет на кафедру физкультуры. Пашка клятву дал, и, таким образом, великая Пашкина спортивная слава, добытая в «матче века», пошла прахом.
Один из спецсеминаров, зачет по которому был включен в будущую сессию, носил витиеватое наименование «Проблемы освещения вопросов сельского хозяйства на страницах областных газет». Вел этот семинар довольно странный, но в то же время интересный человек по фамилии Бочков — по имени и отчеству его почему-то никто никогда не называл. Он был агрономом по образованию, потом окончил институт «красной профессуры», работал во многих областных газетах, потом снова учился, вышел на пенсию и теперь преподавал на факультете журналистики. Главной особенностью натуры Бочкова была его необыкновенная любовь к деревне вообще и к продуктам сельскохозяйственного производства в частности, а точнее сказать— к огородным культурам. На занятия своего семинара он любил приносить некоторые наглядные пособия — то репу, то редиску, то зеленый лук, то стручки гороха, то клубни картофеля, то подсолнух, то какой-нибудь особо выдающийся корнеплод— и сопровождал показ наглядных пособий пространными агрономическими комментариями.
Шутники на факультете журналистики высказывали иногда опасения, что когда-нибудь Бочков принесет на семинар в портфеле гуся или поросенка, а то пригонит пару овец или притащит улей с пчелами. Но Бочкова вопросы птицеводства, животноводства и пчеловодства волновали гораздо слабее, чем проблемы огородничества. Исключения он делал только для полеводства: однажды из портфеля был извлечен лохматый миниатюрный сноп пшеницы. Случалось попадать на семинар»! колосьям ржи, встречались овес, лен, гречиха, конопля, но основным пристрастием оставалось все-таки огородничество.
Свои спецсеминары Бочков часто начинал устными рассказами о преимуществах жизни в деревне перед жизнью в городе. Вниманию слушателей Бочков предлагал роскошные панорамы сельских рассветов, жаркого летнего полдня или позднего заката, когда стада уже вернулись с полей, хозяйки доят коров, первая струйка парного молока весело ударилась о дно ведерка, а в огородах уже висят спелые помидоры, красно и кругло созревающие на высоких кустах… Бочков рисовал перед студентами впечатляющие картины сенокосов, жатвы, молотьбы, щедрые пейзажи ранней деревенской осени, когда уже сметаны стога, собраны в овины хлеба, а в огородах синеют баклажаны, желтеют тыквы, лиловеет свекла, пламенеет морковь… Все эти живописные словесные пассажи Бочков «исполнял», конечно, не случайно. Он стремился разбудить у студентов факультета журналистики — в основном городских жителей — любовь к сельскому хозяйству. И, надо сказать, он преуспел в осуществлении этой своей миссии.
Покончив с лирическим вступлением, хитрый Бочков незаметно переводил семинар в русло собственно газетной тематики, превращаясь из агронома и огородника-любителя в профессионального журналиста. И здесь туго приходилось тем, кто плохо слушал беседы Бочкова о работе в областной газете и не имел письменных конспектов его рассказов о том, когда надо начинать в газете кампанию за подготовку к севу, когда — за подготовку к уборке урожая, когда — к сдаче зерна на элеваторы, а когда — к ремонту тракторов и вывозу в поля удобрений.
Ничего этого не знал незадачливый студент четвертого курса Павел Пахомов. На семинаре у Бочкова он был всего один раз, да и то после того, как три часа мотался с «хивой» в спортивном зале на кафедре физкультуры. Естественно, в голове от этого единственного посещения бочковского семинара ничего не осталось — в тот день голова почти ничем не отличалась от баскетбольного мяча, который целых три часа до семинара гонял ее хозяин.
И тем не менее сдавать зачет все-таки было надо, и Пашка Пахомов, одолжив у Тимофея Голованова конспекты, на скорую руку перелистал их и отправился вместе с Тимофеем на зачет.
Бочков был приятно удивлен появлением студента Пахомова в аудитории, где он принимал зачет по «проблемам освещения» у пятой французской.
— Вы ко мне? — участливо спросил он у Пашки, как только тот переступил порог.
— К вам, — угрюмо ответил Пашка.
— А зачем? — поинтересовался Бочков. — Я сейчас занят, я зачет принимаю.
— Я тоже зачет пришел сдавать, — насупился Пашка.
— Зачет? — удивился Бочков. — А разве вы тоже из этой группы?
— Да, из этой.
— А почему же я вас никогда не видел?
— Я был один раз у вас на семинаре…
— Только один?
— Я еще на консультации у вас был…
— Да, да, припоминаю. Как ваша фамилия?
— Пахомов.
— Скажите, товарищ Пахомов, а где же вы были во время всех остальных моих семинаров? Ведь их было довольно много.
— Он болел, — пришел на помощь Тимофей Голованов, чувствуя, что Бочков сейчас выгонит Пашку до зачета, — у него был бюллетень…
— Болел… Так-так, понятно.
— Мы готовились вместе, — продолжал Тимофей, — он хорошо знает ваш курс. Я прошу допустить его к зачету.
— Ну что ж, — улыбнулся Бочков, — ваше ручательство, товарищ Голованов, как комсорга, для меня многое значит. Садитесь, товарищ Пахомов. Посмотрим, как вы заочно изучили мой курс.
И Пашка сел за стол напротив Бочкова.
— Товарищ Голованов, — спросил Бочков, — может быть, вы тоже будете сдавать зачет вместе с Пахомовым? Так сказать, репетитор со своим болезненным подшефным. Не возражаете?
— Пожалуйста, — согласился Тимофей и сел рядом с Пашкой.
Бочков несколько раз прошелся вдоль стола, разглядывая Пашку.
— Скажите, товарищ Пахомов, — обратился Бочков к Пашке, — а вы вообще-то любите сельское хозяйство?
— Конечно, люблю, — сказал Пашка голосом, не вызывающим никаких сомнений в его пламенной любви к сельскому хозяйству.
— А в деревне вам бывать приходилось?
— Приходилось.
— А где именно? В каких областях?
— В Московской.
— На даче, наверное, жили? Или в пионерском лагере были?
— И на даче и в лагере.
— А непосредственно в деревенской избе пожить не довелось?
— Нет, не довелось.
— Жалко. Хорошее это дело — настоящая деревенская изба. Одна русская печь чего стоит! Хлебом пахнет, молоком парным. А выйдешь в огород!..
Тимофей Голованов улыбнулся.
— Огород — одно из самых лучших мест на земле, — дипломатично сказал Тимофей, зная пристрастие Бочкова к овощным культурам.
— Абсолютно верно, товарищ Голованов! — умилился Бочков.
Как педагог он испытал в эту минуту чувство высокого удовлетворения и с благодарностью посмотрел на свой верный портфель, выдержавший такую нагрузку, которая, очевидна, не всякому овощному складу была под силу.
Бочков перевел взгляд с портфеля на Пашку.
— А вы, товарищ Пахомов, любите овощи? — спросил Бочков.
— Нет, не люблю, — мрачно буркнул студент Пахомов.
— Странно, — огорчился Бочков, — каждый здоровый человек должен любить овощи.
— Он их любит, — снова исправил положение Тимофей, — он просто забыл.
Бочков пристально посмотрел на Пашку, неодобрительно покачал головой и сел за стол.
— Я люблю помидоры, — спохватившись, неожиданно сказал «прозревший» студент Пахомов.
Пашка вспомнил, что Тимофей долго втолковывал ему перед зачетом о неравнодушии экзаменатора к огородным культурам.
Бочков оживился.
— А баклажаны любите? — спросил он.
— Люблю, — каменным голосом ответил Пашка. — Люблю до потери сознания.
— И правильно! — поддержал Бочков Пашку.
Бочков весело посмотрел на студентов — оба молодых человека ему положительно нравились.
— Знание сельского хозяйства, — назидательно сказал Бочков, — начинается с любви к нему. А как же вы будете знать то, чего не любите?
Тимофей и Пашка почтительно молчали, что обозначало их полное согласие.
— Ну-с, а теперь я хочу задать вам несколько вопросов по существу дела, — начал Бочков. — Предположим, вы, товарищ Пахомов, работаете в сельскохозяйственном отделе областной газеты. Редактор отдела дает вам задание — поехать в один из колхозов области и написать корреспонденцию о ходе подготовки к севу. С чего вы начнете выполнять задание?
— Приеду в колхоз, пойду в правление, найду председателя, — бодро заговорил Пашка, — спрошу его, как идет подготовка к севу… Потом пойдем вместе в ремонтные мастерские, на склад семян, поговорим с колхозниками…
— Так-так, — поддакивал Бочков, — встретились, сходили, поговорили, записали все в блокнот. Очень хорошо. А как вы будете писать свою корреспонденцию?
— Раскрою блокнот, где записаны слова председателя…
— Одну минуточку… Товарищ Голованов, скажите, а как вы начали бы выполнять то же самое задание?
— Примерно так же, как и Пахомов. То есть совершенно так же.
— Съездили бы в колхоз, поговорили с председателем, раскрыли блокнот… Да?
— Да.
— А не приходит вам а голову, — прищурился Бочков, — что председатель колхоза сообщил вам неверные данные о своем хозяйстве?
— Как это неверные? — удивился Пашка.
— А вот так. Разные бывают председатели.
Тимофей и Пашка молчали.
— Выполнять свое задание вы оба начали неправильно, — сказал Бочков. — Прежде чем отправляться в колхоз, вы обязательно должны зайти в областное управление сельского хозяйства, найти агронома, который курирует тот район, куда вы собираетесь поехать, и подробно поговорить с ним о положении дел в вашем колхозе. Председатель — человек заинтересованный, ему хочется показать свое хозяйство в наиболее выгодном для себя свете, и поэтому все председатели, как правило, дают субъективную оценку. А вам нужны объективные данные, вам нужен взгляд как бы со стороны. И этот взгляд вы найдете в тех цифрах и фактах, о которых расскажет агроном из областного управления.
— А если агроном из областного управления тоже даст неверные сведения? — усомнился Тимофей.
— Это менее вероятно. Областное управление находится под боком у газеты, в том же городе. В областном управлении заинтересованы в том, чтобы у газеты было объективное представление о положении дел в колхозах области… А колхоз от газеты далеко. От колхоза до газеты иногда, как-от мужика до бога — семь верст киселя надо хлебать… И вот, поговорив с агрономом, вы приезжаете в колхоз, и у вас на руках уже есть предварительная картина положения дел в этом колхозе. Начнет председатель преувеличивать свои успехи или уменьшать недостатки, а вы ему и говорите: одну минуточку, товарищ председатель, все это выглядит совсем не так, как вы мне говорите, а вот так-то и так-то…
— А если в области, на бумаге, положение в этом колхозе выглядит в одном свете, — спросил Пашка, — а на самом деле, в жизни, совсем в другом?
— Во!! — вскочил со стула Бочков. — Здесь-то и начинается работа газетчика, труд журналиста. Перед вами проблема, готовая тема статьи: колхоз глазами председателя и глазами агронома из области. Кто из них прав? Первый или второй? А может быть, оба неправы? А может быть, оба правы? А может быть, правда заключается в соединении их точек зрения?
Бочков прошелся несколько раз вдоль своего стола.
— Ну-с, будем считать, что с этим вопросом мы покончили. Теперь второй вопрос, товарищ Пахомов. Предположим, вас повысили в должности — вы теперь уже не просто корреспондент, а заведующий отделом сельского хозяйства областной газеты. Приближается уборка. Как вы будете действовать, чтобы правильно освещать на страницах своей газеты ход жатвы?
— Прежде всего надо составить план, — сказал Пашка.
— Правильно. А в какое время, когда именно вы начнете составлять этот план?
— Недели за две до начала уборки…
— А как вы считаете, товарищ Голованов?
— Наверное, лучше
пораньше, за месяц.
— В том-то и дело, что лучше пораньше. И даже не за месяц. План освещения в газете уборки урожая надо составить уже во время весеннего сева, чтобы задолго до начала уборки этот план был бы уже доведен до собственных корреспондентов вашей областной газеты в районах. Весь секрет работы сельскохозяйственного отдела областной газеты состоит в определенном, так сказать, опережении времен года. Весной вы готовите план освещения летних полевых работ, летом — осенних, осенью — зимних, а зимой — весенних. Скажем, началась в области уборка, а вы в первый же ее день (если только ваш план хорошо подготовлен) уже печатаете на страницах своей газеты корреспонденцию о том, как идет жатва в самом передовом колхозе области. На следующий день газету получают в тех хозяйствах, где уборка еще не началась. И вот комбайнеры, трактористы, бригадиры, механизаторы приобщаются через газету к передовому опыту, как бы видят на ее страницах образец своей завтрашней работы, потому что каждому хочется работать лучше, каждому хочется равняться на передовых. Таким образом, вы как бы подталкиваете на страницах вашей газеты жизнь вперед, осуществляя в своей журналистской работе слова Ленина о том, что газета является не только коллективным агитатором и пропагандистом, но и коллективным организатором.
Бочков сел за стол.
— Давайте ваши зачетки, — устало сказал он. — Будем считать, что зачет по моему спецсеминару вы сдали, хотя знания ваши оставляют желать много лучшего. У меня создалось такое впечатление, что сегодня я вам сдавал зачет, а не вы мне.
Тимофей и Пашка, потупившись, молчали.
— А вообще-то говоря, молодые люди, работа в сельскохозяйственном отделе областной газеты — это благодатнейшее поле деятельности для молодых журналистов. Сколько тем, сколько встреч, сколько интереснейшего материала можно найти а сегодняшней деревне! На вашем месте после окончания университета я бы, не задумываясь, махнул куда-нибудь в нечерноземную полосу.
Он протянул Пашке и Тимофею зачетки, в которых жирно было написано желанное слово «зачет».
Потом поманил обоих к себе и достал из портфеля веселую красно-белую — видимо, парниковую — редиску.
— Ну, разве не прелесть, а? — залюбовался Бочков. — Прямо произведение искусства. Разве художник какой-нибудь, пусть даже самый лучший, сможет такое нарисовать? А земля-матушка нарисовала…
2
Пашка Пахомов и Тимофей Голованов вышли из университета на Моховую улицу.
— Занятный мужик, — задумчиво сказал Тимофей, — последний поэт деревни.
— Тимка, — сморщил нос Пашка, — я что-то не очень понимаю: мы получили сегодня зачет или нет?
— Вроде бы получили.
— Тогда почему же мы стоим здесь, толкаемые какими-то несчастными первокурсниками?
— А где мы должны стоять?
— В прекрасном пивном баре, держа в руках холодные кружки с белыми шапками пены, а?
— Куда пойдем?
— В Сокольники. Десять минут на метро.
Тимофей и Пашка дошли до станции «Охотный ряд», спустились вниз и покатили в сторону Сокольников.
..Тим Голованов — это Пашка, конечно, сократил старомодное имя «Тимофей» до энергичного и современного «Тим» — окончил среднюю школу, как и Павлик Пахомов, с золотой медалью и на факультет журналистики поступил без экзаменов. Здесь-то, на собеседовании медалистов, Пашка и Тимофей впервые встретились, познакомились и, как всякие молодые люди, судьбы которых уже в начале жизненного пути отмечены печатью избранности, а золотая медаль, безусловно, была знаком избранности, почувствовали друг к другу взаимное тяготение и симпатию.
Даже с первого взгляда Тим Голованов производил впечатление личности глубокой и незаурядной. Во-первых, он всегда очень тщательно одевался (костюм, белая рубашка, галстук). Во-вторых, он никогда не вел второстепенных и ничего не значащих разговоров. В-третьих, помимо учебы на факультете журналистики, он поступил еще и на заочное отделение кафедры искусствоведения исторического факультета, и на обоих факультетах учился на сплошные пятерки. И, наконец, в-четвертых, он необыкновенно серьезно относился ко всем общественным поручениям, и в первую очередь к комсомольской работе, за что и был избран на первом же курсе секретарем курсового комитета комсомола.
Дружба Тимофея с Пашкой началась с первых дней учебы в университете, когда они вместе — едва ли не самые яркие личности на курсе — вели конспекты лекций, занимались общественной работой, увлекались античной литературой и однокурсницами, сдавали экзамены и зачеты, выступали на семинарах и собраниях, ходили в туристические походы, организовывали концерты художественной самодеятельности, писали смешные сатирические обозрения и капустники…
Потом с Пашкой Пахомовым случилась метаморфоза — он попал на кафедру физкультуры, неслыханно запустил все науки и начал постепенно разрушать свой образцово-показательный образ золотого медалиста.
Тимофей же, наоборот, день ото дня все больше и больше укреплял свой авторитет и неуклонно двигался вверх по общественной лестнице — именная стипендия, конференции, президиумы.
Но, странное дело, несмотря на разницу в «положении» — именной стипендиат и «хивинец», — Тимофей и Пашка продолжали дружить. Тимофей как бы закрывал глаза на все Пашкины вывихи и недостатки. Стоило им увидеться или оказаться где-нибудь вдвоем, как они мгновенно отсекали друг от друга «шлейфы» своей популярности (один — со знаком плюс, другой — со знаком минус) и как бы снова становились прежними десятиклассниками. По-видимому, та однородная закваска, которую каждый из них получил в школе, борясь за медаль, была сильнее разнородных изменений, происшедших с ними в университете.
На всевозможных бюро, комитетах, активах, инструктажах и просто в личных разговорах многие спрашивали именного стипендиата Голованова: что заставляет его дружить с Пахомовым? Что может быть между ними общего? Ведь если разбираться в этой, с позволения сказать, «дружбе» принципиально, то она подрывает авторитет Голованова, характеризует его, мягко говоря, не с очень хорошей стороны.
Тимофея, когда при нем начинали ругать Пашку, будто подменяли на глазах. Он горой вставал за Пашку, начисто отвергал все предъявляемые тому обвинения, опровергал навешенные на него ярлыки, шел на невыгодные для себя конфликты, ссорился, портил отношения, лез со всеми Пашкиными врагами чуть ли не в драку. Именной стипендиат Голованов не выносил вражды к «хивинцу» Пахомову. С пеной у рта доказывал Тимофей всем и вся, что Пашка представляет собой совершенно не того человека, за которого его все принимают, что Пашка хороший парень, что у него здоровое нравственное нутро, а происшедшее с ним в университете — просто реакция на школьные годы, на зубрежку, учебники, учителей, реакция на все те ограничения, которые неизбежно «накладывает» на себя каждый золотой медалист, чтобы получить медаль. «Почему же у тебя не произошло этой реакции?» — злорадно спрашивали у него оппоненты. «Все люди разные», — философски отвечал Тимофей.
Во всех подобных разговорах, которые происходили, естественно, не в присутствии Пашки, Тимофей утверждал, что Пахомов еще опомнится, одумается, выправится, уйдет с кафедры физкультуры, что сейчас Пашка просто временно «заболел» весьма распространенной во все времена юношеской «болезнью» — университетской вольностью нравов, ниспровержением авторитетов, бездумным и бессистемным студенческим свободомыслием. Но «болезнь» эта не безнадежна, ее можно лечить, за Пахомова стоит бороться. И сам Тимофей — теперь уже в присутствии Пашки — непрерывно это и делал, ругательски ругая Пашку на всех групповых активах, прорабатывая его на летучках, постоянно включая крамольное Пашкино поведение в пункт «разное» почти на всех комсомольских собраниях пятой французской группы.
И вся эта тимофеевская борьба за студента Пахомова совершенно не влияла на их личные отношения. Тимофей иногда неделями не видел Пашку — это происходило в периоды наибольшей активности «хивы» на кафедре физкультуры, — а потом, перед зачетами, Пашка приезжал к Тимофею домой, просил на пару ночей учебники и конспекты, и Тимофей терпеливо рассказывал ему содержание лекций, объяснял, какие учебники надо читать для тех или иных экзаменов. В значительной степени своему «успешному» переползанию от сессии к сессии и переходу из семестра в семестр студент Пахомов обязан был именно этой, странной и непонятной, по мнению многих, дружбе с именным стипендиатом Головановым.
На факультете журналистики частенько поговаривали о том, что Пашка — просто тимофеевский «каприз», а капризы и слабости, мол, всегда позволяли себе сильные личности и незаурядные люди — в принадлежности Тимофея именно к этим человеческим категориям на факультете журналистики, естественно, не сомневался никто. Но сам Тимофей все эти разговоры и слухи о «капризах», «слабостях» и «неизбежном кресте на шее» упорно отвергал. Тимофей просто любил Пашку — за непосредственность нрава, за жизнерадостный характер, за спортивную ловкость и лихость и еще, может быть, за то, что сам он, Тимофей, был совершенно другим, противоположным по натуре человеком. В жизни так часто бывает — антиподы сильнее тянутся друг к другу, чем личности, похожие друг на друга.
Голубой поезд метро прибыл на станцию «Сокольники». Пашка и Тимофей вышли из вагона, поднялись наверх и двинулись к парку. Дойдя по одной из заснеженных лучевых просек до пивного бара «Прага», они взяли четыре кружки пива и уселись за маленький столик около высокой стеклянной стены.
— Неплохой денек, Тимка, а? — ухмыльнулся Пашка, отхлебывая пиво. — Бочков преодолен, зачет сдан, пиво вкусное и погодка неплохая.
Тимофей сосредоточенно пил пиво. Он все делал последовательно, целенаправленно и сосредоточенно.
— А вообще он. Бочков, хороший дядька, — разглагольствовал Пашка, — не стал придираться — что да как, да почему. Я таких преподавателей уважаю. Нужен зачет — пожалуйста! И все дела.
— Мне спасибо скажи за «бюллетень», — напомнил Тимофей.
Пашка встал со стула и отвесил Тимофею торжественный поклон.
— Приношу вам, товарищ Голованов, свою искреннюю благодарность за помощь в трудную минуту жизни. Большое спасибо, добрая барыня, за милости и заботу о своих крепостных крестьянах.
— Ладно, садись, не мелькай, — усмехнулся Тимофей.
— А что, может быть, действительно поедем работать после университета в областную газету? — спросил Пашка. — Будем ездить по деревням, пить парное молоко — глядишь, и сами коров доить научимся… Будем общаться с трактористами и комбайнерами, становиться на квартиры к председателям колхозов, а у них, знаешь, какие огороды?.. Выйдем утром в огород, надергаем морковки, нарвем зеленого лучку, поймаем председательского гуся…
— Ты не смейся над Бочковым, — сказал Тимофей, — он тебя запросто сегодня выгнать мог бы.
— А я и не смеюсь. Он мне, наоборот, очень понравился… Какую он морковку из портфеля вынул, а?
— Не морковку, а редиску, — поправил Тимофей.
— Тим, а может, и правда в областную газету поедем, а? В сельскохозяйственный отдел?
— Когда?
— А вот сдадим экзамены и поедем. Во время каникул, а?
— Во время каникул?
— Тим, ты представляешь — приезжаем мы в областную газету, заходим к главному редактору, показываем свои студенческие билеты с факультета журналистики и просим послать нас в командировку в колхоз. Неужели не пошлют? Конечно, пошлют… Ведь это же здорово, Тимка! Неужели мы вдвоем не напишем корреспонденцию из колхоза? Ведь мы уже на четвертом курсе. Пойдем в областное управление сельского хозяйства, найдем агронома…
— Нереально все это. Никто нас ни в какую командировку посылать не станет.
— Испугался, да? Экзамены сдавать умеешь, медаль получать умеешь, а когда предлагают настоящее дело, сразу в кусты?
— Да где здесь настоящее дело? Авантюра какая-то.
— Тимоха, ты кем все-таки хочешь быть? Искусствоведом? Сторожем в музее? С египетских мумий пыль вытирать? Или настоящим журналистом?
— Конечно, журналистом.
— Так почему же тебе не хочется поехать?.. Да, авантюра! Да, наугад, с одними студенческими билетами! Но ведь это же интересно, чудак-человек!
— Пашка, ну чего ты мелешь всякую чепуху?
— Тим, а что ты вообще умеешь в жизни делать? Лекции конспектировать, да?
— А ты что умеешь? В баскетбол играть?
— Хотя бы. Но вопрос сейчас не обо мне… Сумел бы ты, оказавшись, например, не в аудитории факультета журналистики и не перед Другом Человечества Эрастом или Одувардом, а на заводе, в колхозе, на стройке, — сумел бы ты написать об этом серьезную корреспонденцию? И не в стенную, а в настоящую, взрослую газету?
— А ты сумел бы?
— Нет, не сумел бы!
— Придет время — сумеем, научимся.
— Так оно уже пришло!
— Чего ты от меня хочешь?
— Тим, давай поедем куда-нибудь, а? Ну, что мы будем в каникулы делать? Опять в лыжный поход пойдем? В дом отдыха отправимся? Да пропади оно все пропадом, весь этот детский сад!
— По-моему, мы приехали сюда отдыхать после зачета, а не проводить теоретическую конференцию на тему — как жить и куда поехать во время каникул?
— Тим, а почему бы и нет? Почему мы не можем вот сейчас, здесь все обсудить?
— А потому, что экзамены еще сдавать надо, а не заниматься прожектерством!
— Да одно же другому совершенно не мешает! Мы ведь не в учебное время поедем, а в каникулы. Все в дом отдыха, а мы о областную газету и в колхоз. Деньжат заработаем, с хорошими людьми познакомимся. Все еще нам завидовать будут.
— Выдумщик ты все-таки, Пашка…
— Ну что, поедем?
— Смотрю я на тебя, Пашка, и удивляюсь. Все люди как люди… Ну чего тебе на месте не сидится?
— Да надоело по правилам, по указке жить, всякие расписания дурацкие соблюдать! Туда не ходи, сюда не гляди, мой руки перед едой, делай уроки, конспектируй лекции, переходи улицу на зеленый свет, дыши носом… А я, может быть, ртом дышать хочу!
— Ну, и дыши на здоровье. Кто тебе мешает?
— Значит, не поедешь?
— Нет, не поеду. Я по расписанию люблю жить. Привык уже к этому.
— Ну, и живи, искусствовед!
— Дурак ты, Пашка, вот что я тебе скажу.
— Поругаемся, Тимоха…
— В первый раз, что ли?
— Ох, и скучная же вы личность, господин Голованов… А если я всю сессию сдам с первого захода, тогда поедем?
— Ты сперва сдай, потом поговорим…
3
Узкий коридор факультета журналистики в старом здании университета на Моховой в дни экзаменационной сессии был похож на скорбное медицинское учреждение. Странные, задумчивые личности, бормочущие про себя какие-то несвязные слова, бродили, рассеянно слонялись по коридору, мрачно подпирали стены, потерянно сидели на стульях около дверей аудиторий, как около врачебных кабинетов.
Сходство со скорбным учреждением усугубляли даже не столько те, кто еще не побывал за таинственными дверьми, сколько те, кто уже там побывал. Люди эти или растерянно стояли посреди коридора, или шептали что-то, едва шевеля губами, или хватали себя за голову, неожиданно вскрикивая: «Я же все знал, почему же я молчал?!»
Ждущие вызова испуганно смотрели на них, бледнели, покрывались испариной, лихорадочно листали учебники, тщетно пытаясь найти необходимую страницу, остекленевшими взглядами провожали очередную, исчезающую за таинственными дверьми фигуру, закрывали глаза, боязливо переступали с ноги на ногу, заискивающе смотрели на проходящих мимо работников деканата.
Так было всегда в первые дни экзаменов. Но потом тревоги и страхи уменьшались, факультетский коридор становился более веселым, заполнялся движениями и звуками, постепенно теряя свое сходство с упомянутым выше медицинским заведением. Студенты входили во вкус экзаменов, овладевали шпаргалочной техникой, вспоминали старые призмы и методы тайного пользования учебниками и хрестоматиями при подготовке к ответу и вообще, безнаказанно «спихнув» первые предметы, наполнялись нахальной уверенностью, столь необходимой для успешных ответов на следующих экзаменах.
…Пять дней давалось по расписанию на подготовку к экзамену по русской литературе девятнадцатого века. Когда Пашка Пахомов, потратив едва не все сто двадцать часов на овладение тайнами критического реализма девятнадцатого века, бурно развившегося, на беду студента Пахомова, именно в это время, вошел на факультет журналистики с малознакомым для себя намерением — сдать экзамен по русской литературе с первого захода, — факультетский коридор встретил его оживленным гулом многих голосов. Почти около каждой аудитории стояли возбужденно гомонящие толпы, шумно обсуждавшие итоги и результаты сессии. Медленно пробираясь среди однокурсников, старшекурсников и главным образом между многочисленными, беспорядочно сновавшими туда-сюда младшекурсниками, непрерывно здороваясь направо и налево со знакомыми, малознакомыми и вовсе не знакомыми ему людьми (последние, естественно, здоровались со студентом Пахомовым первыми — это были в основном почитатели его баскетбольного таланта), Пашка с удовлетворением отметил, что, несмотря на серьезные осложнения в отношениях с деканатом, он все-таки был своим человеком на факультете журналистики.
Потоптавшись немного около входа в восьмую аудиторию и расспросив у сидевших под дверьми Инны, Жанны, Руфы, а также обложенного со всех сторон книгами Степана Волкова о том, как идет экзамен (оказалось, что Галка Хаузнер получила тройку, Оля Костенко и Светка Петунина — пятерки, Изольда и Фарид — четверки, Сулико — тоже пятерку, Юрка Карпинский — тройку, Рафик Салахян — неожиданно четверку), Пашка решительно толкнул дверь и вошел в комнату, где пятая французская сдавала русскую литературу девятнадцатого века доценту Василию Ивановичу Елкину.
Пашка огляделся. За ближними к экзаменатору столами сидели Боб Чудаков и Эрик Дарский. Судя по их веселому виду, они уже были готовы к ответу. В глубине аудитории корпел над густо исписанными листами бумаги староста Леха Белов. У окна, глядя на университетский двор, восседал Тимофей Голованов, как всегда, одетый в строгий темный костюм и белую рубашку с галстуком.
— Возьмите билет, — скрипучим голосом сказал доцент Елкин.
Пашка сел за стол рядом с Тимофеем. В билете было дза вопроса:
1. Проблематика романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
2. Козьма Прутков.
Тимофей посмотрел на Пашку. «Все в порядке», — одними глазами сказал Пашка. Он и в самом деле вроде бы неплохо знал оба вопроса. Накануне, повторяя с Тимофеем билеты, они хорошо прошлись по всей программе.
Между тем около экзаменационного стола уже сидел Боб Чудаков.
— Какой у вас первый вопрос?
— Лирика Тютчева, — бодро ответил Боб.
— Пожалуйста, отвечайте, — сделал Елкин широкий жест рукой.
Студент Чудаков начал свой ответ издалека. Он коротко пересказал биографию Тютчева, особенно подробно задержавшись на дипломатической службе его в европейских странах. Долгая жизнь в отрыве от родины, по мнению Боба, была причиной возникновения в творчестве поэта глубоко интимных, элегических мотивов.
— Не совсем точно, но своеобразно, — перебил Чудакова Василий Иванович. — Продолжайте.
— Тютчев написал много лирических стихотворений, положенных на музыку русскими композиторами, — напористо отвечал Боб. — Например: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…»
— Что-что? — нехорошо улыбнулся доцент Елкин.
Эрик Дарский, не выдержав, фыркнул.
— Ох, простите! — спохватился Боб. — Это же Пушкин. Я просто перепутал. Я хотел прочитать совсем другие строки: «Я встретил вас — и все былое…» Очень похожие начала. Бывает же так: думаешь одно, а говоришь совершенно другое.
— Да, бывает, — неопределенно заметил Елкин.
Стараясь исправить ошибку, Боб с выражением
прочитал «Я встретил вас» до самого конца. Он так искренне хотел произвести на Елкина благоприятное впечатление, что последнее четверостишие произнес даже нараспев, с легким завыванием.
— «И то же в вас оча-арованье, — запел студент Чудаков, повторяя две последние строчки знаменитого стихотворения, — и та ж в душе моей любовь!..»
Экзаменатор нахмурился.
— В чем дело? — строго спросил он — Вы что, в консерватории экзамен сдаете?
Боб сидел потупившись. В аудиторию, привлеченная пением, испуганно заглянула пышноволосая Руфа. Тимофей Голованов, отвернувшись к окну, беззвучно смеялся. Даже Леха Белов, оторвавшись от своих листков, недоуменно поглядывал на Чудакова: уж не померещилось ли ему, Белову, пение на экзамене по литературе? Это было явное нарушение дисциплины.
Доцент Елкин, обозлившись на Чудакова, начал гонять его по всей программе. Особый упор преподаватель делал на критику — Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Боб, барахтаясь в направлениях и взглядах революционных демократов, медленно, но верно шел ко дну.
— Статью Добролюбова «Луч света в темном царстве» читали? — в упор спросил доцент Елкин.
— Кажется, читал, — неуверенно ответил Боб.
— Читали или не читали? — сдвинул брови Елкин. — Только не пытайтесь мне здесь спеть дуэт Лизы и Полины «Последний луч зари на башнях умирает».
Боб подавленно молчал.
— Придется вам, Чудаков, еще раз прийти ко мне на экзамен. Запишитесь в деканате на пересдачу.
Сгорбившись, Боб вышел из аудитории.
Потом отвечал Эрик Дарский. У него был «Борис Годунов». Эрик добросовестно рассказал содержание экранизации одноименного спектакля, с большим знанием дела разобрал режиссерскую трактовку и операторское искусство, выразил неудовлетворение актерской игрой. Он хотел было уже переходить к анализу звукозаписи, но в это время Елкин остановил его.
— У меня такое ощущение, — он наморщил лоб и поправил на носу свои массивные квадратные очки, — что я сегодня куда-то не туда попал. Один поет, другой рассказывает о кино. А где же литература? Ведь мы же собрались здесь, как мне кажется, для того, чтобы поговорить именно о литературе. Но может быть, я ошибаюсь? Может быть, я по рассеянности пришел в консерваторию или во ВГИК?
— Никак нет, — поднялся с места в углу аудитории Леха Белов, — это МГУ, факультет журналистики, четвертый курс, пятая французская группа.
Елкин взглянул в лежащую перед ним на столе экзаменационную ведомость.
— Совершенно правильно, — поблагодарил он кивком головы старосту. — Спасибо, голубчик. Вы развеяли мои сомнения.
Леха с видом победителя опустился на стул. Половина экзамена, как он считал, была у него уже в кармане.
Елкин вплотную приблизился к студенту Дарскому.
— «Луч света в темном царстве» читали? — строго спросил экзаменатор.
Это было спасение. Эрик хорошо знал «Луч света». Не переводя дыхания, он отбарабанил добролюбовскую статью и успел даже ввернуть несколько слов о кинофильме «Гроза», выделив удачное исполнение роли Катерины народной артисткой Аллой Константиновной Тарасовой.
Елкин подобрел. Он поставил Эрику четверку и отпустил с миром.
После Дарского ответ держал Леха Белов. Василий Иванович, глядя на выцветшую от долгой и безупречной службы Лехину гимнастерку, сразу же проникся к нему необыкновенной симпатией. Он минимально спросил его по билету, одобрительно покивал головой, прочтя исписанные Лехой листы, и, отложив их в сторону, спросил:
— Скажите, голубчик, вы, разумеется, «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого читали?
— Так точно, читал! — браво ответил староста Белов.
— Скажите, голубчик, а какая сцена из этого романа вам больше всего понравилась?
— Бородинский бой! — не задумываясь, гаркнул Леха.
И, не давая доценту опомниться, демобилизованный старшина отрывистой скороговоркой изложил Елкину диспозиции Кутузова и Наполеона, назвал количество войск, участвовавших в сражении с обеих сторон, а также главные пункты атаки французов и обороны русских — батарею Раевского и Семеновские флеши. Он, правда, ошибочно произнес слово «флеши» как «плеши», но даже это не изменило дела — Елкин снисходительно улыбнулся, удовлетворенно провел ладонью по собственной лысине и поставил Белову «отлично».
С Тимофеем Головановым разговор был еще короче. Как только Тимофей пересказал содержание статьи Ленина «Памяти Герцена», Василий Иванович сразу же перешел ко второму вопросу. И как только Тимофей и здесь начал вспоминать наизусть цитаты из Плеханова, доцент быстро нарисовал в головановской зачетке слово «отлично» и пожал Тимофею руку.
— Вот теперь я вижу, что не ошибся адресом, — широко улыбаясь, говорил Елкин, провожая групкомсорга до дверей, — и действительно попал в университет на экзамен по литературе. Есть у вас в группе, оказывается, не только певцы и кинематографисты, но и весьма осведомленные в литературном процессе прошлого века юноши.
Василий Иванович запустил в аудиторию последнюю «порцию» экзаменующихся — Инну, Жанну, Руфу и Степана Волкова — и призвал к своему столу студента Пахомова.
— Бурное развитие русской революции, — энергично начал Пашка, — ярким выразителем которой явился Лев Толстой, углубляло свойственное писателю стремление дойти до самого корня во всем — и в характеристике современного ему состояния человечества и в поисках выхода из этого трагического состояния. Все эти общие свойства творчества Толстого с особенной силой проявились в романе «Анна Каренина». Социальное значение этого произведения очень высоко. Слова одного из героев романа — «у нас все переворотилось и только укладывается» — были самой точной характеристикой жизни России переходной эпохи, когда разрушались старые феодально-крепостнические отношения и нарождался новый, капиталистический строй…
Доцент Василий Иванович Елкин, с интересом взглянувший на студента Пахомова, как только тот произнес первую фразу, уже на второй его фразе уселся напротив Пашки за стол и пристально начал разглядывать малознакомого ему по лекциям студента.
— Толстой всегда был неумолимым обличителем эксплуататорского общества, — продолжал Пашка, — беспощадно срывавшим всяческие маски со всех видов социальной лжи, фальши и угнетения. Но Толстой не только критиковал современное ему общество. Он активно разрабатывал положительный общественный идеал. В романе «Анна Каренина» он поставил конкретные вопросы демократии и социализма. Мысль Толстого постоянно была направлена не только на отрицание, но и на утверждение. В «Анне Карениной» писатель стремился показать, какова должна быть вообще человеческая жизнь…
Руфа, Инна, Жанна и Степан Волков, совершенно забыв о своих билетах, молча смотрели на студента Пахомова. Никогда за все три с половиной года, проведенные в университете, они не слышали от Пашки ничего подобного — может быть, только на первом курсе, когда недавний еще в те времена золотой медалист Павлик Пахомов продолжал по инерции, вернее, по школьной традиции, сдавать экзамены на сплошные пятерки, приходилось им быть свидетелями Пашкиных ответов на таком уровне.
Скрипнула дверь. Пашка повернул голову. В узком проеме между косяком и дверью виднелось лицо Тимофея Голованова. И сложная гамма переживаний была на этом лице. Тимофей болел за Пашку, он радовался за него, но прежде всего Тимофей, конечно, брал заочный реванш у тех, кто был против его дружбы с Пашкой.
А сам Пашка в эти необычные для него минуты видел себя как бы со стороны, как бы в ином свете, чем привык видеть всегда. Он вроде был почти незнаком с тем студентом, который сейчас под его именем и фамилией сдавал экзамен по русской литературе, И странной особенностью ума обладал этот самый студент — мгновенно «схватывать» на лету и запоминать то, на понимание чего другим людям требовалось гораздо больше времени и усилий.
— Осуждает или оправдывает Лев Толстой героиню своего романа? — говорил Пашка, и ему отчетливо виделась даже обложка той книги о творчестве Толстого, которую они накануне экзамена читали вместе с Тимофеем и страницы которой теперь как бы сами оживали в его памяти.
«Молодец Пашка! — радостно думал, стоя в дверях, Тимофей Голованов. — И как он только, негодяй, мог запомнить все это? Вот память! Поэтому он и не ходит на лекции: уверен, подлец, что в нужную минуту память его не подведет. Прочитает один раз учебник и шпарит наизусть».
— Конечно, Лев Толстой не мог осуждать свою героиню, — продолжал Пашка и вдруг совершенно неожиданно добавил не по книге, а от себя: — Толстой не мог осуждать Анну Каренину, так как в определенной степени Анна Каренина — это автопортрет самого Толстого…
— Что-что-что? — быстро переспросил доцент Елкин. — Анна Каренина — автопортрет Льва Толстого?
— А разве нет? — неуверенно спросил Пашка.
— Очень оригинальное соображение, — задумчиво произнес Елкин.
— Но Анна Каренина является только одной половиной автопортрета Льва Толстого, — напористо продолжал Пашка, — второй половиной этого автопортрета был Константин Левин…
— Ну, что ж, пожалуй, достаточно.
Доцент Елкин встал и протянул Пашке зачетку.
— Товарищ Пахомов, я поставил вам «отлично». Хотите заниматься в научном студенческом кружке, которым я руковожу?
— Я подумаю, — надменно сказал Пашка, пряча зачетку в карман пиджака.
— Подумайте, подумайте, — очень серьезно повторил доцент Елкин.
Пашка вышел в коридор. Около дверей восьмой аудитории собралась чуть ли не вся пятая французская — все, кто, сдав экзамен, еще не ушел из университета. На лицах однокурсников цвели улыбки.
— Павел, молодец! — первой бросилась к Пашке Света Петунина. — Ты так здорово говорил о Льве Толстом, что мы все чуть с ног не попадали. Слушай, откуда ты так хорошо знаешь Толстого?
— Откуда, откуда, — ворчливо буркнул Пашка. — От верблюда! Изучать надо классиков.
Света засмеялась, а к Пашке уже протиснулась Оля Костенко.
— Павлик, поздравляю, — тихо сказала Оля, — молодчина.
Тимофей стоял позади всех. Пашка подошел и слегка ткнул его кулаком в грудь. Тимофей так же легко ткнул Пашку в ответ.
— Ну, как? — задиристо спросил Пашка и прищурился. — Едем?
— Едем, — вздохнул Тимофей.
4
Когда в пятой французской узнали о том, что Пашка и Тимофей собираются во время зимних каникул отправиться в «свободный полет», то есть не в дом отдыха, и не на лыжах, и не в коллективный культпоход по московским театрам и клубам — танцевальные вечера, песни, пляски, шарады, викторины, капустники, самодеятельность, — а в какую-то никому неведомую областную газету (и не на практику, не по направлению, а просто так, сами по себе) и уже там, в этой ни кому неведомой и пока даже географически неизвестной областной газете, предъявив свои студенческие билеты факультета журналистики, хотят попросить редакцию послать их в командировку в колхоз, когда в пятой французской узнали об этом, Тимофея и Пашку подняли на смех.
— По-моему, все это несерьезно, — сказала Оля Костенко.
— А чего там несерьезно? — глубокомысленно произнес Степан Волков. — Вон Афанасий Никитин тоже незнамо куда отправился, а попал в Индию.
— А Колумб? — подхватил Боб Чудаков. — Взял командировку в Индию, а в результате открыл Америку.
— Кстати сказать, Колумб так и не отчитался в командировочных суммах, взятых на открытие Индии, — добавил Эрик Дарский, демонстрируя великую преданность любимым сатирическим авторам Ильфу и Петрову.
— Ну, хорошо, Пахомов — известный выдумщик и фантазер, — развела руками Сулико Габуния. — А Голованов? Он же человек положительный, ему-то зачем ехать?
— Никто их там ни в какую командировку не пошлет, — неожиданно сказал Рафик Салахян. — Их по дороге арестуют, будут судить за ересь, сожгут на костре, а урны с прахом пришлют на факультет наложенным платежом.
— Пашкину урну поставят на кафедре физкультуры, — мрачно пошутил Юрка Карпинский.
— А тимофеевскую в комитете комсомола, вместо пепельницы, — добавил Боб Чудаков.
— Надо отговорить их ехать! — ужаснулась пышноволосая Руфа.
— Странная какая-то история, — задумчиво сказала Изольда Ткачева. — Пахомов не ходил на лекции, не посещал семинары и вдруг сдал литературу лучше всех. Голованов никогда не совершал никаких легкомысленных поступков и вдруг отправляется вместе с Пахомовым в какое-то авантюрное путешествие…
— Они же золотые медалисты, — с усмешкой заявила Галка Хаузнер, — им все можно.
— А вот и заголовок для некролога в стенной газете! — обрадовался Эрик Дарский. — Приключения двух медалистов окончились печально!
— Хватит вам всякую ерунду болтать! — сурово оборвал староста Леха Белое неуемных остряков. — Пускай едут. И ничего с ними не случится. Не маленькие.
Леха почему-то был единственным человеком в пятой французской, с самого начала положительно отнесшимся к идее поездки, хотя мог бы усмотреть уже в самой этой идее нарушение дисциплины про ведения каникул.
Дело кончилось даже тем, что именно Леха Белов помог окончательно определить маршрут — Куйбышев. Леха дал Пашке и Тимофею адрес своих куйбышевских знакомых, у которых можно было переночевать, если откажут в гостинице. И кроме того, один из членов семейства этих знакомых работал как раз в нужной Пашке и Тимофею областной газете.
Перед самым отъездом — за два дня, когда уже были куплены билеты, — студентов четвертого курса Голованова и Пахомова неожиданно вызвали в партбюро факультета журналистики.
Заместитель секретаря партбюро аспирант Халманов (инвалид войны со страшно изуродованной под Сталинградом рукой — вместо ладони и пальцев у него прямо от локтя шли обтянутые обожженной красной кожей, похожие на рачью клешню две лучевые кости) внимательно посмотрел на Тимофея и Пашку и сказал:
— Не удивляйтесь. Про вас по факультету ходят противоречивые разговоры. Куда-то собираются ехать, кому-то показывать студенческие билеты, где-то хотят заработать денег. Так это или не так?
— Так, — твердо сказал Тимофей.
— Вас, товарищ Голованов, мы хорошо знаем, — поправил Халманов «клешней» галстук, и у Пашки как-то болезненно сжалось от этого движения сердце, — и к вам у нас никаких вопросов нет. Против вашей кандидатуры мы ничего против не имеем. А вот с товарищем Пахомовым хотелось бы побеседовать…
Пашка насторожился. Жалость, которую он испытал к Халманову еще секунду назад, сменилась неприязненным чувством.
— О чем будет беседа? — нахмурился Тимофей. — Мы едем в каникулы, а во время каникул, насколько я понимаю, каждый студент может перемещаться по стране во всех направлениях без ограничений.
— Да не нападайте вы сразу на меня! — поморщился Халманов. — Никто вам не собирается ставить никаких ограничений. Вы что думаете, партийное бюро разрешает или запрещает поездки студентов по стране?
— Нет, я так не думаю, — солидно ответил Тимофей.
— Ну, вот и хорошо, что так не думаете, — улыбнулся Халманов, и Пашка, увидев на лице аспиранта следы ранений и сильных ожогов, которые, когда он не улыбался, были не так сильно заметны, снова проникся к нему сочувствием и жалостью.
— Так вот, товарищ Пахомов, — продолжал заместитель секретаря партбюро, — есть к вам несколько вопросов… Как у вас вообще-то с дисциплиной?
Пашка снова насторожился.
— В каком смысле?
— Да в самом простом. Лекции аккуратно посещаете?
— Не совсем…
— Причина?
— Он болел, — вмешался Тимофей.
— Это, конечно, хорошо, товарищ Голованов, что вы так изобретательно защищаете своего друга, но я слышал, что товарищ Пахомов не только из-за болезни лекции пропускает, а главным образом из-за того, что слишком сильно увлекается спортом.
— Да вы знаете, как он в баскетбол играет?! — вдруг закричал Тимофей, навалившись на стол, за
которым сидел Халманов. — Он однажды всю нашу университетскую команду мастеров чуть один не обыграл!
Халманов, удивленно подняв обожженные брови, с интересом смотрел на Тимофея.
— Да вы знаете, — продолжал Тимофей, забыв обо всей своей солидности и сдержанности, — что Пахомов — лучший баскетболист нашего факультета?!
— Откровенно сказать, не знаю…
— А почему не знаете? — снизил тон и хитро прищурился Тимофей. — А потому, что партбюро вообще плохо интересуется состоянием спорта на нашем факультете.
— Что верно, то верно, — подтвердил Халманов. — Состоянием спорта на нашем факультете партийное бюро действительно интересуется пока еще недостаточно.
— Так зачем же вы упрекаете человека в том, что он увлекается спортом?
— Но ведь не за счет же учебы? Нельзя ведь из-за баскетбола столько лекций пропускать, сколько в прошлом семестре пропустил Пахомов.
— Кстати сказать, — высокомерно откинулся на стуле Тимофей, — в последний месяц перед сессией Пахомов не пропустил ни одной лекции.
— А как вы, товарищ Пахомов, вообще-то сессию сдали?
— Его ответ на экзамене по русской литературе девятнадцатого века был признан лучшим в группе, — не дав Пашке даже открыть рта, снова вмешался Тимофей.
— Вот это молодцом, — похвалил заместитель секретаря партбюро, — это я одобряю.
— Так зачем вы нас тогда вызвали? — опять навалился на стол Тимофей.
— Собственно говоря, дело здесь вот в чем, — сказал Халманов и достал костями-пальцами изуродованной руки носовой платок.
И тут только Пашка заметил, что вторая рука у аспиранта вообще не действует. Рукав пиджака, оканчиваясь черной, глухо застегнутой перчаткой, висел неподвижной плетью.
И, увидев эту черную перчатку, Пашка вдруг сразу все «простил» Халманову— и вопросы, которые тот задавал до этого, и те, которые он мог бы задать еще.
Халманов вытер лицо платком, спрятал его в пиджак.
— Собственно говоря, дело здесь вот в чем, — повторил он. — Партийное бюро в принципе не возражает против вашей поездки. Больше того, мне, например, даже нравится, что вы проявляете личную инициативу и едете в областную газету попробовать свои силы, так сказать, в свободном журналистском полете. Но коль скоро вы будете предъявлять в этой областной газете студенческие билеты нашего факультета, то старайтесь в первую очередь не деньги зарабатывать, а показать, что вы действительно из Московского университета. Помните, что на вас будет лежать ответственность не только за самих себя, но и за весь наш факультет.
— Товарищ Халманов, — бодро выдвинулся вперед Пашка, — можете не беспокоиться. Все будет в порядке. Мы им там всем покажем, что такое факультет журналистики Московского университета. Мы будем работать там, как звери!
— Странный ты все-таки парень, Пахомов, — задумчиво сказал Халманов. — Все учатся, а ты в баскетбол играешь. Все отдыхать после экзаменов едут, а ты работать собрался. Все наоборот.
5
Провожать Пашку и Тимофея на Казанский вокзал пришли, несмотря на мороз, Оля Костенко, Светка Петунина, Руфа, Боб Чудаков и Юрка Карпинский.
Вещей у Пашки и Тимофея почти не было — два рюкзака и школьный портфель с блокнотами и карандашами. Портфель был взят по настоянию Тимофея, которому он, собственно говоря, и принадлежал, будучи верным тимофеевским спутником еще в школьные, «золотые» медалистские годы, — поэтому Голованов и взял его с собой в качестве талисмана и символа будущей удачи.
Последним на перроне появился Эрик Дарский.
— Виват! — закричал Эрик издалека. — Я не опоздал?
— Да нет, вон поезд стоит совершенно пустой, — сказал Боб Чудаков.
Гурьбой пошли вдоль не заполненных еще пассажирами вагонов. Сверившись с билетами, влезли в нужный вагон (проводников около вагонов почему-то до сих пор не было), нашли свое купе, тесно расселись на нижних местах.
— Ребята, — серьезно и печально сказала вдруг Светка Петунина, — а ведь вы первые из всей нашей пятой французской уезжаете в настоящую, взрослую, самостоятельную журналистскую поездку.
— «В флибустьерском дальнем синем море-е, — запел Боб Чудаков, — бригантина поднимает паруса»!
Но неожиданно никто не поддержал Чудакова. Всех вдруг охватила грусть от Светкиных слов.
— Граждане пассажиры, — раздался на перроне голос радиодиктора, — поезд «Москва — Куйбышев» отправляется с третьей платформы через три минуты. Повторяю…
— Странно, — забеспокоилась Оля Костенко, — поезд уходит через три минуты, а вагон совсем пустой.
— Отцы! — зашелся вдруг в немом смехе Эрик Дарский. — А ведь мы не в тот поезд сели. «Москва — Куйбышев» вон там стоит!
И он показал пальцем в окно.
Все кинулись к окну. На соседнем перроне действительно стоял готовый к отходу поезд. Все признаки его отправления через три минуты были налицо: вдоль вагонов бежали с чемоданами запыхавшиеся пассажиры, в дверях вагонов в строгой черной форме и красных фуражках стояли грозные проводницы, кто-то обнимался, кто-то целовался, кто-то махал уже рукой.
— Мужики! — гаркнул Юрка Карпинский. — Ноги в руки! Рысью из вагона, опоздаем!
Пашка и Тимофей, схватив рюкзаки и портфель, первыми выскочили из купе. За ними сыпанули все остальные.
— Карпо, держи «Москва — Куйбышев» за последний вагон! — закричал Боб Чудаков.
— Ложись под колеса! — добавил Эрик Дарский.
«Москва — Куйбышев» тронулся…
— Ох, ох, ах! — завизжали девицы.
Юрка Карпинский, расталкивая провожающих, мчался вдоль медленно движущихся вагонов.
— Стой, стой! — орал Карпо проводникам. — Врубай «стоп-кран»! Самых главных забыли!
Стоящие в дверях в черной форме проводники строго и как бы даже безучастно смотрели на бегущего около их ног молодого человека.
Пашка Пахомов, вспомнив годы, проведенные в «хиве» в многочасовой беготне по спортивному залу, наддал и, опрокинув нескольких провожающих, вцепился в поручни последней площадки последнего вагона.
Рядом задыхался Тимофей.
— Кидай мешки в вагон! — заорал Карпо, поравнявшись с Пашкой.
Пашка закинул в тамбур свой рюкзак. Карпо вырвал из рук обессилевшего и поэтому уже плохо соображающего Тимофея его рюкзак и тоже кинул в тамбур.
Поезд убыстрял ход.
— Ребята, осторожнее! — кричала сзади Оля Костенко.
— Ох, ах, помогите! — голосила пышноволосая Руфа.
Пашка, изловчившись, прыгнул на нижнюю ступеньку.
— Давай, Тимка, давай! — захрипел Пашка.
Неуклюжего на бегу комсорга рывком, в четыре
руки, втолкнули на ступеньки Юрка Карпинский и Боб Чудаков.
Поезд убыстрял ход.
— А портфель? — тяжело дыша, спросил Тимофей.
— Какой еще
портфель? — зло посмотрел на лучшего друга Пашка.
— Портфель с блокнотами!..
Пашка оглянулся. Тимофеевский «медалистский» портфель, туго набитый блокнотами и карандашами, остался в руках у Эрика Дарского.
— Ой, не могу! — кричал вдогонку поезду, хватаясь за живот Боб Чудаков. — Смелые путешественники чуть было не уехали не в ту сторону! Вместо Индии в Америку! Ой, не могу!
Поезд шел все быстрее и быстрее. Пашка и Тимофей— растрепанные, растерзанные — висели на последней площадке, вцепившись в поручни. А пятая французская — Боб, Эрик, Карпо, Оля, Руфа и Светка, остановившись наконец и сбившись в кучу, махали им вслед руками…
Часть четвертая
Каникулы
1
Куйбышев не произвел на Пашку и Тимофея сильного впечатления. Город был как пород. Где-то дома повыше, где-то пониже, ходили трамваи и автобусы, строились новые здания, толпились на перекрестках пешеходы.
Пашка и Тимофей сошли с трамвая в центре и, подробно расспрашивая постовых милиционеров, нашли редакцию областной газеты, где, согласно сведениям, полученным от Лехи Белова, должен был работать его знакомый — местный журналист Петр Петрович Прусаков.
В здании редакции пахло типографской краской и теплым металлом. Пашка и Тимофей поднялись на второй этаж. Пустынные коридоры оглашались дробными очередями пишущих машинок. Пшика и Тимофей, с интересом читая надписи на дверях, медленно двигались вперед
В огромной и пустынной приемной главного редактора одиноко сидела миловидная девушка, тщательно разглядывая свое лицо в стоявшем перед ней зеркальце.
— Вы откуда, товарищи? — оживленно спросила девушка, пряча зеркальце в ящик письменного стола.
— Можно будет пройти к главному редактору? — спросил Тимофей.
— Главного редактора сейчас нет, — деловито ответила секретарша.
В это время в приемную вошел довольно молодой еще человек с густой черной шевелюрой и черными усиками.
«На Чарли Чаплина похож», — успел подумать Пашка.
— Лидочка, приветик! — весело закричал маленький человек. — Главный у себя?
— На пленуме.
— Ах, какая жалость, Лидочка! Как только придет— звякни мне.
Он крутанулся вокруг себя на каблуках и хотел было уже уходить, но потом снова обернулся.
— Простите, молодые люди, — обратился он к Пашке и Тимофею, — вы, кажется, кого-то ищете? Я видел вас в коридоре… Вы из Москвы?
— Нам нужен Прусаков Петр Петрович, — хмурясь, сказал Тимофей.
«Чарли Чаплин» выразительно посмотрел на секретаршу и расплылся в широкой улыбке.
— Если вам действительно нужен Петр Петрович Прусаков, — сказал он, излучая веселье, — так это я. А вы — Пахомов и Голованов?
— Откуда вы нас знаете? — изумился Пешка
— Леша Белов звонил мне вчера из Москвы и сказал, что вы едете. Извините, что не смог встретить: угнали в срочную командировку. Пойдемте ко мне — сейчас все обсудим и наметим план вашей дальнейшей жизни в городе Куйбышеве и его окрестностях.
Через пять минут все встало на свои места. В маленькой комнатке, где сидел очеркист областной газеты Петр Прусаков, выяснилось, что Петр Петрович тоже студент факультета журналистики. Но только заочного отделения. Так как в молодости «бил баклуши» и не учился. А летом прошлого года он приезжал в Москву сдавать сессию. И в общежитии жил в одной комнате с Лехой Беловым.
— Итак, — сказал Петр Петрович, — насколько я понял по телефонному разговору с Алексеем, вы хотите поехать в командировку. Вопрос — куда?
— Может быть, в какой-нибудь колхоз? — предложил Тимофей.
— Вы хорошо знаете сельское хозяйство? — спросил Петр Петрович.
— Не так, чтобы очень хорошо, но все-таки занимались в семинаре по сельскому хозяйству. Зачет сдали.
— Понимаете, Тимофей, — лицо Прусакова стало очень серьезным и даже немного злым, — писать о сельском хозяйстве в областной газете надо очень квалифицированно и очень честно. С учетом знания местных условий — традиций, специализации, климата и так далее. Или лучше не писать совсем. Так вот, вам пока за сельское хозяйство не стоит браться.
— А за что нам взяться? — спросил Пашка.
— Сейчас посмотрим карту, — сказал Петр Петрович, встал из-за стола и подошел к висевшей на стене карте Куйбышевской области.
Пашка и Тимофей присоединились к нему.
— Карта — это очень важно для журналиста, работающего в областной газете, — сказал Петр Петрович. — Когда вы смотрите на карту, вы уже как бы летите над своей областью на самолете.
Пашка и Тимофей внимательно вглядывались в карту, где ярко выделялась мощная синяя петля Волги.
— О! — неожиданно ударил себя ладонью в лоб Петр Петрович и снова сел за свой стол. — О чем
еще думает этот маленький смешной человек с тараканьей фамилией, когда есть прекрасный адрес для вашей будущей командировки! Вы знаете, что на территории нашей области строится ГЭС — одна из величайших гидроэлектростанций в мире?
— Слыхали, — неопределенно сказал Тимофей.
— «Слыхали»! — передразнил Петр Петрович Тимофея, фыркнул и рассмеялся. — Да, собираясь к нам сюда, вы должны были сами предложить мне этот адрес и изучить все, что можно было узнать о Волжской ГЭС еще в Москве. Какие же вы будущие журналисты, если, находясь в Куйбышеве, хотите поехать в колхоз, а не на самый главный строительный объект области? И даже не области, а на строительный объект всесоюзного — больше того! — мирового масштаба.
— Вообще-то говоря, мы думали в Москве о том, чтобы поехать на какую-нибудь стройку, — сказал Тимофей.
— А надо было думать не вообще, а конкретно! — сердито посмотрел на Тимофея Прусаков. — Это, знаете ли, только очень плохие журналисты приходят в редакцию и говорят: о чем бы мне написать? Куда бы мне поехать? Пошлите меня, пожалуйста, куда-нибудь… Хороший журналист должен сам приносить в редакцию адрес и тему своей будущей поездки, а не выпрашивать все это, как милостыню. Хороший журналист должен думать заранее, должен мыслить, должен уметь из многих адресов на карте выбрать такой, в одном названии которого уже заключался бы большой общественный смысл, дух времени, какие-то типические черты нашего образа жизни именно в данную минуту, час, день, месяц, год. Понятно?
2
Серое шоссе Куйбышев — Ставрополь лежало среди белых полей. Автобус катил мимо приземистых поселков и бревенчатых деревень. Иногда навстречу машине выбегали из-за поворота невысокие холмы и пригорки, покрытые редкими лесами, и тогда чувствовалось приближение отрогов Жигулевских гор.
Вечерело. Солнце то и дело перепрыгивало через петляющую дорогу. Косые и холодные лучи его золотили зеленые сосны.
Тимофей, глядя в окно, думал о том, как они будут выполнять полученное в редакции задание. На две недели командировки задание было довольно серьезное. Состояло оно из трех пунктов:
1. Написать очерк о передовом экскаваторщике Волжской ГЭС.
2. Организовать статью о кандидате в депутаты.
3. Подготовить дискуссию о производительности земснарядов.
Когда Петр Петрович накануне их отъезда, набросав вчерне план задания, пошел подписывать его к главному редактору, Тимофей недовольно сказал Пашне:
— Зачем ты согласился на все эти пункты? Мы же их не выполним.
— Выполним, — усмехнулся Пашка. — Чего тут выполнять-то?
…В Ставрополь-Волжский приехали под вечер. Город был весь деревянный, серые бревенчатые дома тянулись вдоль улиц вкривь и вкось, снег был густо перемешан с навозом, около ворот домов стояло множество запряженных в сани лошадей, бродили по городу собаки.
— Ну и городишко, — пренебрежительно сказал Пашка, поглядывая по сторонам, — деревня какая-то, а не город. Пошехонская старина.
— Да-а, — неопределенно протянул Тимофей, — не похоже что-то это место на великую стройку коммунизма.
В гостинице мест, конечно, не было. Пашка небрежным жестом сунул в окошко дежурного администратора командировочное удостоверение и сурово сказал:
— Нам нужен двухместный номер.
Окошко дежурного захлопнулось, и к Пашке с Тимофеем вышел небритый человек в меховой безрукавке.
— Двухместный номер? С пальмами, конечно, и с бассейном?
— Мы не шутим, — нахмурился Пашка. — Мы из областной партийной газеты.
— А хоть из центральной «Правды», — сказал небритый. — У нас здесь и в обыкновенные времена никогда свободных мест не было, а сейчас и подавно. Все с ног на голову встало. Город на дно идет.
— Как это на дно? — не понял Тимофей.
— Очень просто. Затопляют нас. Когда плотину построят, Ставрополь на дне моря будет. Сейчас все отсюда уезжают, дома продают, имущество, скотину. Последний день Помпеи.
Пашка и Тимофей вышли из гостиницы. По улице зигзагом двигалась веселая компания с гармонью.
— «Вот ктой-то с го-рочки спустился-я!» — лихо раскинув меха, запел гармонист, но тут же поскользнулся и упал.
— «Наверно, ми-лай мой идет!» — взвыла ватага дурными голосами.
— «На нем защи-и-тна ги-мнастерка-а-а!..»
— Со старым местом народ прощается, — сказал сзади Пашки и Тимофея вышедший из гостиницы небритый дежурный. — В Соцгород
[1] все переезжают. А здесь отцы и деды жили. Обидно, конечно. Душа разгула требует.
Почти около каждого дома стояли машины и розвальни, из ворот выносили вещи, мебель, разноцветные узлы с барахлом, выводили скотину, кидали в кузова грузовиков нехитрые пожитки, наваливали на подводы и сани подушки, одеяла, одежду, посуду, сажали сверху ребятишек.
На центральной площади, несмотря на близкие сумерки, бойко действовала барахолка. Торговали всем, чем попало: табуретками, стульями, столами, кроватями, конской упряжью, ведрами, корытами, стенными часами, фикусами, патефонами, топорами, граблями, мешками, вожжами, хомутами, гвоздями, бочками, лопатами…
— Как интересно, — задумчиво сказал Тимофей, — великое переселение народов. Целый город переезжает на новое место. Политэкономия в действии. Товар — деньги — товар.
Но переселяющиеся народы, выручив за проданные товары деньги, отнюдь не торопились, согласно классическим законам политэкономии, приобрести новые товары. Жители затопляемого города несли деньги в основном в ярко освещенную и гудящую многочисленными голосами столовую, гостеприимно распахнувшую двери прямо тут же, рядом с барахолкой.
Пашка и Тимофей, пройдя через рынок, вошли в столовую. Атмосфера последнего дня Помпеи была доведена здесь до самого высокого градуса. Все столы были облеплены тулупами, ватниками, телогрейками. Обвязанные крест-накрест пуховыми платками бабы сидели в компаниях подвыпивших мужиков, в воздухе плавали табачные дымы, слышался разухабистый волжский говорок, песни, крики, стоявшая в углу облезлая радиола вырабатывала двадцатилетней давности фокстроты, энергично функционировал буфет.
Работникам столовой всеобщий дух близкого затопления, по всей вероятности, был сильно на руку. Существовала, очевидно, надежда вместе со зданием столовой оставить на дне морском и многие производственные грехи ее работников.
Но основной вид «производственной» деятельности — щи и гуляш с макаронами — был выше всяких похвал. Толстая тетка на раздаче щедро плеснула Пашке и Тимофею в большие глиняные миски по две поварешки густых наваристых щей — эх, последние денечки на этом месте первые блюда разливаем! — и бросила в миски по огромному куску свинины. Румяная грудастая деваха навалила в тарелки гору гуляша и макарон и шваркнула в гарнир по три ложки сметаны.
В гостиницу вернулись затемно. Перед комнатой дежурного вповалку лежали на полу люди в засаленных телогрейках, в измазанных мазутом тулупах, в пахнущих бензином бушлатах.
— Так, все ясно, — сказал Пашка. — Никаких мест, конечно, нету
— Да какие же могут быть места? — развел руками небритый дежурный. — Сами видите, что делается…
— Ладно, будем спать на полу, — решительно сказал Пашка.
Перешагивая через лежащих вплотную друг к другу шоферов, трактористов и прочий дорожный люд, застигнутый ночью в городе, уходящем на дно будущего Куйбышевского моря, Пашка Пахомов пробрался в угол. Тяжелый дух висел в воздухе. Пахло мокрой овчиной, валенками, кирзовыми сапоге-ми, портянками. Слышался храп, свист, бормотание, пришептыванья, стоны и вздохи.
Пашка Пахомов растолкал в углу какие-то тяжелые во сне, измазанные соляркой и машинным маслом фигуры.
— Тим, — тихо позвал Пашка, — иди сюда. Здесь, кажется, можно лечь.
Перешагивая через спящих, именной стипендиат Голованов приблизился к Пашке.
— Ложись, — показал Пашка Тимофею на узкое пространство грязного затоптанного пола.
Сам Пашка быстро сбросил с себя рюкзак, лег на пол, положил голову на рюкзак и мгновенно захрапел.
Тимофей с трудом втиснулся между Пашкой и еще каким-то невыносимо пахнущим бензином человеком. Голова лежала на рюкзаке высоко и неудобно. Тимофей страдал. Он спал на полу впервые в жизни.
Пахнущий бензином человек перевернулся и тяжело задышал прямо в лицо Тимофею чесноком. Тимофей осторожно отодвинул его от себя.
— Кто? Чего? — забормотал человек и больно толкнул Тимофея сапогом.
— Не толкайтесь, — тихо сказал Тимофей.
— Кого? — хрипло со сна спросил пахнущий бензином.
— Не толкайтесь, говорю, — повторил Тимофей.
— Иван! — позвал пахнущий бензином. — Тут какие-то фраера позже всех явились и с места меня гонят.
— Спи, — сонно сказал голос из-за его спины, — какие, тут могут быть фраера? Такие же, как и мы, работяги.
Пахнущий бензином отвернулся от Тимофея и сразу же захрапел. За спиной у Тимофея храпел Пашка.
Кто-то вошел в гостиницу.
— Места есть? — спросил простуженный голос.
— На потолке, — ответил дежурный.
— А где же спать-то?
— А я почем знаю? У начальства своего спрашивай, которое вас сюда посылает.
— Хоть бы затопили скорее ваш Ставрополь. Не город, а недоразумение.
— Затопят, не волнуйся. В свое время затопят.
— Триста километров сегодня с утра проехал. С двумя прицепами. Трубы для земснарядов привез, а ночевать негде.
— Людей гонют, технику волокут, а условий не создают, — ворчал дежурный. — Нешто это правильно? Не по-божески это. Сперва условия надо строить, а потом уж плотину.
«Записать бы эту фразу, — подумал Тимофей. — И вообще, хорошо было бы законспектировать весь разговор. Готовый диалог для корреспонденции о бытовых условиях строителей гидростанции… «Законспектировать»! — усмехнулся тут же Тимофей. — В университете, что ли? На лекции у Друга Человечества Эраста? Или у Одуварда?»
За спиной групкомсорга Голованова храпел Пашка Пахомов.
«Вот дьявол неприхотливый, — подумал Тимофей и даже позавидовал Пашке. — Привык на своей дурацкой кафедре физкультуры ко всяким лошадиным запахам — ему и здесь нипочем. А тут ворочайся с боку на бок».
— Слышь, отец, — снова раздался простуженный голос у входа, — закурить не найдется?
— Некурящий.
— Ладно, в машину пойду спать…
— Замерзнешь.
— Движок включу.
— Угоришь от газов-то.
— Стекло опущу. Перетерплю.
— Ладно, чего там в машину — бензин жечь государственный… Иди сюда ко мне, в дежурку, ложись на пол под стол. Только осторожно — у меня тут две женщины с ребенком спят… Аккуратнее ступай сапожищами… Лег? Ну, спи.
3
Когда Тимофей проснулся, рядом уже не было ни одного человека— он один лежал на полу. Тимофей сел и оглянулся — Пашка Пахомов стоял около окошка дежурного администратора.
— …поэтому какая у нас тут может быть жизнь? — говорил все тот же небритый дежурный администратор. — Мы уже и Ставрополем перестали называться, а просто Порт-город. Вся жизнь наверх ушла, в Соцгород. А у нас тут кто остался? Одна шелупень. Скоро забудут, как и место это раньше звали.
— А вот скажите, пожалуйста, — вкрадчивым голосом спросил Пашка Пахомов, — кто у вас тут на строительстве лучшим экскаваторщиком считается?
— Экскаваторщиком? Мячев Володька, кто же еще. Он с Волго-Дона к нам приехал, еще там большим человеком стал А здесь уже развернулся на всю катушку — дешевле всех вынимает один кубометр грунта. К нему министры приезжают, ему премии дают, на Доске почета висит, с первого места не слезает. Сурьезный мужик, хваткий.
— А как бы найти этого Мячева? — интересовался Пашка. — Где он живет?
— А живет он на том берегу, в Жигулевске. Там и работает, котлован роет. В Жигулевске все главные дела по строительству идут.
— А вообще-то Ставрополь хороший город был? — не унимался Пашка, — Красивый? Ну, скажем, летом?
— Летом здесь одна пыль была да комары с мухами.
— Ну, а раньше, — не отставал Пашка от дежурного, — в старые времена?
— В старые времена здесь только церковь была. Еще бревна здесь из Волги вылавливали, дома из них катали и прямо тут же на берегу ставили. Уездный был городишко. Богу молились, семечки грызли, ворон в небе считали. Капустой кислой тут кругом пахло.
…Утренний Ставрополь разительно был не похож на вчерашний, вечерний. На улицах было тихо, дома спали, только из печных труб поднимался кое-где легкий дымок. Ярко, морозно белели на солнце снега, пахло сырой древесиной, свежим навозом. Где-то в стороне шумели на дороге машины, долетали лязгающие металлические звуки. Обветшалая колоколенка одиноко торчала над серыми крышами.
В чайной напротив гостиницы наскоро съели по винегрету, котлете, выпили по стакану горячего, обжигающего чая.
— Какой маршрут на сегодня? — спросил Тимофей.
— Есть предложение съездить в Соцгород, — сказал Пашка. — А вообще-то на тот берег надо пробираться.
На автобусной остановке топталось несколько человек. Подошла крытая, обитая фанерой полуторка с металлической стремянкой на заднем борту. Это и был местный автобус, курсирующий по маршруту Ставрополь — Соцгород и обратно.
Минут через сорок, поднимаясь все время по серпантину дороги вверх, приехали в Соцгород. Тимофей и Пашка выпрыгнули из кузова, и сильный смолистый запах, идущий от множества новых, недавно построенных и обшитых белым еловым тесом одинаковых двухэтажных домов, повеял на них вместе с запахом морозного чистого снега.
Соцгород в отличие от мрачного серого одноэтажного Ставрополя был принципиально двухэтажным населенным пунктом. Все дома были трогательно похожи друг на друга, как близнецы. Казалось, что их сложили из одних и тех же кубиков детского деревянного конструктора: окно над окном, над ними крыша, над крышей труба, а из трубы дым. Словно рука юного художника нарисовала все эти незатейливые строения и беспорядочно разбросала их среди зеленых сосен и елей… И громкая задорная музыка из висящих прямо на деревьях репродукторов. Новый город стоял в лесу без церкви, без барахолки, без вросших в землю амбаров, без мрачных ставропольских изб-крепостей с медвежьими воротами и паутиной серых покосившихся заборов, змеившихся вокруг огородов и садов.
Пашка и Тимофей до самого обеда ходили по городу. Зашли даже в новый детский сад, где щекастые люди в передниках и фартуках с петухами и зайцами тонкими жалобными голосами разучивали жизнерадостную песню.
В два часа дня сделали перерыв, опять наскоро перекусили в столовой и отправились на автобусную остановку, чтобы ехать на другой берег Волги, в Жигулевск.
Снова пришел местный «автобус» — крытая фанерой полуторка (пока стояли на остановке, узнали, что ее здесь называют «душегубка»), Пашка и Тимофей влезли в кузов и покатили по ледовой дороге через Волгу.
Река лежала запорошенная снегом, мертво схваченная льдом. Дул сильный ветер, мела поземка, вольные речные метели, зло завихряясь, гонялись, друг за другом, в щели между фанерными листами сыпался снег. Постепенно белое марево окутало дорогу, стало темно и холодно. У Пашки, обутого в сапоги (в Москве он не успел найти валенки), начали мерзнуть ноги. Пашка сначала сжимал и разжимал пальцы, а потом начал стучать подошвами сапог о днище кузова. Не помогало. Ноги мерзли все сильнее и сильнее.
— Слышь, парень, — тронул кто-то Пашку сзади, из темноты за плечо, — на-ка вот, возьми газетку. Разуйся, оберни ноги, теплее будет.
Пашка стащил сапоги, разорвал пополам газету, накрутил ее, как портянки, на шерстяные носки, снова обулся. Действительно стало теплее.
— Спасибо, — обернувшись, сказал Пашка в темноту.
— Кушай на здоровье, — ответила темнота голосом хозяина газеты. — Чего ж в сапогах по морозу бегаешь? Зимой в наших местах в сапогах — хуже чем босиком.
…Жигулевск лежал в низине между двумя высокими горами. Это был уже совершенно другой город — не бревенчатая деревня, как Ставрополь, и даже не — двухэтажный смолистый Соцгород. Многоэтажные, каменные, современной архитектуры дома стояли вдоль хорошо спланированных улиц, расчерчивающих город на правильные квадраты.
Слева от города раскинулся гигантский котлован будущей гидроэлектростанции. Густая сеть железных ферм и арматуры покрывала огромное углубление в земле. Отчетливо виделась высокая насыпь шпунтовой перемычки, отделявшая район работ от Волги. На дне котлована, рыча моторами, ползали экскаваторы. Длинная вереница пустых самосвалов медленно сползала вниз к экскаваторам, чтобы, приняв в кузова кубометры скального грунта, еще медленнее, устало и натруженно, но непреклонно начать подниматься по насыпи котлована.
Панорама строительства была настолько впечатляющей, так графически четко вырисовывались на фоне неба огромные неземные силуэты двух шагающих экскаваторов (словно космические марсианские корабли приземлились на перемычке), так свирепо, отдуваясь и фыркая, паровые копры вбивали шпунты в скальный грунт, так величественно и мощно нависали над городом могучие, плечистые волжские утесы — гора Могутовая и гора Яблоневая, так прекрасно и яростно гремела над котлованом из динамиков беспощадная ко всякой слабости музыка Бетховена, что Пашка и Тимофей, забыв о морозе, о времени и вообще обо всем на свете, молча простояли над котлованом до самых сумерек.
Стемнело. Зажглись фары самосвалов и экскаваторов. Осветились первые окна домов. Заискрились цепочки уличных фонарей И вдруг разом, торжествующе и восторженно, отбросив ночь, вспыхнули по краям котлована десятки прожекторов.
Море света — провозвестник будущей электростанции — залило котлован. Тьма отступала. День, продолжившись и укрепившись, гортанно рычал на дне котлована ударами копров, моторами самосвалов, ковшами и механизмами экскаваторов.
4
В Жигулевске и с ночлегом было совсем по-другому, чем в Ставрополе. Специальным корреспондентам областной партийной газеты Пахомову и Голованову дали два места в городской гостинице для молодых специалистов. Пашка и Тимофей узнали домашний телефон лучшего экскаваторщика стройки Владимира Мячева, позвонили ему, солидно представились и, получив от хозяина дома приглашение зайти в гости, отправились на квартиру к знатному передовику.
Мячев жил в пятиэтажном новом доме на первом этаже. Дверь открыла молодая женщина.
— Здравствуйте, — сказала она, — я жена Володи, Галя. — И первая протянула руку знакомиться.
Тут же в прихожую вышел и сам Мячев — невысокий, худощавый паренек с усталым лицом. Прошли в столовую, сели за стол_ Мячев не торопясь начал рассказывать о себе.
Движение за снижение стоимости одного «кубика» грунта (он так потом все время и называл кубометры «кубиками») родилось естественно. В его экскаваторной бригаде (полный экипаж каждого экскаватора составляет одну бригаду) три машиниста: он сам, Семен Колчин и Борис Гулякин. Экскаватор работает круглосуточно. Каждая смена — двенадцать часов Их машина, порядковый номер — четвертый, вынимает землю в восточной части котлована — там, где будет само здание электростанции.
Сейчас было важно до вторжения паводковых вод закончить шпунтовую перемычку, отделяющую Волгу от котлована. Из речной части котлована уже откачали воду, намыли грунтовую перемычку, и туда, на дно реки, вошли экскаваторы. Всего предстоит вынуть сто пятьдесят миллионов кубов грунта.
— Сколько-сколько? — переспросил Пашка.
— Сто пятьдесят миллионов, — спокойно повторил Мячев.
Стоимость одного кубометра грунта, продолжал он, складывается так: производительность труда, затраты- на капитальный ремонт, транспорт, амортизация механизмов. В прошлом месяце при плане двадцать пять тысяч кубов бригада сделала тридцать восемь тысяч. Лучшая смена в бригаде — смена Колчина. Они вынимают за двенадцать часов в среднем тысячу двести «кубиков». На втором места идет он сам, Мячев, — девятьсот девяносто кубов. На третьем Гулякин — девятьсот двадцать кубометров.
— Однажды, в ноябре прошлого года, — рассказывал Мячев, — как раз накануне праздников, Семен Колчин поднатужился и дал за смену две тысячи сто тридцать кубов. Помнишь, Галя?
Жена Мячева, сидевшая за столом вместе со всеми, молча кивнула.
— Все прямо ахнули, — продолжал Мячев. — Почти триста процентов перевыполнения плана. Борька Гулякин заступил после Семена — как ни старался, только тысячу двести кубов вынул. После Борьки сажусь я — тысяча шестьсот кубов. Прибежали к нам из комитета комсомола, из парткома: поздравляют, обнимают Ну, естественно, заработки у нас сильно поднялись… И вот как-то приходит, к нам в забой старичок один из планового отдела и говорит: вы, говорит, ребята, молодцы, очень хорошо работаете, но только при такой перегрузке материальной части вы через месяц встанете в ремонт, и тогда заработки ваши сделаются в три раза меньше, и все над вами будут смеяться.
— Это Николай Евдокимович? — спросила Галя.
— Он самый, — улыбнулся Мячев, — есть у нас такой старичок-плановичок.
Приход старичка-плановичка, как выяснилось, имел решающее значение. Ребята, естественно, не хотели, чтобы заработки уменьшались. Стали спрашивать у Николая Евдокимовича совета: как быть? И старик-плановик открыл перед бригадой первые тайны законов политэкономии. (При слове «политэкономия» Тимофей выразительно посмотрел на Пашку, и Пашке вспомнилось, как он сыпался однажды на экзамене по политэкономии: производство, воспроизводство, перепроизводство — все это тогда так перемешалось в Пашкиной голове, что пришлось даже на несколько дней расстаться с «хивой» и кафедрой физкультуры.)
Оказалось, что можно было сохранить заработную плату, не вставая в ремонт. Это достигалось уменьшением износа механизмов. Не надо было надрываться самим и рвать тросы на экскаваторе, выгребая каждую смену через силу по две тысячи «кубиков» из котлована. Для этого требовалась очень простая вещь: снизить себестоимость одного кубометра вынимаемого грунта. А как это сделать? Николай Евдокимович, старик-плановик, стал учить рабочий класс экономическому уму-разуму. Начали считать с карандашом и бумагой — на каких элементах цикла, вынимая один «кубик», можно сэкономить копейку.
— Дай, пожалуйста, мою тетрадь, — попросил жену Мячев.
Галя сходила в другую комнату и принесла замусоленную, покрытую пятнами машинного масла ученическую тетрадь в клетку, несколько страниц которой были густо заполнены колонками зачеркнутых и подчеркнутых цифр. Мячев полистал тетрадь, но потом бросил ее на стол.
— Хотел показать вам, как складывались наши расчеты, но это очень долгая история. Лучше своими словами расскажу.
Что же выяснилось? Оказалось, что за счет ремонта можно экономить на каждом «кубике» целых три копейки. Если аккуратно, а точнее сказать, прижимисто, использовать смазочные и обтирочные материалы (которые раньше-то разбрасывали по широте души во все стороны), то можно сберечь на каждом «кубике» еще одну копейку.
— Я как-то пришел на смену, — рассказывал Мячев, — а Сенька Колчин держит одного нашего подсобного рабочего за грудки и орет на него. «Ты чего, — кричит, — тряпки раскидал везде, скотина? Дома, что ли, у тещи находишься?» Да как замахнется на него — я еле успел его за руку поймать.
Старик-плановик направил экономическую мысль рабочего класса, не желавшего расставаться с хорошими заработками, и в такую сторону, как сбалансированное на пределе перевыполнение плана. Оказалось, что с учетом местных условий (специфика организации грунтовых работ) наиболее эффективно перевыполнять план не более как на 150–160 процентов. Именно эта процентовка сохраняла требуемое качество и позволяла сбросить с «кубика» уже не какую-то ерунду, а целых одиннадцать копеек.
— Ну, а дальше мы сами мозгами шевелить начали. На подсобных операциях удешевили «кубик» еще на пятачок. Раньше подстилочные гати под гусеницами кромсали, как танки в наступлении, а теперь стали аккуратнее ездить — еще семь копеек сбросили с кубометра. Одним словом, стоимость погруженного в кузов самосвала кубометра грунта снизилась у нас с четырех рублей до трех рублей шестнадцати копеек. Получилась экономия только на одном экскаваторе тридцать восемь тысяч рублей в месяц. За нами и водители самосвалов подтянулись. Стали требовать, чтобы их твердо закрепляли за одним и тем же экипажем. Образовалась у нас целая комплексная бригада — экскаватор и двадцать МАЗов-самосвалов. На каждом шагу начали копейки считать.
— А вы сейчас идете в котлован? — спросил Пашка. — Возьмите нас с собой…
5
Когда они вышли из дома, вечерняя панорама Жигулевска снова распахнулась перед Пашкой и Тимофеем во всей удалой широте своего замысла. На освещенной прожекторами насыпи фантастические конструкции двух шагающих экскаваторов казались нереальными. На сказочно вознесенной высоте их стрел горели гирлянды электрических лампочек, и трудно было понять: были эти огоньки в небе творением рук человеческих или уже нечеловеческих.
Тысячи красных, желтых, розовых, голубых огней заполняли впадину котлована. Белые стволы прожекторных лучей сплетались над котлованом в огромную крону неправдоподобно гигантского древа. Морозный фиолетовый пар клубами поднимался из впадины. И бетховенская музыка продолжала греметь над котлованом, рождая космические сравнения и ассоциации.
— Скажите, а эта музыка все время у вас здесь звучит? — поинтересовался Тимофей.
— Бетховен-то? — небрежно спросил Мячев. — Круглые сутки. Радисты подобрались все подряд любители Бетховена. Двадцать четыре часа без перерыва классикой нас угощают. Но мы уже ничего— привыкли. И дети привыкли. Спят, не просыпаются. А нам работать под Бетховена даже веселее.
В половине одиннадцатого они пришли на широкую площадь возле здания управления строительством. Вокруг нескольких крытых фанерой «душегубок» стояла густая толпа народа.
— Ночная смена, — объяснил Мячев, — по котловану людей на машинах развозят. Это он сверху кажется не очень большим. А внизу, если пешком идти, только к утру до своего места доберешься.
— По машинам! — раздался около здания управления зычный голос. — Отправление через две минуты!
Кузова заполнились народом. Машины тронулись. Проехали несколько городских кварталов и оказались на территории котлована. Машина все время спускалась под уклон. Было уже не просто морозно, но и как-то сыровато и даже слякотно.
— Мы уже ниже уровня Волги, — сказал Мячев, — почти на самом будущем дне морском.
— А Волга может прорвать перемычку? — спросил Тимофей.
— Может, — улыбнулся Мячев, — а вы что, плавать не умеете?
— Умею, — смутился Тимофей. — но я не к этому спрашиваю.
— Тогда все в порядке, — засмеялся Мячев.
Машина остановилась.
— Мячев! — крикнули из кабины водителя. — Твоя кастрюля!
— Пошли — кивнул Мячев, — приехали.
Он первым спрыгнул на землю. Пашка и Тимофей сошли за ним Вокруг стоял зыбкий сырой туман. Лучи прожекторов и сигнальные предупреждающие огни наполняли туман фиолетово-голубым и кроваво-розовым свечением. Впереди на добрую сотню метров нависала над головой черная громада перемычки, унизанная редкими гирляндами желтых фонарей. Где-то рядом скрежетала зубьями стальных шестеренок железная махина экскаватора. Мимо непрерывно проходили груженые и пустые самосвалы. Изредка слышались глухие, несильные взрывы и шелест падающих камней. Пашка и Тимофей стояли на дне потусторонней, дантовской и в то же время вполне реальной гигантской выемки в земле. Небо над их головами замыкалось темнотой ночи и мрачными очертаниями краев огромной котловины.
«Душегубка», привезшая пассажиров, не отъезжала. Дверь кабинки открылась, и высунулся человек в овчинном полушубке.
— Это что за люди? — спросил он.
— Корреспонденты из областной газеты, — объяснил Мячев.
— Разрешение на вход в зону котлована имеете?
— Нет, не имеем, — почти одновременно ответили Пашка и Тимофей.
— А общий допуск?
— Какой допуск?
Человек засмеялся.
— Как же вы сюда попали, граждане корреспонденты? — весело спросил он.
— Они ко мне приехали, — объяснил Мячев, — снижением себестоимости одного кубометра грунта интересуются.
Человек в полушубке молча, пристально и цепко разглядывал Пашку и Тимофея.
— Около меня все время будут, — уверенно и в то же время чуть небрежно сказал Мячев.
— Смотри, Мячев, пока на твою ответственность, — хлопнул он дверкой, и «душегубка» покатила дальше.
— Неужели у вас даже допуска нет? — сердито спросил Мячев.
— А что это такое? — спросил Пашка. — Нам никто ничего не говорил.
— Вы давно в редакции работаете?
— Мы вообще-то еще студенты, — сказал Тимофей, — учимся в Москве, в университете, на факультете журналистики. Это наша первая командировка.
Мячев был явно разочарован.
— Да-а, — сказал он неопределенно, — надо было бы, конечно, документы у вас спросить еще там, наверху. Здесь уже поздно. Моя ошибка… А кто вас в командировку отправлял?
— Прусаков Петр Петрович.
— И ничего не сказал о допуске?
— Нет, не сказал.
— Узнаю Прусакова. Сам вечно сюда без допуска ездит. Но его тут уже все знают… Вам крупно повезло, хороший мужик на машине попался. Другой бы сразу наверх повез.
Шум работающего неподалеку экскаватора затих.
— Что же с вами делать? — нахмурившись, спросил Мячев. — Мне на смену надо идти. Колчин остановил машину, сейчас сюда придет.
— Мы думали, если нас в Ставрополь без всяких пропусков пустили, значит, и в Жигулевск можно. — виновато улыбнулся Пашка.
— Ставрополь на дно уходит, — сказал Мячев, — такого города больше нету. А в Жигулевске строится крупнейший энергетический узел страны. Его надо охранять.
— У вас будут из-за нас неприятности? — нахмурившись, спросил Тимофей.
— У меня-то ничего не будет, а вот у вас…
Мячев с нескрываемым раздражением смотрел на Пашку и Тимофея.
— Сейчас обратно машина пойдет. Колчина и его смену забирать будут. Отправить вас с ними, что ли?.. Нельзя. На вахте обязательно снимут и задержат… Вас кто-нибудь в Жигулевске знает?
— Нет, никто не знает…
Из тумана вышло несколько человек в телогрейках, бушлатах и ватниках.
— Володя! — крикнул передний. — Там самосвал под ковшом уже стоит! Ты чего здесь делаешь? Что случилось?
Это был Семен Колчин и его смена.
— Да вот, корреспонденты приехали, — неопределенно сказал Мячев.
— Какие к лешему корреспонденты! Машины одна за другой идут!
Из тумана вынырнула «душегубка».
— Колчин, садись! — крикнул человек в полушубке, выскакивая на подножку. — Мячев, глаз с корреспондентов не спускай! Сейчас с ними разбираться будем!
Колчин и его смена быстро сели в машину. «Душегубка» исчезла в тумане.
— Пошли, — коротко приказал Мячев, почти бегом устремляясь вперед
Пашка и Тимофей старались не отставать. Крупные, острые, мокрые куски скальной породы вывертывались из-под ног, становились ребром, откатывались, возвращались, били по лодыжкам. Пашка и Тимофей скользили, спотыкались с непривычки, но держались за Мячевым вплотную.
Железная громадина экскаватора стояла, освещенная фарами нескольких сгрудившихся около нее самосвалов. На боковой стене машинного отделения экскаватора отчетливо белела огромная цифра «четыре».
— Мячев! — заорал водитель ближнего к ковшу самосвала. — Где ты ходишь? Сенька Колчин ушел, а тебя нет! Пять минут уже стою, время теряем!
— Жалуются, что машин им не подают! — загалдели водители остальных самосвалов. — А когда машины есть, их самих нету!
Мячев рывком поднялся по железной лестнице в кабину, бешено крикнул стоявшим около гусениц Пашке и Тимофею:
— Сюда поднимайтесь, живо! И чтоб ни шагу отсюда!
Пашка и Тимофей, толкая друг друга, взобрались на металлическую палубу экскаватора.
Мячев уже сидел в кабине. Было видно, как он, мгновенно опробовав все рычаги и педали, ссутулился около пульта, что-то поправляя, и, тут же выпрямившись, рванул рычаги и экскаватор поехал круговым движением вокруг своей оси направо.
Упал на землю ковш. Взревел мотор. Заскрежетали стальные бивни, набирая в ковш обломки скальных пород.
Есть! Полон ковш! Вздрогнул и присел железный «мамонт». Могучая стрела, дрожа от напряжения, поехала обратно. И вот уже распахнулась пасть ковша, щедро высыпая свое содержимое. Застучали камни о днище кузова самосвала. Встряхнулся ковш. Мотнулась вправо стрела. Упал ковш. Заскрежетали зубья. Есть! Поворот налево. Ссып. Встрях. Вправо. Скрежет. Есть! Поворот. Ссып. Встрях. Еще поворот. Полон ковш. Поехали. Бух! Бух! Бух! Ск-к-р-р… Бух! Бух!
— Стой! — кричит снизу водитель самосвала и проводит ребром ладони по горлу. — Полон кузов!
Прыжок за рулевую баранку. Вздох отпускаемых воздушных тормозов. Взревел мотор, отъехал первый самосвал. Подъехал второй.
Росчерк стрелы вправо. «Буйволиное» движение ковша — рогами вперед. Полет стрелы влево. Удар кусков породы о днище кузова. И еще удар. И еще. И еще… О-отъезжай!
Третья машина. Мотается стрела между карьером и кузовом, болтается в воздухе ковш, скрежещут шестеренки, звенят тросы, рычат рычаги, звякают педали… Четвертая машина! Пятая, шестая…
Мячев работал как виртуоз. Ни одного лишнего движения. Прямая спина. Уверенные руки. Быстрые ноги. И бесстрастное, неподвижно застывшее лицо.
Он словно слился с машиной. Сросся с ней головой, руками, ногами. Он как бы помогал ей делать тяжелую, «слоновью» работу. Посылал в ее железное нутро свои человеческие эмоции и страсти.
И машина отвечала человеку тем же. Послушно подчинялась во всем. Служила всей мощью своих мускулов, всей энергией своих механизмов.
Через десять минут наблюдая за Мячевым, Тимофей и Пашка поняли, что видят перед собой величайшего артиста своего дела, человека, доведшего мастерство до высочайших вершин искусства. Мячев не просто работал. Не только набирал в ковш и грузил в кузова самосвалов горную породу. Он вдохновенно творил свой труд.
Экскаватор не знал ни одной секунды покоя. Он был в постоянном движении — еще только заканчивал ковш подгребать породу, а стрела уже начинала движение в сторону кузова самосвала. Еще не успевал последний кусок породы долететь из ковша до кузова, а стрела уже начинала обратное движение в сторону забоя. Ковш «отряхивался» на лету, и без всяких остановок наматывались тросы на вороты лебедок, и механизмы, «не переводя дыхания», изготавливались к новому гребку и повороту. И все это происходило непрерывно, бесперебойно, безошибочно, ювелирно. («Хороший экскаваторщик может ковшом спичечную коробку с земли поднять и даже букет цветов на подоконник любимой девушке положить», — вспомнилась Пашке Пахомову фраза, сказанная Мячевым, когда они шли перед началом смены по городу.)
…Когда Мячев нес ковш с породой к кузову очередного самосвала, перед экскаватором в морозной дымке, окрашенной свечением голубовато-фиолетовых прожекторных лучей и кроваво-красных автомобильных стоп-сигналов, возникли две фигуры в белых овчинных полушубках.
Мячев остановил машину.
— Где корреспонденты? — крикнул один из них.
Мячев вышел из кабины на палубу.
— Это за вами, — устало сказал Мячев. — В случае чего, валите все на меня. Скажите, что это я вас сюда притащил. Надо будет, звоните домой Гале. Я сменюсь а одиннадцать дня. Если с вами не разберутся до того времени, я подключусь и помогу.
6
Было уже четыре часа ночи. Пашка и Тимофей сидели на черном клеенчатом диване в большой холодной комнате с решетками на окнах. Напротив них за большим письменным столом расположился начальник охраны гидротехнического района Андрей Андреевич Кремнев (он сам представился «задержанным», полностью назвав свое имя, отчество и фамилию). Перед начальником охраны лежали на столе все пахомовские и головановские документы — паспорта, студенческие билеты, командировочное удостоверение. Внимательно прочитав их, Андрей Андреевич поднял голову.
— Скажите, — обратился он к Тимофею, — у вас есть какой-нибудь документ из МГУ о направлении вас именно в Куйбышев?
— Нет, такого документа у нас нет, — сказал Тимофей.
— Почему же вы поехали именно в Куйбышев?
— Это трудно объяснить, — вздохнул Тимофей. — Так получилось.
Кремнев снял телефонную трубку.
— Прошу Москву, — сказал он. — Москва?.. Прошу установить личности…
Он назвал себя, свою должность, а потом начал диктовать содержание паспортов.
Прошло минут десять. Зазвонил телефон.
— Слушаю, — сказал Кремнев, снимая трубку. — Так, так, так… Студенты? Спасибо.
Он положил трубку.
— Москва подтверждает ваши документы. Теперь наведем справки в области.
Кремнев позвонил в Куйбышев.
— Алло, райотдел? Кремнев из Жигулевска беспокоит. У вас на территории проживает Прусаков Петр Петрович, журналист, сотрудник областной газеты. Очень прошу найти его адрес через городскую справочную и доставить к вам для телефонного разговора со мной… К сожалению, у него нет домашнего телефона.
— Пока будут ходить за Прусаковым, — сказал Андрей Андреевич, — можете прилечь на диване или вот на этих стульях. Вода в графине, туалет в коридоре направо. Я буду в соседней комнате.
Он вышел через дверь, находившуюся прямо за его письменным столом, оставив ее слегка приоткрытой.
Тимофей сразу же встал и демонстративно пересел на стулья около окна.
— Тимка, ты что? — укоризненно спросил Пашка. — Обижаешься на меня, что ли?
— А ну тебя! — с досадой махнул рукой Тимофей. — Думаешь, вся эта история не дойдет до университета?
— Ну и что? Разве мы виноваты, что так получилось?
Прусаков забыл сказать нам о допуске, а мыто здесь при чем?
— Забыл, не забыл — мальчишество какое-то! Зачем ты напросился с Мячевым в котлован?
— А разве не интересно было? Я, например, считаю, что очерк об экскаваторщике у нас уже в кармане.
— Его еще написать надо
— И напишем. Я, например, этого Николая Евдокимовича из планового отдела, как живого, вижу… Старичок-плановичок! Какая деталь, а? Да за такую деталь любой журналист месяц согласится в тюрьме сидеть… А как Мячев работал, Тим! Только одну эту ночь описать, когда мы на палубе экскаватора стояли, как на палубе корабля, — и то уже вся наша поездка будет оправдана.
— Ох, Павел Феоктистович, смешной вы человек!
— Чем же я смешной?
— Все тебе кажется легким, доступным, простым…
— А знаешь, Тим, мне сегодня даже захотелось стать таким человеком, как Мячев, и работать на экскаваторе, как бог!
— А хорошим журналистом тебе стать никогда не хотелось?
— Хотелось. И буду!
— А чего ж ты столько времени проторчал на своей кафедре физкультуры?
— Понимаешь, Тим, там всегда очень интересно было… Со всего университета люди собирались… Одна Нонка со своей палкой и орденами чего стоит. А Тарас, а Курдюм — академик малохольный? А Лева Капелькин? А вся «хива» наша?.. Ведь это же, Тим, замечательные ребята, если по справедливости разобраться… У каждого были свои дела и свои сложности, но всех тянуло друг к другу, к спорту, к баскетболу… И ведь никто же не заставлял их… И ни у кого не было больших способностей, а ходили в «хиву» и вообще на кафедру упорно, долго, настойчиво, бескорыстно, потому что в спорте реализуется какая-то особая часть человеческой души, какой-то сектор свободы…
Зазвонил телефон. Из соседней комнаты с расстегнутым воротом вышел Кремнев.
— Да, слушаю, — сказал он, снимая трубку. — Прусаков говорит? Товарищ Прусаков, вы посылали в командировку в Ставрополь и Жигулевск студентов Московского университета Голованова и Пахомова? Посылали. Можете это подтвердить завтра телеграммой на мое имя за подписью главного редактора? Можете? Очень хорошо… Что-что? Трубку передать Пахомову или Голованову? Сейчас попробую.
Андрей Андреевич протянул через стол телефонную трубку.
— Поговорить с кем-нибудь из вас хочет. Вот нахал! Служебный телефон использует.
Трубку взял Тимофей.
— Ребята! — раздался в телефоне булькающий голос Петра Петровича. — С допуском накладка вышла, извините! Я сам туда вечно без пропуска езжу… Допуск вам послан в Жигулевск на почтамт, до востребования. Вместе с ним я переслал два письма, которые пришли в редакцию на ваше имя… Теперь вот какое дело… Вы материал по первому пункту задания собрали? Очень хорошо! Вторую часть задания пока можете отложить. В обкоме партии просили срочно опубликовать очерк о лучшем экскаваторщике! Сможете написать на месте?.. Тогда прямо завтра садитесь и пишите!.. И тут же высылайте в редакцию! Сразу опубликуем! Желаю успеха!
7
Письма, которые Тимофей и Пашка получили в Жигулевске на почтамте вместе с допуском на правый берег, были от Оли Костенко и, как ни странно, от Изольды Ткачевой. Пашке от Оли, Тимофею от Изольды. Вот уж это была неожиданность — письмо Тимофею от Изольды! Вот уж Пашка не ожидал ничего подобного! Вот уж смутился Тимофей!
— А ты, оказывается, темнила, — сказал Пашка на почтамте, когда узнал, от кого получил Тимофей письмо. — Ох, и темнила!
— Да ей-богу, Павел! — разволновался Тимофей. — Не ждал я от нее никакого письма. И чего она вздумала писать? И, главное, куда? В Куйбышев, в газету, где нас толком никто не знает.
— Тайный роман? — прищурился Пашка. — Любовь, скрытая от общественности?
— Перестань, Пашка, — густо покраснел Тимофей. — Какая еще любовь? Сходили два раза в музей вместе, и все.
— И вполне достаточно, чтобы засылать сватов к папе-дипломату, — продолжал развивать идею Пашка. — Сэр — то есть, простите, отныне папаша, — примите уверения в моем совершенном к вам почтении, прошу руки вашей дочери, трам-там-та-ра-ра-рам! Банкет на сто кувертов и свадебное путешествие в Америку, где на лужайке посольского особняка проходило босоногое вашингтонское детство невесты.
— Ладно, заткнись, — успокоился Тимофей. — Сам хорош. Ты, кажется, тоже не очень-то рассказывал мне о своих отношениях с Ольгой.
— Отношениях?! Ну, ты и сказанул. Впрочем, конечно, конечно… Она же защищала меня на собрании, на котором ты изображал из себя бюрократа… Теперь мне все ясно. У нас, оказывается, с Ольгой роман. Вернее так: она влюблена в меня как в крупнейшего знатока творчества Льва Толстого. Хотя по этой причине в меня скорее должна бы быть влюблена Светка Петунина.
— Светка и на вокзал провожать нас пришла.
— Действительно. Как же я не понял этого? Вот болван! Придется завязать со Светкой интрижку на почве диалектики души. Я звоню ей и говорю: «Алло, Светочка, как у тебя с диалектикой души?» Она отвечает: «У меня все хорошо. Количество переходит в качество, а может быть, даже уже перешло. Начинается единство противоположностей. А как у тебя, Павлик, с диалектикой души?» Я отвечаю ей: «У меня, Светочка, очень плохо с диалектикой души. Хотелось бы разделить с кем-нибудь единство противоположностей. Но с кем? Не с тобой же, Светочка».
— Пашка, не ерничай.
— Да чего там «не ерничай»! Какие-то они у нас все малахольные, девицы наши. Вот с Руфой я бы разделил единство противоположностей…
— Перестань, Павел!
— А что? Очень даже разделил бы.
— Не смей так говорить о Руфе! Она хорошая девчонка.
— Девчонка! Да ей замуж уже давно пора!
— Пашка, дам в морду! Не имеешь права так говорить о Руфе. Она… она мне нравится.
— Ах, вот как! С одной, значит, ходишь в музеи, показываешь ей египетские мумии, а нравится в это время совсем другая. Как говорится, одну хороводим, вторая в уме…
— А Ольга?
— Что Ольга?
— Почему ты получил письмо именно от нее?
— Ваша образцово-показательная Ольга решила, наверное, благословить меня пионерским горном или барабаном.
Они вышли из почтамта и пошли в столовую обедать. Сев за столик, каждый разорвал свой конверт.
Оля Костенко писала Павлу Пахомову:
«Здравствуй, Павлик. Почему-то захотелось написать тебе… Вы уехали с Тимофеем позавчера, а вчера у нас в общежитии на Стромынке собралась почти вся наша пятая французская. Решили отметить начало каникул. Сидели у нас в комнате. Светка, Сулико и я как хозяйки накрыли стол скатертью, собрали со всего этажа ножи, вилки, стаканы, тарелки. Наши, стромынские — Степан, Рафик, Фарид и Леха Белов, — пришли со своей картошкой в «мундире» и воблой, а москвичи, Эрик и Боб, притащили пиво. Потом появилась пара — Галка Хаузнер и Юрка Карпинский (у них, кажется, роман — вот это новость! к свадьбе что ли дело идет?). Словом, начался пир горой. Мы со Светкой сделали винегрет, а Сулико взяла взаймы у каких-то своих земляков с юридического факультета целую кастрюлю лобио — замечательная грузинская еда. Первый тост произнес Боб Чудаков. Он сказал, что по традиции надо выпить за странствующих и путешествующих.
Сначала никто даже не понял — о ком это он? Все с удивлением смотрели на него. И тогда Боб объяснил нам, непонятливым, что предлагает выпить за тебя и Тимофея — за тех, кто в пути! Тут все заговорили, загалдели, стали высказывать вам всяческие пожелания Мы со Светкой рассказали, как вы уезжали. Все очень смеялись. Вообще о вас двоих говорили в тот вечер очень много. Я даже удивилась: как хорошо относятся все наши ребята к тебе и к Тимофею. Бравый наш староста Алексей Белов сказал, что вы молодцы, так как не испугались никаких трудностей. Он даже сделал своеобразное программное заявление в том смысле, что в будущем всем нам предстоит много ездить — такая уж наша журналистская судьба, какая же может быть журналистика без разъездов? И вот вы — ты и Тимофей — первыми из всех нас вступили на тернистый путь журналистских странствий по белому свету… Потом слова попросила Сулико. Она сказала, что у них в Грузии настоящим мужчиной считается тот, кто не сидит дома, под теплой крышей, в выходит на тропу опасностей и приключений. Тут все ребята загалдели: «Что же мы, по-твоему, не настоящие мужчины, если остались в Москве, если нас пока никто никуда не посылает?» Сулико разъяснила: мужчина, сказала она, должен быть воином и путешественником. Он не должен ждать, когда ему скажут другие, с кем надо воевать и на какую дорогу надо выходить. Сердце настоящего мужчины само должно просить опасностей и дороги. Мужчина должен уходить из дома и возвращаться домой. Его должны ждать. Причем ждать с победой, преодолевшего дорогу, победившего своих противников и врагов. «За настоящих мужчин!» — так сказала наша черноокая красавица Сулико Габуния… Тут же поднялся Рафик Салахян. Он говорил только о тебе. Он обвинил всех нас в том, что мы были несправедливы к тебе тогда на собрании («Кроме тебя, Оля», — сделал жест в мою сторону Рафик). Паша Пахомов, сказал он, всегда был поэтом. И тогда, когда он писал стихи, и тогда, когда начал увлекаться спортом. Потому что главная черта поэта — это страсть. Поэт все должен делать со страстью, с увлечением. Страсть — вот главная дорога в храм творчества. Страстями увенчаны лучшие достижения человеческого духа — именно так сказал наш курсовой поэт… Страсти украшают мир, сказал Рафик. Сами по себе они уже являются человеческими свершениями. Эти его слова я запомнила точно — неплохо сказано, правда? И да здравствует, закричал Рафик, одна из самых веселых и беспокойных человеческих страстей — страсть к путешествиям и приключениям!.. Немедленно вскочила Светка и заговорила о том, что, когда ты лучше всех ответил на экзамене по литературе, когда ты всем утер нос и показал, что глубже всех понимаешь значение и роль Льва Толстого, она, Светка, даже влюбилась в тебя… «Паша Пахомов, — сказала Светка, — самый живой, самый естественный, самый смелый человек среди нас всех. Он ничего не боится — ни деканата, ни выговоров, ни опасностей дороги. Он всегда чем-то напоминал мне Наташу Ростову…» Эрик Дарский утверждал, что из тебя вышел бы очень хороший кинорежиссер, если бы ты поступил учиться после десятого класса не в университет, а в институт кино! У Пахомова непосредственное отношение к жизни, объяснил Эрик. Он ни к чему не относится предвзято, заданно. Он не равняется на образцы, на стереотипы, а ко всему ищет свое, индивидуальное отношение, а это, мол, самое главное в искусстве… Галка Хаузнер сказала, что мы все просто завидуем Пашке и Тимофею, но в данном случае это хорошая зависть. Пашка и Тимофей дали всем нам хороший урок. И поэтому Павел и Тимофей — пример для всех нас, мы все должны им подражать.
«Таким образом, — закричал Боб Чудаков после этих Галкиных слов, — мы отчетливо видим перед собой три поколения для подражания — Павел Власов, Павел Корчагин и Павел Пахомов!»
Ох, как тут обрушился на него Степан Волков! Он сказал, что все мы городские трепачи и болтуны, что у нас нет ничего святого, что мы все готовы острить и балагурить по каждому поводу, а между тем разговор-то у нас идет очень серьезный: как овладевать своей будущей профессией. Он лично, Степан Волков, считает, что совсем не обязательно в студенческие годы бродяжничать по белому свету — надо учиться, набираться знаний, потому что какой же может быть хороший журналист без современных знаний, если он не постиг самые высокие образцы человеческой мысли? Мы всё шутим, кричал Степан Волков, надо всем подсмеиваемся, тратим время на всякую чепуху — сколько на одних собраниях переливаем из пустого в порожнее, сколько разглагольствуем о том, в чем ни уха ни рыла не смыслим! А между тем государство конституционно гарантирует нам образование уже на пороге жизни, уже в молодости… И какой же Павел Пахомов, к черту, пример для подражания, когда он эту гарантию, записанную в Конституции, прошляпил, прогулял, пробегал в спортивном зале, увлекаясь своим баскетболом? Он еще локти себе будет кусать, этот Павел Пахомов, когда поймет, как безвозвратно ушли университетские годы, он еще проклянет себя за свою беспечность и беззаботность, он еще пожалеет, что потерял столько времени для получения знаний, что не ценил каждый день и каждый час своей студенческой жизни, он еще бросится наверстывать упущенное, да будет поздно, потому что юность уже ушла… Когда все разошлись и мы со Светкой и Сулико убрали остатки пиршества, я легла, но долго не могла уснуть. Почему-то вспомнила тебя на первом курсе — подтянутого, строгого, вежливого, с комсомольским значком. Ты был тогда удивительно симпатичным парнем — учился на сплошные пятерки, вел общественную работу, всегда был причесанным, аккуратным, предупредительным, ходил на все лекции и семинары, увлекался французским языком, а потом… А потом с тобой что-то началось, чего я никак не могла понять все эти годы. Может быть, у тебя менялся характер — «ломался» голос, как говорят про певцов, когда они в детстве поют ангельскими голосами, а потом вдруг начинают «рычать» хриплым басом? Не знаю, не знаю… Может быть, все это было естественно и ты просто проходил какие-то закономерные стадии развития? Во всяком случае, мне кажется, что сейчас этот период у тебя закончился. Впрочем, прости за нравоучения. Вам, наверное, там приходится нелегко. Мне почему-то очень хочется увидеться с to-бой, когда вы вернетесь с Тимофеем. Не знаю, как и сказать об этом, но ты мне всегда нравился, Павлик. И даже тогда, когда ты начал прогуливать и задираться со всей нашей группой. Все эти годы в университете мне казалось, что в тебе что-то есть очень индивидуальное, не похожее на других… Ну, вот, о нашей вечеринке я, кажется, написала целую корреспонденцию… До свидания, Павлик! До встречи в Москве.
Ольга Костенко.
P. S. Я верю, что у вас с Тимофеем все получится так, как вы это задумали. Вы все-таки у нас действительно молодцы. Взяли и нарушили тишину и спокойствие, взяли и поломали привычный стереотип каникул. Я думаю, что именно это так и «завело» всю нашу пятую французскую, поэтому все так много и говорили о вас с Тимофеем… Сейчас я почему-то подумала о том, что в жизни большинство людей живут по общепринятым правилам. Но есть и другие люди, которые живут по иным, не менее хорошим, очевидно, правилам. Они приходят к ним не по чьей-либо указке, не по советам умных педагогов, а сами… Какая из этих категорий лучше, какая приносит больше пользы народу и обществу, пока не знаю. Но очень хочу знать».
А Изольда Ткачева написала Тимофею Голованову такое письмо:
«Здравствуй, Тимофей. Как вы там путешествуете по берегам Волги? Признаться, я была весьма удивлена, когда узнала, что ты отправляешься вместе с Пахомовым в эту авантюрную поездку. Кажется, мы собирались сходить с тобой во время каникул в театр? Но я ни в чем не упрекаю тебя, мужские дела есть мужские дела, а у женщин тоже имеются свои маленькие заботы. Позавчера я наконец вырвалась вместе с Инной и Жанной в Дом моделей. Три часа просидели на демонстрации новых фасонов, было несколько интересных моделей. Я заказала себе кое-что, надеюсь, тебе понравится. Хотя ты, по всей вероятности, теперь уже окунулся в новый, провинциальный стиль, и тебе безразлична такая несущественная область жизни, как моды… Сказать откровенно, я до сих пор поражена этим твоим парадоксальным решением — ехать куда-то на край света. И когда? В каникулы. Их осталось у нас совсем немного, университет скоро будет окончен. И поэтому надо ценить каникулярное время, надо как-то умно и весело развлекаться в эти дни, отдыхать от зубрежки, от факультетской обстановки… Ну, скажи положа руку на сердце, зачем тебе все это? К чему подобный эпатаж почтенного общества? Зачем это хождение в «народ», которое со стороны для всех выглядит вздорным мальчишеским капризом? Зачем тебе-то «ходить в люди», когда ты и так постоянно находишься в гуще общественных и комсомольских дел? У тебя устоявшийся, прекрасный мужской характер, цельный и твердый, ты давно уже определил свои привязанности и вкусы. Почему же все это нужно подвергать каким-то дополнительным испытаниям и проверке? Не понимаю… Мы с Инной и Жанной ездили вчера к Руфе на дачу. Ехали очень хорошо, на двух машинах — нас везли на собственных автомобилях два приятеля Руфы (ревнуешь?), какие-то международники, которые оказались такими же трепачами, как и наш Боб Чудаков. Приехали и застали у Руфы целую компанию. Довольно элегантные мальчики, весьма импозантные девочки. Дача большая, двухэтажная, в гостиной есть даже камин, на полу лежит шкура белого медведя. Пришел отец Руфы, генерал-лейтенант авиации, поздравил нас с окончанием сессии и началом каникул. Потом нас пригласили в столовую. Стол был накрыт очень солидно — хрусталь, серебро, фарфор. Наша Инна разошлась, начала хохотать, рассказывать анекдоты, объявила мне, что влюблена в нашего старосту Лешу Белова. «Он очень энергичный, — сказала Инна, — а я вообще люблю энергичных мужчин, особенно военных». Вот это новость, подумала я, как стали раскрываться наши девицы к последнему курсу… Говорят, что Галка Хаузнер задумала женить на себе Карпинского — это мне Руфа по секрету сообщила, у них ведь с Галкой жуткая вражда. И будто бы всё у Хаузнер с Карпинским уже на мази… Ай да Хаузнер-Кляузнер! Решила взять судьбу в свои руки и не ждать милостей от природы… Гости, приехавшие до нас, начали собираться на станцию. Все разошлись, а мне стало почему-то грустно. Я вспомнила тебя и подумала: ну, зачем он уехал? Как хорошо, если бы он был сейчас рядом… Потом пришла Руфа, мы сели около камина (сняли туфли и забрались с ногами на тахту) и начали сумерничать. Огонь в камине горел так уютно, так красиво заглядывали в большое окно мохнатые лапы елей со снежными шапками, так таинственно было в комнате без света, что я была почти счастлива… Мы долго молчали, а потом Руфа вдруг и говорит мне:
— Ты знаешь, Изольда, мне очень нравится Тимофей. И я, кажется, тоже нравлюсь ему. Я заметила, как он однажды посмотрел на меня на семинаре, и сразу все поняла.
Меня как громом поразило. Собственно говоря, из-за этого разговора я и пишу тебе письмо с описанием всей нашей поездки и светских развлечений на даче.
— Я ходила провожать Тимофея на вокзал, — говорит Руфа, — и мы обменялись взглядами.
Я молчу, как каменная.
— Тимофей чуть не попал под колеса, — говорит Руфа, — когда они уезжали. Сели сначала не в тот поезд.
— Как под колеса? — не выдержала я. — Что с ним случилось?
И тут, видно, голос выдал меня.
Руфа посмотрела на меня очень внимательно и спрашивает:
— Ты тоже его любишь, Изольда, да?
Я опустила голову.
— Я догадывалась об этом, — сказала Руфа, — вы с ним ходили вместе в музей.
— Откуда ты знаешь? — спросила я.
— Об этом все знают, — ответила Руфа.
А утром прикатили на электричке Эрик и Боб и рассказали про вечеринку по поводу окончания сессии в общежитии. Я рада, что не пошла — такие застолья с правдоискательскими речами не в моем духе… Потом мы все пошли гулять в лес. Эрик и Боб тут же начали бегать вокруг нас по кустам, как зайцы, прыгать, как кенгуру, трубить, как лоси, рычать, как тигры, ухать, как филины, визжать, как обезьяны, мычать, как бизоны, — словом, издавали такой шум, треск, гвалт, вой, рев и гам, как будто где-то открыли ворота зоопарка и выпустили на волю жителей всех клеток сразу. Потом началось всеобщее барахтанье в снегу. Руфе даже слегка оторвали от пальто ее шикарный норковый воротник. Эрик и Боб встали на четвереньки, начали лаять, выть, скулить, махать «хвостами», терлись о ноги хозяйки Руфы, изображали из себя верных четвероногих друзей — получалось у них это очень естественно. Все уже вымокли к тому времени в снегу, пора было возвращаться… Эрик и Боб, эволюционировав от четвероногих друзей к двуногим разумным существам, — это уже получилось у них с натугой, — помчались наперегонки на дачу готовить по заданию Руфы мангал и шампуры для шашлыков… Вообще Руфа дома совсем-совсем другой человек, чем в университете. Мы ее с этой стороны очень мало знаем… Шашлыки удались на славу. Все проголодались, и мясо истребили без остатка. Потом был организован концерт балетной музыки. Все развалились по диванам, а Боб и Эрик ставили пластинки и в своем ильфо-петровском «репертуаре» вели сатирический комментарий — либретто так называемых «производственных балетов».
Описывая эту часть нашего пребывания на даче, я кое-что добавляю и от себя, как бы тоже пробуя свои силы в жанре пародии… Когда мы жили с отцом в Америке, я очень любила читать по-английски сборники пародий. И вот решила использовать здесь свой американский опыт.
Итак, начинаю свою первую в жизни пародию.
— Приступаем к прослушиванию современной классической музыки, — говорит Боб. — Сельскохозяйственный балет в трех актах. Название: «Гроза в колхозе», или «Буря над коллективом», или «Противоречивые удои»… Краткое содержание балета: танцует на площади перед сельсоветом лучшая полевая бригада. Сверкают серпы и косы, стучат грабли, полощется на ветру передовой лозунг. Внезапно появляется тракторист Андрюша. У него нет запчастей. Уныл и горек одинокий танец Андрюши, печальны его невысокие прыжки, безвыходны и безнадежны отчаянные пируэты…
— После одного из пируэтов Андрюша падает, — добавляет Эрик.
— И засыпает, — предлагает Боб.
— Действие балета переносится в Москву, — говорит Эрик. — Широкое народное гулянье перед открытием ГУМа. Красочной вереницей проходят перед зрителями фольклорные танцы — неаполитанский танец, венецианский танец, грузинский танец, узбекский танец и, наконец, народный танец сельских жителей, приехавших в Москву на экскурсию за баранками.
— Слышен перезвон колоколов, — подхватывает Боб, — ГУМ открывается. Звучит величальная в честь высокой торгующей организации. Группа дружинников фотографируется на фоне Лобного места. Возвращаемся в колхоз… Некоторое время сцена пустует… Возникает знакомая мелодия. Музыка навевает элегические, но вполне оптимистичные мысли о том, что все противоречия в конце концов будут разрешены именно неантагонистическим путем…
— Внезапно вбегает знатная доярка Вероника, — предлагает Эрик.
— Правильно, — соглашается Боб, — за ней вбегает рыжая корова Анжелика…
— За ней гонится пастух-ударник Ильюша…
— За кем? За коровой?
— Нет, за дояркой…
— Вдали в лугах слышно голодное мычание, — скороговоркой продолжает Боб. — Это оставленное без присмотра стадо наиболее характерным для себя способом передачи информации жалуется, что Ильюша в личных целях бросил свой производственный участок… Из сельсовета высыпают нарядно одетые члены правления. Лица их радостно возбуждены — они только что приняли решение. С юношеским задором становятся они в пары. Льется плавная музыка. Мелодия ненавязчиво, Как бы исподволь, доносит до нашего слуха содержание принятого решения. Гармонично звучит тема результатов голосования. Ансамбль скрипок укрепляет в нас догадку о том, что оно было, по всей вероятности, единогласным. При одном воздержавшемся — в партитуре это место обозначено глухим рокотом барабана. Задумчив и увлекателен неторопливый хоровод членов правления. Согласованность их движений наводит на мысль, что план будет не только выполнен, но и… Впрочем, не будем забегать вперед и договаривать в нашем кратком либретто каждую мысль до конца. Оставим простор для домысла и воображения зрителей… Конец первого акта.
— Увертюра ко второму акту, — начинает Эрик, — выражает сгустившиеся противоречия. Тревожные звуки литавр напоминают о невыполненных обязательствах…
— Тем временем тракторист Андрюша, у которого бездействует трактор, влюбляется от нечего делать в знатную доярку Веронику, — вступает Боб. — Вероника растеряна: Ильюша или Андрюша? Выручает па-де-труа, то есть танец маленьких телят…
— Исполняют учащиеся первого класса хореографического училища, — сообщает Эрик.
— В телячьих судьбах, — продолжает Боб, — видит Вероника разрешение всех своих сомнений. Теперь ее танец бодр и жизнерадостен. Одновременно Вероника берет дополнительные обязательства — вырастить не только всех колхозных телят, но и также всех козлят, утят, цыплят, индюшат, поросят, гусят, жеребят и даже верблюжат…
— Отвергнутый Андрюша неистовствует, — подхватывает Эрик. — Земля горит у него под ногами, он не хочет работать на тракторе без запчастей… Заключительный танец Андрюши развязен и дик. Прыжки его высоки, но выше трактора не прыгнешь… Отчаянные пируэты Андрюши выражают известную народную мудрость: как пируэты ни крути, а план выполнять все равно надо…
— А из полей тем временем возвращается лучшая бригада, — говорит Боб. — Снова задумчивый танец перед сельсоветом. Шуршат колосья и злаки, падают с неба снопы, непрерывно растут на фоне силосных башен стога и копны, противоречиво, но неудержимо ползет вверх кривая удоев…
— Конец второго акта, — говорит Эрик. — В начале третьего акта противоречия сгущаются еще сильнее. В колхозе очень плохо обстоит дело со сдачей кефира и ацидофилина…
— Третьего акта не надо, — говорит Руфа, — пора разъезжаться, ребята. У родителей сегодня много гостей будет. Я вместе с вами в город поеду.
…Вот вам, уважаемый товарищ Голованов, репортаж о начале каникул в великосветском обществе на даче у Руфы, написанный вашей спутницей по экскурсии в музей Изольдой Ткачевой… Интересно, если судить по этому репортажу, получится из меня журналистка? Как ты думаешь?.. Эрик и Боб с их склонностью к юмору, сатире и гротеску наверняка станут фельетонистами. А мы, что будет с нами?.. Очень хочется как можно быстрее начать работать и ускорить приближение нашей взрослой жизни.
Одним словом, не только вы там у себя на берегах Волги набираетесь журналистского опыта. Мы тут в Москве тоже делаем пробу пера, хотя и шутливую. Но, что поделаешь — других впечатлений пока нет… Очень хочется поговорить, Тим… О многом. Жду тебя.
Изольда».
8
Павел Пахомов и Тимофей Голованов возвращались в Куйбышев. Очерк о лучшем экскаваторщике был написан и отправлен в редакцию.
В последний раз шли Пашка и Тимофей по улицам Жигулевска. Морозные дымки поднимались над крышами домов. С вершины горы Могутовой доносился грохот камнедробильного завода. Слышались вздохи и удары невидимых в тумане копров на перемычке. Над котлованом будущей гидростанции, над клубами пара, огнями электросварки, как всегда, гремела музыка Бетховена.
На центральной площади, возле здания управления строительством, где Павел и Тимофей рассчитывали пристроиться на какую-нибудь попутную машину, идущую на левый берег, было пусто. Павел и Тимофей целый час простояли на площади — ни одна машина не проехала мимо. Все сильнее и сильнее становился мороз. У Пашки с его злополучными сапогами начали мерзнуть ноги.
— Скажите, пожалуйста, а почему сегодня машин совсем нету? — обратился Тимофей к вышедшему из здания управления человеку в белом дубленом полушубка.
— А вам куда ехать?
— На тот берег.
— Не уедете, — уверенно сказал человек в полушубке.
— Почему?
— Сегодня все машины брошены на перевозку бетона. Мороз увеличивается, сорок градусов к вечеру будет. Твердеет бетон на заводе.
— А рейсовый автобус?
— Отменен, холодно… Если вам срочно нужно на тот берег, идите к самому спуску и ждите почтовую машину. Она скоро должна пройти.
Человек в полушубке посмотрел на Пашкины сапоги и покачал головой:
— Впрочем, в такой обуви ехать сегодня на левый берег я вам не советую. Опасно.
Поскрипывая толсто подшитыми валенками, он ушел. Тимофей вопросительно посмотрел на Пашку.
— Вернемся в гостиницу?
— Никогда, — бодро сказал Пашка, постукивая сапогом о сапог. — Из-за каких-то паршивых сорока градусов возвращаться? Удачи не будет. Пошли на спуск.
Пройдя несколько кварталов, они вышли на берег Волги. Улицы были пустынны, словно вымерли. Мороз разогнал жителей города по домам.
Стояли на спуске еще минут двадцать. Пашка прыгал на месте, поджимал ноги, выбивал чечетку. Тимофей хмуро наблюдал, за ним.
В конце улицы показалась идущая к Волге крытая брезентом полуторка с белой почтовой полосой наискосок на борту.
Пашка и Тимофей вышли на дорогу и подняли руки. «Почта», не останавливаясь, мчалась прямо на них. Тимофей сделал шаг назад.
— Не отходи, — сказал Пашка, не опуская руки, — а то не остановится.
Полуторка, дребезжа и подпрыгивая, была уже совсем рядом. Пашка твердо стоял на самой середине улицы.
Машина резко затормозила.
— Чего надо? — заорал шофер, высовываясь из кабины. — Уйди с дороги!
— Айда в кузов! — крикнул Тимофею Пашка и побежал вокруг машины.
Он бросил в кузов свой рюкзак и схватился за задний борт. Тимофей тоже бросил в кузов рюкзак, но в это время машина, взревев мотором, тронулась с места.
От неожиданности Пашка выпустил борт. Машина запрыгала по дороге.
— Садись на ходу! — закричал Пашка Тимофею.
Машина уходила вперед.
— Куда же он? — кричал на бегу Тимофей. — Там же наши вещи!
Рванувшись, Пашка в два прыжка догнал грузовик и снова вцепился в кузов. Шофер со скрежетом переключил скорость, и «почта» убыстрила движение.
Пашка оглянулся. Тимофей бежал в тяжелых валенках в двух шагах от него, широко открывая и закрывая рот. Пашка отцепил одну руку от борта и протянул ее Тимофею. Групкомсорг Голованов ухватился за Пашкин рукав.
Машина шла под спуск все быстрее и быстрее. Пашка притянул Тимофея к борту.
— Хватайся за кузов! — крикнул Пашка.
Тимофей, выпучив глаза и судорожно держась за
борт, волокся на заплетающихся ногах за машиной. Он уже не мог бежать (никакой ширины- и быстроты шагов не хватало, чтобы удержаться за полуторкой). Машина почти тащила Тимофея по земле.
Пашка, подтянувшись на руках, кувыркнулся в кузов, — и тут же, свесившись за борт, схватил Тимофея двумя руками за воротник пальто.
Грузовик бешено несся под спуск. Пашка, напрягшись до боли в животе, оторвал Тимофея от дороги. Групкомсорг оказался тяжел на весу. Пашка изо всех сил тащил его к себе в кузов. Тимофей висел в воздухе, колотясь лицом, головой, руками и ногами о задний борт. Пашка чувствовал, что еще секунда — и он выронит лучшего друга из рук, и Тимофей, ударившись о дорогу, разобьется на таком ходу насмерть.
Всхлипнув, Пашка рванул Тимофея на себя и вдруг с ужасом почувствовал, что Тимофей выскальзывает из пальто: голова Тимофея уходила в глубину ворота.
— Пашка! Пашка! — полузадушенно захрипел Тимофей. — Что ты делаешь?!
— Да лезь же ты сам!! — отчаянно завизжал Пашка, понимая, что еще секунда — произойдет непоправимое…
Ни Пашка, ни сам Тимофей потом так и не могли понять, что же произошло… Но в последний миг, почувствовав, что он вываливается из пальто, Тимофей, вонзившись ногтями пальцев (перчатки он уронил) в деревянный борт машины, невероятным усилием не рук и вообще не тела, а каким-то диким порывом всего своего естества рванулся вверх, перелетел через борт и, сбив Пашку, покатился вместе с ним по дну кузова.
«Почта» на ураганной скорости мчалась вниз по крутому волжскому откосу. Вылетев на лед и ни на секунду не притормаживая, она понеслась по ледовой дороге вперед, в мглистое морозное марево. Кузов швыряло на выбоинах из стороны в сторону. Какие-то брезентовые мешки, запечатанные большими свинцовыми пломбами, катались по кузову справа налево и слева направо. Пашка и Тимофей, не пытаясь даже сопротивляться, обессиленные и безразличные ко всему на свете, катались вместе с мешками по днищу, больно ударяясь друг о друга.
Так прошло минут десять. Придя наконец в себя и собравшись с силами, Пашка приподнялся и с ненавистью посмотрел на кабину грузовика. Окно кабины было наглухо забито досками и зарешечено.
— Тим, что же это? — хрипло крикнул Пашка. — Что он делает?
Тимофей лежал с закрытыми глазами. Лицо его было изранено, в нескольких местах виднелись большие кровавые ссадины.
Кузов бросило вверх. Пашка упал на мешки. Тимофея швырнуло на Пашку.
Еще бросок. Безвольно мотнувшись, Тимофей ударился головой в борт.
— Сволочь! Гад! Преступник! — захрипел Тимофей. — Останови его, Павел! Он же убьет нас!
Пашка пополз к кабине. Но она была недосягаема. Каждый раз после очередного швырка кузова Пашка оказывался отброшенным назад. Он пробовал еще и еще раз, перебираясь через Тимофея, приблизиться к кабине, но все попытки были напрасны.
И в Пашке проснулась злость. Та самая, которая родилась в его сердце однажды на баскетбольной площадке в «матче века», когда «нью-хива» начала проигрывать команде мастеров.
Непонятно как, но все-таки вскочив на ноги, Пашка бросился вперед на кабину и схватился руками за решетку на окошке. Очередной бросок кузова тут же свалил его с ног, но решетку Пашка не выпустил из рук. Приспособившись к толчкам и швыркам, Пашка улучил минуту и грохнул несколько раз кулаком в забранные решеткой доски.
Взвизгнули тормоза. Машина прошла несколько метров юзом и остановилась. Хлопнула дверца. Голос откуда-то сбоку:
— Кто в кузове? Выходи!
Пашка и Тимофей поднялись и, пошатываясь, двинулись к заднему борту. В двух шагах сбоку от машины стоял шофер. В руках у него было ружье.


— Ах, это вы! — с перекошенным от злости лицом крикнул шофер. — А ну, вниз! Живо!
Похоже было, что он действительно не знал, что в кузове у него оказались пассажиры.
— Что вы делаете? — хрипло заговорил Тимофей. — Зачем вы так быстро гоните? Вы же искалечите нас…
— Прыгай на землю, падла! — еще сильнее перекосился лицом шофер. — Кому говорят?
— В чем дело? Чего орешь? — слабым голосом спросил Пашка, с недоумением глядя на шофера. Шофер выругался и передернул затвор.
— Прыгать! Немедленно! Стрелять буду!
Пораженные этой нелепой угрозой и еще ни о чем не догадываясь, Пашка и Тимофей перелезли через задний борт.
— Послушайте, — начал было Тимофей, но шофер тут же перебил его:
— Руки на голову! Кто такие? Беглые? — частил он свирепой скороговоркой. — В мороз отвалить решили?
И тут Пашка понял, что он принимает их за убежавших из какой-то колонии осужденных.
— Ты что психуешь? — с ненавистью заговорил. Пашка. — Мы из газеты, журналисты. У нас документы есть…
Он сделал шаг вперед и хотел было сунуть руку за пазуху, но шофер вскинул ружье.
— Руки! Не подходи! Стрелять буду, сволочь!
— Мы никакие не сволочи, — глухо сказал Тимофей, напряженно глядя на прыгающий в руках шофера ствол, — мы студенты Московского университета…
— Студенты? — скрипнул зубами шофер. — Не такие ли студенты, как вы, шофера на соседней стройке убили?!
— Да не дури же ты! — не выдержав, сорвал с головы шапку Пашка. — Разуй глаза! Видишь волосы? Разве осужденные с такими волосами ходят?
— У вас, сволочей, и за проволокой придурков волосатых полно!
— Ну, проверьте в конце-то концов наши документы! — отчаянно крикнул Тимофей.
— Я проверять, а ты мне нож в горло?.. У меня трое детей, падла бездомная! У меня в машине поч та, деньги, переводы!.. Оружие есть? Бросай на землю!
— Нет у нас никакого оружия, — устало сказал Пашка. — Нечего бросать.
— Не хотите? — ощерился шофер. — »Дело ваше… К машине не подходить! А еще раз на ходу влезете — пристрелю! Без предупреждения!
— Что вы делаете? — испуганно сказал Тимофей, показывая на Пашку. — Посмотрите, он же в сапогах… У него же ноги отмерзнут!
— Из-под проволоки лез, о ногах не думал, — усмехнулся шофер, — а теперь забеспокоился, да? Волю почуял?
— Неужели ты вольных от беглых отличить не можешь? — со злостью спросил Пашка. — Кто тебе только, дураку, оружие дал?
Шофер, ничего не отвечая и не опуская ружья, пятился к кабине. Потом, все так же стоя лицом к Пашке и Тимофею, влез на ступеньку, поставил ногу на педаль газа, взял ружье в одну руку, а второй рукой и свободной ногой завел мотор.
— У нас вещи в кузове! — закричал Пашка.
— Не подходи! Стрелять буду!
— Стреляй, гад! — рванулся вперед Пашка.
Шофер вскинул карабин и выстрелил в воздух.
Одинокое эхо глухо лопнуло над огромным пространством скованной льдом Волги, покрытой морозным туманом.
Тимофей схватил Пашку сзади за плечи, дернул к себе.
— Не надо, Павел, не надо! Он же ненормальный! Он убить может!
— Тимка! — дрожал всем телом Пашка. — Там же все наши блокноты, все записи!.,
— Не надо, Паша, не надо! — дрожал, как и Пашка, Тимофей. — Мы все потом вспомним, все восстановим в памяти…
«Почта» с белой полосой наискосок на борту двинулась с места.
— Назад идите!. Года по три накинут за побег, не больше! — кричал шофер, по-прежнему стоя одной ногой на ступеньке, держа в правой руке ружье.
— Отвечать за нас будешь, негодяй! — закричал Пашка и ткнул в сторону машины кулаком.
— Вы людей убивать будете! — кричал шофер. — А потом жалости просите? На слезу жмете? Урки проклятые, жулье чертово, бандюги, рецидивисты!
Он быстро нырнул в кабину, и полуторка, взревев мотором, рванулась вперед.
Пашка и Тимофей, не сговариваясь, бросились за «почтой», но бежать было бесполезно. Машина, стремительно набирая скорость, уходила в туман и вскоре совсем растворилась в нем — только стук мотора доносился еще некоторое время из белесого морозного марева, а потом затих и он.
Павел Пахомов и Тимофей Голованов стояли одни посреди застывшей в белом ледяном безмолвии Волги.
— Блокноты жалко, — сказал наконец Пашка. — Столько писали, писали, и вот…
Тимофей, опустив голову, молчал.
— Пошли, — сказал Пашка.
— Куда? — понуро спросил Тимофей.
— Обратно, в Жигулевск… До того берега, наверное, в два раза дальше…
— Как твои ноги?
— Нормально, — сказал Пашка, постукивая сапогом о сапог.
— Хочешь, надень мои валенки?
— А ты как же?
— У меня то ноги все время в тепле были.
— Спасибо, Тим, не надо.
Они вышли на дорогу и двинулись обратно. Белый туман обступил их со всех сторон. Легкая поземка крутилась вокруг ног, заметая дорогу. Тишина вокруг была вязкая, вечная, абсолютная. Казалось, что весь земной мир плотно прижат сверху свинцовым прессом пустого стылого неба.
…Они прошли минут десять, и Пашка начал все чаще и чаще постукивать сапогом о сапог. Потом он пробежал несколько метров вперед и вернулся обратно.
— Мерзнут? — спросил Тимофей, глядя на Пашкины ноги.
— Есть немного.
Мороз усиливался. Туман густел, оседал, давил на голову и плечи. Спина деревенела от монотонных однообразных движений.
Тимофей, потерявший перчатки, шел сгорбившись, нагнувшись вперед, глубоко засунув руки в карманы пальто, Он все время сжимал и разжимал пальцы рук. А Пашка, наоборот, двигался, неестественно выпрямившись, откинувшись назад, сильно и почти безразлично выбрасывая перед собой сапоги. О ногах он вроде бы уже и не думал. Вначале, на каждом шагу стараясь напрягать и расслаблять ступни, Павел ощущал каждую ногу от колен и до самых кончиков пальцев, но лотом идти таким способом стало трудно, и он, «потеряв» колени, только слабо шевелил иногда пальцами, а потом и пальцы «ушли» куда-то…
Начало задувать. Туман потемнел и наполнился густеющей фиолетовой изморозью. Ветер лез в рукава и за шиворот цепким цинковым холодом.
Пашка сделал шаг за Тимофеем и вдруг не почувствовал под собой ноги — дорога исчезала. Пашка выкинул вперед вторую ногу — дороги не было. Пашка упал.
— Тимка! — слабо позвал Пашка, — Тим!..
Тимофей, не оборачиваясь, уходил вперед.
— Тимка!! — изо всех сил закричал Пашка. — Тимка!!
Тимофей остановился, прислушиваясь. Медленно повернулся и, увидев лежавшего на снегу Пашку, пошел к нему. Не вынимая рук из карманов пальто, Тимофей опустил к Пашке согнутую в локте руку. Пашка схватился за Тимофея и выпрямился.
9
Свет двух автомобильных фар возник из тумана, как два белых пристальных зрачка нереального, неземного желтоглазого призрака.
Машина — крытая брезентовым каркасом полуторка — затормозила. Из кабины выпрыгнул человек в черном овчинном полушубке и, энергично скрипя валенками по снегу, подошел вплотную к Пашке и Тимофею.
— Вы откуда? — тревожно спросил Он. — Кто такие?
— Мы журналисты, корреспонденты из областной газеты, — забормотал Тимофей, — нам нужно на левый берег…
Тимофей полез под пальто и вытащил командировочное удостоверение. Человек в черном полушубке подошел к фарам, бегло прочитал бумагу.
— Ладно, потом разберемся. Полезайте в кузов.
Тимофей показал на Пашку.
— Ему нужно в кабину. У него ноги отморожены.
— В кабине женщина с грудным ребенком. Лезьте скорее в кузов. Там полно всякого тряпья. Сними с него сапоги, закутай ноги. Пускай потерпит.
Если стоит сем, значит, не очень поморозил, только прихватило.
Он обошел вместе с Пашкой и Тимофеем, поддерживая Пашку под руку, вокруг машины.
— Сергунь! — зычно позвал шофер.
Полог над задним бортом откинулся, и показалась бородатая голова в лохматой шапке с опущенными ушами.
— Тут я, — бодро ответила бородатая голова.
— Помоги людям подняться. Тут обморозился один. Разуй его, тряпок наверти на ноги.
Бородатый Сергуня, старик лет шестидесяти, протянул вниз руки и без труда поднял в кузов сначала Пашку, а потом и Тимофея.
— Оба здесь! — крикнул он шоферу, уже пошедшему к кабине. — Оба два! Трогай!
В темноте крытого кузова сначала ничего нельзя было разобрать. Ощущалось лишь рядом сытое, чесночное, немного хмельное дыхание старика Сергуни и кислый овчинный запах, шедший от его тулупа.
— Где ноги-то у тебя, браток? — хлопотал Сергуня, стоя около Пашки на коленях. — Ага, вот они. Ну-кося, давай сапожок твой сымем… Так, теперича в тряпицы ее обернем… Давай, вторую… Есть вторая. Мотай на ее побольше, тряпья хватает… Суй под меня ножонки. Сунул? Теперича терпи, я на их сидеть буду.
— Может, растереть сначала? — спросил Тимофей.
— Сами разойдутся. Ты гуляй, парень, пальцами, шевели ноготками. Слышишь ноги-то?
— Нет, не слышу, — сквозь зубы ответил Пашка.
Сергуня снял рукавицы и, достав Пашкину ногу из
тряпья, цепко взял ее крепкими шершавыми руками.
— Э, парень, холодный ты здорово, — забеспокоился
старик. — Тогда вот чего: лезь ногами ко мне под куфайку, клади их на пузо, оно теплое.
Машина быстро шла по дороге, подпрыгивая на оледеневших снежных ухабах. Тимофей, двинувшись в темноте вдоль борта, неожиданно наткнулся еще на чьи-то ноги в валенках. Вглядевшись, он различил в углу кузова человеческую фигуру, закутанную с головой в бараний тулуп.
— Тут еще кто-то есть, — удивленно сказал Тимофей, усаживаясь около валенок.
— Да это баба, сноха моя, — объяснил бородатый Сергуня. — Две их со мной. Одна в кабине с дитем, а эта тут угрелась. Родить тоже скоро будет. Мужики-то, сыновья, на заработках, а я с бабами в деревне кручусь.
Он толкнул Тимофея рукой.
— Ты подваливай к ней, она тоже теплая. А брюхо у нее поболе моего будет.
Сергуня радостно засмеялся.
— Настёна, — позвал он сноху, — погрей человека, не убудет от тебя.
Фигура в тулупе не шевелилась.
— Ты сделай доброе дело, Настя, — продолжал старик, — на сносях бабам положено добро чужим людям оказывать, от этого ребенку польза бывает.
Пашка лежал в полузабытьи, на спине, касаясь затылком вороха соломы. Он не совсем ясно представлял, что происходит с ним и вокруг него. Нервная вспышка во время столкновения с водителем почтовой машины — ружье, угроза стрелять, — все это отключило в голове какие-то предупреждающие об опасности центры. Тупое шагание по замерзшей Волге через метель усугубило подавленное состояние. Мелькнула страшная мысль: если с ногами действительно будет плохо, тогда прощай сразу все — и факультет, и баскетбол, и журналистика. Ах, как это было все глупо, нелепо, бездарно, неосмотрительно — влететь с размаху в первую попавшуюся, чужую, совершенно незнакомую машину! Какое мальчишество, какой детский сад!
Случайная встреча со второй машиной на заметенной пургой дороге, среди снега, ветра и льда была не похожа на правду. Правдой была почтовая машина, искаженное злобой лицо, дуло ружья, направленное прямо в грудь, выстрел в воздух и робкое, испуганное эхо, слабо лопнувшее в тумане… Вторая машина была несерьезна, нереальна, сказочна, она была из прежней жизни, в которой все кончается хорошо, все разрешается благополучно— вовремя приходит спасение, выплывает из тумана желтоглазая помощь, уверенные руки поднимают тебя в кузов, разувают, кладут твои мерзлые ноги к себе на живот…
Да, все это было из прежней жизни, лопнувшей винтовочным эхом в тумане. Новым оказалось понимание, что все может внезапно и непоправимо перемениться— это начиналось с выстрела над Волгой.
Неуправляемые эти мысли зигзагами молний метались перед Пашкой, погружая его в зыбкую пелену отчаяния, слабости и полусна. Сознание тревожно витало над ним чужим косматым облаком.
…А над Тимофеем журчал веселым родником голос старика Сергуни:
— У нас в деревне женщины, когда в положении ходят, всегда нищим кусок подают. Примета есть такая среди баб — ежели слабому или убогому от себя на сносях помощь окажешь, значит, ребеночек твой в добром здравии родится. От многой беды будет в жизни спасенный. А ежели баба скупится на сердце, пока дите в себе носит, тогда плохо дело. Злыдня родит, или непутевого, иль невезунка. Сама с ним намается, и от людей, когда подрастет, добра не жди. Примета эта проверенная, точная. Спокон веку блюдется.
Тимофей слушал, засыпал, просыпался от толчков, нежился в тепле сладкой усталости. Он лежал на днище кузова на груде тряпья. Головой Тимофей устроился на валенках снохи Настены. От валенок пахло жилым — избой, коровой, молоком, печкой, хлебом… Сама Настена за всю дорогу ни разу не изменила положения. Похоже было, что она тоже уснула. Сквозь стойкий дух бензина едва уловимо веял на Тимофея от снохи Настены слабый аромат чего-то женского — чего именно, Тимофей разобрать не мог.
— А еще на свадьбу примета есть, — продолжал говорить Сергуня. — Идут молодые, скажем, из женихова дома или в невестин дом входят… Тут в строгости надо смотреть, чтоб никто промеж них с дурным глазом не встрял. Потому как суются многие, особливо ребятишки. Ежели мальчонка, скажем, сзади между женихом и невестой пробежит, надо его споймать и по затылку треснуть. Заплачет — лить невесте слезы, смолчит — будет в доме мир и порядок. А ежели девочка промеж молодых пролезет — надо ее одарить. Кладешь перед ей конфету и ленту. Чего первое возьмет? Ленту — муж гулять вскорости от молодухи начнет; конфету — не будет у мужа никого на свете слаще, чем законная супружница.
Тимофей посмотрел на Пашку. Он лежал навзничь перед Сергуней. Старик засунул Пашкины ноги себе под стеганую ватную фуфайку и нательную рубаху и, прижимая их локтями с двух сторон к себе, грел Пашкины ступни у себя под мышками. Лицо у Сергуни было благостное, шапка-ушанка съехала на затылок, старик почесывал бороду и улыбался.
— А перед войной был у нас в деревне такой случай. Пошел один мужик с кумом на пруд карасей рыбалить. Раз прошлись с неводом — пусто. Второй раз — опять пустыря тямут. А как завели в третий раз — глядь! А в сеть нечистая сила попалась. Кум невод бросил и без порток в кусты. А мужик энтот, про которого я рассказываю, страсть какой жадный был. Жалко ему стало сеть, он ее из рук и не выпускает. Нечистая сила невод на себя тянет, в глыбь, а мужик на себя, к берегу… Кум кричит из кустов: «Лукич, отдай ему невод, душу спасай!» А Лукич крепкий был, как бугай. В молодые годы мешки па мельнице таскал, потом в кузне с кувалдой лет десять жалился… Как рванул сеть на себя, так нечистая и вылезла из пруда… Водяной! Весь в перьях… К ум со стреху вдарился через кусты. А у Лукича руки-ноги отнялись — ни бечь, ни кричать не может… Выпустил он невод, нечистая — хлюп! — и ушла в воду вместе с неводом. Да-а… Приходит Лукич в деревню, ищет кума. А тот на печи сидит, забился в угол… Лукич говорит куму: давай заявлению в милицию напишем, пускай ловят водяного, отбирают у него нашу сеть. Кум только отмахивается — какая милиция? Они с нечистой не знаются… Тогда Лукич к попу за десять верст пошел. Так и так, говорит, требуется молебен отслужить об отнятии у сатаны невода. Поп его за ворота. Но Лукич, конечно, упрямый был мужик, как гусеничный трактор. Решил он сам нечистую изловить. Взял ружье и пошел с ночи на пруд. Чтоб, значит, на заре водяного энтого подкараулить. Они в ночи-то, неумытые, известное дело, по дворам шастают — ведьмачут, то есь христианские души с панталыку сбивают, о на зорьке к себе вертаются, в омут…
Вот ходит наш Лукич ночь, ходит вторую, ходит третью. Никого нет. Ходит неделю — пустой номер. Еще неделю — все тихо. В деревне над ним уже смеются. Лукич-то, говорят мужики, за неумытиком охотится, а к его бабе по ночам сосед в окно скребется — у него с нечистой договоренность имеется. А днем, пока Лукич спит, сосед водяного отрубями с берега кормит, благодарит то есть. Да-а… Но все же Лукич своего часу дождался. В одно утро сидит он на пруду, а водяной — вот он, выплывает около камышей. Опять же весь в перьях. Ручища огромадные, в разные стороны растопыренные, и сеть Лукичеву в руках держит. А в сети рыбешка мелкая поблескивает. Пока, значит, Лукич его по ночам караулил, он его неводом ершей себе на уху погнил. Лукич приложился — бах! Нечистая крутанулась и в глыбь ушла. Не пондравилось… На другое утро опять выплывает с неводом на том же месте и опять в перьях. Лукич его с обоих стволов медвежьим жаканом. А тому хоть бы што. Нечистая, она и есть нечистая. Ушел в омут. Лукич зовет с собой мужиков, которые посмелее. Пошли. Хотели кума с собою взять. Потому как он был первый свидетель. Да тот с печи не слезает, заикаться стал. Да-а… Приходят. Ждут. Выплывает. В перьях. С неводом. Из себя весь зеленый. И ручища волосатые, на три метра в стороны раскиданные. Будто обнять всех хочет и за собой утянуть. Мужики, конечно, бегом обратно в деревню. Теперь уже поверили, потому как своими глазами видели. Ну, понятное дело, пошли разговоры по всей округе. А пруд был у нас не один, их несколько было, и все друг с дружкой соединенные, проточные. Три деревни на этих прудах стояло. Да-а… Из соседней деревни говорят — мы тоже, мол, видели водяного. Он у нас утят да гусят таскает. Дошло дело до района. Приезжает комиссия. Прочли, конечно, лекцию — бога нет, черта нет… Как же нет черта, говорят мужики, когда он у нас в пруду живет? Бабы белье полоскать на пруд боятся ходить. Требуются меры… Ну, комиссия идет на пруд. Стояли, стояли — никого нет. Нечистая, конечно, притаилась. С комиссией связываться не пожелала. Боязно: в районе, понятное дело, народ грамотный, не то что в деревне. Так ни с чем и уехала комиссия… Лукич собрался было уже в область писать, в пожарную охрану, чтобы защитили православный народ и невод вернули, но тут приезжает к одной нашей деревенской старушке внучок-морячок с товарищем на побывку. Послушали они все разговоры про водяного и говорят: а мы его поймаем. И что вы думаете? Через три дня поймали…
— И кто же это был? — неожиданно громко спросил Пашка Пахомов.
— А-а, обмороженный, — засмеялся Сергуня. — Ожил? А была это огромадная щука. Двести лет жительства ей потом в музее определили. Как она к нам в пруды попала — никто объяснить не мог…
— А какие же у щуки могут быть руки? — спросил Тимофей. — Да еще волосатые? Да еще на три метра в стороны раскиданные?
Сергуня, как опытный рассказчик, сделал паузу.
— А это была не простая щука, а особенная. Сидел у ее на спине мертвый орел. Видать, он ее сверху в пруду разглядел, когда она в наших краях объявилась, кинулся, вцепился когтями в спину, а подняться вверх не сумел — тяжелая щука была, старая. Сил у орла на ее и не хватило. А когти вытащить уже не смог, так сильно вонзился ей в спину. Ну, щука и утащила его на глубину. Сильнее орла оказалась. Он у нее на спине с раскинутыми крыльями захлебнулся и окостенел. И намоталась на эти крылья разная чепуха — растения всякие, водоросли, а потом и лукичевский невод. Два года щука с мертвым орлом на спине плавала, из музея потом сказали. Поначалу, видно, отлеживалась на дне, раненая была, да и тяжело с непривычки было такой груз на себе возить. А потом пообвыклась и всплывать начала — утят и гусей таскать. А тут и Лукич со своим неводом подоспел…
— Как интересно. — сказал Тимофей. — Один хищник напал на другого хищника, а получилось…
— А получилась нечистая сила, — сказал старик Сергуня. — Промеж людей тоже так бывает.
Потом долго ехали молча.
Тимофей ни о чем не спрашивал у Пашки с той самой минуты, когда Сергуня сказал: «Клади ноги на пузо, оно теплое». С этой самой секунды Тимофей Голованов понял: ему не надо больше заботиться о Пашке. Забота о нем перешла в более опытные, а главное, более мудрые руки.
И еще Тимофей твердо поверил в ту минуту, что с ногами у Пашки будет все в порядке. Если бы Пешке грозила опасность, Сергуня сразу почувствовал это, остановил бы машину, развел костер и спас Пашкины ноги. Но он этого не сделал. Значит, он знал, что с ногами все будет в порядке.
Машина остановилась.
— Эй, корреспонденты! — крикнул водитель. — А вам куда?
— Их тоже ко мне вези, — быстро сказал Сергуня. — Куды им деваться в таком виде? Подлечиться надо немного, обогреться.
— Ну, лады, — сказал водитель и пошел к кабине.
— Нам вообще-то в Куйбышев надо, — тихо сказал Пашка.
— Куда тебе, милок, сегодня в Куйбышев, — усмехнулся Сергуня. — Сейчас мы ножонки твои проверим, на свету на их поглядим.
— А вы где живете? — спросил Тимофей.
— В деревне у себя живу.
— А до Ставрополя от вашей деревни далеко?
— Рядом. Да вы не сумлевайтесь. Переночуете, а завтра Митрий, — старик кивнул в сторону кабины, — заедет и отвезет вас к автобусу.
Взревев мотором, полуторка начала подниматься с ледовой дороги вверх, на волжский берег. Теперь машина шла медленнее, делала повороты, часто сигналила. Наконец, остановилась.
— Прибыли, — удовлетворенно сказал Сергуня. — Настена, просыпайся — деревню проедешь.
Валенки под головой Тимофея зашевелились. Тимофей сел, потом встал на колени, выпрямился.
— Слышь, браток, — обратился к нему старик, — друга твоего мы здесь обувать не будем, сапоги на его сейчас не влезут. На руках в избу снесем. Ты ему ножонки-то обмотай тряпьем.
Водитель Митрий откинул задний борт. Сергуня помог сойти на землю снохе Настене, похожей в своем тулупе на копну, потом сказал Пашке:
— Садись на самый край. Сымать тебя сейчас будем.
— Да я сам дойду, не беспокойтесь, — хорохорился Пашка.
— Сам с самой у меня в хлеву сидит, — строго сказал Сергуня. — А ты делай, чего говорят.
Сергуня и Митрий отнесли Пашку в дом и посадили на лавку. Изба была большая, разделенная перегородками на несколько комнат. В центре возвышалась огромная белая печь, вся уставленная многочисленными горшками и чугунками.
Сноха Настена и вторая сноха, вылезшая из кабины с завернутым в одеяло ребенком, быстро разделись и начали греметь около печи чугунками и ухватами. Сергуня и шофер Митрий носили из машины в сени какие-то большие и, видимо, тяжелые мешки. Тимофей помогал им. С непривычки Тимофей споткнулся о высокий порог и чуть было не уронил первый же доверенный ему мешок, но потом приноровился и таскал мешки довольно прытко, будто занимался этим делом всю жизнь.
Машина уехала. Сергуня вошел в избу, сбросил полушубок, телогрейку, шапку-ушанку и оказался могучим кудлатым стариком в ситцевой рубашке в синий горошек. Он сел на табуретку напротив Пашки и положил Пашкины ноги к себе на колени.
— Ничего особливо страшного у тебя нету, — сказал Сергуня, ощупывая Пашкины пальцы и пятки, — я это сразу понял, как только ты мне их на пузо положил. Но береженого бог бережет. Отдельные места может захватить. Сейчас мы тебе все жилы обглядим, все проверим… Настена! Угли готовые?
— Готовые, батюшка, несу! — откликнулась от печки беременная сноха Настена.
Она положила на пол перед Сергуней большой металлический самодельный противень, густо усыпанный мигающими угольками.
— Молодцы у меня бабы, — удовлетворенно сказал Сергуня, оглаживая бороду, — сами все сделали, без лишнего приказа. Понял, каким лекарством я тебя буду лечить? — Он разровнял кочергой угли на противне и решительно сказал Пашке — Ставь ногу!
Пашка размотал тряпки и хотел уже сунуть ногу на противень, но в последнюю минуту раздумал.
— Что так-то? — удивленно спросил Сергуня. — Боишься?
Пашка поставил ногу на угли, но держал ее ровно одну секунду и тут же отдернул.
— Ха-ха-ха! — засмеялся Сергуня. — Живая нога-то, понял? Главная жила цела. Ставь вторую.
Пашка поставил вторую ногу и сразу отдернул ее.
— И вторая жива. Плясать можешь. Теперича пальцы надо обмазать, на всякий случай… Настена! Прими угли, давай аптеку!
Сноха Настена унесла противень и принесла большую плетеную корзину с разнокалиберными пузырьками и склянками. Сергуня открыл одну из них, зацепил корявым пальцем большой кусок мази и стал смазывать пальцы на Пашкиных ногах.
— Самодельное зелье, на травах, — объяснил старик, — я сам варил. Старуха моя, когда жива была, по оврагам травки собирала, а я варил. Такую лекарству в городе с фонарем не найдешь.
Закончив врачевание, Сергуня поднялся.
— Все, парень! Вставай смело на ноги и шествуй. Пальцы твои останутся целые. Правда, кожа кое-где по одному разу сойдет и два-три ногтя слезут, но зато все остальное будет в целости. В танцоры можешь записываться.
Сергуня унес «аптеку», вымыл руки под висящим около печи умывальником, расчесал голову и бороду и спросил у снохи:
— Настена, а где мои рыбацкие валенки?
— Здесь они, батюшка. Я уже принесла.
Она поставила на пол огромные, вручную, видно, скатанные валенки с самодельными калошами.
— Надевай, — сказал Пашке Сергуня. — Между прочим, тоже самодельные. В запрошлую зиму, на рождество, как раз я их и свалял. И калошками, видишь, какими красивыми обклеил. Обувка — первый класс. Я в них зимой на Волгу за судаками хожу. Цельный день на льду сижу, и хоть бы что. Ноги — как у Христа за пазухой. И не стынут и не мокнут.
Пашка просунул ноги в валенки. Были они такого размера, что в каждом совершенно свободно уместилось бы еще по одной ноге.
— Не маловаты? — улыбнулся Сергуня. — Не жмут?
— Жмут, конечно, — улыбнулся в ответ Пашка, — но ничего, потерпим.
Снохи позвали ужинать. Сергуня, Пашка и Тимофей сели в кухне за маленький неудобный столик, под который нельзя было поставить ноги. Снохи стояли около печи.
— А вы разве с нами не будете? — вежливо спросил Тимофей у женщин,
— Они потом будут, с ребятишками, — сказал Сергуня. — Ну, — Сергуня поглядел на Пашку. — бог к тебе на этот раз смилостивился. Но больше так не шути и в сапожках зимой на Волгу не вылазь. Потому что два раза бога за бороду дергать нельзя. Он этого не любит. Старик строгий… Гневить не надо, может осерчать.
Закусывали солеными груздями, мороженой клюквой, вареной картошкой и салом. Потом сноха Настена поставила на стол большую железную миску с тремя огромными кусками мяса.
— По мясам, — торжественно объявил Сергуня и первый взял кусок из миски.
Снохи сноровисто принимали со стола пустую посуду. Сергуня быстро разделался со своим куском, истово грыз кость, потом выколотил ее на стол, сгреб вареный мозг левой рукой на правую ладонь и отправил в рот.
Сноха Настена аккуратно собрала со стола все растерзанные кости и понесла их во двор собакам. Вторая сноха обносила мужчин глубокими глиняными мисками с дымящимися щами.
— Большое вам спасибо, — сказал Тимофей, — за гостеприимство, за угощение, за помощь…
— Чего там спасибо, — огладил Сергуня бороду. — Кажный человек долж
он другому помощь оказывать, ежели чего случается. На том вся земля стоит и род людской держится.
Сергуня хлебал щи неторопливо, провожая каждую ложку от миски ко рту куском хлеба снизу.
Доев щи, Сергуня облизал деревянную ложку и положил ее на стол.
— Молочка кислого не желаете? — спросил он у Пашки и Тимофея.
— Нет, спасибо большое, — сказал Пашка, посмотрев на Тимофея. — Мы уже и так сыты. Спасибо.
— А я выпью, — сказал Сергуня, улыбнувшись.
Сноха Настена подала ему литровую крынку, и Сергуня одним махом осушил ее.
— Ну, вот и слава богу, — как бы подвел старик итоги прожитого дня. — Все сытые, здоровые — чего еще надо?
Он встал из-за стола и пошел к печи. Пашка и Тимофей повернулись к снохе Настене,
— Спасибо за обед, — почти в один голос сказали Пашка и Тимофей.
— И вам спасибо, — поклонилась им Настена, тяжело сгибая свою располневшую фигуру.
— А нам-то за что? — удивленно спросил Пашка.
— За то, что хлеб-соль нашу кушали, — объяснила Настена, — не побрезговали деревенским.


Пашка посмотрел на Тимофея и ничего не ответил. Первый раз в жизни хозяева благодарили Павла Феоктистовича Пахомова за то, что он исправно и прилежно ел их еду.
— Слышь, ребята, — позвал от печи Сергуня, — идите-ка сюда.
Пашка и Тимофей подошли к печке.
— Значит, так, — сказал Сергуня, — на печи будем спать втроем. Вы к стенке лезьте. А я с краю лягу. Там тулуп есть — вы им накройтесь.
Пашка и Тимофей залезли на печь. Тимофей лег у самой стены, Пашка рядом. Сергуня не ложился. Он сел около печи на лавку, достал моток дратвы и начал протягивать ее.
Пашке была видна вся кухня. Снохи, убрав за мужчинами, вывели из горницы к столу ребятишек. Детей было пятеро — два мальчика и три девочки. Сидели за столом они все тихо, а если кто-нибудь начинал громко просить хлеба или ложку, сноха Настена показывала пальцем на печку, а потом прикладывала его к своим губам.
Печь дышала снизу теплом. Пахло крестьянскими запахами — молоком, хлебом, сеном, овчиной. Старик сидел около печи на лавке. Женщины кормили за столом детей. Конструкция извечного человеческого бытия во всей своей исчерпывающей законченности предстала вдруг перед Пашкой Пахомовым настолько полной, настолько не нуждающейся ни в каких дополнениях, что у него даже защемило в глазах.
— Тим, — тихо сказал Пашка, — завтра в Куйбышеве будем…
Тимофей не отвечал. Он уже привык сразу засыпать на новом месте.
Примечания
1
Будущий Тольятти.
(обратно)
Оглавление
Часть первая
Кафедра физкультуры
1
2
3
Часть вторая
Пятая французская
1
2
Часть третья
Сессия
1
2
3
4
5
Часть четвертая
Каникулы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*** Примечания ***



 Убедившись, что его молодой жизни в данный момент прямая опасность не угрожает, Пашка, еще раз тяжело вздохнув, продолжал приближаться к входу на факультет журналистики.
Оказавшись на лестнице, на знаменитой железной университетской лестнице, сработанной если не рабами Рима, то, во всяком случае, много-много лет назад (по ее нетленным чугунным ступеням, опаздывая на лекции, может быть, взбегали однокурсники Лермонтова и Белинского), Пашка Пахомов «гасил» свое поступательное движение вверх до пределов, уже совершенно недоступных человеческому восприятию. Он втаскивал ногу на очередную ступеньку и застывал в неподвижной позе. Казалось, жизнь умерла в нем навсегда. Но проходило несколько мгновений, и Пашка снова оживал. Он подтягивал отставшую ногу, а потом опять погружался в небытие. Со стороны Пашка был похож на человека, поднимающегося по ступеням эшафота, на вершине которого ему суждено было положить под топор палача свою буйную голову в серой клетчатой кепке.
Однако последние ступеньки перед дверью, ведущей непосредственно на факультет, студент Пахомов преодолевал с беззаботной легкостью человека, которому в последнюю минуту перед казнью сообщили о замене четвертования женитьбой на царской дочери.
Взявшись за дверную ручку, Пашка придавал своему лицу крайнюю степень озабоченности и только после этого торопливо вбегал на факультет. И здесь он каждый раз попадал в «объятия» Глафиры Петровны— технического секретаря деканата, молодящейся блондинки с хорошо сохранившейся фигурой. В руках Глафира Петровна держала хрустящий лист бумаги. Это был список опоздавших, который каждый день, как утренний кофе, подавался после начала первой лекции на стол декану факультета для принятия против вконец обнаглевших лодырей и прогульщиков строгих административных мер.
Несколько секунд Глафира Петровна молча смотрела на Пашку. Глаза технического секретаря от приступа благородного гнева постепенно темнели и становились почти бархатными. Пашка же, напрягая легкие, добросовестно обозначал тяжелое дыхание человека, сломя голову мчавшегося к началу занятий.
— Опять? — зловещим шепотом выдавливала из себя Глафира Петровна.
— Опять, — уныло разводил руками Пашка.
— Это возмутительно! — шипела Глафира Петровна.
— Это возмутительно, — горевал Пашка.
— Это становится невыносимым!
— Это становится невыносимым, — сокрушался Пашка.
Молодящаяся блондинка гневно буравила Пашку своими бархатными глазами. Студент Пахомов уже давно отравлял ей жизнь. Глафира Петровна обрушивала на клетчатую Пашкину кепку все имевшиеся в ее распоряжении неприветливые цензурные выражения.
Глафира Петровна метала громы и молнии, но Пашка по-прежнему не возражал ей. Как человек опытный, он знал — Глафире нужно прежде всего дать высказаться.
Выдержав необходимую паузу, Пашка перешел к наступательным действиям. Уняв тяжелое дыхание, он хорошо поставленной скороговоркой поведал трогательную историю о том, как на троллейбусной остановке стал свидетелем обморока, случившегося с пожилой гражданкой. Гуманные соображения, естественно, не позволили студенту Пахомову оставить старушку одну до прихода «скорой помощи».
Глаза Глафиры сузились до размеров смотровой щели рыцарского шлема. Лицо ее пылало холодным пламенем презрения.
— Обморок с пожилой женщиной на троллейбусной остановке, — тщательно выговаривая каждую букву, начала Глафира Петровна, — был уже в прошлом месяце. Вы лжец, Пахомов, и притом бездарный. Завтра постарайтесь придумать что-нибудь пооригинальнее.
И она взмахнула роковым карандашом, чтобы занести Пашку в крамольный список опоздавших.
— Глафира Петровна! — проникновенно сказал Пашка, сделав робкий шаг вперед. — Глафира Петровна, — расчетливо повторил Пашка, — а что бы вы сделали, если бы сейчас здесь стоял не я, а ваш собственный сын?
Карандаш замер над списком — пущенная Пашкой отравленная стрела попала прямо в цель.
Глафира Петровна тяжело вздохнула. Глаза ее раскрылись до нормальных размеров.
— Что вы от меня хотите? — дрогнувшим грудным голосом спросила она.
— Глафира Петровна, дорогая, у меня же последнее предупреждение. Выгонят — куда деваться? Ведь вы сами знаете, как трудно сейчас куда-нибудь устроиться…
Да, это Глафира Петровна знала хорошо. У нее был большой опыт по устройству собственного сына в текстильные и пищевые институты.
— Ладно, — снова вздохнув, сказала Глафира Петровна и сделала слабый жест рукой, — прощаю в последний раз.
Произнося эти слова, она была абсолютно уверена в том, что завтра — в крайнем случае послезавтра — весь спектакль повторится заново.
Пашка сделал Глафире ручкой и помчался вниз по железной лестнице.
— Не забудьте вернуться на второй час лекции! — кричала сверху снова ставшая очень строгой Глафира Петровна. — Я проверю!
Но студент Пахомов уже не слышал ее. На душе у него было легко и свободно. День начинался совсем неплохо. Первая схватка с деканатом окончилась в его пользу. Правда, можно было бы и просто не опаздывать. Прийти, например, к началу лекции вместе со всеми. Но этот вариант был мало знаком Пашке, и он опасался к нему прибегать.
Убедившись, что его молодой жизни в данный момент прямая опасность не угрожает, Пашка, еще раз тяжело вздохнув, продолжал приближаться к входу на факультет журналистики.
Оказавшись на лестнице, на знаменитой железной университетской лестнице, сработанной если не рабами Рима, то, во всяком случае, много-много лет назад (по ее нетленным чугунным ступеням, опаздывая на лекции, может быть, взбегали однокурсники Лермонтова и Белинского), Пашка Пахомов «гасил» свое поступательное движение вверх до пределов, уже совершенно недоступных человеческому восприятию. Он втаскивал ногу на очередную ступеньку и застывал в неподвижной позе. Казалось, жизнь умерла в нем навсегда. Но проходило несколько мгновений, и Пашка снова оживал. Он подтягивал отставшую ногу, а потом опять погружался в небытие. Со стороны Пашка был похож на человека, поднимающегося по ступеням эшафота, на вершине которого ему суждено было положить под топор палача свою буйную голову в серой клетчатой кепке.
Однако последние ступеньки перед дверью, ведущей непосредственно на факультет, студент Пахомов преодолевал с беззаботной легкостью человека, которому в последнюю минуту перед казнью сообщили о замене четвертования женитьбой на царской дочери.
Взявшись за дверную ручку, Пашка придавал своему лицу крайнюю степень озабоченности и только после этого торопливо вбегал на факультет. И здесь он каждый раз попадал в «объятия» Глафиры Петровны— технического секретаря деканата, молодящейся блондинки с хорошо сохранившейся фигурой. В руках Глафира Петровна держала хрустящий лист бумаги. Это был список опоздавших, который каждый день, как утренний кофе, подавался после начала первой лекции на стол декану факультета для принятия против вконец обнаглевших лодырей и прогульщиков строгих административных мер.
Несколько секунд Глафира Петровна молча смотрела на Пашку. Глаза технического секретаря от приступа благородного гнева постепенно темнели и становились почти бархатными. Пашка же, напрягая легкие, добросовестно обозначал тяжелое дыхание человека, сломя голову мчавшегося к началу занятий.
— Опять? — зловещим шепотом выдавливала из себя Глафира Петровна.
— Опять, — уныло разводил руками Пашка.
— Это возмутительно! — шипела Глафира Петровна.
— Это возмутительно, — горевал Пашка.
— Это становится невыносимым!
— Это становится невыносимым, — сокрушался Пашка.
Молодящаяся блондинка гневно буравила Пашку своими бархатными глазами. Студент Пахомов уже давно отравлял ей жизнь. Глафира Петровна обрушивала на клетчатую Пашкину кепку все имевшиеся в ее распоряжении неприветливые цензурные выражения.
Глафира Петровна метала громы и молнии, но Пашка по-прежнему не возражал ей. Как человек опытный, он знал — Глафире нужно прежде всего дать высказаться.
Выдержав необходимую паузу, Пашка перешел к наступательным действиям. Уняв тяжелое дыхание, он хорошо поставленной скороговоркой поведал трогательную историю о том, как на троллейбусной остановке стал свидетелем обморока, случившегося с пожилой гражданкой. Гуманные соображения, естественно, не позволили студенту Пахомову оставить старушку одну до прихода «скорой помощи».
Глаза Глафиры сузились до размеров смотровой щели рыцарского шлема. Лицо ее пылало холодным пламенем презрения.
— Обморок с пожилой женщиной на троллейбусной остановке, — тщательно выговаривая каждую букву, начала Глафира Петровна, — был уже в прошлом месяце. Вы лжец, Пахомов, и притом бездарный. Завтра постарайтесь придумать что-нибудь пооригинальнее.
И она взмахнула роковым карандашом, чтобы занести Пашку в крамольный список опоздавших.
— Глафира Петровна! — проникновенно сказал Пашка, сделав робкий шаг вперед. — Глафира Петровна, — расчетливо повторил Пашка, — а что бы вы сделали, если бы сейчас здесь стоял не я, а ваш собственный сын?
Карандаш замер над списком — пущенная Пашкой отравленная стрела попала прямо в цель.
Глафира Петровна тяжело вздохнула. Глаза ее раскрылись до нормальных размеров.
— Что вы от меня хотите? — дрогнувшим грудным голосом спросила она.
— Глафира Петровна, дорогая, у меня же последнее предупреждение. Выгонят — куда деваться? Ведь вы сами знаете, как трудно сейчас куда-нибудь устроиться…
Да, это Глафира Петровна знала хорошо. У нее был большой опыт по устройству собственного сына в текстильные и пищевые институты.
— Ладно, — снова вздохнув, сказала Глафира Петровна и сделала слабый жест рукой, — прощаю в последний раз.
Произнося эти слова, она была абсолютно уверена в том, что завтра — в крайнем случае послезавтра — весь спектакль повторится заново.
Пашка сделал Глафире ручкой и помчался вниз по железной лестнице.
— Не забудьте вернуться на второй час лекции! — кричала сверху снова ставшая очень строгой Глафира Петровна. — Я проверю!
Но студент Пахомов уже не слышал ее. На душе у него было легко и свободно. День начинался совсем неплохо. Первая схватка с деканатом окончилась в его пользу. Правда, можно было бы и просто не опаздывать. Прийти, например, к началу лекции вместе со всеми. Но этот вариант был мало знаком Пашке, и он опасался к нему прибегать.

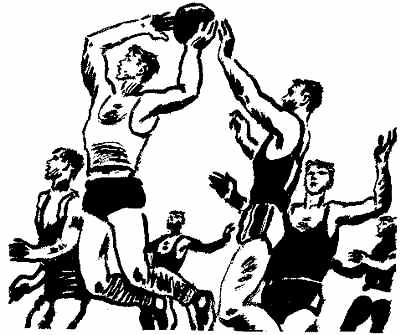 В перерыве все только и делали, что говорили о Пашке. Фамилия его была у всех на устах. Было совершенно ясно, что в университете появился новый классный баскетболист… Вот вам и «хива»! Вот вам и бессистемные тренировки под руководством рыцаря печального образа на общественных началах Кости Хачатурова. Вот вам и «дикие» многочасовые игры, которые так любили осуждать штатные тренеры клубных команд. Был, оказывается, смысл во всех этих бессистемных тренировках, во всех этих «диких» многочасовых играх, если вырос в «хиве» такой игрок, как Пашка Пахомов, сумевший забить пять мячей подряд мастерам?
Да, Пашка действительно был героем первой половины матча «нью-хивы» с мастерами. Он сидел в раздевалке, и вся команда — Курдюм, Леня Цопов, Тарас и Лева Капелькин — с удивлением разглядывали его, будто видели первый раз в жизни.
— Ты вообще-то не устал, Пашка? — озабоченно спросил Лева. — Все-таки два часа перед этим гонял, а?
— Нисколько, — храбрился Пашка. — Я чем больше играю, тем меньше устаю.
Все заулыбались. Пашка был младше всех, и поэтому хвастовство его было понятно и всеми оправдывалось.
— То есть я совершенно точно считаю, что сегодня у Пашки звездный день, — глубокомысленно изрек Тарас.
— А ты, лоб здоровый! — напустился на Тараса Лева Капелькин на правах капитана. — Не мог, что ли, Валеру пару раз прихватить, чтобы он своими козлиными прыжками не красовался?
— Прихвачу, — пообещал Тарас, — во втором тайме обязательно прихвачу.
— Теперь задача для Курдюма, — повернулся к нему Лева. — Толку от него сегодня в игре было как от козла молока. Больше мешал, чем помогал. Поэтому во втором тайме Курдюм должен будет следить за всеми мячами, которые окажутся на полу… Как только увидишь, что мяч уронили где-нибудь на пол, так сразу беги туда и ложись на него, чтобы мастерам не достался. А в остальное не вмешивайся, понял?
Доктор наук радостно согласился со своим новым амплуа — вести борьбу за мяч только на полу.
— Ну, вот вроде бы и все, — подвел итоги Лева. — Держитесь крепче, ребята! Ведь дело же не в двенадцати бутылках пива, правда? Характер надо показать, волю, выдержку! Сумели же мы у них первый тайм выиграть? Почему бы и второй не выиграть?
В коридоре заливался свисток судьи Кости Хачатурова, вызывавшего команды на второй тайм.
— Пошли, — коротко сказал Лева, и «нью-хива» двинулась из раздевалки.
В коридоре, у входа в зал, Пашку окликнул Тимофей Голованов.
— Здорово! — дружелюбно улыбнулся Тимофей.
— Здорово, — сдержанно ответил Пашка.
— Играешь ты сегодня как бог! — восхищенно сказал Голованов.
— Благодарю за внимание, — усмехнулся Пашка. — Чем обязаны вашему присутствию в столь несерьезном месте, как кафедра физкультуры?
Тимофей Голованов внимательно посмотрел на Пашку.
— Да, играешь ты сегодня как бог, — задумчиво повторил Тимофей, — а вот ни на одной лекции не был.
— Ладно, — поморщился Пашка, — смени пластинку, надоело.
Ему было просто смешно слушать сейчас Тимофея. Он, Пашка Пахомов, показал сегодня игру высочайшего класса, о нем говорит весь университет, и в этот торжественный день вдруг появляется зануда Тим Голованов и начинает читать ему нотации.
— Если говорить откровенно, — серьезным голосом начал Тимофей, — то я пришел сюда совсем не случайно. Я искал тебя.
— Ну, вот нашел. И что дальше?
— Завтра у нас будет комсомольское собрание. Явка обязательна.
— Буду, — коротко пообещал Пашка.
— Собрание назначено на восемь часов утра…
— Зачем в такую рань-то?
— После девяти часов нет ни одного свободного помещения.
— Пашка! Пахомов! — закричал, выскакивая из зала в коридор, Лева Капелькин. — Ты где? Иди скорее, там без тебя не начинают!
— Иду! — отозвался Пашка. — Иду!
Он снисходительно посмотрел на строгого и серьезного Тимофея, и ему вдруг стало жалко друга: вот ведь педант, не поленился прийти на кафедру физкультуры, которую он искренне ненавидел, чтобы предупредить комсомольца своей группы Пахомова о том, что собрание назначено на восемь часов утра.
…С самых первых минут второго тайма игра пошла не по тому стратегическому плану, который нарисовал «нью-хиве» в раздевалке Лева Капелькин. В первом тайме мастера хотели порезвиться, поразвлекаться с «хивой», но неожиданная игра Пашки Пахомова поставила под угрозу их репутацию. Теперь требовалось срочно восстановить авторитет первой сборной. И мастера вышли на поле совершенно новой командой. Во-первых, была посажена на скамейку Славка, а во-вторых, никто не позволял себе уже никаких вольностей и красивых прыжков. Мастера действовали как хорошо налаженный, четкий механизм: три-четыре передачи, кто-нибудь выскакивал на свою любимую «точку», получал пас и точным, почти автоматическим броском посылал мяч в корзину «хивы».
Первая сборная не показала во второй половине ни одного индивидуального приема. Игра ее строилась на академическом коллективизме и сухом практицизме, и счет матча неудержимо менялся. К началу шестой минуты фора была уже полностью ликвидирована. Болельщики, по дилетантскому своему недомыслию ценившие в баскетболе только красивое индивидуальное мастерство и личный романтизм каждого игрока — стиль Пашки Пахомова, — сдержанно приветствовали успех первой сборной,
Несколько раз срывал аплодисменты Курдюм. Доктор наук, не проявлявший никакого интереса к мячу, пока он находился в руках игроков, зорко следил за всеми падениями мяча на пол. И как только он, выпав из чьих-либо рук, оказывался на полу, Курдюм стремительно, головой вперед бросался под ноги игроков, накрывая мяч своим телом. И это дало повод болельщикам для разговоров о том, что Курдюм, занимаясь с младенческих лет высшей математикой, по всей вероятности, совершенно напрасно сгубил свою молодость на алгебраические формулы и уравнения. Из него мог бы получиться весьма неплохой регбист.
Пытались повлиять на ход «матча века» своими мамонтообразными фигурами и Тарас с Леней-Бульдозером. Забыв все наставления Левы Капелькина, они, легкомысленно оставив без защиты свое кольцо, пытались забросить в корзину противника несколько мячей.
Но аспирант Валера не дал Тарасу и Лене Цопову ни малейшего шанса изменить счет. И борец-верзила не выдержал Валериного успеха и позора своей команды. Улучив момент, он сделал попытку бросить Валеру через бедро, но Валера что-то такое сделал с ногой и рукой Лени Цопо ва одновременно, в результате чего Леня-Стегоцефал сам полетел в толпу болельщиков под оглушительный хохот последних.
Это было началом конца. Рассвирепевший Бульдозер кинулся на Валеру. Барашкин и Хрусталев, надеясь спасти жизнь лучшему баскетболисту университета, бросились оттаскивать Цопова от Валеры. Неожиданно Лева Капелькин, издав воинственный клич, в котором была вся горечь поражения, как пантера, прыгнул с разбега на спину Барашки-на. Федот пытался стащить Леву, но «олимпиец» Тарас, решив не давать в обиду маленького футболиста, оттолкнул Федота. В живот Тарасу врезался Хрусталев, которого немедленно атаковал Пашка Пахомов.
И тут-то Курдюм, задумчиво наблюдавший всю сцену со стороны, бросился в ноги динамичной скульптурной группе, и вся «нью-хива» вместе с мастерами завалилась на пол.
Рыцарь на общественных началах Костя Хачатуров отчаянно свистел в свой свисток, Нонка стучала в пол палкой, Славка требовала вызвать милицию. На поле хлынули болельщики, и противоборствующие стороны были, наконец, расцеплены и разведены каждая под свое кольцо.
Мастера, не пожелавшие больше иметь с дикой «хивой» никаких дел, высокомерно отказались от выигранных двенадцати бутылок пива и гордо покинули зал.
Уже в дверях их догнала Славка и носовым платком вытерла пот со лба изрядно помятого в столкновении греческо-римского Валеры.
Валера обнял Славку, Славка положила голову на Валерино плечо, и на глазах замерших от удивления зрителей и болельщиков они вышли из зала рядом друг с другом.
Увидев это, Лева Капелькин, несмотря на всю драматичность и даже трагичность ситуации, печально улыбнулся. Один положительный результат встреча мастеров с «нью-хивой» все же дала: судьба Валеры и Славки была решена. Благородный замысел будущего юриста Левы Капелькина был приведен в исполнение.
В перерыве все только и делали, что говорили о Пашке. Фамилия его была у всех на устах. Было совершенно ясно, что в университете появился новый классный баскетболист… Вот вам и «хива»! Вот вам и бессистемные тренировки под руководством рыцаря печального образа на общественных началах Кости Хачатурова. Вот вам и «дикие» многочасовые игры, которые так любили осуждать штатные тренеры клубных команд. Был, оказывается, смысл во всех этих бессистемных тренировках, во всех этих «диких» многочасовых играх, если вырос в «хиве» такой игрок, как Пашка Пахомов, сумевший забить пять мячей подряд мастерам?
Да, Пашка действительно был героем первой половины матча «нью-хивы» с мастерами. Он сидел в раздевалке, и вся команда — Курдюм, Леня Цопов, Тарас и Лева Капелькин — с удивлением разглядывали его, будто видели первый раз в жизни.
— Ты вообще-то не устал, Пашка? — озабоченно спросил Лева. — Все-таки два часа перед этим гонял, а?
— Нисколько, — храбрился Пашка. — Я чем больше играю, тем меньше устаю.
Все заулыбались. Пашка был младше всех, и поэтому хвастовство его было понятно и всеми оправдывалось.
— То есть я совершенно точно считаю, что сегодня у Пашки звездный день, — глубокомысленно изрек Тарас.
— А ты, лоб здоровый! — напустился на Тараса Лева Капелькин на правах капитана. — Не мог, что ли, Валеру пару раз прихватить, чтобы он своими козлиными прыжками не красовался?
— Прихвачу, — пообещал Тарас, — во втором тайме обязательно прихвачу.
— Теперь задача для Курдюма, — повернулся к нему Лева. — Толку от него сегодня в игре было как от козла молока. Больше мешал, чем помогал. Поэтому во втором тайме Курдюм должен будет следить за всеми мячами, которые окажутся на полу… Как только увидишь, что мяч уронили где-нибудь на пол, так сразу беги туда и ложись на него, чтобы мастерам не достался. А в остальное не вмешивайся, понял?
Доктор наук радостно согласился со своим новым амплуа — вести борьбу за мяч только на полу.
— Ну, вот вроде бы и все, — подвел итоги Лева. — Держитесь крепче, ребята! Ведь дело же не в двенадцати бутылках пива, правда? Характер надо показать, волю, выдержку! Сумели же мы у них первый тайм выиграть? Почему бы и второй не выиграть?
В коридоре заливался свисток судьи Кости Хачатурова, вызывавшего команды на второй тайм.
— Пошли, — коротко сказал Лева, и «нью-хива» двинулась из раздевалки.
В коридоре, у входа в зал, Пашку окликнул Тимофей Голованов.
— Здорово! — дружелюбно улыбнулся Тимофей.
— Здорово, — сдержанно ответил Пашка.
— Играешь ты сегодня как бог! — восхищенно сказал Голованов.
— Благодарю за внимание, — усмехнулся Пашка. — Чем обязаны вашему присутствию в столь несерьезном месте, как кафедра физкультуры?
Тимофей Голованов внимательно посмотрел на Пашку.
— Да, играешь ты сегодня как бог, — задумчиво повторил Тимофей, — а вот ни на одной лекции не был.
— Ладно, — поморщился Пашка, — смени пластинку, надоело.
Ему было просто смешно слушать сейчас Тимофея. Он, Пашка Пахомов, показал сегодня игру высочайшего класса, о нем говорит весь университет, и в этот торжественный день вдруг появляется зануда Тим Голованов и начинает читать ему нотации.
— Если говорить откровенно, — серьезным голосом начал Тимофей, — то я пришел сюда совсем не случайно. Я искал тебя.
— Ну, вот нашел. И что дальше?
— Завтра у нас будет комсомольское собрание. Явка обязательна.
— Буду, — коротко пообещал Пашка.
— Собрание назначено на восемь часов утра…
— Зачем в такую рань-то?
— После девяти часов нет ни одного свободного помещения.
— Пашка! Пахомов! — закричал, выскакивая из зала в коридор, Лева Капелькин. — Ты где? Иди скорее, там без тебя не начинают!
— Иду! — отозвался Пашка. — Иду!
Он снисходительно посмотрел на строгого и серьезного Тимофея, и ему вдруг стало жалко друга: вот ведь педант, не поленился прийти на кафедру физкультуры, которую он искренне ненавидел, чтобы предупредить комсомольца своей группы Пахомова о том, что собрание назначено на восемь часов утра.
…С самых первых минут второго тайма игра пошла не по тому стратегическому плану, который нарисовал «нью-хиве» в раздевалке Лева Капелькин. В первом тайме мастера хотели порезвиться, поразвлекаться с «хивой», но неожиданная игра Пашки Пахомова поставила под угрозу их репутацию. Теперь требовалось срочно восстановить авторитет первой сборной. И мастера вышли на поле совершенно новой командой. Во-первых, была посажена на скамейку Славка, а во-вторых, никто не позволял себе уже никаких вольностей и красивых прыжков. Мастера действовали как хорошо налаженный, четкий механизм: три-четыре передачи, кто-нибудь выскакивал на свою любимую «точку», получал пас и точным, почти автоматическим броском посылал мяч в корзину «хивы».
Первая сборная не показала во второй половине ни одного индивидуального приема. Игра ее строилась на академическом коллективизме и сухом практицизме, и счет матча неудержимо менялся. К началу шестой минуты фора была уже полностью ликвидирована. Болельщики, по дилетантскому своему недомыслию ценившие в баскетболе только красивое индивидуальное мастерство и личный романтизм каждого игрока — стиль Пашки Пахомова, — сдержанно приветствовали успех первой сборной,
Несколько раз срывал аплодисменты Курдюм. Доктор наук, не проявлявший никакого интереса к мячу, пока он находился в руках игроков, зорко следил за всеми падениями мяча на пол. И как только он, выпав из чьих-либо рук, оказывался на полу, Курдюм стремительно, головой вперед бросался под ноги игроков, накрывая мяч своим телом. И это дало повод болельщикам для разговоров о том, что Курдюм, занимаясь с младенческих лет высшей математикой, по всей вероятности, совершенно напрасно сгубил свою молодость на алгебраические формулы и уравнения. Из него мог бы получиться весьма неплохой регбист.
Пытались повлиять на ход «матча века» своими мамонтообразными фигурами и Тарас с Леней-Бульдозером. Забыв все наставления Левы Капелькина, они, легкомысленно оставив без защиты свое кольцо, пытались забросить в корзину противника несколько мячей.
Но аспирант Валера не дал Тарасу и Лене Цопову ни малейшего шанса изменить счет. И борец-верзила не выдержал Валериного успеха и позора своей команды. Улучив момент, он сделал попытку бросить Валеру через бедро, но Валера что-то такое сделал с ногой и рукой Лени Цопо ва одновременно, в результате чего Леня-Стегоцефал сам полетел в толпу болельщиков под оглушительный хохот последних.
Это было началом конца. Рассвирепевший Бульдозер кинулся на Валеру. Барашкин и Хрусталев, надеясь спасти жизнь лучшему баскетболисту университета, бросились оттаскивать Цопова от Валеры. Неожиданно Лева Капелькин, издав воинственный клич, в котором была вся горечь поражения, как пантера, прыгнул с разбега на спину Барашки-на. Федот пытался стащить Леву, но «олимпиец» Тарас, решив не давать в обиду маленького футболиста, оттолкнул Федота. В живот Тарасу врезался Хрусталев, которого немедленно атаковал Пашка Пахомов.
И тут-то Курдюм, задумчиво наблюдавший всю сцену со стороны, бросился в ноги динамичной скульптурной группе, и вся «нью-хива» вместе с мастерами завалилась на пол.
Рыцарь на общественных началах Костя Хачатуров отчаянно свистел в свой свисток, Нонка стучала в пол палкой, Славка требовала вызвать милицию. На поле хлынули болельщики, и противоборствующие стороны были, наконец, расцеплены и разведены каждая под свое кольцо.
Мастера, не пожелавшие больше иметь с дикой «хивой» никаких дел, высокомерно отказались от выигранных двенадцати бутылок пива и гордо покинули зал.
Уже в дверях их догнала Славка и носовым платком вытерла пот со лба изрядно помятого в столкновении греческо-римского Валеры.
Валера обнял Славку, Славка положила голову на Валерино плечо, и на глазах замерших от удивления зрителей и болельщиков они вышли из зала рядом друг с другом.
Увидев это, Лева Капелькин, несмотря на всю драматичность и даже трагичность ситуации, печально улыбнулся. Один положительный результат встреча мастеров с «нью-хивой» все же дала: судьба Валеры и Славки была решена. Благородный замысел будущего юриста Левы Капелькина был приведен в исполнение.

 — Ах, это вы! — с перекошенным от злости лицом крикнул шофер. — А ну, вниз! Живо!
Похоже было, что он действительно не знал, что в кузове у него оказались пассажиры.
— Что вы делаете? — хрипло заговорил Тимофей. — Зачем вы так быстро гоните? Вы же искалечите нас…
— Прыгай на землю, падла! — еще сильнее перекосился лицом шофер. — Кому говорят?
— В чем дело? Чего орешь? — слабым голосом спросил Пашка, с недоумением глядя на шофера. Шофер выругался и передернул затвор.
— Прыгать! Немедленно! Стрелять буду!
Пораженные этой нелепой угрозой и еще ни о чем не догадываясь, Пашка и Тимофей перелезли через задний борт.
— Послушайте, — начал было Тимофей, но шофер тут же перебил его:
— Руки на голову! Кто такие? Беглые? — частил он свирепой скороговоркой. — В мороз отвалить решили?
И тут Пашка понял, что он принимает их за убежавших из какой-то колонии осужденных.
— Ты что психуешь? — с ненавистью заговорил. Пашка. — Мы из газеты, журналисты. У нас документы есть…
Он сделал шаг вперед и хотел было сунуть руку за пазуху, но шофер вскинул ружье.
— Руки! Не подходи! Стрелять буду, сволочь!
— Мы никакие не сволочи, — глухо сказал Тимофей, напряженно глядя на прыгающий в руках шофера ствол, — мы студенты Московского университета…
— Студенты? — скрипнул зубами шофер. — Не такие ли студенты, как вы, шофера на соседней стройке убили?!
— Да не дури же ты! — не выдержав, сорвал с головы шапку Пашка. — Разуй глаза! Видишь волосы? Разве осужденные с такими волосами ходят?
— У вас, сволочей, и за проволокой придурков волосатых полно!
— Ну, проверьте в конце-то концов наши документы! — отчаянно крикнул Тимофей.
— Я проверять, а ты мне нож в горло?.. У меня трое детей, падла бездомная! У меня в машине поч та, деньги, переводы!.. Оружие есть? Бросай на землю!
— Нет у нас никакого оружия, — устало сказал Пашка. — Нечего бросать.
— Не хотите? — ощерился шофер. — »Дело ваше… К машине не подходить! А еще раз на ходу влезете — пристрелю! Без предупреждения!
— Что вы делаете? — испуганно сказал Тимофей, показывая на Пашку. — Посмотрите, он же в сапогах… У него же ноги отмерзнут!
— Из-под проволоки лез, о ногах не думал, — усмехнулся шофер, — а теперь забеспокоился, да? Волю почуял?
— Неужели ты вольных от беглых отличить не можешь? — со злостью спросил Пашка. — Кто тебе только, дураку, оружие дал?
Шофер, ничего не отвечая и не опуская ружья, пятился к кабине. Потом, все так же стоя лицом к Пашке и Тимофею, влез на ступеньку, поставил ногу на педаль газа, взял ружье в одну руку, а второй рукой и свободной ногой завел мотор.
— У нас вещи в кузове! — закричал Пашка.
— Не подходи! Стрелять буду!
— Стреляй, гад! — рванулся вперед Пашка.
Шофер вскинул карабин и выстрелил в воздух.
Одинокое эхо глухо лопнуло над огромным пространством скованной льдом Волги, покрытой морозным туманом.
Тимофей схватил Пашку сзади за плечи, дернул к себе.
— Не надо, Павел, не надо! Он же ненормальный! Он убить может!
— Тимка! — дрожал всем телом Пашка. — Там же все наши блокноты, все записи!.,
— Не надо, Паша, не надо! — дрожал, как и Пашка, Тимофей. — Мы все потом вспомним, все восстановим в памяти…
«Почта» с белой полосой наискосок на борту двинулась с места.
— Назад идите!. Года по три накинут за побег, не больше! — кричал шофер, по-прежнему стоя одной ногой на ступеньке, держа в правой руке ружье.
— Отвечать за нас будешь, негодяй! — закричал Пашка и ткнул в сторону машины кулаком.
— Вы людей убивать будете! — кричал шофер. — А потом жалости просите? На слезу жмете? Урки проклятые, жулье чертово, бандюги, рецидивисты!
Он быстро нырнул в кабину, и полуторка, взревев мотором, рванулась вперед.
Пашка и Тимофей, не сговариваясь, бросились за «почтой», но бежать было бесполезно. Машина, стремительно набирая скорость, уходила в туман и вскоре совсем растворилась в нем — только стук мотора доносился еще некоторое время из белесого морозного марева, а потом затих и он.
Павел Пахомов и Тимофей Голованов стояли одни посреди застывшей в белом ледяном безмолвии Волги.
— Блокноты жалко, — сказал наконец Пашка. — Столько писали, писали, и вот…
Тимофей, опустив голову, молчал.
— Пошли, — сказал Пашка.
— Куда? — понуро спросил Тимофей.
— Обратно, в Жигулевск… До того берега, наверное, в два раза дальше…
— Как твои ноги?
— Нормально, — сказал Пашка, постукивая сапогом о сапог.
— Хочешь, надень мои валенки?
— А ты как же?
— У меня то ноги все время в тепле были.
— Спасибо, Тим, не надо.
Они вышли на дорогу и двинулись обратно. Белый туман обступил их со всех сторон. Легкая поземка крутилась вокруг ног, заметая дорогу. Тишина вокруг была вязкая, вечная, абсолютная. Казалось, что весь земной мир плотно прижат сверху свинцовым прессом пустого стылого неба.
…Они прошли минут десять, и Пашка начал все чаще и чаще постукивать сапогом о сапог. Потом он пробежал несколько метров вперед и вернулся обратно.
— Мерзнут? — спросил Тимофей, глядя на Пашкины ноги.
— Есть немного.
Мороз усиливался. Туман густел, оседал, давил на голову и плечи. Спина деревенела от монотонных однообразных движений.
Тимофей, потерявший перчатки, шел сгорбившись, нагнувшись вперед, глубоко засунув руки в карманы пальто, Он все время сжимал и разжимал пальцы рук. А Пашка, наоборот, двигался, неестественно выпрямившись, откинувшись назад, сильно и почти безразлично выбрасывая перед собой сапоги. О ногах он вроде бы уже и не думал. Вначале, на каждом шагу стараясь напрягать и расслаблять ступни, Павел ощущал каждую ногу от колен и до самых кончиков пальцев, но лотом идти таким способом стало трудно, и он, «потеряв» колени, только слабо шевелил иногда пальцами, а потом и пальцы «ушли» куда-то…
Начало задувать. Туман потемнел и наполнился густеющей фиолетовой изморозью. Ветер лез в рукава и за шиворот цепким цинковым холодом.
Пашка сделал шаг за Тимофеем и вдруг не почувствовал под собой ноги — дорога исчезала. Пашка выкинул вперед вторую ногу — дороги не было. Пашка упал.
— Тимка! — слабо позвал Пашка, — Тим!..
Тимофей, не оборачиваясь, уходил вперед.
— Тимка!! — изо всех сил закричал Пашка. — Тимка!!
Тимофей остановился, прислушиваясь. Медленно повернулся и, увидев лежавшего на снегу Пашку, пошел к нему. Не вынимая рук из карманов пальто, Тимофей опустил к Пашке согнутую в локте руку. Пашка схватился за Тимофея и выпрямился.
— Ах, это вы! — с перекошенным от злости лицом крикнул шофер. — А ну, вниз! Живо!
Похоже было, что он действительно не знал, что в кузове у него оказались пассажиры.
— Что вы делаете? — хрипло заговорил Тимофей. — Зачем вы так быстро гоните? Вы же искалечите нас…
— Прыгай на землю, падла! — еще сильнее перекосился лицом шофер. — Кому говорят?
— В чем дело? Чего орешь? — слабым голосом спросил Пашка, с недоумением глядя на шофера. Шофер выругался и передернул затвор.
— Прыгать! Немедленно! Стрелять буду!
Пораженные этой нелепой угрозой и еще ни о чем не догадываясь, Пашка и Тимофей перелезли через задний борт.
— Послушайте, — начал было Тимофей, но шофер тут же перебил его:
— Руки на голову! Кто такие? Беглые? — частил он свирепой скороговоркой. — В мороз отвалить решили?
И тут Пашка понял, что он принимает их за убежавших из какой-то колонии осужденных.
— Ты что психуешь? — с ненавистью заговорил. Пашка. — Мы из газеты, журналисты. У нас документы есть…
Он сделал шаг вперед и хотел было сунуть руку за пазуху, но шофер вскинул ружье.
— Руки! Не подходи! Стрелять буду, сволочь!
— Мы никакие не сволочи, — глухо сказал Тимофей, напряженно глядя на прыгающий в руках шофера ствол, — мы студенты Московского университета…
— Студенты? — скрипнул зубами шофер. — Не такие ли студенты, как вы, шофера на соседней стройке убили?!
— Да не дури же ты! — не выдержав, сорвал с головы шапку Пашка. — Разуй глаза! Видишь волосы? Разве осужденные с такими волосами ходят?
— У вас, сволочей, и за проволокой придурков волосатых полно!
— Ну, проверьте в конце-то концов наши документы! — отчаянно крикнул Тимофей.
— Я проверять, а ты мне нож в горло?.. У меня трое детей, падла бездомная! У меня в машине поч та, деньги, переводы!.. Оружие есть? Бросай на землю!
— Нет у нас никакого оружия, — устало сказал Пашка. — Нечего бросать.
— Не хотите? — ощерился шофер. — »Дело ваше… К машине не подходить! А еще раз на ходу влезете — пристрелю! Без предупреждения!
— Что вы делаете? — испуганно сказал Тимофей, показывая на Пашку. — Посмотрите, он же в сапогах… У него же ноги отмерзнут!
— Из-под проволоки лез, о ногах не думал, — усмехнулся шофер, — а теперь забеспокоился, да? Волю почуял?
— Неужели ты вольных от беглых отличить не можешь? — со злостью спросил Пашка. — Кто тебе только, дураку, оружие дал?
Шофер, ничего не отвечая и не опуская ружья, пятился к кабине. Потом, все так же стоя лицом к Пашке и Тимофею, влез на ступеньку, поставил ногу на педаль газа, взял ружье в одну руку, а второй рукой и свободной ногой завел мотор.
— У нас вещи в кузове! — закричал Пашка.
— Не подходи! Стрелять буду!
— Стреляй, гад! — рванулся вперед Пашка.
Шофер вскинул карабин и выстрелил в воздух.
Одинокое эхо глухо лопнуло над огромным пространством скованной льдом Волги, покрытой морозным туманом.
Тимофей схватил Пашку сзади за плечи, дернул к себе.
— Не надо, Павел, не надо! Он же ненормальный! Он убить может!
— Тимка! — дрожал всем телом Пашка. — Там же все наши блокноты, все записи!.,
— Не надо, Паша, не надо! — дрожал, как и Пашка, Тимофей. — Мы все потом вспомним, все восстановим в памяти…
«Почта» с белой полосой наискосок на борту двинулась с места.
— Назад идите!. Года по три накинут за побег, не больше! — кричал шофер, по-прежнему стоя одной ногой на ступеньке, держа в правой руке ружье.
— Отвечать за нас будешь, негодяй! — закричал Пашка и ткнул в сторону машины кулаком.
— Вы людей убивать будете! — кричал шофер. — А потом жалости просите? На слезу жмете? Урки проклятые, жулье чертово, бандюги, рецидивисты!
Он быстро нырнул в кабину, и полуторка, взревев мотором, рванулась вперед.
Пашка и Тимофей, не сговариваясь, бросились за «почтой», но бежать было бесполезно. Машина, стремительно набирая скорость, уходила в туман и вскоре совсем растворилась в нем — только стук мотора доносился еще некоторое время из белесого морозного марева, а потом затих и он.
Павел Пахомов и Тимофей Голованов стояли одни посреди застывшей в белом ледяном безмолвии Волги.
— Блокноты жалко, — сказал наконец Пашка. — Столько писали, писали, и вот…
Тимофей, опустив голову, молчал.
— Пошли, — сказал Пашка.
— Куда? — понуро спросил Тимофей.
— Обратно, в Жигулевск… До того берега, наверное, в два раза дальше…
— Как твои ноги?
— Нормально, — сказал Пашка, постукивая сапогом о сапог.
— Хочешь, надень мои валенки?
— А ты как же?
— У меня то ноги все время в тепле были.
— Спасибо, Тим, не надо.
Они вышли на дорогу и двинулись обратно. Белый туман обступил их со всех сторон. Легкая поземка крутилась вокруг ног, заметая дорогу. Тишина вокруг была вязкая, вечная, абсолютная. Казалось, что весь земной мир плотно прижат сверху свинцовым прессом пустого стылого неба.
…Они прошли минут десять, и Пашка начал все чаще и чаще постукивать сапогом о сапог. Потом он пробежал несколько метров вперед и вернулся обратно.
— Мерзнут? — спросил Тимофей, глядя на Пашкины ноги.
— Есть немного.
Мороз усиливался. Туман густел, оседал, давил на голову и плечи. Спина деревенела от монотонных однообразных движений.
Тимофей, потерявший перчатки, шел сгорбившись, нагнувшись вперед, глубоко засунув руки в карманы пальто, Он все время сжимал и разжимал пальцы рук. А Пашка, наоборот, двигался, неестественно выпрямившись, откинувшись назад, сильно и почти безразлично выбрасывая перед собой сапоги. О ногах он вроде бы уже и не думал. Вначале, на каждом шагу стараясь напрягать и расслаблять ступни, Павел ощущал каждую ногу от колен и до самых кончиков пальцев, но лотом идти таким способом стало трудно, и он, «потеряв» колени, только слабо шевелил иногда пальцами, а потом и пальцы «ушли» куда-то…
Начало задувать. Туман потемнел и наполнился густеющей фиолетовой изморозью. Ветер лез в рукава и за шиворот цепким цинковым холодом.
Пашка сделал шаг за Тимофеем и вдруг не почувствовал под собой ноги — дорога исчезала. Пашка выкинул вперед вторую ногу — дороги не было. Пашка упал.
— Тимка! — слабо позвал Пашка, — Тим!..
Тимофей, не оборачиваясь, уходил вперед.
— Тимка!! — изо всех сил закричал Пашка. — Тимка!!
Тимофей остановился, прислушиваясь. Медленно повернулся и, увидев лежавшего на снегу Пашку, пошел к нему. Не вынимая рук из карманов пальто, Тимофей опустил к Пашке согнутую в локте руку. Пашка схватился за Тимофея и выпрямился.

 Пашка посмотрел на Тимофея и ничего не ответил. Первый раз в жизни хозяева благодарили Павла Феоктистовича Пахомова за то, что он исправно и прилежно ел их еду.
— Слышь, ребята, — позвал от печи Сергуня, — идите-ка сюда.
Пашка и Тимофей подошли к печке.
— Значит, так, — сказал Сергуня, — на печи будем спать втроем. Вы к стенке лезьте. А я с краю лягу. Там тулуп есть — вы им накройтесь.
Пашка и Тимофей залезли на печь. Тимофей лег у самой стены, Пашка рядом. Сергуня не ложился. Он сел около печи на лавку, достал моток дратвы и начал протягивать ее.
Пашке была видна вся кухня. Снохи, убрав за мужчинами, вывели из горницы к столу ребятишек. Детей было пятеро — два мальчика и три девочки. Сидели за столом они все тихо, а если кто-нибудь начинал громко просить хлеба или ложку, сноха Настена показывала пальцем на печку, а потом прикладывала его к своим губам.
Печь дышала снизу теплом. Пахло крестьянскими запахами — молоком, хлебом, сеном, овчиной. Старик сидел около печи на лавке. Женщины кормили за столом детей. Конструкция извечного человеческого бытия во всей своей исчерпывающей законченности предстала вдруг перед Пашкой Пахомовым настолько полной, настолько не нуждающейся ни в каких дополнениях, что у него даже защемило в глазах.
— Тим, — тихо сказал Пашка, — завтра в Куйбышеве будем…
Тимофей не отвечал. Он уже привык сразу засыпать на новом месте.
Пашка посмотрел на Тимофея и ничего не ответил. Первый раз в жизни хозяева благодарили Павла Феоктистовича Пахомова за то, что он исправно и прилежно ел их еду.
— Слышь, ребята, — позвал от печи Сергуня, — идите-ка сюда.
Пашка и Тимофей подошли к печке.
— Значит, так, — сказал Сергуня, — на печи будем спать втроем. Вы к стенке лезьте. А я с краю лягу. Там тулуп есть — вы им накройтесь.
Пашка и Тимофей залезли на печь. Тимофей лег у самой стены, Пашка рядом. Сергуня не ложился. Он сел около печи на лавку, достал моток дратвы и начал протягивать ее.
Пашке была видна вся кухня. Снохи, убрав за мужчинами, вывели из горницы к столу ребятишек. Детей было пятеро — два мальчика и три девочки. Сидели за столом они все тихо, а если кто-нибудь начинал громко просить хлеба или ложку, сноха Настена показывала пальцем на печку, а потом прикладывала его к своим губам.
Печь дышала снизу теплом. Пахло крестьянскими запахами — молоком, хлебом, сеном, овчиной. Старик сидел около печи на лавке. Женщины кормили за столом детей. Конструкция извечного человеческого бытия во всей своей исчерпывающей законченности предстала вдруг перед Пашкой Пахомовым настолько полной, настолько не нуждающейся ни в каких дополнениях, что у него даже защемило в глазах.
— Тим, — тихо сказал Пашка, — завтра в Куйбышеве будем…
Тимофей не отвечал. Он уже привык сразу засыпать на новом месте.