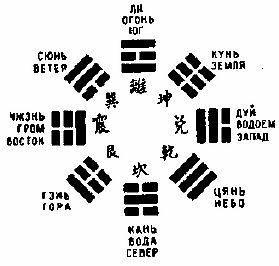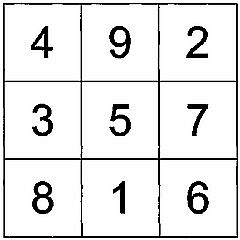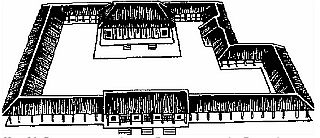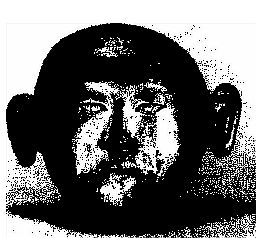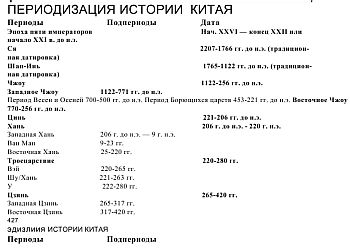МАСЛОВ Алексей Александрович
"УКРОЩЕНИЕ ДРАКОНОВ"
Духовные поиски и сакральный экстаз
Введение
ОБЫДЕННОЕ КАК СВЯЩЕННОЕ
Китай — не просто страна, это особый тип переживания, чувствования, причудливое пространство, где самое обыденное может оказаться священным и где сакральное внезапно открывается в чем-то абсолютно повседневном.
Книга, что лежит перед читателем, не претендует на рассказ обо всех китайских культах, религиозных воззрениях или проявлениях священного. Она посвящена самому причудливому пространству мистического и оккультного, которое, сформировавшись тысячелетия назад, продолжает жить и по сей день, проявляясь нередко в самых обыденных формах жизни: в приготовлении пищи, занятиях дыхательной гимнастикой, убранстве дома, поэзии, живописи и даже развлечениях.
Эта книга — об особой китайской духовности и персонажах, которые являются ее носителями.
Священное и духовное в Китае — понятия весьма причудливые, несопоставимые с теми, что присутствуют в западной религиозной традиции. В сущности, и самой «религии» в чистом виде в Китае не сформировалось — об этом разговор ниже. Китайская духовность — это не уровень личного духовного развития человека, а набор способов общения человека с миром духов, с пространством мистического и сакрального. И здесь требуется не высокий уровень личного развития, как подразумевается в случае с «духовным», например, в христианстве, а просто абсолютная, порою экстатическая открытость неким силам, которые стоят вне человека и именуются Небом (
Тянь), духами (
линь), душами различного характера (
шэнь, гуй), благодатью (
Ээ), что проистекает либо от Неба, либо от Дао.
И, как следствие, основным героем китайской духовной традиции оказывает персонаж, который способен открыть свое сознание этим силам, а порою даже «впустить» их внутрь себя. Именно он воплощал собой личную связь между миром людей и миром духов, миром живых и царством мертвых.
На протяжении многих эпох изменялись название этого персонажа, его социальная роль и функции, но священный смысл оставался прежним. В древности в этом качестве мог выступать шаман, медиум и маг, даосы именовали таких людей «бессмертными» (
сянъ), высшим его воплощением являлся император, а сегодня его можно встретить в деревнях в качестве знахаря, мастера боевых искусств или гадателя.
Здесь стоит провести черту между теми, кого обычно именуют шаманами, и между магами и мистиками, хотя нередко один и тот же человек мог выполнять одновременно несколько функций.
Заметим, что в самом Китае таких филологических категорий не существовало, хотя, безусловно, существовало само явление.
В раннем Китае, как это часто встречается в других странах Восточной и Южной Азии, параллельно существовал как шаманизм, так и медиумизм. Ряд исследователей считает, что шаманизм — это принадлежность охотничьих культур, сама же его практика нацелена на установление связей с миром мертвых, а медиумизм более характерен для земледельческих цивилизаций, причем проявляется уже на самом раннем этапе их существования.
[1]
Поскольку китайская культура изначально формировалась именно как земледельческая при практически отсутствующей охотничьей практике, то не случайно основное место в китайском мистицизме занимал именно медиумизм.
Если шаман или медиум «обслуживает» какое-то социальное сообщество, например род или клан, то мистики стремятся исключительно к достижению личного мистического опыта, запредельного переживания ради собственного спасения. И шаманы, и медиумы общаются чаще всего с духами царства мертвых, проводят через него людей либо передают в наш мир «вести» из мира потустороннего, например выполняют гадания и предсказания. Мистики познают ради себя. У них обычно есть ученики, однако обучение происходит не в виде передачи информации или некоего «школьного» обучения, но исключительно как трансляция персонального опыта и мироощущения. В этом плане, говоря словами Лао-цзы, «мудрец действует недеянием и учит молчанием» («
Дао дэ цзин», § 2), то есть лишь одно пребывание рядом с ним уже является передачей опыта.
Разумеется, явной границы между медиумами и мистиками провести невозможно, и те, и другие обладают колоссальным личностным опытом духообщения.
Эта книга — об особом священном восприятии истории как возможности соприкоснуться с духами предков.
По сути, даже многие современные китайские культы и верования, не говоря уже о древних, представляют собой попытку проникнуть в царство духов и соприкоснуться со своими предками. Это не что иное, как одно из проявлений культа мертвых, столь распространенного в древнем мире, но принимающего более мягкие формы в современной жизни, например регулярного поминовения усопших.
В Китае же многие искусства, в том числе живопись, поэзия, были нацелены на то, чтобы обратить сознание человека в глубь истории, где он сможет не только узреть лики своих предков, но и вступить с ними в «духовное соприкосновение» (
шэнь хуэи). И священной здесь оказывается не столько сама история, сколько способность китайской культуры превратить историческое время в реальный мост между миром посюсторонним и миром потусторонним, между людьми и духами.
Эта книга — о том, что китайское сознание тысячелетиями оперировало универсальной мифологической символикой взаимодополнения противоположностей, и на основе этого построено осознание не только мира, но и истории.
Два взаимодополняющих и взаимоотрицающих начала инь и ян стали буквально символом всей китайской традиции. И все же вряд ли стоит считать это свойством исключительно китайской традиции, поскольку у многих народов мира на начальном этапе их развития преобладали представления о развитии мира как о чередовании противоположных начал. В изображениях это нередко выступало как лунно-солнечная символика. Универсальный принцип практически любой мифологической системы предполагает наличие парных оппозиций или двоичной классификации явлений.
Характерной особенностью именно Китая является то, что через мифологический по сути принцип бинарных оппозиций осознаются все явления жизни и, более того, весь процесс протекания истории как периодическая смена хаоса и порядка. Эта особенность восприятия мира и истории через противоположности, которая у многих других народов ушла в прошлое, в Китае до сих является частью обыденного мировосприятия.
Эта книга — об особой «тайнописи» или символике, окружающей это сакральное пространство.
Стоит ли полагать, что вселенная для китайцев — такая же, как и для нас? Ведь она могла пониматься по-другому, восприниматься по-другому, но мы, переводя их реалии на наш язык — язык художественных описаний, научной литературы, оказались вынуждены приблизить китайскую древность к западной современности. У Китая сложился свой язык, не сводимый собственно к китайскому языку. Он вышел из культуры магической, оккультной, из традиции медиумизма и индивидуального общения с Небом. Многие из тех описаний, которые на первый взгляд представляются глубоко символичными или мифологичными, являются изложениями видений магов.
В сущности, в Китае нет ничего абсолютно загадочного, равно как и нет ничего полностью открытого. Существует лишь определенный язык культуры и символов, который нами не всегда адекватно и правильно воспринимается. Именно об этом языке культуры и пойдет речь.
Символический язык Китая, порожденный древнейшей магической культурой и оккультной практикой, оказался настолько могуч и громогласен, что порой может совсем скрывать ту изначальную сущность, которая лежит в его основе.
Существует символика очевидная и простая, сведенная к соответствию ряда символов определенным качествам. Так, например, на картинах бамбук соответствует стойкости и самоотверженности, а по геомантическим правилам фэншуй не следует располагать жилище вблизи «вредоносных мест». Эти правила знает практически каждый китаец, и они живут на уровне народных поверий и привычек. Наряду с этим существует значительно более глубокая символика, связанная с переживанием такого состояния, которое недоступно в обычной жизни человека. Это и есть то, что обычно именуется мистическим опытом и вокруг чего построено множество оккультно-мистических систем. Сведенный к ряду знаков и символов, представленный через многоцветие всей китайской культуры, эстетики, поэзии, живописи, философии, для стороннего наблюдателя этот опыт может восприниматься как нагромождение частных сущностей. Однако, по точному выражению Рене Генона, «символизм — это точная наука, а не пустые мечтания, в которых может резвиться индивидуальная фантазия»2. В Китае этот магический символизм имеет свою весьма запутанную логику, по которой можно реконструировать сам тип мистического учения, присущего традиционному Китаю.
Вероятно, самой большой ошибкой в попытке понять китайскую духовную материю было бы приписывать ей какие-то западные аналогии. И все же, увы, нам часто приходится это делать и становиться заложниками бесконечной путаницы, нами же и порожденной. Мы вынуждены оперировать аппаратом, созданным совсем в другой традиции и для других целей. Наш аппарат — аппарат эпохи рационализма и логики, и с его помощью мы самым причудливым образом пытаемся объяснить традицию закрытую, алогичную, противоречащую всем законам европейского философского жанра. Даже западная религия в ее современном виде кажется вполне рациональной по сравнению с китайскими духовными учениями.
 Илл. 1. Храм — средоточие магической энергии, Г. Лояъ
Илл. 1. Храм — средоточие магической энергии, Г. Лояъ
Здесь много сложностей, связанных с извечно обреченной на провал попыткой «транслировать» китайскую культуру в западные понятия. К настоящему моменту создано бесчисленное количество переводов многих важнейших китайских духовных книг, разработаны мощные концепции символико-магической «азбуки» китайской культуры.3
Но в реальности большая их часть построена не вокруг того, как сами китайцы понимали то или иное понятие, а как мы в западной культуре можем перевести его на понятный нам язык — язык слов, концепций, знаков.
По сути, чаще всего мы исходим из допущения, что осмысление реально и что терминологический аппарат другого народа в основном близок к нашему. Следовательно, можно подобрать некие соответствия. Но разве кто-то уже доказал, что парадигмы китайского мышления и философии аналогичны западным? Например, один из основателей российского китаеведения, глава русской православной миссии в Китае о. Иакинф (Бичурин) переводил Дао как «путь духовный» (аналог библейского выражения), но, как потом оказалось, «духовного» в Дао в христианском плане как раз нет. Дэ переводили как «добродетель», но в Китае нет моральной категории добродетели, даже «благодать», которую нам нередко приходится использовать в переводах, очень неточно передает смысл. Благодать в западной культуре всегда божественна, действительно духовна, идет от Бога живого, в Китае это лишь репрезентанта Дао, скорее мистическая, чем духовная.
Попытка «понять Китай» может быть построена и по-другому: не через «перевод» китайской мистической культуры на язык понятных нам символов и аналогий, но через реконструирование самого оккультно-магического пространства, в котором долгое время жило китайское сознание. И тогда китайский Космос — Космос, где на равных правах обитают люди и духи, где нет разницы между самым возвышенно-священным и низменно-обыденным, — перестает быть вещью отстраненной и по-научному созерцательно-отчужденной. И начинает действительно «говорить» с нами.
Глава 1. Сеть неба
Широка Небесная сеть, редки ее ячейки, но не пропускают ничего.
Дао дэ цзин
Страна без религии
Чтобы понять, что же содержит китайская духовная традиция, надо прежде понять, чего в ней нет, т. е. осознать, чем она коренным образом отличается от западного понимания религии, церкви и духовности вообще.
Обычно внешне религия опознается по наличию ритуала, точнее, его внешней стороны — поклонений, молений, культовых сооружений. И в этом китайская религия не многим отличается от христианства, содержа в себе и молитвенные бдения, и посты, и обращения к высшим силам. Не случайно христианские миссионеры XVI–XVIH вв., попав в Китай или заехав в Тибет, никак не могли осознать, что перед ними все же не христиане, — столь близки были их формы духовной практики. Однако внутренние различия очень существенны, и заключены они, прежде всего, в тяготении к трансцендентному опыту духообщения вне морально-этических уложений, который и стал ядром всей китайской духовной традиции.
Если подходить строго формально, то в современном лексиконе китайская религия называется цзунцзяо, о чем свидетельствуют любой словарь современного китайского языка. Однако парадокс заключается в том, что в традиционном Китае понятия «религия» с тем смыслом, который вкладываем в него мы, никогда не существовало. И это делает практически бессмысленным изучение собственно «китайской религии».
Сам же термин цзунцзяо именно как «религия» пришел в Китай XIX в. из японского языка, поскольку в тот момент Япония была лучше знакома с западными концепциями религии. В свою очередь, цзунцзяо встречался в некоторых буддийских текстах.
Термин этот первоначально использовался для обозначения «пришлых» систем, например католицизма, протестантизма, православия, чуть позже этим же словом стали обозначаться другие «неродные» для Китая учения — ислам и буддизм.
Дословно цзунцзяо означает «учение предков» или «учение, доставшееся от предков», что абсолютно точно соответствует пониманию сакрального пространства китайцев и того, что они действительно практикуют. Всякое духовное учение Китая основывается исключительно на попытке установить связь с предками, войти в резонанс с ними, «проникнуть в дух» или, дословно, «вступить в контакт с духами» (
жу шэнь).
Значительно шире, чем цзунцзяо, в Китае распространился термин цзяо — «учение», причем им обозначали практически все духовно-философские течения Китая: и буддизм, и конфуцианство, и даосизм, и разные философские школы. Единство термина, прежде всего, показывает, что в умах самих китайцев никакого разделения на «религию» и «философию» никогда не существовало, оно возникло искусственным образом и в основном в научной литературе.
Здесь нет «веры» в том смысле, в каком она присутствует в западных религиях, но существует лишь «доверие» (
синь) к духам предков, которые воздействуют на земной мир. Здесь нет «молитвы» как чистого и прямого обращения к Богу, но лишь «поклонение» (
бай) как выполнение определенных ритуалов. Здесь не существует трепета перед Богом, никто не совершает спасительного подвига, не существует ни абсолютной божественной любви, ни даже единой формы поклонения. Впрочем, здесь нет и самого Бога, нет и того, кто хотя бы приблизительно занимает его место в сакральном пространстве. Не случайно при переводе Библии на китайский язык пришлось прибегнуть к термину шан-ди, т. е. «высший дух» или «высший (т. е. первый) предок».
Не было и ключевого компонента религии — веры. Китайский иероглиф «синь», который с определенной натяжкой можно перевести как «вера», говорит исключительно о доверии подданного к правителю, правителя к своему слуге, доверии правителя и посвященного монаха к «знакам Неба», доверии людей к духам своих предков. В Китае не было именно веры в духов, подобной западной модели веры в Бога, но было знание об их существовании, подкрепленное техникой вступления в контакт с ними. Вся религия Китая была всегда сведена к духообщению, а в более широком плане — к установлению сообщения между миром посюсторонним и миром потусторонним.
 Илл. 2. Народный пантеон духов и богов. Сверху вниз: Будда, Лао-цзы, Конфуций
Илл. 2. Народный пантеон духов и богов. Сверху вниз: Будда, Лао-цзы, Конфуций
Так что говорить о «религии Китая» можно лишь с очень большой долей условности: как видим, никаких классических черт религии, характерных для западной традиции, мы здесь не встречаем или видим их в бесконечно искаженной форме. Вера в Бога, в единое высшее существо была заменена здесь, как будет видно, системой сложных договоренностей с духами предков. Каждый дух, центральное или локальное божество воспринималось именно как предок, представляло ли оно действительно прямого родового или кланового предка или являлось таковым в рамках ритуальной сакрализации.
Даже понятие «общество» в китайском сознании тесно связано с культом предков. Китайский язык очень точно передает оттенок «общества» как близко-контактной группы людей, связанных между собой либо хозяйственными, либо родственными связями. В современном языке «общество» звучит как шэхуэй, что дословно означает «собрание [людей] вокруг алтарей предков», и таким образом общество воспринимается как круг людей, поклоняющихся единым духам. В Китае человек не может быть человеком во всей своей полноте, пока он не соотносится с предками через ритуал и духовное соприкосновение с ними. Если для большинства иных традиций «человек воистину» лишь тот, кто подобен Богу
1, то в Китае он соотнесен с предками и необходимостью понимания тех сил и связей, в которые включены и духи предков, и сам человек.
По существу, такое поклонение духам предков, сохранившееся в Китае до сегодняшнего дня практически повсеместно, отражает некий «дорелигиозный этап» развития человечества, о котором, в частности, О. Ранк писал: «Религия не всегда была неразрывной спутницей человечества; в истории развития до-религиозная стадия занимала большое место»
2. В Китае этот «дорелигиозный» этап зафиксировался на многие тысячелетия и стал основной формой общения человека и коллективного сознания нации с внешним миром. Если рассуждать в терминах «мифологического-логического» (что, конечно, является очевидным упрощением), то, вероятно, Китай не только не отошел от мифологического сознания, но вообще не шел к «логическому», развиваясь иным, более сложным путем.
Одним из первых поведал западному миру о китайской религии знаменитый иезуитский миссионер XVII в. Маттео Риччи. Он оставил после себя занимательные и познавательные дневники, которые представляют собой яркий пример попытки уместить китайскую действительность в строгие рамки понимания европейской культуры. Риччи, как, впрочем, и сотни других путешественников и исследователей Китая, пытались опознать в китайской культуре что-то свое, знакомое, перенести на нее свои концепции и формы. Сложился примечательный парадокс: изучали не столько китайские реалии, не столько внутренний механизм китайской цивилизации, сколько сравнивали увиденное и услышанное со своим опытом и чисто западными культурными ощущениями по принципу «похоже — не похоже». То, что не умещалось в эти рамки, нередко отметалось или просто не замечалось.
Маттео Риччи всячески пытался найти концептуальную связь между китайскими духовными учениями и христианством, вероятно, отказываясь верить в то, что сама парадигма развития Китая может быть абсолютно другой. Он говорил, что «Конфуций является ключом к китайско-христианскому синтезу»
3. Более того, он считал, что всякая религия должна иметь своего основателя, получившего первое откровение или пришедшего, как Христос, к людям, и полагал, что Конфуций есть основатель «конфуцианской религии».
Попытки перенести западные религиозные реалии на Китай порою приводили к забавным парадоксам. Если христианство названо по имени Христа, то, например, иезуит Альваро Семедо, приехавшей в Китай в 1613 г., пребывал в уверенности, что даосизм (
даоцзяо) получил название по имени своего основателя, некоего Таосу, т. е. Дао-цзы. В западные языки прочно вошел термин «конфуцианство» для обозначения учения, созданного, как предполагается, Конфуцием (хотя уже средневековое конфуцианство мало связано с изначальной проповедью Конфуция). Однако в китайском языке такого термина нет, ему соответствует жуцзяо, нередко переводимое как «учение книжников».
Маттео Риччи одним из первых заметил, что в Китае безболезненно соседствуют, как он считал, три основных религии: конфуцианство, даосизм, буддизм. Китайцы ходят в кумирни и храмы всех этих трех религий, при этом посещают еще места поклонений местным духам, имеют на своих домашних алтарях таблички с именами духов предков и, таким образом, поклоняются Илл всем сразу. Когда в Китай пришло христианство, таблички с именем Иисуса Христа нередко размещались на том же алтаре, рядом с именами предков, изображениями Лао-цзы и Будды. Уже позже это явление получило в науке название «религиозного синкретизма» — безболезненного и взаимодополняющего сожительства нескольких религий.
Сколь наивными ни покажутся эти рассуждения прошлых веков, суть их очень прочно закрепилась в современном западном сознании, которое нередко по-прежнему рассматривает «три основных китайских религии» или учения: конфуцианство, даосизм и буддизм.
В действительности китайских духовных учений было, конечно же, не три, а значительно больше.
Однако китайское сознание оперировало понятиями троичности, подгоняя под это практически все явления духовной и культурной жизни. «Три начала» — Небо, человек, земля. Три киноварных поля-данътянъ, где концентрируется жизненная энергия ци и выплавляется «пилюля долголетия», — нижнее, верхнее, среднее. Три важнейших планеты, три важнейших домашних духа: богатства, знатности и счастья, и многое-многое другое, вписанное в трехслойность космоса китайцев. На фоне бинарной оппозиции инь-ян и их проявлений в культуре любой третий элемент придавал промежуточность и одновременно устойчивость конструкции. Инь и ян не трансформируются друг в друга одномоментно, но существует некая промежуточная стадия, объединяющая инь и як и одновременно явно разделяющая их, — так и рождается устойчивая триединая структура.
Триединство китайской религиозной системы — не более чем традиционная парадигма мышления.
Например, прекрасно известно, что под названием «даосизм» существовали десятки, а порою и сотни разнородных школ, нередко не связанные между собой ни вероучением, ни ритуалом, ни другими формальными признаками. И все же это именовалось единым словом «даосизм». Столь же неоднородно было конфуцианство, которое могло включать в себя как исключительно государственную идеологию, так и деревенские ритуалы. Примечательно, что из троичной схемы выпадали народные культы и верования, вообще не поддающиеся абсолютной классификации. Обычно их связывают с даосизмом или так называемым народным буддизмом, хотя по-настоящему они представляют собой абсолютно отдельные культы и верования.
Примечательно, что тот же Маттео Риччи в одном из своих писем в 1609 г. заметил, что «китайцы поклоняются лишь Небу, Земле, а также Владыке их обоих»
4. Пожалуй, это одно из самых точных определений того, чему все же поклоняются китайцы. М. Риччи под «Владыкой их обоих» первоначально понимал прообраз Бога как некоего еще недоразвившегося понимания христианской истины, но в реальности все свелось к поклонению верховному духу шан-ди, смысл которого был весьма и весьма далек от Бога, а действия ничем не напоминали божественный промысел.
Было бы большой ошибкой говорить о наличии разных религий или разных учений в Китае, хотя в науке и принято различать, например, официальную и сектантскую традицию, даосизм и буддизм, китайскую религию и китайскую философию. Но не следуем ли мы здесь за чисто западной традицией, где действительно существуют и разные верования, и различные религиозные учения, и конфессии?
Принято говорить о синкретическом характере религиозной жизни Китая — это подразумевает, что все течения, и прежде всего конфуцианство, буддизм и даосизм, в сознании рядовых китайцев нередко выступают в виде единого комплекса идей, верований. У них единые духи и даже формы поклонения.
Не случайно до сих в китайских деревнях можно [встретить изображения Конфуция, Лао-цзюня (обожествленного Лао-цзы) и Будды или боддисатвы милосердия на одном алтаре. Перед ними воскурива-ются одни и те же благовония, им приносят одни и те же дары. Нередко на тот же самый алтарь на юге Китая может помещаться изображение Мухаммеда, а на севере Китая мне нередко приходилось встречать наалтарные изображения Христа.
Известное китайское изречение гласит: «Даосизм — это сердце, буддизм — кости, конфуцианство — плоть» (
дао синь, фо гу, жу жоу). В этой формуле все три знаменитых китайских учения находят свое место, образуя неразрывность ноги китайской традиции.
 Илл. 3. Алтарь в жилище даосского монаха в провинции Хэнань.
Фигурки слева направо: Лао-цзы, Лао-цзы верхом на буйволе, Гуйняньнянь (женский дух семейного счастья и детей), боддисатва милосердия Гуаньинь. В левом углу приготовлены благовония, в правом углу — деревянная «рыбка» и деревянная палочка для отбивания ударов во время молитвы и медитации. На заднем плане — табличка с именем умершего наставника даоса, в которую переселилась часть его души
Илл. 3. Алтарь в жилище даосского монаха в провинции Хэнань.
Фигурки слева направо: Лао-цзы, Лао-цзы верхом на буйволе, Гуйняньнянь (женский дух семейного счастья и детей), боддисатва милосердия Гуаньинь. В левом углу приготовлены благовония, в правом углу — деревянная «рыбка» и деревянная палочка для отбивания ударов во время молитвы и медитации. На заднем плане — табличка с именем умершего наставника даоса, в которую переселилась часть его души
Само понятие синкретизма предусматривает, что изначально независимые течения в какой-то момент начинают использовать общую терминологию, общие ритуалы и на определенном, обычно народном, уровне частично утрачивают свою самостоятельность. Но это определение исходит из того, что эти учения когда-то действительно были самостоятельными. Однако в Китае ни одно из учений никогда не было самостоятельным, независимым. Это изначально был единый комплекс переживаний и верований — прежде всего вера в духов предков, — который по-разному обыгрывался в разных социальных кругах и разных регионах Китая. Например, конфуцианство (
жуц-зя) стало основой культуры государственной власти, воспитания чиновников и интеллектуалов. Даосами обычно называли лекарей, знахарей, медиумов, открыто и неопосредованно общающихся с духами. Позже из Индии приходит буддизм, который стремительно утрачивает свои «индийские», самостоятельные черты и по сути становится еще одним китайским учением, представители которого отличаются лишь желтыми одеждами.
Картину духовной жизни Китая можно свести к следующей упрощенной схеме: существует лишь одно учение и целый ряд трактовок, сект и школ, зависящих от местных традиций или предпочтений конкретного наставника. Единое духовное учение и занимает место западного понятия «религия». Это сродни тому, как существуют христианство или ислам с их разными, порою противоречивыми учениями и направлениями, которые, тем не менее, принадлежат к одной основе.
Ни мир, ни его отдельные явления не имеют в китайской традиции фиксированной формы — существует лишь временное воплощение, которое уже само по себе равно перевоплощению.
Неживая материя свободно трансформируется в живую (например, существует масса преданий о том, как камень превращается в обезьяну), реальное существо — в мифологическое (люди рождают драконов). Известный синолог Дж. Нидэм объяснял это тем, что у китайцев никогда не существовало концепции особого созидания: «Поскольку созидание ex nihilo Высшим Духом уже само по себе было представляемо им же самим, следовательно, и не было смысла верить в то, что разные формы живых существ не могли бы трансформироваться друг в друга с легкостью»
5.
Китайцы не верят в бога — в того Бога, вокруг которого построена вся средневековая и новая цивилизация Запада. Сотни миссионеров в течение столетий вели свою отчаянную проповедь в Китае, сегодня официальным и неофициальным образом на поддержку католических и протестантских общин в Китай из-за рубежа поступают немалые финансовые средства, однако Христос по-прежнему стоит всего лишь в одном ряду с Конфуцием, Лао-цзы, Буддой и Мухаммедом. Ему поклоняются не как Богу единственному, не как Вседержителю, но как одному из наиболее могущественных духов.
Христос в его каноническом виде не воспринимается как Бог поистине неуязвимый, он оказался слишком чувственным, страдающим и ранимым на фоне неуязвимых китайских духов.
В результате совсем иного понимания духовной практики как постоянного личностного общения с духами Китай имеет и иную «конструкцию» религиозной системы. Прежде всего, всякие духовные учения локальны, носят местный характер. Любой местный наставник, скажем, буддизма или даосизма воплощает собой весь буддизм или даосизм целиком, вне зависимости от степени его посвященности в тонкости учения. Само общество дает ему статус наставника в силу его возможностей устанавливать связи с тонким миром, получать оттуда благодатную энергию дэ и передавать ее местной общине. В Китае нет ни института церкви, ни «главного буддиста», ни «патриарха всея даосизма» и т. д. Все сведено к личным способностям конкретного учителя, а также к его «вписанности» в традицию передачи сакрального знания из поколения в поколение.
В противоположность этому западная религия стремится стать не только главенствующей, но вообще единственной — она претендует на эксклюзивность обладания истиной и опытом мистического. В этом суть всех религиозных противостояний и войн. Витальность же духовной традиции Китая заключалась в том, что философ или религиозный наставник ни в малейшей степени не обращал внимания на других — сотни небольших школ, сект и учений явились подтверждением этому «расцвету ста цветов». Хотя современные лидеры духовных школ и не прочь порою бросить упреки в «неистинности» наставнику из соседней деревни, это никогда не перерастает в споры о религиозных догматах, символах веры, «правильности» духов, которым следует поклоняться.
Даже лексикон духовной практики выдает эту замкнутость не на учении, а на учителе. Говоря о себе как о последователе Будды, китаец сообщает, что он «поклоняется Будде» (
бай фо). Но одновременно он «поклоняется» какому-то конкретному человеку «как своему наставнику» (
бай… вэй ши), и, таким образом, не существует разницы между верой, скажем, в Будду и верой в своего учителя — и то, и другое является доверительными семейными связями, в результате которых и передается особая благодать.
Китайская вера неконцептуальна и в этом плане сродни «доверию», содоверительному общению между человеком и Небом. Устойчивость такой системы — в общем, вполне архаической — заключена именно в ее внеконцептуальности, внефеноменологичности, в отсутствии символов и даже объектов веры. Всякая институционализированная религия базируется на неком осевом символе — и в него можно только верить. Все остальное уже логически вытекает из первичного символа. Если уверовать в воскрешение Христа после распятия, то весь остальной христианский комплекс символов, постов, литургий, правил приобретает смысл.
В противном случае это оказывается лишь внешними действиями без содержательного священного элемента. Мир разбивается о единственный элемент, содержащий зерно всего комплекса. В китайских традициях такого осевого элемента не существовало, на его месте стояло установление контактов с миром духов, предков, и, таким образом, кому бы ни поклонялся китаец, он всегда поклоняется предкам, либо своим, либо единым предкам всей китайской нации.
Учение вне писаний
Распространенное предание рассказывает, что когда первый патриарх чань-буддизма Бодхидхарма пришел в VI в. в Китай, он оставил несколько заветов, на основе которых следовало постигать истину. Один из них гласил: «Не опираться на письмена» или «Не использовать письменные знаки» (
бу ли вэнъ цзы). В ту эпоху, проникнутую монотонным чтением сутр без их внутреннего понимания, это означало частичный отказ от использования священной литературы и перенос всей практики исключительно внутрь себя в виде медитации и самоочищения, успокоения сознания и устранения любых иллюзорных мыслей.
Мы привыкли, что в основе всякой религиозной традиции лежит определенный канонический текст. Иногда он может быть составлен из более мелких текстов, проповедей, откровений, как, например, Библия. Основа текста при этом восходит к «богодухновенности»: это всегда текст откровения, переданного людям, — Моисей получает текст Торы от Бога, Мухаммед записывает Коран как слова Аллаха. Записанные избранными и открываясь в этом мире через людей, и Библия, и Коран, и Тора содержат слово кого-то Высшего. Соответственно, изучая тексты, можно вступить в беседу с Богом и услышать Его слово.
В противоположность этому китайская духовная традиция не «текстологична», то есть она не базируется на текстах и любых формах священных писаний. Здесь все «священно», но ничто не свято. Здесь нет ничего окончательного и неизменяемо-святого, поскольку любой писаный текст считается священным и сокровенным уже лишь потому, что он повторят слова того, кто передает на землю «письмена Неба», то есть посвященного мудреца.
Многие христианские миссионеры воспринимали тексты Конфуция, Мэн-цзы, Лао-цзы как некое подобие священного писания, причем характерного для конкретной школы, например «Дао дэ цзин» — для даосизма, а «Лунь юй» («Беседы и суждения» Конфуция) — для конфуцианства.
Многие миссионеры, а за ними и исследователи подспудно стремились найти в китайской духовной материи некие аналоги западных религиозных атрибутов и таинств, полагая, что если есть религия, то должен существовать и основной религиозный текст.
В действительности само учение и формы ритуалов и в даосизме, и в конфуцианстве, и в буддизме вообще не привязаны к текстам, и еще меньше зависят от текстов народные формы верований. Все это отнюдь не значит, что сакральных книг нет или они игнорируются. Наоборот, они встречаются в огромном количестве: даосское собрание «Дао цзан» («Сокровищница Дао» или «Хранилище Дао») насчитывает сотни томов, китайский вариант буддийского канона Трипитаки содержит несколько тысяч произведений, сведенных в 55 томов. Но большинство из этих текстов были обязательны не к прочтению, а к обладанию; до сих пор во многих монастырях можно видеть, как священные книги, подернутые паутиной и покрытые пылью, стопками хранятся под потолком храмов — их столетиями никто не открывал.
Существуют несколько жанров китайских текстов: цзин — каноны, ши — истории, цзы — сочинения философов и некоторые другие.
Одним из классических типов сочинений в Китае является цзин, обычно переводимый как «канон». К этому жанру, в частности, принадлежат и «Канон перемен» («И цзин»), и «Канон Пути и Благодати» («Дао дэ цзин»). Именно «каноны», восходящие к древним мудрецам, преданиям и гаданиям, ценились выше всего. Большинство изин не относятся к одному автору, а являются компендиумами древней мудрости и, как мы покажем ниже, принадлежали конкретным школам магов и мистиков. Когда пришлось переводить на китайский язык Библию, ее озаглавили «Шэнь цзин», дословно «Священный канон», хотя по своему характеру и роли в религии она абсолютно отличается от всей другой китайской классики.
Ни один китайский канон не предопределяет ритуальные формы богослужения (если это слово вообще применимо к Китаю), не содержит прямых морально-этических предписаний и в этом смысле не является ни катехизисом, ни молитвенником. И хотя Китай знал определенные собрания ритуальных инструкций, например чань-буддийский монашеский свод «Чистые правила» («Цин гуй») монаха Байчжана Хуайхая (720–814), они все же были принадлежностью очень узкой монашеской среды и, как показывает современная практика, в действительности очень редко соблюдаются.
Более того, ни один вариант текста не был по-настоящему каноническим! По Китаю могло одновременно циркулировать несколько десятков версий или списков одного и того же «священного» трактата, причем все они считались одинаково истинными. Здесь важно осознать, что трактат для Китая может быть актуален только внутри конкретной школы и не существует оторванно от нее — иначе он превращается в объект научных и литературных исследований, но никак не в священно-магический текст. Каждая школа принимала свой вариант за «передающий истину», иногда дополняла или корректировала его. И чем известнее был текст, тем больше его вариантов встречалось. Часть из них со временем исчезала, часть намеренно уничтожалась конкурентами, другая часть дошла до сегодняшнего дня. Например, за период со времени династии Хань до конца династии Цин, т. е. со II в. до начала XX в. по Китаю циркулировало 335 комментированных или аннотированных списков «Дао дэ цзина», из них 41 вариант вошел в собрание даосских канонов «Дао цзан»
6.
Точно так же даже в относительно «строгом» буддизме практически каждая ключевая сутра содержит несколько вариантов. Так, центральный трактат чань-буддизма «Сутра помоста шестого патриарха» («Люйцзу таньцзин»), содержащая наставления чаньского мастера Хуэй-нэна, имеет по меньшей мере десяток вариантов и четыре основных версии, причем первая была создана предположительно в IX в., а последняя — в XIII в.
7
Трудно представить себе одновременное существование нескольких десятков вариантов Библии или Корана, которые в равной степени считались бы «истинными». Это моментально привело бы к расколу и краху религиозной структуры. Достаточно напомнить, что признание Ветхого завета и непризнание Нового завета приводит к тому, что в мире существуют иудаизм и христианство — две генетически связанные, но все же разные религиозные системы. Однако из-за «нетекстологичности» китайской духовной практики многочисленность вариантов одного и того же текста не только не приводит к коллапсу духовной школы, но лишь свидетельствует о ее живительной силе и распространенности.
В действительности до нас дошло не так много текстов, которые могли бы в полной мере рассказать о сути верований древнего Китая. К тому же чаще всего мы высоко ценим не те тексты, которые действительно были актуальными и важными, например, для эпохи Чжоу, но те, которые сочла важными более поздняя традиция. Насколько, например «Дао дэ цзин», «И цзин» были для древнего Китая действительно ключевыми текстами? Сколь много людей их прочли или знали их содержание? Насколько духовные наставники опирались на них в своей практике? Ни один исследователь сегодня не сможет с уверенностью дать ответ на эти вопросы, но очевидно, что реальная значимость именно текстологической традиции в традиционном Китае была невелика, уступая устной передаче знания от учителя к ученику и экстатическим откровениям, получаемым нередко во время транса.
Было бы большой ошибкой считать эти трактаты самостоятельными и, тем более, философскими текстами. Ни к философии, ни к изложению взглядов конкретного мыслителя, как было, например, в античной Греции или в средневековой Европе, они не имеют отношения. И, что действительно важно для дальнейшего нашего изложения, они не являются полностью самостоятельными текстами.
 Илл. 4. Келья для медитаций чанъ-буддийского монаха. Над входом надпись: «Место устремлений к высшей благодати чаньских учителей первых поколений». В глубине сидит преподобный Суси — старейший монах монастыря Шаолиньсы
Илл. 4. Келья для медитаций чанъ-буддийского монаха. Над входом надпись: «Место устремлений к высшей благодати чаньских учителей первых поколений». В глубине сидит преподобный Суси — старейший монах монастыря Шаолиньсы
Это всего лишь записи некоторых ритуальных формул, вопросов к духам, результатов гаданий, сакральных речитативов. Они произносились шаманами и медиумами, иногда проговаривались в момент транса. Более поздние мыслители обрабатывали эти тексты и комментировали, составляя целые компендиумы из высказываний. Именно так родились «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы» и, конечно же, «И цзин». Эти тексты были строго локальными и «школьными», т. е. они возникали как записи мистиков конкретной местности и вполне конкретной школы. Ни один из таких сакральных текстов долгое время не имел всеобщего характера. Например, «И цзин» был выделен из числа магических текстов во многом благодаря усилиям Конфуция я его последователей, хотя наряду с этим трактатом существовало немало других магических книг, которые не дошли до нас, так как ключевым был назван всего лишь один текст, а трактаты других школ канули в лету.
От эпохи древности до нас дошло, на первый взгляд, немало текстов, в которых встречаются описания древних ритуалов. Прежде всего, это «Шаньхай цзин» («Канон гор и морей») — антология причудливых преданий и полуфантастических географических описаний, якобы составленная во II тыс. до н. э. одним из великих первоправителей Китая, победителем потопа Юем. Однако мы без труда замечаем, что основу текста составляют мифологические образы, которые, как мы покажем, представляют собой либо медитативные видения магов и медиумов и их путешествия в мир мертвых, либо символическое описание вполне реальных вещей. И в этом случае самым важным был не текст, но мистический ритуал, приводящий к этим видениям, который целиком никогда не записывался (за редким исключением в виде некоторых пассажей «Записей о ритуалах» — «Ли цзи» или «Канона песнопений» — «Ши цзина»), а следовательно, не сохранилась и суть откровения, получаемого медиумом от духов.
Какую же роль играли тексты для Китая, если они не являлись ни канонами, ни инструкциями, ни катехизисами? Прежде всего, они содержали описание личного откровения и переживания в тот момент, когда человек, следуя традициям шаманов и медиумов, входил в транс и соприкасался с миров духов. Именно таково основное содержание, например, «И цзина» или частично «Дао дэ цзина». На эти откровения, принадлежащие великим, но при этом часто безымянным магам, накладывались многочисленные комментарии и текстологические обработки — так постепенно сложилась знаменитая китайская комментаторская традиция и «школа канонов» (
цзин сюэ). Современные же исследователи порою ошибочно принимают даосские тексты за самостоятельные духовные произведения, каковыми они, увы, никогда не являлись.
Другая часть текстов представляет собой описание магических путешествий, которые совершает маг или шаман во время медитативного транса. Эти потусторонние путешествия нередко пересекаются со вполне реальными географическими объектами, например действительно существующими реками и горами, в результате чего, вероятно, и появляются произведения, подобные «Канону гор и морей».
Предпринимались многочисленные попытки локализовать объекты,
описанные в этом тексте, даже делались выводы о том, что часть из описанных гор, озер, водопадов находится в Центральной Америкзе, куда могли приплывать китайцы (или их предки — переселенцы из Китая) еще во II тыс. до н. э.
8
Не исключая этой возможности и даже считая связь между древнекитайской и мезоамериканской культурами вполне реальной, все же не будем преуменьшать влияния описаний шаманских трансцендентальных путешествий.
Некоторые тексты или их части, например «Ши цзин», «И цзин» и даже некоторые пассажи «Лунь юя» Конфуция (2:1; 11:19), специально ритмизировались (учитывая, что рифмования древний Китай не знал) и таким образом служили ритуальными заклинаниями, методично и ритмично произносящимися для вхождения в транс.
Самое известное из таких произведений «Канон песнопений» или «Канон поэзии» — «Ши цзин» содержит 305 стихов и состоит из фольклорных, придворных и ритуальных песнопений. Он обрел окончательную форму приблизительно во времена Конфуция, т. е. в VI–V вв. до н. э., однако большинство его песнопений принадлежит к значительно более ранней эпохе и уходит своими корнями в начало I тыс. до н. э. Очевидно, что первоначально это действительно были песнопения — они исполнялись под музыку, вероятно, под удары гонга, высокие звуки дудок и флейт.
Мистические тексты постепенно структурировались и были сведены в так называемое «Пятиканоние» («У цзин»), которое приблизительно со II в. до н. э. наряду с «Четырехкнижием» стало основным собранием текстов для китайских аристократов, интеллектуалов и ученых: «И цзин» («Канон перемен»), собрание официальных исторических документов «Шу цзин» («Канон исторических преданий»), «Ши цзин» («Канон песнопений») — собрание ритуально-магических речитативов; «Ли цзи» («Записи о ритуалах», VI–V вв. до н. э.) — собрание ритуальных формул, сопровождаемое изложением исторических случаев и историй из жизни великих людей; «Чунь цю» («Весны и Осени») — хроники царства Лу, выходцем из которого был Конфуций, содержащие события между 722 и 481 гг. до н. э.
Китайская духовная традиция, как видим, не содержит в себе такого важнейшего компонента, присущего классическим религиям, как опора на священные тексты и катехизисы. Более того, всякий текст из-за этого превращается в передачу исключительно личного опыта того, кто получил это откровение в безличной форме.
Восприятие священной действительности происходит не на уровне текстов и прописанных правил, но как отражение внутренней парадигмы бинарных оппозиций, получившей широкую известность в виде концепции инь и ян.
Инь и ян: хаос и порядок
Наверное, не найдется ни одной книги о китайской культуре, которая бы не рассказывала об инь и ян — двух противоположных и взаимодополняющих началах. И мы не будем нарушать эту традицию, но постараемся показать все несколько с иной стороны. Концепция инь и ян пронизывает все в китайской культурной традиции, от системы управления государством и отношений между людьми до правил питания и саморегуляции. Она же распространяется и на весьма сложную систему взаимоотношений между человеком и духовным миром. Изображение символа инь-ян (на самом деле он не древний и возник достаточно поздно) как темного и светлого полукругов стало едва ли не визитной карточкой всей восточноазиатской культуры, и его можно обнаружить на обложках западных книг по диетологии, здоровому образу жизни, философии, религии Китая.
Инь-ян стали настолько тесно ассоциироваться с «китайской тематикой», что воспринимаются как некие имплицитно присущие ей начала. Концепция инь и ян как нельзя более точно передает восприятие китайцами как внешнего мира, так и мира внутри себя. Однако не стоит это принимать примитивно и упрощенно.
Прежде всего, нужно развеять устоявшийся миф о сущности инь и ян: в китайской культуре они никогда не были «закреплены» за некими парами противоположностей, как принято считать в популярных сочинениях. Это значит, что инь-ян отнюдь не равнялись темному-светлому, мужскому-женскому, солнцу-луне и т. д., причем эта ошибка уже неоднократно критиковалась специалистами
9.
Тем не менее, такую примитивную трактовку можно встретить и в современной китайской литературе, и на уровне обиходных представлений китайцев. Таким образом, истинная суть инь-ян — столь, казалось бы, многократно изложенная — осталась сокрытой. Нам же представляется, что само понимание «сокровенного» в китайской культуре невозможно без правильного осознания инь-ян.
Принцип инь и ян распространяется далеко за рамки столь упрощенного взгляда, он живет на уровне восприятия духовного мира, взаимоотношений человека и общества, китайца и «варвара»-иностранца.
Даже в политике Китай — одна из немногих стран, которая по всем договорам неизменно требует «дуйдэн» — паритета взаимоотношений, мер и шагов.
Концепция инь-ян означала наличие перворазделения вообще, которое знаменует собой собственно порождение всего материального и духовного мира. Несложно понять, что создание культуры для Китая — это, прежде всего, упорядочивание сущностей, прекращение действия хаоса.
Восприятие мира китайцами всегда ситуативно и никогда не постоянно, т. е. мир постоянно трансформируется, а поэтому ничто не существует воистину и до конца, ничто не является истинным по своей природе и изначально. Собственно мотив истинности, которая может быть дана только как постоянная трансформация, и есть основа мистического представления инь-ян.
Сама ситуативность восприятия порождает мысль о постоянном переходе противоположностей друг в друга, поэтому инь-ян не равняются биному женское-мужское, а пары мужское-женское, пустое наполненное являются лишь следствием такого бинарного типа мышления.
Первоначально инь и ян означали соответственно теневой и солнечный склоны горы
10 (такое понимание можно, в частности, встретить в «И цзине») — и эта символика как нельзя лучше отражала суть этих двух начал. С одной стороны, они представляют лишь разные стороны одной горы, не сводимые друг к другу, но и не отличающиеся друг от друга, с другой стороны, их качественное различие обуславливается не внутренней природой самого склона, а некоей третьей силой — солнцем, которое поочередно освещает оба склона.
Для магического пространства ни инь, ни ян, равно как удача или несчастье, не бывают абсолютными — это лишь стороны одного явления, и разделение их на «добрую» и «злую» части жизни происходит лишь на обыденном уровне, в сознании непосвященного человека. Даос, например, прекрасно осознает, что «лишь только в Поднебесной узнали, что красивое — красиво, тотчас появилось и уродство.
Как только все узнали, что добро — это добро, тотчас появилось и зло. Ибо наличие и отсутствие порождают друг друга. Сложное и простое создают друг друга» («
Дао дэ цзин», § 2). Мистический закон «парного рождения» (
шуан гиэн) запускает бесконечное колесо взаимопорождений, которое можно остановить, лишь избежав перворазделения вообще. Мотив бесконечного «кольца», где все части равны друг другу, обыгрывается и в «Дао дэ цзине», где говорится, что «до» и «после» следуют друг за другом, то есть в мистическом мире нет никакого разделения на «начало» и «конец». В сущности, это есть абсолютное воплощение Дао, которое в равной степени «распростерто и влево и вправо» («
Дао дэ цзин», § 34).
По отдельности эти качества не существуют, поскольку в этом случае вещь/ явление (
у) вычленяется из мирового потока и созвучие мира нарушается, ей присваивается некое «имя» (
мин), в то время как истинное Дао «безымянно».
Сакральное пространство бытия в Китае находится в абсолютном бинарном равновесии инь-ян, что проявляется даже на уровне обиходных поверий. Например, если в доме кто-то умер, то вскоре в нем случится какое-то счастливое событие, в случае же рождения ребенка счастье и удача могут какое-то время обходить дом стороной. Более того, считается, что удача посетит прежде всего тех, кто помогал обряжать или омывать усопшего или активно готовил похоронную церемонию. Это считается вознаграждением со стороны души умершего (
шэнъ) всем тем, кто пришел на похороны.
Формально
инь и
ян считаются абсолютно равноценными друг другу, и именно так они трактуются на обиходном уровне. А вот реалии китайского оккультизма показывают, что абсолютного равенства между инь и ян не существует.
В мистической закрытой традиции инь считалось более ценным и высоким. Именно оно и было обобщающей метафорой всего потаенного, сокрытого, тайного, что так высоко ценилось в Китае.
Именно начало инь, например, «изображалось» на китайских пейзажах за нарисованными горами-водами или орхидеями. Именно инь как главенствующее и всеобъемлющее, но постоянно сокрытое начало стояло за всей мощью имперского декора.
Понять столь большое значение инь несложно — по сути, сам путь-Дао был не чем иным, как воплощением инь. Дао обладает всеми чертами инь и ни одной чертой ян. Прежде всего, оно «сокрыто», «неясно», «туманно». Оно обладает и чисто женскими функциями — порождает все явления и вещи этого мира. Оно вечно ускользает, его нельзя ни ощутить, ни выразить. Дао во многих древних трактатах оказывается синонимично воде — ее податливости, отсутствию постоянной формы:
Самка всегда одолевает самца своим покоем.
Пребывая в покое, она занимает нижнюю позицию. («
Дао дэ цзин», § 62) Познав мужское, сохраняй и женское, становясь лощиной Поднебесной.
Будь лощиной Поднебесной, — тогда постоянная Благодать не покинет тебя. («
Дао дэ цзин», § 28) Традиция сокрытости и неупорядоченности, неоформленности инь присутствует и в концепции благодатной энергии дэ. Именно полнота дэ и отличает истинных мастеров и великих правителей, императоров от других людей. Тем не менее, все несет в себе часть благодати-Ээ. Но Благодати не божественной, как манифестации Высшего Бога, но абсолютно самодостаточной и самополной энергии. Она выступает как энергия бесконечно «потаенная» (
сюанъ) и «утонченная» (
мяо), из-за чего и не замечается непосвященными. Более того, всякая истинная благодатная энергия — сокрытая, и в другом качестве она даже не может существовать.
Тем не менее, «скрытая благодать» повсюду, как жизненный флюид, омывает и напитывает весь мир.
Это же проявляется и в концепции наполненности душами или духами (
линь) всего мира. Души умерших, например, несутся в потоках воды и ожидают того момента, когда смогут соединиться с потоками крови живых существ, для того чтобы потом возродиться. Они оживают в неких Желтых водах (
хуан шуй) — потоках, образуемых весной растаявшими снегами.
11
Начало инь здесь поразительным образом выступает и как сокрытое вместилище невидимых и неупорядоченных духов, представляющих мир мертвых, и одновременно как начало, дарующее жизнь и существование вообще, подобно пути-Дао.
Обратим внимание, что вода в китайской традиции, очевидно, ассоциировалась с плодородием (как и у большинства народов), а также с детородной функцией. Частично это было связано коннотациями между водой и путем-Дао. Оба этих начала не имели постоянной формы и принимали форму «того сосуда, в который были налиты». Здесь же и податливость, неуловимость, следование изменениям.
Однако самое главное — и Дао дает рождение мириадам существ, при этом как бы давая импульс к жизни, но далее не властвует над ними, оставляя высшую степень свободы развития: «Давать жизнь и не властвовать». Дао так же, как и вода, «занимает нижнюю позицию» по аналогии с тем, как все воды с верхов стремятся в долины. «Самка, также занимая нижнюю позицию, властвует над самцом», — говорит «Дао дэ цзин». Все эти гидравлические аллюзии о Дао-воде, встречающиеся в «Лао-цзы», есть отголоски, а иногда и цитаты из древних мистических культов, записанные в VI–V вв. до н. э., но имеющие значительно более раннее происхождение.
Казалось бы, вода должна соответствовать лишь женскому началу инь как податливому и дающему рождение. Вообще, как мы уже говорили, в древней китайской мистериологии инь всегда превалирует над ян в плане внутренней оккультной реальности, поскольку Дао скорее соответствует началу инь, нежели в равной степени символизирует их обоих. Однако вода чаще всего была символом живительного семени безотносительно мужского или женского начала — думается, эта символика возникла задолго до даосской концепции Дао-воды.
Вода вообще символизирует некий ритм жизни, в ней живут духи умерших, чтобы переродиться вновь, она наполнена, по разным легендам, либо ци, либо семенем-цзин. Например, древний трактат «Гуань-цзы», приписываемый автору VII в. до н. э. (в реальности текст написан несколько позже), советнику правителя царства Ци, говорит о воде как о детородном начале и символе «истинного» человека: «Человек подобен воде. Лишь когда мужчина и женщина оказываются вместе, его семя-цзин и ее энергия-цы объединяются, возникает проистечение вод, которые дают форму [новому] человеку»
12.
Совсем по-иному обстоит дело в светской традиции, к которой, кстати, могли относиться и многие вещи, внешне похожие на некую «тайность». Здесь начало ян, наоборот, оценивалось выше. Иногда это объясняют патриархальной ориентацией общества, где мужчина, т. е. выразитель начала ян, играл основную роль. Известны даже ритуалы, благодаря которым женщина (т. е.
инь) могла перейти на уровень мужчины (т. е.
ян) и тем самым улучшить свой статус. В основном такие ритуалы были связаны с различными «превращениями» менструальной крови, которая в этот момент считалась воплощенной энергией инь. В одном из таких ритуалов, в частности, сын символически выпивал менструальную кровь матери и тем самым поднимал ее на статус мужчины.
13
Одновременно он сам усиливал свою энергетику через прием в себя этого «тайного» начала, т. е. инь. Не случайно императоры династий Мин и Цин специально приказывали собирать менструальные выделения молодых девушек — из них делались пилюли долголетия, которые также заметно повышали мужскую энергию.
Небесные духи и сам высший дух древности гиан-ди представлялись как высший момент упорядочивания, абсолютная гармония и порядок. Это — начало ян, и именно они помогают душе после смерти человека сохранить свою индивидуальность, за счет чего к ней могут в дальнейшем обращаться потомки. Эти черты перешли и на представителя шан-ди на земле — императора, Сына Неба. Этому гармонизирующему и упорядочивающему воздействию противостоит и одновременно его дополняет мир начала инь, представленный духами типа гуй, знаменующими собой хаос, неструктурированную массу и энтропию, вредоносность и разрушение. Более того, сами духи и шан-ди могут представлять собой не некие мистические сущности, а лишь метафору вечного столкновения неструктурированной массы (духи
гуй в том числе и в чистилище) с четкой структурой и иерархией, представленной добрыми небесными духами шэнь.
14
Такая странная структура осознания мира как чередования хаоса-порядка даже позволила некоторым исследователям говорить о наличии некой единой метафоры восприятия мира, и с этим трудно не согласиться. Представления о духах, о сложной небесной иерархии в конечном счете являлись не только объектами веры, но метафорой имперско-иерархического единства: хаос и порядок в эзотерическом мире всегда имеют свое точное отражение в мире посюстороннем.
Инь — это очевидный первозданный хаос, это обращение человека к самому истоку (точнее, до-истоку) собственного возникновения. Хаос в даосской мысли, равно как и во всех мистических школах, носит позитивно-креативный характер, поскольку символизирует нерасчлененность и единство мира. Он — знак не столько рождения мира, сколько потенциально заложенной в нем возможности рождения чего угодно без четкого определения его сути. Это возможность всего и потенция ко всему в ее абсолютной аморфности и неопределенности. Его метафорой выступают понятия «изначальный ком», «гулкая пустота пещеры», «беспредельное» (
у-цзи), «прежденебесное» (
сянъ тянъ). Это та обитель, не имеющая форм и границ, где слиты воедино знание и незнание, рождение и смерть, бытие и небытие.
Вся имперская культура — воплощенное ян — противостоит символике «изначального кома». Она призвана разделять и «раздавать имена», и почти параноидальная тяга китайских древних мудрецов и современных политиков к упорядочиванию и созданию четких ценностных иерархий есть не более чем попытка воплотить принцип превалирования ян над инь. Одновременно это и принцип светской культуры — здесь ян главенствует над инь, в то время как в мистической парадигме инь является единственно возможным исходом противостояния и взаимодополнения инь и ян.
Мистические же культы, воплотившиеся в даосизме и в некоторых народных ритуалах, наоборот отдавали приоритет инь, учитывая, что и само Дао выступает как инь — оно податливо, невидимо, его аллегория — податливая вода, что не имеет формы, лощина, женское лоно. Таким образом, мистические учения отнюдь не ставили знака равенства между инь и ян, но очевидно своими концепциями «сокровенно-потаенного», «изумительно-запрятанного» стремились обратить человека к началу инь. Здесь как раз культивировался приоритет хаоса как изначального, нерасчлененного состояния над порядком как чем-то застывшим, ригидным, приближающимся к смерти. Приход к предрожденной нерасчленности проявляется, в частности, в мифе о нерожденном младенце. Так, Лао-цзы сравнивает себя с младенцем, «который еще не научился улыбаться», который «не проявляет признаков жизни». Примечательно, что это — один из редчайших пассажей, где Лао-цзы в трактате «Дао дэ цзин» говорит от первого лица, здесь слышна речь посвященного проповедника и наставника.
В конечном счете это «тяготение к мнь» породило кажущийся маргинализм даосской и лежащей в его основе мистической культуры. Она всячески избегала проявлений ян, практиковала экстатические культы, элиминирующие порядок и гармонию, проповедуемые имперским официозом. Здесь практиковались многочисленные сексуальные культы, не признаваемые официальными властями. В частности, поклонялись духам-гуй, ассоциировавшимся с инь и вредоносностью вообще, могилам убитых разбойников и падших женщин, исполнялись ритуалы вызывания духов, бесед с ними, путешествия в мир мертвых.
Расхожий тезис о мистическом «переходе инь в ян» (
инь ян цзяб) имел в китайском фольклоре вполне реальное, хотя и весьма необычное преломление. Он, прежде всего, затрагивал возможность трансформации самого человека, точнее, самой характерной его черты — смены пола. В китайских магических историях нередко обсуждаются моменты перехода женщины в мужчину и наоборот. Смена пола могла выполняться различными магическими методами, например приемом чудесных пилюль или при помощи даосов или бродячих магов.
Частично это объясняется все тем же исключительным оккультным магизмом, шаманистскими архетипами, жившими в сознании китайцев и проступающими в фольклоре. Перемена облика вообще является распространенной частью оккультных ритуалов, поскольку вступление в запредельный мир характеризуется общей трансформацией внешнего облика адепта, — это подчеркивает принципиальное отличие мира духов от мира людей. И именно это подразумевает в ряде случаев временное перерождение человека в ином образе и облике, в том числе и переход мужчины в женское божество.
Так, одна история из даосского сборника рассказывает о женщине, которая после долгого отсутствия мужчины при помощи магических средств сумела перевоплотиться в мужчину, осеменить себя, а затем уже, вновь в качестве женщины, родить ребенка.
15
Более того, в китайской традиции такие чудесные трансформации имели и дидактический подтекст: здесь даже волшебство использовалось с прагматической целью служения предкам. Девушка долгое время сожалела, что не родилась юношей, ибо лишь юноша может в полной мере совершать все ритуальные обряды по усопшим предкам, и прежде всего по отцу. Мучимая тем, что не способна в полной мере воплотить идеал сыновней почтительности (
сяо), однажды ночью во сне она увидела духа, который вскрыл ей живот и что-то вложил в него. Когда она пробудилась ото сна, оказалось, что она превратилась в мужчину.
16
В общем, в подобных историях вполне мог бы черпать свое вдохновение 3. Фрейд, однако вообще мотив перевоплощения, смены пола имеет здесь не только психологический, но и религиозно-шаманистский аспект. Безусловно, китайский фольклор даже новейшего времени обнажает самые глубинные аспекты человеческой психики и демонстрирует то, что в западной традиции, освященной христианскими нормами, тщательно вымарывалось.
Таким образом, композиция инь-ян оказалась универсальной схемой чередования событий, чаще всего воспринимаемой как абсолютный порядок и абсолютный хаос, причем именно хаос и начало инь оказывались атрибутами мистической культуры Китая. Все истинное, связанное с инь, становилось поэтому запрятанным и сокрытым и представлялось в этом мире через символы, числовую и цветовую магию. И, как следствие, пришло осознание существования некоей магической схемы бытия, равной абсолютному небытию, которую и надо вычислить.
Жизнь внутри магической схемы
Магическая схема жизни была связана с представлениями о фэншуй (дословно «ветер-поток»), которое обычно понимается как комплекс китайских геомантических представлений, взаимосвязи ландшафта местности и передвижения духовных сущностей по ее путям. Однако его смысл значительно глубже — это позиционирование человека внутри сакрального пространства жизни, причем как жизни самого человека, так и жизни духов, его окружающих. Фэншуй устанавливает взаимосвязь между ландшафтом («принципами земли» — дили, сегодня «география»), балансом энергетических сил и движениями духов по этому пространству.
Даже сегодня дома в деревне не строятся без консультаций с местным геомантом, который высчитывает нужное направление входа, высоту дома и расположение относительно соседних холмов и рек. Еще сегодня в некоторых районах старого Пекина можно заметить, что все дома строились одной высоты, и те, которые стоят первыми по улице, не заслоняют последующие, чтобы не мешать продвижению духов. Считается, что на западе от деревни обитает белый тигр, а с восточной стороны — темный или зеленый дракон, которые являются символическим обозначением двух противоположных сил. Поэтому нельзя ставить высокие дома или иметь высокие деревья на западной оконечности деревни, иначе нарушится энергетическая связь между драконом и тигром, инь и ян, духи не смогут «перемахнуть» через высокие постройки, будут вредить людям, а деревня придет в упадок.
17
Задачей фэншуй было «удержание» или «извлечение» благодатной энергии из ландшафта. Например, если мощный речной поток омывает город, считается, что он может уносить часть благодатной энергии, и для ее удержания в нижнем течении ставится либо алтарь, либо пагода, которая не дает духам, приносящим удачу, быть «вымытыми» из города. Точно так же ставится пагода с той стороны города или деревни, которая представляется геоманту «слабой» с точки зрения концентрации благодатных духов. Пагода или алтарь как раз устанавливают «гармонию в центре» или «центральную гармонию» (
чжунхэ), поскольку «центральность» предполагает концентрацию духов вокруг священного алтаря. И здесь пагода выступает в качестве прообраза мифологической «мировой оси» или «мирового древа», устанавливающего связь с Небом и усиливающего определенную область на земле.
Глобальный символизм присутствовал во всех аспектах мироосмысления китайцев, весь мир оказывался увязан в одно великое тело, все получало единый ритм со всем. Фэншуй было лишь одним из обозначений этой сакральной взаимосвязи.
Юг ассоциировался с летом и жизнью, север — с зимой и смертью, восток — с весной и гармонией (
дэ), запад — с осенью и покоем (
цин). Полная гармония наступает лишь в центре, поэтому древнее ритуальное уложение «Записи о ритуале» советует: «Установи гармонию в центре, и тогда Небо и Земля займут подобающее им место, и мириады вещей и явлений будут в достатке».
Несмотря на столь строгую, казалось бы, взаимосвязь между сторонами света, сезонами и явлениями, все это нельзя осмыслять в понятиях формальной логической взаимосвязи: здесь все — не более чем символы стихий и духовных сил, который в обыденной реальности могут быть никак не связаны, например, со сторонами света. Достаточно привести хотя бы такой пример. Центральный вход в любую кумирню, храм предков или даосский монастырь обычно считается направленным на юг. Во многом это связано со священным значением юга, поскольку в древности правители, а затем и китайские императоры сидели лицом на юг. Однако в действительности ориентация входа в храм чаще всего не совпадает с реальным «южным» вектором — символически предполагается, что он смотрит на юг. Точно так же большинство ритуальных танцев и комплексов в боевых искусствах ушу (
таолу) должны начинаться и заканчиваться лицом на юг, это предписывается и устной традицией, а сегодня это можно обнаружить и в письменных пособиях, однако в реальной жизни мне не приходилось видеть, чтобы кто-то стремился обнаружить «правильную ориентацию» перед выполнением, например, таолу.
Юг в системе фэншуй выступает не столько как сторона света, сколько как знак того направления, где сосредотачиваются позитивные духовные силы, и имеет своей подоплекой внутреннюю диспозицию инь-ян. Лето, с которым ассоциируется юг, представляет собой абсолютное господство стихии ян и могучей мужской силы. Соответственно, зима ассоциируется с севером и женским началом.
Здесь видимое, как и многое в символической культуре Китае, не является окончательной реальностью. На поверхности «южная» символика выступает как символика явленная, видимая — не случайно она ассоциируется с «проявленным» началом ян. Человек, знакомый с магической культурой, подразумевает ускользающее главенство того, что не видно и не дано в явленном мире, то есть начала инь.
Магическая система мироосмысления китайцев базируется на системе абсолютного подобия и созвучия земных и небесных начал — все, что существует на Небе, имеет свой аналог на земле, и все, что мы обнаруживаем в видимом мире, является эхом событий мира мистического. Эта идея созвучия всего со всем присутствует практически во всех ранних верованиях по всему миру, ее следы обнаруживаются даже в современном христианстве и в полной мере проявляются в египетских и месопотамских верованиях. Особенность же китайских учений состоит как раз в том, что эта система бесконечных подобий не только до сих пор сохранилась в сознании китайцев даже на обыденном уровне, но и присутствует в эстетических концепциях. Например, знаменитая китайская миниатюризация жизни — карликовые сады на блюде или сады «величиной с горчичное зерно» — есть не более чем попытка обнаружить бесконечно большое в бесконечном малом, уловить нечто крайне интимное и семейно-личное в огромном пространстве Космоса.
На этом же подобии и строятся все «конструктивы» китайской философской мысли: магическая нумерология, даосские параллели природы и человека, сочетание отвлеченных начал инь-ян и конкретного жития человека.
 Илл.5 Фуси, полумифический создатель схемы лошу, а также письменности, научивший китайцев приготовлению пищи и многим другим вещам. Рисунок XI–XII вв.
Илл.5 Фуси, полумифический создатель схемы лошу, а также письменности, научивший китайцев приготовлению пищи и многим другим вещам. Рисунок XI–XII вв.
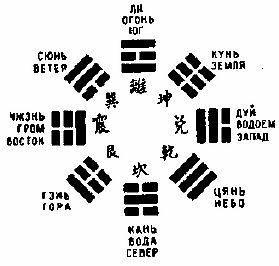 Илл.6 Схема восьми триграмм (богуа)
Илл.6 Схема восьми триграмм (богуа)
Проследим, как на первый взгляд абстрактные и отвлеченные начала оказываются воплощенными в конкретном существовании человека, как священное оказывается воплощенным во вполне мирском и обыденном.
Очевидно, что ранняя мистическая мысль Китая рассматривала присутствие неких трех творящих, но при этом безличностных начал, которые, в свою очередь, представляют некое «развертывание» Дао во внешнем мире. Мистический трактат «Дао дэ цзин» (VII–V вв.) говорит по этому поводу: «Дао порождает одно. Одно порождает два. Два порождает три. Три порождает мириады существ. Мириады существ несут в себе инь и объемлют ян, а пустотное ци приводит их в гармонию» (§ 42).
Здесь фигурируют три базовых элемента: пустотная энергия ци, инь и ян. Фраза эта — очень загадочная и очевидно архаичная — породила немало комментариев. Обычно комментаторы понимают ее следующим образом: Дао порождает ци. Ци разделяется на темное (
инъ-ци) и светлое (
ян-ци), а это, в свою очередь, порождает три начала: Небо, Землю и человека.
В такой трактовке существует определенное противоречие: дело в том, что понятие ци как энергетической субстанции, напитывающей и человека, и весь окружающий мир, родилось значительно позже, чем появилась эта формула из «Дао дэ цзина». В самом же трактате ци рассматривается как дыхание или как воздух и, очевидно, не имеет никакого более широкого значения. Аналогичным образом инь и ян в момент создания трактата не несли той смысловой нагрузки двух противоположных и взаимодополняющих начал, которую они обрели значительно позже. А это значит, что речь идет все же не о ци, инь и ян, а о каких-то других началах. В качестве предположения можно высказать мысль о том, что Дао порождает высшего духа предков гиан-ди или ди, а тот, в свою очередь, — Небо и Землю. Это, в частности, подтверждает и фраза о том, что Дао «является предком всех образов и духа-дм» (§ 4).
Скорее всего, изначально эта фраза вообще была ритуальной формулой или заклинанием медиумов, о чем свидетельствует ее четкий ритм: «Дао шэн и. И шэн эр. Эр шэн сань. Сань шэн вань у». Позже она трактовалась многократно, но суть оставалась прежней: некое высшее начало развертывается и проявляется в этом мире постепенно, нисходя с глобальных форм до самого человека. И как следствие, сам человек внутри себя также порождает это постоянное развертывание мира.
Так, ци соответствует Небу, на уровне человека ему соответствуют голова или верхняя часть туловища. Начало ян соотносится с Землей и с сердцем (душой) человека, а инь — с водой и нижней частью живота или нижним киноварным полем данътянь. Таким образом, человек является повторением глобальных космических сил; умирая и рождаясь, переходя из одного состояния в другое, он лишь отражает и одновременно порождает макрокосмические процессы. И — самое важное — человек не является лишь неким эхом трансформаций инь и ян, но сам становится важнейшим звеном вселенских метаморфоз.
Не только мир, но и сам человек распадается на три уровня, повторяя вселенскую триаду Небо-Человек-Земля. На верхнем небесном слое (он не обязательно находится именно на небе, но где-то в «ином», нематериальном пространстве) располагаются гексаграммы и триграммы, вписанные в круг, сам же круг в Китае является символическим описанием неба и бесконечности трансформаций. В свою очередь, эти гексаграммы, проецируясь на уровень земли (в другой трактовке — человека), проявляют себя в виде явлений этого мира, например, успехов и бед, катастроф, войн. Собственно, это и составляет так называемые «трактовки» или комментарии к «Канону перемен», где каждой гексаграмме соответствует свое предсказание, являющееся проекцией небесной гексаграммы на материальную жизнь. На самом нижнем, третьем уровне все это преобразуется в «земной квадрат» (в отличие от неба, понимаемого как круг), воспроизводящий так называемый магический квадрат Фуси, одну из схем, которую, по преданию, принес на землю этот первомудрец.
Эта схема магического квадрата оказалась многократно повторена на земле в самых различных вариациях — строительстве домов, городов, разбивке садов, обустройстве домашних алтарей. Она должна была установить канал прямого общения между земным (квадратом) и небесным (кругом).
И все же это — абстрактная схема, величие которой не может быть сведено лишь к воспроизведению некого четырехугольника на земле. Это не более чем знак, призыв к духам «опознать» земное подобие небесного и проявить на этом пространстве свои силы. В действительности «великий квадрат не имеет углов», как подчеркивает «Дао дэ цзин» (§ 41), то есть он не является лишь схемой в чистом виде, это проявление пути-Дао, на что указывает, в частности, эпитет «великий квадрат» — все, что называлось «великим» в этом древнем каноне, указывает на присутствие Дао.
Итак, «квадратная» схема обустройства жизни представляет собой попытку уловить, обуздать некие духовные силы, которые стоят вне понимания человека. И здесь, как всегда, китайское сознание действует через «обратное»: говоря о «квадрате», оно парадоксальным образом подразумевает «квадрат, не имеющий углов», — круг или Небо. Говоря об «истинных словах», то есть о формах обращения к духам, отмечает, что «истинные слова похожи на свою противоположность» (§ 78), иначе говоря, истинное общение представляет собой молчание. На священное нельзя указать непосредственно, оно тогда ускользнет и окажется еще более недостижимым, чем прежде.
Можно лишь символически очертить место, где оно находится. Или где его никогда не увидишь.
Его можно уловить лишь опосредованно, через противоположность, через указание, каким оно быть не может. Императорский дворец, возведенный в виде четырехугольника, не «имитирует» квадрат земли, но лишь является частью трансформации небесного круга в земной квадрат. Это знак наличия Небесного в земном. Объяснение этому весьма просто: «Великий Образ (т. е.
Дао) не имеет формы», и таким образом истинное познание идет исключительно через свою противоположность.
В связи с этим, прообразом всех архитектурных сооружений или, говоря в более широком смысле, всей мировой архитектоники стал магический квадрат, именуемый обычно лоту. Собственно лоту представляет собой квадрат, разделенный пересекающимися горизонтальными и вертикальными линиями на девять равных квадратов или областей. Сам магический квадрат происходит из значительно более ранней конструкции — квадрата с центральным пятым квадратом.
Каждый квадрат имеет свое числовое обозначение от единицы до девяти, причем четные числа (против часовой стрелки 2-4-8-6), символизирующие начало инь и землю, располагаются по углам, нечетные «мужские» числа ян располагаются в виде креста, центральный квадрат при этом обозначается числом пять. Лошу обычно изображался верхней частью на юг: именно эту л. 8 схему воспроизводил ритуальный зал правителя, когда он сидел лицом на юг либо в центральном (пятом) квадрате, либо в самом «северном» первом квадрате.
Внутренняя равновесность лошу обуславливалась, как и многое в традиционном Китае, магической нумерологией. Дело в том, что сумма чисел, расположенных по каждой вертикальной, горизонтальной и диагональной линии лошу, дает 15 — нечетное «небесное» число.
Примечательно, что в XIII в. во времена монгольского правления в Китае арабы приносят свой магический квадрат, который в то время стал весьма распространенным изображением и рисовался параллельно арабскими и китайскими цифрами; сегодня его можно видеть во многих исторических музеях. Сами же китайцы видели в этом не привнесение арабской культуры в китайскую, а наоборот — древнее влияние китайской цивилизации на сопредельные народы.
Лошу представляет собой и своеобразный китайский календарь: двенадцать лунных месяцев располагаются вдоль внешних граней квадрата. И хотя наружу обращено лишь восемь квадратов, однако четыре угловых квадрата (квадраты
инь) имеют по две грани, обращенные наружу, и таким образом получается соответствие двенадцати месяцам.
Создание «квадратно-прямоугольной» схемы мироосмысления приписывается великому Юю, спасителю Китая от потопа, хотя, по другим преданиям, лошу ввел либо Фуси, либо Хуан-ди.
Строго говоря, схема лошу была не изобретена кем-то из великих предков, но как бы «прочитана» с Небес и перенесена на землю, равно как и все другие священные знания.
… скан рисунка очень плохого качества…
Илл. 7. Беседки и алтари летней резиденции китайских правителей эпохи Цин Ихэюань построены в строгом соответствии со схемами фэншуй
По сути, лошу являет собой универсальную космологическую схему, где все сведено к принципиальной схеме миропорядка, бесконечно воспроизводимого в каждом отдельном явлении, будь то строительство огромного города или небольшого дома. Пекин возведен как многократное воспроизводство квадрата лошу: в центре располагается императорский дворец Гугун, представляющий собой прямоугольник, вокруг идут улицы, пересекающиеся под прямыми углами. Таким образом, центральный квадрат Гугуна воспроизводится и как бы «ретранслируется» в каждом последующем квадрате; в конечном счете город оказывается сочетанием концентрических квадратов. Однако сам Гугун также разделен на целый ряд квадратов, каждый из которых играет свою магическую роль.
Строго говоря, чаще всего сооружения возводятся не в виде квадратов, а в виде прямоугольников, однако древняя традиция говорит не столько о квадрате, сколько о магическом «четырехугольнике» — сы фан или просто о чем-то «четырехугольном» (
фан), противопоставленном «кругу» Неба.
 Илл. 8. Императорский трон в Пекине.
Трон китайских императоров всегда располагался лицом на юг — в сторону возрождения мира. Так же и древние маги совершали все свои действия лицом на юг
Илл. 8. Императорский трон в Пекине.
Трон китайских императоров всегда располагался лицом на юг — в сторону возрождения мира. Так же и древние маги совершали все свои действия лицом на юг
Китайское мышление не столько воспринимает сущность, сколько формализует ее. На земле за счет четырехугольных схем воспроизводилась сама Земля. А затем она многократно повторялась благодаря квадратной планировке городов и поселений. Священная схема лошу была интегрирована практически в каждую постройку, каждое архитектурное сооружение и даже в ландшафтное планирование городов и деревень, возводимых по принципу квадратов.
По принципу лошу существовала и система так называемых «колодезных полей» (
цзинъту), которую неоднократно пытались ввести в древнем Китае как идеальную схему землеустройства.
Надел разбивался на девять квадратов, боковые части принадлежали общинникам, а центральный квадрат, всегда ассоциировавшийся с императорской властью, обрабатывался совместно, и урожай с него шел в амбары государства. И даже сегодня в китайских деревнях дворы многих домов строятся в виде концентрированных прямоугольников, повторяя магическую схему.
Место, где небо соприкасается с землей
Когда Чжоу-гун в XI в. до н. э., победив в сражении остатки армии династии Шан, начал отстраивать новую столицу, прежде всего он решил возвести специальные места — алтари для поклонений. В пределах города он поклонялся Земле, а Небу — за пределами городской стены.
Так рассказывает один из самых ранних источников по истории Китая «Шу цзин» («Канон истории»)
18.
В Китае все, что когда-либо было записано, остается навечно. И чаще всего воспроизводится, если это действие соотносится с одним из ранних правителей. И поскольку Поднебесная никогда не знала религиозных лидеров, устанавливавших каноны ритуалов и церемониалов, то эта роль переходила к ранним, а порою и полумифическим правителям, например, Шэньнуну, Юю, У-вану, Чжоу-гуну и другим. Имена нередко забывались, однако канон оставался, воспроизводясь в каждом новом поколении. И сегодня уже мало кто знает, что знаменитая архитектура Пекина с дворцом Гугун в его центре и храмом Неба с южной стороны является воспроизведением мистической схемы Чжоу-гуна.
Династия Мин, пришедшая на смену монголам в 1368 г., избрала своей столицей Пекин. На основе древних указаний, содержащихся в «Чжоуских ритуалах» («
Чжоу ли», раздел «
Цюньсяосун») и «Записях о ритуалах» («
Ли цзи», раздел «
И»), были воссозданы алтари поклонений Небу и Земле внутри Запретного города. Алтарь Земли и Злаков и Великий храм предков располагались по обе стороны от императорского дворца, таким образом император находился внутри «энергетического поля» духов, которые ассоциировались с этими храмами. За пределами Запретного города к югу от него был возведен знаменитый Храм Неба (
Тяньтань). Таким образом, три этих сооружения образовывали мистический треугольник ритуальных жертвоприношений, от правильности выполнения которых зависело процветание и гармония в Поднебесной. Так была воспроизведена мистическая схема Чжоу-гуна, жившего за 2300 лет до минских императоров.
Императоры, возводя новые алтари и храмы, обставляли себя магическими вехами, улучшая геомантику столицы. В 1530 г. к северу от стен Запретного города был возведен отдельный Храм Земли, на востоке — Храм Солнца, на западе — Храм Луны. Прямо на запад от Храма Неба был построен Храм Шэньнуна («Священного земледельца») в честь одного из пяти первых полумифических правителей Китая, который был славен тем, что принес людям искусство земледелия. В этом храме правитель совершал ежегодные ритуалы перед первой вспашкой. Затем были построены два отдельных алтаря небесным и земным духам.
19
… скан рисунка очень плохого качества…
Илл. 9. Типичный пример постройки типа «мяо», обнесенной стеной, с несколькими кумирнями в центре. Храм «Обитель первого патриарха»- (Чуцзуань), где, по легенде, в VI в. жил основатель чанъ-буддизма Бодхидхарма
Всякая архитектура, и тем более архитектура Китая, представляет собой сакральную схему, реконструирующую образы Неба на земле. Практически каждая постройка, и особенно древнекитайские сооружения, является последовательным развертыванием небесной схемы через земные образы. Эта «схемотехника», где в дереве и камне воспроизводится развертывание священных сил, уже к раннему средневековью начала утрачивать свое сакральное осмысление, а к эпохе Тан приобрела эстетико-возвышенный характер, превратившись в канон созвучия небесного и земного, человечески-близкого и далеко-небесного. И то, что с VII–VIII вв. стало считаться в основном архитектурным изяществом, сохраняющим воспоминания о сакральном смысле древних сооружений, в более ранний период было наполнено по-настоящему мистическим переживанием.
Смысл любого сооружения, постройки, храма, алтаря и даже места для приема гостей заключается в том, что оно должно быть оптимальным образом вписано в сакральное пространство и воспроизводить его как бы на «низовом» уровне, доступном для
осмысления обычного человека.
Собственно, энергетика китайского храма и алтаря заключалась в их точном соответствии магическим символам — именно так строились павильоны периода Хань, Тан, Мин, хотя и относились они к различной архитектурной типологии. Небесные знаки в точном соответствии с китайской традицией переносились на землю. В центре соположения Небесного и земного располагался правитель, вбирая в себя небесную благодать-дэ и передавая ее своим подданным. Так, в частности, устроена архитектура Храма Неба (
Тяньтань) в Пекине.
Схема магического квадрата лошу обнаруживается и в архитектуре всех храмовых сооружений, также возводимых как сочетание нескольких квадратов. Существует два базовых типа священных сооружений, которые мы обычно обобщенно именуем «храмами»: гун, обычно переводимый как «дворец», и мяо — «храм» или «кумирня».
Типичный гун представляет собой сооружение с большим открытым двором, с алтарем посредине.
По северной стене обычно располагаются еще несколько алтарей (обычно три, пять или семь).
Рядом с центральными вратами слева и справа возводятся небольшие боковые врата, а вдоль боковых стен проделываются еще дополнительные ворота. В самом центре возводится несколько длинных павильонов, пересекающих гун поперек. Один из классических типов гун был возведен в Пекине и служил императорским дворцом, который получил название Гугун, т. е. «древний дворец». Впрочем, он многократно перестраивался, а поэтому идеальная схема лошу оказалась несколько нарушена, хотя и сегодня в архитектуре Гугуна без труда прочитывается магический квадрат.
Мяо является как бы инверсной противоположностью дворцу: мяо обычно отделен стеной — как бы потаен и закрыт от внешних сил. Первоначально мяо возводились в виде небольших кумирен, посвященных конкретным духам, обычно — местным божествам и чаще всего женским божествам. Центральная постройка имеет отверстие в крыше, связывая землю (квадратный пол в мяо) и небо (ассоциируемое с круглой крышей). Основной и часто единственный алтарь располагается по центру задней стены.
Подобное же правило распространялось и на месторасположение всего императорского дворца относительно локализации всего города. Так, в столичном городе Чанъань императорский дворец Тайцзигун — «дворец великого покоя» — был построен именно в северной части города, как и полагается традиционному алтарю предков, дабы правитель смотрел всегда на юг. При этом считалось, что он занимает «центральное место», как и положено самому императору. Город Чанъань — один из самых роскошных городов и столица Китая в династию Тан (618–907) — построен в виде сильно разросшегося мяо или квадрата лоту. Город разделен на девять квадратов, повторяющих схему «девяти областей», введенную в политически-магическую традицию древними философами.
 Илл. 10. Алтарь Неба (Тяньтань) в южной части Пекина — воплощение схемы Чжоу-гуна
Илл. 10. Алтарь Неба (Тяньтань) в южной части Пекина — воплощение схемы Чжоу-гуна
Итак, мир есть геометрически осмысляемая схема — схема, которой можно управлять именно через четкий геометрический расчет. Китайское сознание всегда стремилось сделать мир и культуру подвластными для управления, для использования. И политическая традиция управления миром стала лишь продолжением магической схемы.
В период Борющихся царств (475–331 гг. до н. э), когда Китай заметно расширяет свои контакты с внешним миром и узнает о многочисленных народах, которые живут за пределами реально управляемого пространства, встает вопрос о том, как вписать новые территории в схему китайской культуры. Первоначально китайцы представляли свое пространство как комплекс Срединных царств (
чжунго), окруженный четырьмя морями, но в эту схему никак не могли вписаться иные земли, которые не находились под властью китайской культуры (хотя при этом нередко рассматривались как потенциальные подданные китайских правителей). В результате в IV в. до н. э. ученый Цзоу Янь из царства Ци разрабатывает идею о том, что мир состоит из девяти областей или девяти континентов (
цзю чжоу). По сути, эта мысль была одной из составляющих огромной геомантической науки, которая в тот момент еще окончательно не сложилась. Сам Китай, занимая в этой схеме центральное место, именовался «Священным красным континентом» (
Чи сянъ шэнъ чжоу) и был окружен другими землями. Вместе с этим существовали «девять меньших континентов, различающихся по их географическим чертам»
20.
Цзоу Янь расширяет потенциальную сферу воздействия китайской культуры, утверждая, что мир может быть шире, чем нынешние его границы.
Для Китая девять континентов становятся удивительным сочетанием географической концепции (существовало сравнительно точное описание, где они располагаются) с геокультурным «проистечением» сакрального из Китая, способного напитать весь мир. Собственно, именно в этот момент Китай берет на себя смелость говорить о своем центрально-культурном положении.
Расширяя свой взгляд на мир и отчетливо сознавая свою «неединственность» в мире — расширяются связи с Римом и азиатскими странами, — он как бы видит потенциальное пространство роста своей культуры. Не случайно в концепции Цзоу Яня сам Китай именовался «священной областью», и именно идея «священности», «чудесности» (
шэнъ) всего того, что исходит от Китая, все больше и больше проявляется по мере того, как Китай открывает для себя внешний мир.
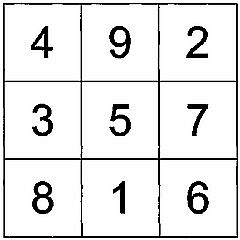 Илл.11. Квадрат лошу
Илл.11. Квадрат лошу
Идея оказалась очень продуктивной, она и легла в основу имперских амбиций всего традиционного мировоззрения. Прежде всего, она помещала Китай на центральное место в мистической схеме мироустроения, делая его восприемником благодатной силы Неба и ее ретранслятором на все соседние области. Китай становится не столько страной-гегемоном, сколько государством-матерью, питающим все остальные земли и народы.
Каждая из девяти областей включает девять малых областей, представляя собой упорядоченное и устойчивое членение мира. Ведомые идеей окультуривающего воздействия, китайцы рассчитали даже точные параметры своего «культурного пространства». Так, в трактате «Люйши чуньцю» («Весны и осени господина Люй [Бувэя]») III в. до н. э. говорится, что все девять областей занимают пространство в 28 тыс. ли (ок. 14 тыс. км) с запада на восток и 26 тыс. ли (ок. 13 тыс. км) с севера на юг, представляя, таким образом, не их и одну в виде девятиглавого дракона. По легенде, именно он, странствуя по девяти областям страны, составил их карту (заметим, что в древности карты Спили не рисованые, а описательные).
Речь шла, естественно, не о реальной земной географии. Китаец жил в пространстве сакрального, которое как бы распространялось с Небес на землю, вся вселенная строилась как девятеричное подобие самой себя на микроуровне. «Люйши чуньцю» описывает эту схему повторения девяти областей следующим образом: «На небе существует девять полей, на земле — девять областей, в стране есть девять гор, средь гор есть девять проходов, а в море — девять островов»
23. Все оказывалось увязанным в единую систему взаимоподобного, и земное уже ничем не отличалось от небесного.
 Или. 12. Одни из тройных ворот комплекса алтаря Неба в Пекине. По центральной дорожке обычно передвигался сам правитель. В его отсутствие ворота всегда были закрыты, представляя ширму от духов.
Обычные люди использовали боковые ворота
Или. 12. Одни из тройных ворот комплекса алтаря Неба в Пекине. По центральной дорожке обычно передвигался сам правитель. В его отсутствие ворота всегда были закрыты, представляя ширму от духов.
Обычные люди использовали боковые ворота
Девятеричная схема представляла, по сути, способ проекции Небес на землю, и этот принцип соблюдался в архитектуре многих городов или домов богатых чиновников, в том числе и Пекина.
Пекин, в частности, сооружен именно по такой схеме: в самом центре располагается дворец, а улицами под прямым углом остальная часть города разделена на восемь частей, то есть в результате получается девять магических квадратов.
Не столько квадраты, сколько прямоугольники. Сам же Китай — Срединное государство (
Чжунго) — представляет собой квадрат со сторонами по 3 тыс. ли (1500 км).
21
Разумеется, составители трактата вполне осознавали, что Китай все же не являет собой равносторонний квадрат, но речь шла не о реальном пространстве государства, а о священных границах китайской культуры.
На западе девять областей достигали гор Куньлунь и Памира (по-китайски хребта Цунлинь), которые сегодня располагаются в западной части Синь-цзяна. Интересные подробности об этом рассказывает трактат «Канон гор и морей» («Шаньхай цзин»), часть которого была составлена в эпоху Борющихся царств (V–IV вв. до н. э.), а часть пришла из каких-то значительно более ранних легенд и преданий. По описаниям «Шаньхай цзина», этот регион находится между некими «Черными водами» (предположительно, Сырдарья) и «Красными водами» (предположительно, река Яркант, или Амударья), что протекают у подножий Куньлуня. Сама же местность, считающаяся священной, окружена «глубокими долинами и сияющими вершинами»
22.
Девятеричность также соотносилась и с подвигами древних героев. Так, правитель Юй, который сумел победить потоп, обуздал девять рек, соединив
Глава 2. У истоков древней магии
Заимствованная цивилизация?
Откуда пошла китайская цивилизация? Что послужило ее истоком? Чем объяснить поразительный взлет древней мистической и духовной культуры Китая? Почему эта цивилизация вот уже несколько тысяч лет сохраняется почти в неизменном виде на подмостках истории? Вопросы эти далеко не праздные, а ответы на них — отнюдь не очевидные. До сих пор активно обсуждается версия, что Китай обладает некой «заимствованной цивилизацией»: китайцы пришли уже на какую-то готовую культуру, представленную, возможно, «американоидами», которые позже, после военных столкновений с хуася (будущими китайцами), откочевали на американский континент. Хуася обладали значительно более низким уровнем культурного и цивилизационного развития, поэтому воспринимали достижения будущих американоидов как мистические знания, поскольку не понимали их, хотя и активно пользовались. Не соотносятся ли многие китайские предания о сражениях с некими мудрыми народами именно с теми, далекими предками, которых частично сами китайцы выбили, а потом поклонялись им как предкам, которые принесли им культуру?
В общем, эта одна версия, одна из многих, хотя, пожалуй, наиболее интересная и многое объясняющая, относится к тем теориям, которые старались обнаружить истоки китайской цивилизации за пределами самого Китая или, по крайней мере, китайского народа.
Может быть этот исток лежит в Египте? Например, еще в первой четверти XX в. единой колыбелью всех культур считали район Египта и Средиземноморья, откуда и началась «миграция цивилизации», вектор которой пролегал к югу от Каспийского моря через Центральную Азию и упирался в Китай, непосредственно в провинции Хэнань и Шэньси
1. По этой теории получалось, что, несмотря на локальное своеобразие, все основные компоненты китайской цивилизации — материальная культура, письменность, градостроительство и архитектура, расписная керамика, технологии обработки камней, а возможно, и бронзы — были заимствованы либо из древнего Египта и Месопотамии, либо из доантичной Греции. В качестве доказательства этого тезиса исследователи обращали внимание на поразительное сходство форм глиняных и керамических изделий, на геометрические росписи и анималистические изображения на сосудах.
Впрочем, взгляды группы Эллиота-Смита, активно отстаивавшей эту версию, в известной мере повторяли значительно более ранние, хотя и несколько умозрительные построения, относящиеся к середине XVIII в. и связанные со спорами об истоках китайской цивилизации. Следует заметить, что к тому времени еще не были обнаружены ключевые археологические находки, коренным образом изменившие наши представления об истоках культуры Восточной Азии. Многие артефакты, которые были извлечены из земли китайскими учеными, либо были не известны западной науке, либо описывались столь «ненаучным» по европейским меркам способом, что в расчет не принимались. В связи с этим в западной науке возобладала теория «заимствования культуры», или цивилизационной миграции: вся китайская цивилизация являет собой результат заимствования основных форм материальной и духовной культуры из других, более развитых в ту эпоху районов земного шара, например из Египта или Месопотамии.
Китайской традиции упорно отказывали в праве на самостоятельность. Ее истоки искали в Египте, шумеро-аккадской культуре, видели прямые заимствования из античной и доантичной Греции, проводили прямые параллели с крито-микенскими находками. Даже сегодня можно встретить предположения, что культура китайских магов пошла из Персии. Своеобразие китайской культуры не замечалось, очарование цивилизациями древнего Египта и Месопотамии, в которых видели исток западной культуры вообще, было столь сильно, что для Китая просто не оставалось места в заранее сложившийся схеме мироустройства.
В XVII–XVIII вв. для западных схоластов и ученых именно египетская культура представлялась наиболее древней, от нее тянулись нити практически ко всем другим мировым цивилизациям даже тогда, когда такие связи были далеко не очевидны. И именно Египет в представлениях европейских ученых стал своеобразной страной-донором для китайской культуры. Вероятно, одним из первых сформулировал эту мысль немецкий иезуитский миссионер Атанасиус Кирхер (1602–1680) в своем труде «Oedipus Egyptiacus» («Египетский Эдип»), вышедшем в Риме в 1654 г., а затем развил ее в одном из первых обширных трудов по истории китайской культуры «Иллюстрированное собрание священных и мирских китайских памятников» («
China Monumentis qua Sacris qua Profanis Illustrata»), появившемся в Амстердаме в 1667 г. По мнению Кирхера, которое было поддержано десятками ученых-богословов, цивилизация в долине Хуанхэ стала результатом культурной и, возможно, демографической миграции из долины Нила.
Свой анализ Кирхер построил на сравнительном анализе китайских и египетских иероглифов, сочтя их близкими по структуре и по логике воплощения (с последним трудно спорить, поскольку и те, и другие являются идеограммами и пиктограммами). Китайцы были потомками древних хамитских племен, некогда переселившихся в Китай. Исходя из этой концепции Китай оказался как бы «встроен» в мировую цивилизацию, его загадочное происхождение и разительная непохожесть на другие культуры оказалась поставлена в рамки вполне привычного представления о дисперсии цивилизации из единого центра, которого придерживались в ту эпоху европейские схоласты. В распространении этой идеи немалую роль сыграли иезуитские миссионеры, устремившиеся в Китай в поисках прямых доказательств вторичности китайской культуры; среди них, в частности, прославился Р. Кибо, посетивший Пекин в середине XVIII в.
Впрочем, далеко не все были согласны с такой интерпретаций возникновения китайской цивилизации. Так, французский синолог Н. Фрере в 1718 г. подвергает разгромной критике теорию А. Кирхера о Китае как отголоске египетской цивилизации, однако привлекательность идеи о едином центре мировой культуры была столько велика, что концепция «египетской колонии», а позже и «вавилонской миграции» на долгое время завладела умами исследователей.
Для Кирхера, равно как и для его последователей, Китай существовал как нечто вторичное, как искаженное эхо великих цивилизаций, в конце концов породивших и западную мистику, и западную культуру вообще. Известный французский синолог Жозеф де Гинь делает вывод о том, что не только китайская культура является заимствованием египетской, но и сам Китай некогда являлся «колонией Египта». Его нашумевшая книга «Воспоминания, в которых доказывается, что китайцы были египетской колонией» (1760) представляла собой ловкую интерпретацию известных фактов, даже указывала сравнительно точную дату «колонизации» Китая. Это произошло в 1122 г., на третий год царствования правителя У-ди династии Чжоу, что выводилось из реконструкции некоторых египетских и китайских текстов
2.
 Илл. 13. Трое мужчин некитайского типа, возможно народности дянь, укрощают буйвола. V–III вв. до н. э. Провинция Юньнань. Подобные изображения давали основания для рассуждений о некитайском населении в древности
Илл. 13. Трое мужчин некитайского типа, возможно народности дянь, укрощают буйвола. V–III вв. до н. э. Провинция Юньнань. Подобные изображения давали основания для рассуждений о некитайском населении в древности
«Вавилонская миграция»
Самое главное, что, возможно, смущало умы исследователей, — чрезвычайно высокий уровень духовных знаний, с которым европейские путешественники столкнулись на просторах Поднебесной. Их возникновение казалось просто необъяснимым, в том числе и веры в духов, культа предков, медицинских знаний, даосской алхимии и многого другого. Поэтому рождались все новые и новые версии происхождения знаний древних китайцев. Еще одна попытка обнаружить исток китайской традиции в цивилизации древней Месопотамии была предпринята в теории, получившей название «Вавилонская миграция».
Речь шла о том, что все сакральные знания древних китайцев, а также материальная культура вышли из Месопотамии. В 1882 г. Терьен де Лакупери (1842–1894), работавший тогда в Лондонском университете, один из пионеров изучения «И цзина», высказал неожиданное предположение, что знаменитый «Канон перемен» имеет своим истоком некие вавилонские писания, а в месопотамских текстах можно обнаружить основные построения китайского гадательного канона. Идея о генетической связи вавилонской и китайской цивилизаций показалась де Лакупери столь перспективной, что он решил вывести всю китайскую традицию из «Вавилонской миграции». Его фундаментальный труд, характерно озаглавленный «Западные истоки ранней китайской цивилизации», обыгрывал концепцию миграции народности Бак, населявшей Вавилон, в Китай. Даже китайское понятие «баысми» — «простолюдины» (дословно «белые», т. е. обычные люди) якобы тяготеет к самоназванию Баков
3. Столь необычную трактовку зарождения китайской цивилизации подхватили многие видные ученые, что во многом объяснялось тем, что уровень исследований того времени не позволял обнаружить автохтонность китайской традиции. Параллели и «похожести» воспринимались как заимствования, причем центром собственно древней культуры выступал либо конкретно город Вавилон, либо вся шумерская культура.
4
Вся легендарная история Китая, в том числе и агиография первоправителей страны, по мнению сторонников «Вавилонской миграции», представляет на самом деле не что иное, как переписанную и адаптированную под китайский менталитет историю Месопотамии. Для этого трансформации подверглись и имена месопотамских правителей, так Саргон превратился в одного из наиболее почитаемых персонажей ранней китайской традиции, основателя земледелия Шэньнуна («Священный земледелец»), а Кудур-Накхунте выступил под именем знаменитого Хуан-ди («Желтого императора»), легендарного прародителя китайского народа, также известного под именем Юсюнши.
Многие разночтения объяснялись к тому же и ошибочностью датировок, что позволяло представить китайскую культуру как сравнительно более позднюю относительно цивилизаций Передней Азии. Так, когда в 1921 г. шведский археолог Йохан Андерсон (1874–1960) впервые обнаружил на территории Китая остатки древнейшей неолитической культуры расписной керамики Яншао (пров. Хэнань, уезд Мяньчи), он датировал их 2500 лет до н. э., т. е. минимум на тысячелетие позже появления вавилонской расписной керамики. Естественно, что в этом случае он предположил прямое заимствование техники изготовления и росписи керамических и глиняных изделий из Месопотамии, благо многие рисунки действительно оказались очень близки по структуре. И. Андерсон, исследуя раннюю расписную керамику из провинций Ганьсу и Нинся эпохи неолита, предположил ее заимствованный характер, причем центр ее, как он считал, лежал за тысячи километров от Китая в районе Суз, Анау и Триполья
5.
Однако более поздние исследования показали, что культура Яншао может датироваться 5000–4500 лет до н. э. и вследствие этого никак не может представлять собой результат прямой миграции культуры с Запада. Впрочем, и сам Андерсон в 40-х гг. отказался от своей теории прямого заимствования китайских росписей и керамики из Месопотамии, хотя продолжал говорить о «взаимовлиянии» в древности дальневосточных (т. е. китайских) и ближневосточных культурных форм
6. Тем не менее, проблема прямых параллелей в материальной культуре остается, и очевидного ответа на этот вопрос пока не существует. Высказывались даже предположения о том, что Китай является результатом слияния греческой, южнорусской и центральноазиатской культур
7.
Больше всего внимания привлекало совпадение или частичная схожесть древних китайских ритуалов с некими западными аналогами. Например, исследователи обнаружили поразительное совпадение орнамента на керамике, связанного с культом смерти, между китайскими и скандинавскими культурами
8.
Столь смелые и, на первый взгляд, маловероятные утверждения о генетической связи в древности между китайцами и европеоидами неожиданно получили свое подтверждение уже в наши дни, причем подтверждения пришли не из области сравнительной культурологи, но из физической антропологии. В 1992 г. в районе Нанкина в провинции Цзянсу в пещере Хулудун были обнаружены два черепа, мужчины и женщины, датируемые приблизительно 600 тыс. лет. Таким образом, эти существа из Нанкина оказались ровесниками знаменитого «Пекинского человека» — синантропа. И все же они заметно отличались от предполагаемого современника по антропологическим чертам. После почти десятилетнего изучения останков китайским ученым пришлось признать, что черепа несут в себе в равной степени и монголоидные, и европеоидные черты. В частности, с европеоидами их сближает высокое переносье и выдающийся вперед нос.
Разумеется, о каких-то сложившихся в ту пору расах и тем более этносах говорить не приходится, тем не менее, находка подтвердила, что на территории Китая шла гибридизация.
Китайские ученые по естественным причинам не склонны говорить о миграции населения в Китай извне. Находка нанкинского черепа трактуется как доказательство «небольшого генного обмена между Китаем и Европой в то время». По интерпретации китайских специалистов, эта находка доказывает версию о континуальности развития человека именно на территории Китая, к тому же нанкинская находка являет собой мост между Homo Erectus (Человеком прямоходящим) и Homo Sapiens, поскольку обладает в равной степени чертами и того, и другого.
9
В любом случае, очевидно, что будущее население Китая развивалось не из единого центра, но из нескольких очагов, населенных разнородным населением, в том числе и европеоидного типа. Полузабытая и многократно подвергавшаяся критике теория «европейского заимствования» получила новое развитие.
По существу, все попытки обнаружить корни китайской цивилизации в прямых заимствованиях из других, в основном западных, культур во многом связаны с распространением теории моноцентризма культурного развития человеческой цивилизации, гласившей, что человеческая культура имеет единую колыбель, и распространившейся в начале XX в. Эта теория остается крайне влиятельной, например, в палеоантропологии, где господствует идея о возникновении всего человечества на северо-востоке Африки.
Эта проблема выходит далеко за рамки собственно китайской цивилизации, однако, возможно, именно на примере Китая она проявляется особенно остро. Не сложно проследить связь между, скажем, египетской и греческой культурами, заимствования между Египтом и Месопотамией, однако Китай все же по-прежнему стоит особняком, представляя самобытность культурного и, как следствие, общецивилизационого развития. Это значит, что мы имеем абсолютно самостоятельную, «самозародившуюся» цивилизацию.
В свою очередь, цивилизация, некогда возникшая предположительно в долине Хуанхэ на территории современной провинции Хэнань, дала начало не только китайской культуре, но и всему цивилизационному многообразию Восточной и Юго-Восточной Азии, сформировав, таким образом, самостоятельный центр мировой культуры, логически противостоящий египетско-средиземноморскому центру как по культурным формам, так и по типу священного мироосмысления.
Первые поселения
Принято считать, что древний Китай эпохи неолита, а позже и бронзы распадался на два основных типа земледельческой культуры: культуру проса, царствовавшую на севере, и культуру риса, доминировавшую в южных районах Китая. По сути, это было две страны со своим типом хозяйствования, своим населением, различными языками. Активное взаимодействие между югом и севером началось лишь в эпоху позднего Чжоу, т. е. с VIII в. до н. э.; до этого регионы были обособлены, и не будет преувеличением сказать, что это были два разных типа цивилизаций.
Самое большое количество ранних поселений располагалось вдоль Хуанхэ. Эта территория была в равной степени и привлекательна своим плодородием, и опасна вечными разливами и нередким непостоянством погоды. Не только сегодня, но и в древности пространства Китая поражали разницей в климатических условиях. Вероятно, ни одна цивилизация в мире в древности не охватывала столь климатически и географически разнообразных районов. Полузасушливые территории на севере страны постепенно сменялись лессовыми почвами вдоль Хуанхэ, вполне пригодными для разведения проса. Дальше на юг зеленые горные террасы и влажный климат с многочисленными реками создавали идеальные условия для разведения риса, и даже сегодня здесь собирают по два-три урожая в год. Восток страны благодаря своему относительно мягкому, хотя далеко не безобидному климату всегда был заселен весьма плотно, в то время как в северных и западных районах, где горы соседствуют со степями и даже пустынями, плотность населения традиционно была невелика.
К периферии начинались засушливые, неплодородные земли. Дальше на север лежали территории, ставшие царством кочевников и многочисленных некитайских народов.
Равнинные и гористые местности Китая хранят в себе поразительную летопись древней и во многом загадочной истории, представленной многочисленными наскальными изображениями.
Собственно, в самом факте наскальной живописи нет ничего странного, удивительно другое — практически все важнейшие находки встречаются в тех местах, которые, как считается, были периферией китайской цивилизации: в южных провинциях Цинхай, Гуанси, Юньнань, Фуцзянь.
Огромное количество подобных находок обнаружено в Синьцзяне, в Нинся. И практически не встречается таких находок в междуречье Янцзы и Хуанхэ, где возникли первые китайские царства.
Возможно, ответ нам дают некоторые наскальные изображения, в частности обнаруженные в провинции Гуанси в южном Китае в долине реки Цзо-цзян. Среди многих рисунков выделяется один неизменно повторяющийся сюжет: фигура человека, вероятно вождя или лидера, с широко расставленными ногами и согнутыми и поднятыми на уровень головы руками. Таким образом, эта схематически изображенная фигура практически точно воспроизводит иероглиф «тпянъ» — Небо.
Точная датировка этих изображений неизвестна, но по самым приблизительным подсчетам они не относятся к некой «доисторической древности» и датируются, самое раннее, V–IV вв. до н. э., а верхний предел приходится вообще на династию Западная Хань (25-220), когда в Китае уже существовало развитое государство. С изображением странного существа с большой головой нам еще придется столкнуться, оно стало расхожим сюжетом на бронзовой утвари II–I тыс. до н. э., здесь же мы лишь заметим, что скорее всего под большеголовым существом подразумевался шаман в маске на голове, перевоплотившийся в этот момент в духа.
Кто оставлял эти рисунки? К какой народности относились их авторы? Ответ на этот вопрос непосредственно зависит от датировки, а она, как известно, может быть весьма относительной, учитывая порою крайне сильные погрешности в радиоуглеродном методе. Например, если датировку изображений в Гуанси признать верной и относящейся к эпохе Хань, то есть к III в. до н. э. — III в. н. э., то в этот период здесь жили народности, которых называли Сива, Лоъе, Уху и Ли, причем первые два народа, как считается, близки к современной народности Чжуани, которые стали так именоваться приблизительно лишь с X в.
10
Примечательно, что ни те, ни другие не относятся к ханьцам — наиболее многочисленному этносу, который, предположительно, и дал начало самой ранней цивилизации в долине Хуанхэ.
Скорее всего, исток той цивилизации, которую сегодня мы обобщенно именуем китайской, следует искать целиком или частично на территории современной провинции Хэнань, в долине реки Хуанхэ — «Желтой реки», получившей такое название за свой действительно темно-желтый цвет благодаря взвеси песка в воде и лессовым почвам, через которые пролегает ее русло. Хуанхэ как даровала жизнь, так и представляла постоянную опасность: неустойчивое к размывам лессовое плато не могло сдержать русло реки, и в течение тысячелетий Хуанхэ сотни раз меняла свое русло, которое перемещалось на десятки километров в сторону, разрушая годами строившиеся плотины и смывая постройки вместе с их жителями.
Совместное управление водой становилось насущной проблемой ранних поселений Китая. Такой тип цивилизаций известный ученый Карл Витфогель очень точно именовал «гидравлическими цивилизациями», полностью зависящими от умения населения разработать все жизненные и сельскохозяйственные циклы в соответствии с разливами и изменениями русла Хуанхэ
11. Одновременно необходимость строительства больших дамб, дабы обуздать воды «Желтой реки», заставляла людей собираться вместе и выполнять совместные общественные работы — так возникали ранние относительно крупные поселения. Раннее население Китая жило вдоль рек, занималось собирательством и пойменным земледелием, выращивало рис.
Несмотря на то что именно территорию современной провинции Хэнань традиционно называют в качестве колыбели китайской цивилизации, в реальности трудно точно определить абсолютную автохтонность местных поселений.
К какому времени относятся наиболее ранние поселения на территории Китая?
Здесь следует сделать краткое отступление, которое в какой-то мере должно пролить свет на споры по поводу «глубины» китайской древности. Споры о том, на сколько вглубь веков уходит китайская цивилизация, не прекращаются ни на день, а датировки одного и того же артефакта могут меняться порой разительным образом, отодвигая всю культуру, связанную с ним, на тысячи лет назад.
… скан рисунка очень плохого качества…
Илл. 14. Группа людей в широких одеждах. Характерно уподобление тел людей форме рыбы, которое будет затем неоднократно повторяться в позднем неолите. Пещерный комплекс Цанюанъ, провинция Юньнань
Существуют две сложности, связанные с определением «начала китайской цивилизации». Первая имеет отношение к датировке остатков, поскольку разные методы и оценки могут дать и разную историческую глубину, порою отличающуюся на тысячелетия и, естественно, меняющую всю хронологическую шкалу истории. Вторая возвращает нас к многолетнему спору о том, какие признаки можно считать началом цивилизации и что может служить демаркационной линией между «дикими» первобытными поселениями и формированием цивилизационной среды. Чаще всего к ключевым признакам возникновения цивилизации относят возникновение городов с крепостными стенами или валами, строительство больших сооружений, в том числе храмов, наличие явного лидерства и разделение труда. Далеко не всегда эти признаки в мировой истории могут встречаться одномоментно, а некоторые вообще могут отсутствовать. Например, критская цивилизация никогда не строила крепостных стен. Мы же для себя здесь выделим на наш взгляд ключевой признак становления цивилизации — возникновение осознания «многослойности» мира, и прежде всего обитаемого мира мертвых, вера в наличие невидимых, но, тем не менее, действенных сил, влияющих на жизнь человека, в частности, воздействия духов предков и т. д.
Именно это показывает, что человек начинает осознавать, что он не равен лишь физической оболочке, в которую обряжена его душа. И, чтобы «обслужить» этот духовный мир, он и начинает создавать культуру и цивилизацию, выделяет класс специальных жрецов или шаманов, постепенно становящихся административными лидерами, строит алтари и дворцы. Он отделяет свое духовное пространство от «не своего», духов-защитников — от вредоносных духов и окружает это «свое» пространство крепостной стеной городов.
Возникновение этого духовного измерения жизни можно проследить, прежде всего, в символике росписей на керамике, а позже и на бронзовых изделиях. Мы не всегда можем восстановить суть этих представлений, но можем определенно сказать, что возникло само осознание духовного пространства существования, вокруг которого и строится материальная жизнь. Немалый материал для изучения этого факта дают погребения, причем не столько содержание погребальной утвари, сколько само возникновение систематического захоранивания людей в соответствии с каким-то ритуалом, а не простого оставления их тел на съедение животным.
В этом смысле китайская цивилизация началась весьма рано, расписная керамика с символическими мотивами духовного мира встречается уже в VI тыс. до н. э., хотя смысл мотивов остается во многом неясным.
Другую сложность представляет датировка находок. Весьма показателен пример с датировками неолитической культуры Яншао — как сегодня считается, одной из древнейших на территории Китая. Первоначально ее первооткрыватель И. Андерсон отнес ее к 3200–2900 гг. до н. э., затем он и его китайские коллеги, в частности выдающийся китайский археолог Пэй Вэньчжун, сочли эти даты слишком «древними» и омолодили Яншао на тысячелетие, указав на 2200–1720 гг.
12
Однако датировка методами радиоуглеродного анализа определила совсем иную нижнюю дату — первая половина V тыс. до н. э. Помимо этого уже позже на территории Хэнани были обнаружены стоянки, также относящиеся к Яншао и датируемые VI–V тыс. до н. э. Таким образом, эту границу и можно считать началом цивилизации на территории Китая, хотя особенности культуры и этнического состава поселенцев того времени не поддаются точной идентификации.
Первые поселения же возникли раньше этой предполагаемой даты «начала цивилизации». В период X–V тыс. до н. э. на территории Китая возникают первые стоянки. Их останки обнаружены в скальных гротах провинций Гуань-си, Гуандуне и Цзянси. В этих поселениях обитали собиратели, рыболовы и охотники, которые изготавливали уже керамические изделия, характеризующиеся «веревочным рисунком» — узором, напоминающим переплетенную веревку.
С севера на юг?
Традиционно принято считать, что культурные веяния распространялись в Китае с севера на юг, и цивилизация, некогда возникшая и оперившаяся в районе Хуанхэ, постепенно распространяла свое влияние на юг. Строго говоря, такая концепция родилась под воздействием традиционного китайского взгляда о доминировании северной культуры над «южными варварами» и не подтверждается археологическими находками. Более того, в середине 70-х — 80-е гг. XX в. на юге Китая были обнаружены стоянки, датируемые 6000–4770 гг. до н. э., в частости, Пэнтоушань в провинции Хунань и Хэмуду в провинции Чжэцзян.
В районе Ханчжоуского залива в провинции Чжэцзян в период 5000–1770 гг. до н. э. возникает одно из самых древних неолитических поселений, получившее свое имя, как это принято, по названию ближайшей деревушки — Хэмуду. Стоянка Хэмуду была обнаружена в 1973 г., а в 1978 г. после окончания раскопок стало ясно, что здесь был центр одной из самых развитых культур юга Китая. По ряду предположений, обитатели Хэмуду были связаны с ранним поселением тихоокеанских островов
13. Многочисленные дома, построенные вдоль берега озера на сваях, абсолютно отличались от наземных жилищ, которые возводились на севере Китая. Останки, найденные в этих районах, свидетельствуют, что здесь существовала вполне развитая цивилизация, базировавшаяся на выращивании риса на заливных террасах. В качестве мотыг для обработки земли использовались лопаточные кости животных. Очевидно, что они использовали в пищу свиней и некоторых других животных, хотя именно рис составлял основу их рациона. Именно здесь, предположительно, и располагался древнейший центр культивирования риса в Азии. Местные жители одомашнили собаку, дикого кабана и буйволов, а территории вокруг поселения кишели обезьянами, носорогами, слонами и медведями, в реках было полно водных черепах, змей и самых разнообразных рыб.
Жители Хэмуду тысячи лет назад активно использовали глиняную посуду, богато расписанную изображениями птиц, свиней или диких кабанов, составлявшими часть охотничьей магии.
Несложно заметить, что на территории Китая сложилось несколько палеолитических и неолитических культур, причем их преемственность не всегда очевидна — вполне возможно, что параллельно существовало несколько первоначально не связанных между собой племен, часть из которых наследовала друг другу, часть развивалась автохтонно. Культуры развивались вдоль рек, поэтому их удобно классифицировать по течениям рек, хотя точные границы культуры установить чаще всего довольно затруднительно. Древнейшей культурой, относящейся к периоду раннего неолита, является Эрлиган, которая возникла в среднем течении Хуанхэ. Наиболее яркими средненеолитическими культурами являлись в верхнем течении Хуанхэ культуры Мацзяяо, в нижнем течении Хуанхэ — Давэнькоу, в нижнем течении Янцзы — Цинляньган, а в среднем течении — Цюйцзялин. Крупнейшая сред-ненеолитическая культура Яншао охватывала верхнее и среднее течение Хуанхэ.
В эпоху позднего неолита, граничащего с возникновением первых прото-государств, в верхнем течении Хуанхэ распространяется культура Баныыань и Цицзя, мощная культура Луншань царствовала в среднем и нижнем течении Хуанхэ, доходя до среднего течения Янцзы, а в нижнем течении Янцзы образовалась культура Лянчжу. Заметим, что временные границы этих культур довольно размыты и по многим параметрам точно не ясны вплоть до настоящего времени.
Очевидно, что на территории современного Китая практически параллельно возникает несколько поселений, часть которых первоначально была не связана между собой, другая же часть представляла собой единый культурный комплекс.
Крупнейшие неолитические культуры располагались в основном вдоль верхнего течения Хуанхэ, а также распространялись до территории провинций Ганьсу и Циньхай, в частности включали равнинные местности северной Ганьсу, а также предгорья Ганьсу на востоке, северную часть Ганьсу, юг Нин-ся, а также северную часть провинции Сычуань. Здесь приблизительно в 3300–3050 гг. до н. э. возникли культуры Мацзяяо, Баньшань, Мачан, которые, как предполагается, представляли собой последовательные фазы развития единой цивилизации. Неолитическая культура Мацзяяо отличалась прекрасно изгоговленной глиняной утварью с черным спиралевидным или линейным орнаментом с некоторым вкраплением красных линий.
На центральной равнине располагалась и одна из самых развитых неолитических культур — Яншао (5000–3000 гг. до н. э.), протянувшаяся вдоль Хуанхэ, рек Вэйхэ и Лохэ. Примечательно, что культура Яншао развивалась именно на той территории, которая сегодня ограничена Великой китайской стеной, доходя на юге до северо-восточной части провинции Хубэй, на востоке до провинций Циньхай и Ганьсу, на западе — до западной части Хэ-нани.
Заключительный этап развития культуры Яншао совпадает (или переходит?) со второй стадией развития культуры Мяодигоу. Вероятно, к концу неолита из Мяодигоу берет свое начало культура Луншань (2500–1900 гг. до н. э.), известная тем, что в утвари использовалась уже не только керамика, но и бронза.
Связь между различными культурами Китая в эпоху раннего неолита далеко не очевидна, и порою складывается впечатление, что на территории Китая существовали десятки независимых культур, объединявшие тысячи поселений людей с разными культурными и, вероятно, языковыми традициями. В частности, не очень ясен «мост» между культурами северного и центрального Китая, с одной стороны, и культурами юга Китая и вдоль Янцзы — с другой. Даже две самые крупные культуры — древняя Яншао и последовавшая за ней Луншань — не только не во всех регионах могут считаться преемницами, но в некоторых случаях существовали параллельно на одном временном отрезке. Разумеется, одна культура не заменяет собой друг ее и занимая все пространство, поэтому «чистой» смены культур мы не можем наблюдать нигде.
Тем не менее, длительное сосуществование на территории Центральной равнины разных поселений с разными типами керамики, ритуалов и погребальных обрядов может пониматься лишь как параллельное развитие нескольких типов культур и, вероятно, цивилизаций.
… скан рисунка очень плохого качества…
Илл. 15. Фигура человека в головном уборе из перьев. Пещерный комплекс Цанюанъ, провинция Юньнань
Тем не менее, частично преемственность культур прослеживается на восточном побережье Китая.
На территории Шаньдуна в 1959 г. была открыта культура Давэнькоу (4500–2500 гг. до н. э.), которая распространялась и на часть соседних провинций, в Аньхое, Цзянсу и Хэнани. Культура Давэнькоу принадлежит к группе культур, которые развивались в глубокой древности в нижнем течении Хуанхэ и к северу от Янцзы. Эта культура предположительно и служила связующим звеном между северными и южными центрами развития Китая. Жители Давэнькоу изготавливали расписные кувшины, что сближает их с культурой Яншао. На сосудах можно встретить символические рисунки птиц, нередких в южных культурах Китая, которые, скорее всего, понимались как перевозчики душ в царство мертвых. Вместе с этим, здесь же обнаружены многочисленные глиняные треножники, некоторые — весьма сложной формы, а это, в свою очередь, говорит о возможных контактах с культурой Луншань. Так же как и в Луншань, многие сосуды, очевидно, уже не предназначались для жидкостей: они были не только тонкостенными, но содержали многочисленные отверстия, и ажурные вазы и кубки могут соперничать по своей
утонченности с произведениями значительно более поздних эпох. И все же это не были именно «произведения искусства» — они не изготавливались ни ради красоты, ни ради искусства как проявления человеческого мастерства.
Давэнькоу стал известен также своими захоронениями, явно демонстрирующими наличие стратификации общества. Так, в одних могилах обнаружены останки жертвенных свиней, нефритовые украшения, панцири черепах, рога животных и слоновая кость, в других же захоронениях подобные предметы отсутствуют. И все же не стоит делать однозначного вывода о наличии именно классового расслоения: богатая погребальная утварь, скорее всего, свидетельствует о том, что в погребении помещалось тело того, кто мог управлять духовными силами, — шамана, медиума или жреца. Свинья, в частности, всегда ассоциировалась с путешествием в загробный мир, и эта традиция сохранилась и в более поздние эпохи.
Региональные различия в культуре поселений эпохи неолита были очевидны, что и позволяет говорить о нескольких центрах становления древней китайской цивилизации, развивавшихся одновременно. Трудно с уверенностью сказать, что именно Яншао явилось центром распространения культурных достижений, сакральных представлений и форм общения между земным и потусторонним. Различия в региональных культурах были порою весьма велики. Во многом эти различия обуславливались и условиями жизни, которые, в частности на северо-западе Китая, в районе Мацзяяо, приводили к развитию в основном пастушьего хозяйства, а не культивирования сельскохозяйственных культур, как это было в центральном Китае. В конечном счете, это и повлияло на формирование кочевых и полукочевых племен в этих районах, игравших важную роль по северным рубежам Поднебесной.
14
Существовали и заметные различия в духовных представлениях. Так, Восточный Китай адаптировал многочисленные новые формы выражения духовных представлений, которые носили в основном строго кодифицированный характер.
Западный Китай, представленный, в частности, культурой Мацзяяо, долгое время продолжал традицию расписной утвари, которая постепенно сходила на нет с развитием бронзовых изделий.
Яншао: единый центр китайской культуры?
В течение долгого времени археологи начинали рассказ о китайской древности именно с культуры Яншао, подарившей миру сотни стоянок и характеризовавшейся разнообразной расписной керамикой с весьма сложными узорами. Культура раннего Яншао датируется 4800–3600 гг. до н. э., и хотя предполагалось, что могут встречаться и более ранние стоянки, очевидных находок долгое время обнаружено не было. Культура Яншао, раскинувшаяся на территории провинций Шаньси и Хэнань, представляла собой уже довольно развитый период жизни общества, которое обладало разработанными ритуалами, познаниями о мире духов и путешествиях в мир мертвых, могло производить сложную керамику, хотя и без использования гончарного круга. Поразительным образом это частично подтверждало предположения о «привнесенном» характере китайской культуры, поскольку предыстория Яншао и духовных представлений ее жителей не прослеживалась. Лишь в 1976 г. при раскопках в Цышане в провинции Хэнань, а затем в Пэйлигане в соседней провинции Хэбэй были обнаружены стоянки, относящиеся к культуре 5500–4900 гг. до н. э. Таким образом стало ясно, что отсчет культуры на территории Китая начинается по крайней мере с VI тыс. до н. э.
Древние люди селились в основном вдоль Хуанхэ, создав особую «культуру проса», семена которого были найдены на древних стоянках. Просо жали при помощи зазубренных серпов, мололи ножными жерновами, а затем складировали в особые хранилища прямо рядом с домом.
Сами дома представляли собой полуподземные жилища, и эта традиция сохранилась на протяжении последующих двух тысячелетий. Уже тогда жители Цышаня и Пэйлигана использовали в хозяйстве свинью и собаку, причем разведение свиней стало характерной чертой всей цивилизации северного Китая. Здесь же, предположительно впервые в мире, были одомашнена и курица. В сущности, в Хэнани располагался один из центров становления китайской цивилизации, однако он предстает перед нами уже в сравнительно развитом виде, учитывая уровень ведения хозяйства. Это не исключает возможности существования иных центров, в том числе и вне русла, Хуанхэ, откуда были привнесены многие хозяйственные инновации.
Истоки стремительного роста китайской цивилизации лежат в раннем неолите, и там же начинается ритуальная культура, отголоски которой сохранились даже в период раннего средневековья.
Яншао становится хотя и далеко не единственной, ранненеолитической культурой Китая. Как уже упоминалось, впервые Яншао (5000–3000 гг. до н. э. или 4500–2500 гг. до н. э.), обычно именуемая по одной из своих самых характерных черт «культурой расписной керамики», была идентифицирована шведским археологом И. Андерсоном в начале 20-х гг. XX столетия на территории провинции Хэнань — в узде Мяньчи в деревне Яншао, откуда и получила свое название. По своему масштабу эта культура выходила далеко за рамки одной деревни и охватывала целый комплекс поселений.
В сущности, Яншао является не отдельной стоянкой или просто культурой, но обширным комплексом культур, охватывающим несколько сот стоянок и центров по среднему течению Хуанхэ. Часть из них имела свою культурную и региональную специфику, распространяясь до территорий современных провинций Ляонин и Ганьсу. И, несмотря на эту специфику, подавляющее большинство центров культуры Яншао имели одинаковые формы организации хозяйства и изготавливали схожую расписную керамику.
Сам факт обнаружения одной из самых ранних неолитических культур именно на Хуанхэ, казалось бы, подтверждал теоретически вычисленный факт, что китайская цивилизация самостоятельно развивалась вдоль русла рек и прежде всего Хуанхэ. Этой версии придерживались и сегодня активно придерживаются подавляющее большинство китайских ученых. Сам же Андерсон первоначально предположил «пришлый» характер яншаоской культуры, обнаружив связь расписной керамики со схожими изделиями с Сицилии, из Три-полья (Украина), Херонеи (Греции), Суз (Иран) и других неолитических стоянок, сочтя, что через Центральную Азию эта культура была принесена в Китай извне.
15
Культура расписной керамики Яншао встречается практически по всей провинции Хэнань вдоль верхнего и среднего течения Хуанхэ, хотя и имеет определенные локальные различия. Другая стоянка, Баньпо, открытая в 1954 г., располагается недалеко от Сиани и датируется на основе методов радиоуглеродного анализа 5000–4500 гг. до н. э. Еще одна стоянку, обнаруженную в конце 70-х гг., Цышань-Пэйлиган в Хэнани, датируют 6000–5700 гг. до н. э. и также нередко относят к культуре Яншао, хотя этот факт далеко не очевиден.
Целый ряд артефактов, принадлежащих к так называемой культуре Ляогуан-тай, обнаружен в уезде Хуасянь провинции Шэньси в долине реки Вэйхэ. Обе культуры — Баньпо и Ляогунтай — обнаруживают целый ряд общих черт со сред-ненеолитической культурой Яншао, особенно в формах керамических изделий.
Поселения древних жителей Китая в основном строились на террасах в непосредственной близости от воды, что обуславливало, в свою очередь, особенности ведения хозяйства, основанного на рыбной ловле и выращивании проса. Яншаосцы одомашнили собаку и свинью, охота же не играла сколь-нибудь заметной роли в их жизни, поэтому охотничья магия — столь частая черта многих первобытных обществ — была либо малоразвита, либо отсутствовала вовсе, и центральное место уже в тот момент занимало установление связей с духами усопших предков. Ранние яншаосцы жили в небольших поселениях, обнесенных по окружности земляным валом. Дома, часть из которых представляла собой полуподземные жилища, также выстраивались в виде концентрических кругов. В центре располагался большой дом, скорее всего являвшийся и алтарем. Такую картину древнего поселения удалось реконструировать на основе раскопок неолитического поселения Баньпо неподалеку от города Сиани в Шэньси, которое было обнаружено в 1954-57 гг. Деревня Баньпо относится к раннему периоду Яншао (4800–3600 гг. до н. э.). Первоначально предполагалось, что Баньпо имело характер просто небольшого неолитического поселения, однако возобновившиеся в 70-х гг. раскопки показали, что влияние Баньпо было значительно шире, чем представлялось ранее. Так, в провинции Хэнань в Дахэцуне (3000 г. до н. э.) дома, в отличие от яншаоских полуподземных жилищ, строились на горных террасах.
Моноцентричность или полицентричность?
Постепенно многочисленные открытия в разных районах Китая все больше и больше демонстрировали, что, в опровержение более ранних предположений и даже утверждений древних китайских хроник, на территории Центральной равнины и на юге Китая параллельно развивалось несколько крупнейших центров культуры. Более того, с абсолютной очевидностью нельзя утверждать ни то, что хотя бы один из этих центров, например Баньпо, был главенствующим, ни то, что жители этих центров действительно принадлежали к одному этносу или говорили на одном языке. Скорее всего, как раз этнического и культурного единства в тот момент не существовало, хотя между центрами постепенно налаживался обмен технологиями и, по-видимому, сакральными представлениями, отразившимися в одинаковых формах расписной керамики.
В частности, на территории Китая образуется еще один культурный центр, также характеризующийся различными формами расписной керамики. Он располагался на территориях Ганьсу и Синьцзяна. Открытия, сделанные в 1957 г. на стоянке Мацзяяо-Вацзяпин в местечке Линьтао в провинции Ганьсу, а также в Баньшань-Мачан, датируются сегодня III–II тыс. до н. э. и обнаруживают определенное запаздывание по сравнению с более ранней культурой Яншао. Таким образом, концепция «центральноазиатского моста», через который шла на территорию Китая культура расписной керамики, не подтвердилась, хотя также не очевидно, что стоянки в Ганьсу и Синьцзяне непосредственно связаны с центральнокитайской культурой Яншао: здесь схожесть форм и росписей может оказать дурную услугу.
К тому же следует учитывать, что культура расписной керамики в Центральном Китае пришла в упадок, сменившись относительно примитивной культурой Луншань, в то время как культура в районе Ганьсу продолжала процветать. Роскошные расписные кувшины можно было встретить здесь вплоть до периода Чжаньго (Воюющих царств, 475–331 гг. до н. э.). Расписные каменные изделия из Синьцзяна представляли собой образцы не только высокой технологи, но, прежде всего, утонченного взгляда на саму природу, где грубость камня и бесформенность куска глины подчинялись человеческому желанию привнести культурное начало в природный хаос. Эти изделия стали распространяться в Ганьсу, Циньхае, Нинся, Внутренней Монголии и по северо-востоку Китая. К началу I тыс. до н. э. Синьцзян становится территорией с развитым сельским хозяйством и животноводством, хотя он заметно отставал от центральнокитайских районов.
Еще один центр, очевидно независимый от культуры Яншао, активно развивался в 3800–2700 гг. до н. э. на территории Внутренней Монголии и Ляонина. В 1938 г. японская экспедиция открыла стоянку, которая получила название Хуншань — «Красная гора», однако уникальность этой находки тогда не была оценена, к тому же на территории Китая разворачивалась японо-китайская война. Уже позже стало ясно, что обнаружена уникальная культура, характерной чертой которой стала обработка яшмы и изготовление ритуальных предметов из этого камня. Чаще всего эти предметы представляли собой подвески в виде небольших завитков или спиралек. Форма подвесок не дает возможности однозначно определить, что они могли означать, но так или иначе они были связаны с переправлением души в царство мертвых, поскольку эти подвески клались на грудь усопшему. В них можно увидеть и голову черепахи, и крыло с перьями, и некое подобие дракона или головы лошади.
 Илл. 16. Глиняная маска женского духа. IV тыс. до н. э. Нюхэлянь, провинция Ляонин
Илл. 16. Глиняная маска женского духа. IV тыс. до н. э. Нюхэлянь, провинция Ляонин
И здесь же, в культуре Хуншань, начинают появляться первые маски, игравшие в дальнейшем на протяжении столетий важнейшую роль в ритуальной жизни Китая. Одни из первых масок были обнаружены в Ляонине, на стоянке Нюхэлянь. Маски изготавливались из необожженной глины и имели весьма характерные черты, сочетавшие вполне человеческий облик с явно фантасмагоричными мотивами: глубоко запавшие большие глаза, растянутый рот, оттопыренные уши. Эта маска была идентифицирована как женское божество, хотя, разумеется, прямых подтверждений этому нет. Примечательно другое — эта маска имеет определенный исторический контекст: изображения подобных существ можно встретить на ранних наскальных росписях в Хуншань, значит, люди этих мест уже в течение тысячелетий имели представления о каких-то полулюдях-полудухах.
И здесь же в начале IV тыс. до н. э., очевидно, кипела разнообразная ритуальная деятельность.
Более того, ритуальная жизнь была, вероятно, настолько тесно вплетена в обыденные действия, что реального различия между существованием «духовным» и существованием «обиходным» просто не было. В Нюхэляне, в частности, было обнаружено мощное сооружение, вероятно, один из первых алтарей или храмов, построенное из необработанных камней, внутри которого находились небольшие терракотовые цилиндры — предположительно символические фигурки женских божеств — и сами маски этих женских божеств, выполненные из глины.
Именно в период позднего неолита начал увеличиваться разрыв между стремительным развитием плодородных приморских районов Китая на востоке и значительно более консервативными в своем генезисе районами на западе. Ярким примером такой динамично развивавшейся культуры была Лянчжу (3000–2000 гг. до н. э.), раскинувшаяся в провинциях Чжэцзян, Цзянсу и захватывающая территорию современного Шанхая. Впервые о существовании этой культуры стало известно в 1936 г., и раскопки, которые активно велись уже в 70-90-х гг., показали, что речь идет о действительно серьезном центре развития древнекитайской культуры.
Поздненеолитическая культура Лянчжу многое переняла из знаменитой культуры Луншань в Шаньдуне, в частности, способы изготовления на гончарном круге утонченной черной ажурной керамики с многочисленными насечками весьма сложной формы. Но в Лянчжу с еще большей очевидностью проявлялась ритуальная суть странных нефритовых изделий, которые можно было наблюдать в культурах Луншань и Хуншань. Нефритовые изделия здесь несут в себе определенный знаковый код, безусловно связанный исключительно с символикой смерти и загробного путешествия. Нефритовые изделия — кольца, завитки, подвески, небольшие цилиндры с насечками — в большом количестве помещались в погребальные ямы и клались обычно на живот усопшего, где «располагалась» душа. В яме, вероятно, сначала разводился огонь, а затем в нее помещалось тело и нефритовые украшения, которые вместе с дымом перемещались в загробный мир. Ни в культуре Лянчжу, ни в других неолитических культурах нет прямого намека на то, что душа каким-то образом «воспаряла на небо». Скорее всего, сам дым символизировал собой границу между миром материальным и миром запредельного. Не случайно многие нефритовые изделия выполнены именно в виде завитков огня или облачков дыма.
Примечательно и другое: в культуре Лянчжу нефритовые изделия обнаружены далеко не во всех захоронениях, но лишь в тех, которое предположительно принадлежат представителям жреческого сословия. В самой богатой могиле культуры Лянчжу, так называемом захоронении П3, открытом в Сидуне в провинции Цзянсу, обнаружено более двухсот различных украшений, которые, вероятно, сплошь покрывали тело усопшего. Сюда были помещены небольшие нефритовые диски (
би), цилиндры с насечками (
цун) и многие другие формы украшений, большинство которых содержало рисунки, очевидно весьма значимые для погребального ритуала, и прежде всего — загадочный антропоморфный лик какого-то существа.
Именно здесь, в культуре Лянчжу, на многих ее стоянках и в Цзянсу, и в Чжэцзяне на нефритовых цилиндрах изображался лик того существа, которое станет основным героем бронзового века Китая и которое традиционно именуется таоте, хотя реального названия мы не знаем. Большие глаза, перья вместо волос, широкие крылья носа в равной степени могут говорить и о животном, и о человеке, хотя мы больше склоняемся к тому, что перед нами шаман, обряженный в ритуальную маску.
Изображение духа или человека в маске становится единым знаком всех многочисленных культур Китая периода среднего неолита. Культуры в разных районах Китая начинают постепенно приходить к единому знаменателю на основе общности ритуала — и это являет собой завершение важнейшего периода «ритуального объединения» разных культурных центров, хотя до единой культуры было еще далеко.
Хронологически, но далеко не всегда географически культуру Яншао сменяет культура Луншань (прибл. 2500–1700 гг. до н. э.), причем суть этого процесса даже сегодня не до конца ясна: утонченная и нередко роскошная в своих поздних формах культура Яншао внезапно заменяется внешне весьма скромной культурой Луншань, отличающейся лаконичными формами росписей.
Далеко не во всех случаях смена Яншао культурой Луншань происходит путем вытеснения, к тому же геногеографические рамки этих двух культур не всегда совпадают, а поэтому речь о «смене» следует вести, скорее, в хронологическом аспекте, нежели в плане прямого преемствования или, тем более, вытеснения. Луншань, открытая в 1928 г. все тем же И. Андерсоном, раскинулась в бассейне среднего и нижнего течения Хуанхэ, охватив территорию северного Китая и современных провинций Шаньдун, Хэнань, Шаньси, Шэньси, Хэбэй, доходя на юге до некоторых районов бассейна Янцзы, а на севере простираясь до Ляонинского полуострова.
Ареал луншаньской культуры, представленной тысячами поселений, был уже значительно шире, чем яншаоской, и во многих местах целиком перекрывал ее. В связи с этим родились предположения, что Луншань генетически связана с Яншао, что частично подтверждают и формы керамики. Впрочем, они столько же подтверждают их преемственность, сколь и опровергают этот тезис резким, практически скачкообразным изменением росписей и форм.
В период Луншань в традиционном центре культуры в Хэнани в III–II тыс. до н. э. появляются первые укрепленные поселения. Сам факт возникновения укрепленных поселений, являвшихся прообразом самых ранних городов, позволяет говорить о начале «китайской цивилизации», если исходить из тезиса о том, что именно наличие поселений городского типа, ритуальных храмовых построек, стратификации власти и разделения труда и является признаком рождения цивилизации.
Здесь же активно развивается сельское хозяйство, происходит одомашнивание быка, овец, свиньи, собаки. Становится разнообразнее рацион питания: наряду с традиционным просом теперь культивируются пшеница и ячмень. Культура Луншань шагнула далеко за пределы своего исторического центра, причем до конца не ясно, было ли это переселение неких племен или первоначально самостоятельные племенные образования заимствовали луншаньскую культуру.
Так или иначе, различные по хронологии и формам вариации культуры Луншань были обнаружены во многих областях центрального и северного Китая.
Изменяется и культура керамики, росписи на которой наряду с захоронениями и дают нам больше всего материала о духовных представлениях людей того времени. В основном именно это и позволяет отличить Луншань от других более ранних культур. С керамическими изделиями происходит весьма примечательная эволюция: вместе с распространением гончарного круга и, как следствие, упрощением процесса изготовления утвари уменьшается количество расписных кувшинов, характерных для Яншао. Расписная керамика уступает место серовато-темным и на первый взгляд скучноватым кувшинам, форма которых, однако, стала значительно сложнее и многообразнее.
По поводу культуры Луншань, нередко именуемой «культурой черной керамики» (
хэйтао вэнъхуа) в отличие от цветных росписей Яншао, до сих пор нет единого мнения, следует ли ее рассматривать как шаг назад, либо как общую трансформацию вектора культурного развития. С одной стороны, формы орудий из камня и керамики упрощаются, с кувшинов и мисок исчезают изображения. С другой стороны, появляются новые формы кубков (
бэй): эстетической утонченности их создателей могут позавидовать и современные коллекционеры.
…???…
Илл. 17. Космогонический цилиндр с насечками (цун) высотой ок. 50 см. На цилиндре проступает лик странного существа: его ртом служат горизонтальные прорези, носом — вертикальные ребра; отдельно вырезаны глаза. Культура Лянъчжу
Теперь основную символическую роль начинает играть не орнамент, но форма. В Шаньдуне, например, изготавливаются сложные треножники в виде животных — то ли собак, то ли свиней, в «голову» которым наливалась какая-то жидкость. Здесь же делались кубки на высоких ножках с многочисленными насечками на корпусе. Само отсутствие росписи указывает на то, что суть ритуального использования этих предметов следует искать именно в тех образах, которые они отражали.
Ритуальную, а не обиходную суть сосудов подтверждает даже тот факт, что они были тонкостенными, и в ряде случаев толщина стенок кувшинов была около миллиметра, что дало им в литературе название «яичной скорлупы». Разумеется, в хозяйстве такие вещи использовать не могли, причем вызывает сомнение, что в них вообще что-то могло наливаться. Вполне вероятно, что некоторые из них не использовались для жидкостей вообще и представляли собой лишь часть какого-то неизвестного нам ритуала.
Космогония людей неолита
Духовные представления Китая эпохи неолита представляли собой весьма сложный, а порою и утонченный комплекс, который никак нельзя отнести к каким-то «примитивным верованиям». Скорее, наоборот, формы представлений о душе, о космогонии, о сакральном пространстве и времени были развиты чрезвычайно. Увы, точных форм представлений мы не знаем и можем лишь догадываться о них на основе реконструкции смысла изображений на керамике и бронзе, оставшихся от китайского неолита.
Нередко мы впадаем в искушение назвать представления примитивными лишь из-за того, что мы практически ничего не знаем о них. Из этого делается далеко не очевидный вывод, что таковых вообще могло не быть. Многое объясняется привычкой делать выводы на основе письменных источников, трактатов, философских произведений, описаний ритуалов. А они появляются в Китае лишь в начале I тыс. до н. э., и среди них прежде всего «Ши цзин» («Канон песнопений»), «И цзин» («Канон перемен»).
И все же люди китайского неолита имели весьма четкое ощущение соприкосновения с сакральным.
Они жили в сакральном пространстве, фиксировали его на керамике в виде сложных геометрических узоров и причудливых животных и имели весьма развитые космогонические представления. Отечественный исследователь В.В. Евсюков очень точно показал, что ни один из подобных узоров не является случайным рисунком, в них прочитываются явные космогонические мифы, представления о душе, формы лунного календаря и многое другое.
16
Культура шаманизма и медиумизма зародилась в Китае очень рано, причем базировалась в большинстве случаях на групповых ритуалах, когда люди, подчиненные единому ритму и мощному групповому порыву, выполняли экстатические танцы.
Шаманские танцы с переодеваниями использовались уже в IV тыс. до н. э. Танцоры-шаманы брались за руки, надевали фартуки с хвостами каких-то животных, выстраивались в круг или полукруг по пять человек. На головах у них было некое подобие косы — то ли естественно заплетенные волосы, то ли бунчуки.
Вид подобного танца можно реконструировать по изображению на одной из глиняных мисок, найденных в 1973 г. в провинции Циньхай, в деревушке Шансуньцзя в уезде Датун, относящейся к неолитической культуре Мацзяяо.
17
Яншаосцы уже обладали магическими ритуалами — это подтверждают найденные на их стоянках обожженные лопатки свиней, коров и баранов.
Керамика Яншао покрыта геометрическими узорами, среди них встречаются треугольники, какие-то странные антропоморфные изображения, напоминающие то ли распластанную лягушку, то ли рыбу, то ли растение, соединяющее собой небо и землю. В этом усматривали некий «орнамент смерти», который не только логически подразумевает сам акт смерти, но и предполагает либо тягу к избеганию этой смерти, либо мольбу о воскрешении уже после смерти.
Мотив «мольбы о воскрешении» связан с трактовкой треугольников, встречающихся на керамике, — предположительно они представляют собой символическое изображение мужских и женских половых органов, то есть непосредственно связаны с плодородием и возрождением.
18
Вообще, за редким исключением, попытки анализа древних изображений ограничиваются подробным описанием самих орнаментов и предметов, а также весьма общими утверждениями о том, что орнамент несет смысл «плодородия», «связан с культом смерти», поскольку их первичный смысл реконструировать практически невозможно.
Яншаосцы уже ушли от простого дихотомного разделения мира на «своих» и «чужих», о чем говорят многочисленные геометрические узоры. Они обладали представлениями о достаточно сложном членении мира, причем не только по сторонам света, но и в горизонтальной и вертикальной проекции.
Как видно, они уже мыслили категориями пространства, причем пространства сакрального, ибо практически все росписи говорят о «населенности» мира ян-шаосцев духами.
19
Погребальный ритуал в Яншао играл уже очень большую роль. Мир мертвых, мир невидимый, но, тем не менее, постоянно ощутимый играл в жизни яншаосцев роль, вероятно, не меньшую, нежели добыча пищи или строительство домов, то есть «обеспечение» мира живых. Так, в Баньпо дети захоранивались в сосудах неподалеку от домов, вместе с этим существовали и кладбища, которые, равно как и печи для обжига керамики, были вынесены за пределы поселения. Уместно предположить, что в эпоху Яншао керамика, как и бронза в более позднюю эпоху, использовалась исключительно для ритуальных целей, а не для повседневного потребления. Таким образом, мир живых и мир мертвых уже отчетливо разделялись, именно поэтому все захоронения и места изготовления погребальной посуды с соответствующими росписями выносились за символический мир «обители живых» — за пределы поселений.
Представления о неком «структурировании» мира отразились и на росписях, наносимых на керамические изделия, в основном широкогорлые сосуды и миски. Яншаосцы не только расписывали внешние боковые поверхности сосудов, но и наносили рисунок на внутреннюю поверхность мисок и блюд, причем в ряде случаев очевидно, что именно эта внутренняя роспись и была наиболее значимой. И именно тогда, в период раннего Яншао, на внутренних и внешних росписях начинает встречаться многократно повторяемый мотив, изображавший либо нескольких рыб, либо рыбу с человеческим лицом, либо сочетание двух этих сюжетов. Этот мотив встречается и на блюдах из Баньпо, а позже получил распространение и на северо-западе Китая.
Традиционно 20 принято считать, что так изображался тотемный охранитель яншаосцев, хотя прямых подтверждений этому нет и, как мы постараемся показать в дальнейшем, трактовка этой антропоморфной «рыбы» значительно глубже. Здесь стоит лишь заметить, что в большинстве случаев глаза рыбы закрыты и открыты лишь на единичных изображениях. Именно эта закрытость глаз может указывать на то, что речь идет не столько о тотеме, сколько об усопшем, «закрывшем глаза», первопредке, который и мог, в свою очередь, ассоциироваться с рыбой (об этом загадочном сюжете мы расскажем позже).
Тем не менее, росписи раннего Яншао были довольно просты. Настоящим золотым веком расписной ритуальной керамики Китая становится культура Мацзяяо (3500–1500 гг. до н. э.), которая представляла собой развитие культуры Яншао на запад от традиционного центра в Баньпо. Эта культура получила свое название по имени первой стоянки, обнаруженной И. Андерсоном, сделавшим вывод, что она распространялась по большей части территории Гань-су и Циньхай.
И вновь здесь погребальная культура занимала главенствующее место, возможно даже более важное, чем в Яншао. Археологи обнаружили огромные по тем временам погребения, подобные некрополям, наполненные богатой расписной утварью. И росписи эти были значительно более богатыми и, вероятно, символически значимыми, нежели в предыдущую эпоху. Разнообразие сюжетов и фигур говорит и о расцвете шаманской культуры, поскольку схожие сюжеты можно встретить в более позднюю эпоху у коренных народов Сибири, где шаманизм играет ключевую роль. Самый известный мотив здесь — концентрические линии, завитки, спирали и круги, нанесенные обычно черной или темной краской по желтоватому фону. Нередко они соседствуют с антропоморфными мотивами, например изображениями лягушки (?), как бы упирающейся задними лапами в землю, а верхними поддерживающей Небо.
 Илл. 18. Спиралевидные рисунки могут сочетать в себе экстатические видения с космогоническими представлениями.
Культура Мацзяяо, поселение Юнцзин, провинция Ганъсу
Илл. 18. Спиралевидные рисунки могут сочетать в себе экстатические видения с космогоническими представлениями.
Культура Мацзяяо, поселение Юнцзин, провинция Ганъсу
Прежде всего, это свидетельствует о сложившихся представлениях о традиционном магическом членении пространства на середину, верх и низ, а также на прошлое, настоящее и будущее. Во-вторых, это же говорит и о наличии представлений о необходимости «объединения» или установления связи между этими тремя началами.
На фоне многочисленных изображений рыб, птиц и их производных все большее и большее место начинают занимать антропоморфные мотивы. На кувшинах и кубках проступает лик странного существа, очевидно напоминающего человека и с той же очевидность человеком не являющегося.
Он встречается повсюду: на глиняных масках из Нюхэляна в Ляонине (культура Хун-шань), в виде крышек сосудов в культуре Яншао, на погребальных нефритовых изделиях в поздненеолитической культуре Лянчжу в Цзянсу. В подавляющем большинстве случаев сразу обращает на себя внимание странная деформация лица: утрированно большие глаза и уменьшенная нижняя часть.
Существо это, очевидно, было связано с символикой смерти и путешествия в загробный мир. Но это не дух смерти, а, скорее, прообраз шамана, сопровождающего душу в последнем путешествии.
Так, в поздненеолитической культуре Лянчжу в Цзянсу на живот усопшего клали цилиндры (
цун), на которых был изображен лик существа с большими глазами, широким носом и растянутыми губами — явный прообраз более поздней маски таоте. Волосы его на изображении скорее напоминают перья, а большие глаза как бы вылезают из орбит.
Частично ответ на загадку странного строения голов у таких масок могут дать захоронения в были обнаружены скелеты с весьма специфической деформацией черепа, которая может быть объяснена искусственным удалением верхних резцов. Это изменяло прикус и соответственно несколько трансформировало всю структуру лица, что и могло вести к визуальному ощущению «маленького» подбородка, который мы видим на большинстве изображений.
…???…
Илл. 19. Парные нефритовые фигурки высотой 12 см: мужчина и женщина с волосами, заплетенными в виде рогов, и татуированными телами. Возможно, это прообраз предания о Фуси и Нюйва.Обращают на себя внимание некитайские черты лица.
Из захоронения Фу Хао у столицы Шан г. Анъян
Многослойный мир
Уже в неолите формируется своеобразная шаманская космогония, которая прежде всего заключалась в осознании нескольких этажей или нескольких слоев Вселенной, обычно верхнего, среднего и нижнего. Очевидно, что верхний и нижний миры еще никак не связаны с представлением о позитивном и негативном посмертном воздаянии и не являются прототипами рая и ада, но лишь отражают поэтапность путешествия духа умершего человека или мотив перехода древнего мага из видимого мира в мир невидимый. И как следствие возникает мотив посредничества между Небом и Землей, между различными сферами космоса. Поиск такого «переходного» персонажа, который мог бы опосредовать оба мира, земной и небесный, выражен, в частности, в изображениях духов-гермафродитов, встречающихся уже в эпоху неолита.
Один из самых известных таких сосудов был обнаружен в 1974 г. в Люване, в провинции Циньхай, и принадлежит неолитической культуре Мачан. Сосуд высотой в 33 см выполнен в виде пузатого существа: горлышко является его головой, а тело представлено основной частью сосуда.
У существа обе руки сложены на животе, а внизу живота располагаются утрированно выраженные мужские и женские половые органы. На задней поверхности кувшина на «голове» существа нарисованы длинные волосы, внизу которых изображена лягушка.
Изображения двуполых духов встречаются вплоть до XIV–XI вв. до н. э., т. е. до позднего периода Шан. В частности, в 1976 г. в захоронении Фу Хао, на развалинах столицы Шан-Инь неподалеку от г. Аньян в Хэнани, были обнаружены две подобные фигурки высотой чуть более 12 см из бело-серого нефрита. Примечательно, что фигурки, изображающие стоящих людей с руками на поясе или животе, покрыты узором, который позволяет предположить татуировку, характерную для шаманов. На голове у них располагается некое подобие небольших рогов — то ли волосы, заплетенные особым образом, то ли шлем с рогами животного. Эта «рогатая» особенность вообще является характерной чертой изображения духов или древних медиумов, в которых воплощается дух.
Гермафродит в силу сочетания и мужского, и женского начал символизирует посредника между двумя мирами, между духами и человеком. Лягушка в его волосах в данном случае трактуется как символ реинкарнации двуполого божества в момент шаманского ритуала.
И он — всего лишь посредник между мирами.
 Илл. 20. Блюдо, изображающее получеловека-полурыбу с закрытыми глазами. Возможно, это изображение шамана в момент его перевоплощения в дух предка. Банъпо, неподалеку от г. Сиань, провинция Шэн.
Илл. 20. Блюдо, изображающее получеловека-полурыбу с закрытыми глазами. Возможно, это изображение шамана в момент его перевоплощения в дух предка. Банъпо, неподалеку от г. Сиань, провинция Шэн.
Отражением представлений о многослойной структуре мира является древняя утварь, прежде всего утварь из обожженной глины, которая явным образом делится по вертикальной оси на три части, причем в каждой части может присутствовать свой рисунок.
На древней керамике очевидно проступает и мотив «мировой оси» или «мирового древа», соединяющего верхний и нижний миры и одновременно не дающего им сомкнуться, то есть оставляющего пространство для жизни людей. На кувшинах «мировая ось» чаще всего представлена в виде вертикальных линий, символического дерева, иногда — лягушки или жабы, головой подпирающей верхний обод кувшина, а лапами упирающейся в его основание.
На неолитических кувшинах культуры Мацзяяо (уезд Юнцзин, пров. Гань-су), 3300–3050 гг. до н. э., отчетливо проступает эта «послойность» мира. По нижней части кувшина, найденного в 1956 г., расположен волнистый декор в в виде волн, что можно интерпретировать как водную стихию. В центральной, самой широкой части идет характерный для древней керамики декор из спиралевидных линий, а верхняя часть ближе к горловине покрыта диагональными прямыми линиями.
Спиралевидные линии вообще являются излюбленным мотивом для центральной части неолитической керамики, они встречаются на кувшинах в культуре Яншао, в Мяодигоу (Хэнань, 2500–1900 гг. до н. э.), Давэнькоу (пров. Шаньдун, 4300–2500 гг. до н. э.) и других. Очевидно, этот мотив связан с какими-то малопонятными представлениями шаманской космогонии. К тому же спиралевидные рисунки являются характерной чертой росписей по керамике практически во всех ранних культурах, например, в доантичной Греции или Месопотамии. Можно также предположить, что спирали являются отражением видений шаманов и медиумов при приеме ими галлюциногенов, в частности грибов, чем сопровождался практически любой шаманский ритуал.
Вообще представления о космогонии формировались во многом как результаты видений, связанных с трансом, изменением соматического состояния и приемом психоделиков. Это и было первичным истоком мистического или религиозного опыта. Не столько интерпретировались сами видения, сколько передавалось состояние соприкосновения с чем-то «иным». Именно поэтому на подавляющем большинстве рисунков мы видим не изображения реальных вещей и предметов, т. е. мира «посюстороннего», но «воспоминания» о видениях и путешествиях в мир «иного». Реальные предметы, например изображения рыб и птиц, в этих видениях приобретали искаженно-фантасмагорический характер, подобно тому как видит предметы человек в состоянии наркотического опьянения: у рыб вдруг появлялось человеческое выражение глаз и даже улыбка, столь же антропоморфны некоторые птицы. У рыб на таких рисунках вдруг вырастают рога, змеи трансформируются в драконов, а люди приобретают облик рогатых духов с огромными глазами. Вряд ли стоит полагать, что все рисунки и узоры — лишь результат галлюцинаций и видений, однако именно они лежали в основе формирования канона подобных изображений.
Для ритуалов использовались и прямые прообразы «мировой оси» — жезлы с засечками на них.
Один из таких нефритовых жезлов, высотой ок. 50 см, был открыт в Шаньдуне и принадлежит культуре Лянчжу. Жезл разделен на 19 сегментов, возможно «этажей» космоса, а также имеет небольшое навер-шие и основание. Возможно, самое примечательное в этом жезле то, что он покрыт изображениями какого-то духа или человека, причем его «ртом» являются прорези между сегментами, нос — боковые грани жезла, глаза пред- Илл. 17 ставлены симметричными кругами, в виде небольших треугольников по бокам кругов. Всего, таким образом, здесь изображено 76 аналогичных по своему виду духов, и характерный облик таких духов неоднократно встречается на древней керамике и бронзе в виде существа тао-те, на смысле которого мы остановимся позже. Такой жезл, представленный в виде фаллоса, соединяющего небо и землю в руках шамана, показывает нам «поэтажность» вселенной, где на каждом «этаже» обитает определенный дух, шаман же, держа жезл за основание, т. е. за его «земную» часть, использует его как «лестницу в небо» (одна из функций «мировой оси»), чтобы достичь высших сфер. Смысл жезла также может интерпретироваться как прохождение души умершего человека с Земли наверх по нескольким сферам вселенной, причем шаман сопровождает душу человека, не позволяя ей «затеряться». Этот мотив сопровождения души посредником широко распространен и сегодня в погребальных ритуалах. Примечательно, что рядом с жезлом были обнаружены изображения солнца, луны и гор, во многом схожие с теми, которые встречаются и в культуре Давэнькоу. Предполагается, что именно они являются первыми зачатками письменности либо тотемными знаками разных племен.
22
 Илл. 21. «Хвостатые» люди — не редкость на древних неолитических изображениях. Ритуальный танец с хвостами и подобиями бунчуков на внутренней части миски. Культура Мацзяяо, деревня Шансуньццзя, провинция Шаньдун.
Илл. 21. «Хвостатые» люди — не редкость на древних неолитических изображениях. Ритуальный танец с хвостами и подобиями бунчуков на внутренней части миски. Культура Мацзяяо, деревня Шансуньццзя, провинция Шаньдун.
В принципе жезлы, чаще всего выполненные в виде фаллолингамов, являются указанием на шаманскую практику, которая была широко распространена в неолите. Шаманские жезлы встречаются у народов каменного века севера Дальнего Востока, Приморья. Обнаружение жезла вместе со знаками солнца, луны и гор говорит также и о наличии «космогонического управления» миром со стороны шамана, который способен властвовать над этими силами.
Символика «первых правителей»
Самый известный историограф древнего Китая Сыма Цянь (I в. до н. э.) начинает свое изложение истории Поднебесной с эпохи «трех мудрецов и пяти первоимператоров» или «пяти правителей».
Эта эпоха «высокой древности» (
шан гу), как уважительно именовали ее многие философы, считалась идеалом мудрого правления, добрых и спокойных нравов. Конфуций и Мэн-цзы считали ее поистине золотым веком, призывая людей Поднебесной брать пример с первоправителей и вернуться к нравам прошлого. В историографии постоянно ведутся споры о реальности этих людей, однако подавляющее большинство исследователей склоняется к тому, что это были либо полностью мифологические личности, либо не столько «правители» (
дм), сколько племенные лидеры.
Перед «пятью правителями» шли «три мудрейших»: Фуси, его сестра и Илл. 22 жена Нюйва и «священный земледелец» Шэньнун, научивший людей обработке земли, а также считающийся основателем лекарственного использования трав и других растений. Предание о «трех мудрейших» относится к какой-то иной традиции и, вероятно, было добавлено к списку первых правителей Китая уже позже, в тот момент, когда разрабатывалась общая картина китайской мифологии.
Вообще, цифра «пять», являясь священным числом в китайской магической традиции, ассоциируется с Небом и представляет собой один из элементов механизма сакрализации истории.
Некие племенные лидеры, возможно, разрозненные и не являвшиеся правителями одного народа, оказались объединены в единую линию «пяти» с тем, чтобы сама история раннего Китая обрела неслучайный, священный характер.
Для историописателя Сыма Цяня именно «пять правителей» являются началом истории вообще, не случайно он начинает свое изложение в «Записках историка» с эпохи, когда властвовали эти пять удивительных людей. Для китайских историописателей в общем никогда не существовало четкого разделения на мифологическую и реальную историю; более того, миф лишь подтверждал и освящал исторический факт, поэтому рассказ Сыма Цяня не может быть ни подтверждением, ни опровержением существования эпохи «пяти правителей». Впрочем, это для нас в данном контексте и не столь важно. Значительно важнее, что это — точка отсчета того, что в Китае понималось под «историей».
Первым из пяти правителей обычно называют Хуан-ди — «Желтого правителя» (предпол. 2697–2599 гг. до н. э.), считая его основателем китайской нации. По преданиям, за Хуан-ди следовали два правителя, которые, по-видимому, ничем не проявили себя. Затем лидером становится Яо (2357–2258 гг. до н. э.), за ним — Шунь (2257–2208 гг. до н. э.), которого Яо нашел среди
простых земледельцев, оценил за мудрость и передал ему бразды правления. Племенное лидерство Шуня унаследовал Юй, считающийся «великим мудрецом» и победителем потопа, сумевшим повернуть реки вспять и построить большое количество дамб.
Обычно их именуют «легендарными» или «полулегендарными» правителями Китая, хотя вряд ли сегодня кто-либо решится дать уверенный ответ, могли ли существовать эти люди. А если и существовали — кем были они? Племенными лидерами, победившими соседние племена, или некими обобщенными предками, часть которых явилась с каких-то других территорий на Центральную равнину Китая? Возможно, речь идет и не о людях, а о тотемных символах, «очеловеченных» в народных преданиях, подобно тому как произошла эвгемеризация Олимпийских богов в античной Греции?
Интересно, что некоторые первоправители Китая именовались «м», что было обобщающим словом для неких иноземцев. При этом выделяли восточных и и западных и. Этот термин впервые появляется в сочинениях середины I тыс. до н. э., тогда так именовали племена, жившие на полуострове Шаньдун, в частности племена сушэней, илоу и другие. Мэн-цзы рассказывает: «Шунь, что был выходцем из племен восточных и, родился в Чжуфэне, переселился в Фуся и умер в Минтао. Правитель Вэн-ван, выходец из западных и, родился в Цичжоу и умер в Биъине»
23. Минтао располагался в Шаньси, севернее города Аньи, где была построена резиденция правителя династии Инь, Чжоу Синя, — дворец Мугун.
Пришлый характер первопредков Китая присутствует во многих рассказах и легендах, «пришлость» этой цивилизации звучит даже в терминологии. Например, по легендам прародительница рода Шан Цзянь-ди происходит из каких-то территорий на западе и не случайно именуется термином ди, характерным для «западных инородцев». Сохранился обширный комплекс легенд о том, что предки китайцев пришли откуда-то с запада и именно там лежит исток всей сакральной культуры. Об этом «западном истоке» как месте обители предков у нас еще будет возможность поговорить отдельно, здесь же отметим, что за образами Хуан-ди, Яо, Шуня и других правителей скрываются не только племенные лидеры или родовые объединения, но и образы шаманов и медиумов, объединявших в себе как сакральные, так и административные функции.
Символизм причудливым образом присутствует и в самих именах этих людей. Сегодня их имена уже традиционно понимаются как фамильные иероглифы, хотя, если внимательно вглядеться в их первоначальный смысл, становится очевидным, что речь идет о неких знаках бытия, символах, характерных для шаманской практики. Имя прародителя китайской нации Хуан-ди обычно переводится как «Желтый правитель», хотя сам иероглиф «дм» («правитель», «император») был прибавлен к имени Хуан значительно позже, к тому же, думается, в этом контексте он означает «дух» или «Небесный дух», то есть указывает не столько на правящий статус некоего Хуана, сколько на то, что речь идет о его канонизации в виде духа или тотема.
Каким-то образом Хуан-ди оказался связанным с образом медведя, а Шунь — с образом дракона, что позволило предположить, что эти животные являются тотемами их племен.
Само же имя Хуан традиционно принято переводить как «желтый», хотя первоначально этот иероглиф не имел отношения ни к желтизне, ни к цвету вообще. Иероглиф хуан рисовался в виде человека, стоящего, широко расставив ноги, с каким-то кругом в районе живота. Как предполагается, это может означать висящее на груди большое кольцо из нефрита — символ власти и магической энергии
24. В равной степени это может означать и священную татуировку на животе или груди. Как видим, первоначально иероглиф «дя/ан» означал мага, обладающего священной мощью и властвующего над миром людей. Его контаминация с «желтым» произошла намного позже, например из-за цвета ритуальной раскраски лица.
Интересна ранняя этимология понятия хуан, действительно означающего в современном языке «желтый»: в верхней части иероглифа стоит несколько видоизмененная графема «свет» или «сияние» (
гг/аи), внизу — «поле» (
тянъ), что может трактоваться по разному: «свет над полями», «поле сияния» и т. д.
Принято считать, что желтый цвет, столь характерный для китайской символики, соотносится с характерным желтоватым цветом лессовых равнин провинции Хэ-нань, по которым, в частности, протекает знаменитая «Желтая река» Хуанхэ. Мельчайшая взвесь лесса, постоянно размываемого водами, действительно придает Хуанхэ устойчивый песочно-желтый цвет. Впрочем, уместно предположить, что если Хуан связан именно с желтым цветом, то он должен быть связан именно с цветовой символикой речных божеств и духов, живущих в Хуанхэ. Хуанхэ нередко внезапно меняет свое русло, размывая неустойчивую лессовую почву, — даже в наше время целые деревни внезапно оказываются под водой, когда река буквально «перепрыгивает» на несколько километров в сторону. С древности Хуанхэ приходилось обуздывать, постоянно строя дамбы и укрепляя берега, хотя это помогало далеко не всегда.
Желтые воды несут в себе страх смерти и одновременно надежду на хороший урожай, так как все хозяйство строилось вокруг Желтой реки. В даосской мистериологии и народных преданиях понятие «желтые воды» или «желтые источники» (
хуан цюанъ) ассоциировалось первоначально с подземным царством, куда уходят души умерших, что в мистических концепциях на каменной плите эпохи Ханъ. Шаньдун означало не только смерть как абсолютное забытье, но и возможность перерождения и возвращения. И здесь Хуан-ди выступает уже дословно как «дух, что правит над желтым», т. е. над миром мертвых, и это вновь возвращает нас к мысли о Хуан-ди как о медиуме или шамане.
 Илл. 22. Фуси и Нюйва, брат и сестра, которым приписываются мироустроительные функции, держат в руках солнце и луну. Их змеиные тела и антропоморфные лица, возможно, свидетельствуют о каком-то магическом обряде, проводимом древними шаманами. С каменной плиты из погребения II–I вв. до н. э. Сычуанъ.
Илл. 22. Фуси и Нюйва, брат и сестра, которым приписываются мироустроительные функции, держат в руках солнце и луну. Их змеиные тела и антропоморфные лица, возможно, свидетельствуют о каком-то магическом обряде, проводимом древними шаманами. С каменной плиты из погребения II–I вв. до н. э. Сычуанъ.
Желтый цвет, равно как и сам Хуан-ди, стал символом Китая и одновременно понятия «середины». Например, Китай всегда понимался как срединное государство (
чжунго), Хуан-ди же считался «правителем центра» или «восседающим в центре». В общем, это не удивительно, поскольку такие представления были созданы внутри самого народа Хуан-ди, который, как и любой народ, видел себя «в центре», в то время как на окраинах жили варвары и люди «не срединных государств». В любом случае, понятия желтого цвета и центра оказались тесно переплетены внутри символики самого Хуан-ди.
Более того, сама «центральность» желтой символики позволила ассоциировать Хуан-ди с землей как центральным элементом традиционной пятеричной схемы взаимодействия стихий (металл, дерево, вода, огонь, земля). Земля, нередко обозначаемая желтым цветом, занимает центральное место в пятеричной схеме Ло-шу — одном из вариантов расположения гексаграмм, легшем в основу «Канона перемен» («
И цзин»).
…???…
Илл 23. Фуси и Нюйва в виде переплетшихся змей с измерительными инструментами в руках. Изображение на каменной плите эпохи Ханъ. Шаньдун
Желтый цвет в Китае стал императорским цветом, правитель носил одежды золотисто-желтого цвета, на спине которых обычно вышивался золотыми нитями другой символ императорской власти — дракон, являющийся одновременно и одним из речных божеств, и, как мы покажем дальше, трансформированным духом предка.
Таким образом, Хуан-ди оказывался воплощенным духом земли, правителем или посредником царства мертвых или символом началом инь. Не случайно его культ был связан с плодородием, молением об урожае и даже сексуальной магией — именно Желтый правитель во многих трактатах IV–II вв. до н. э. ведет беседы с женскими духами, например Сокровенной девушкой (Сюаньнюй) или Безыскусной девушкой (
Сунюй), о том, как сохранять детородную силу до старости, как наполнять себя семенем «до предела», как доставить себе и женщине максимум удовольствия. Именно с культом Хуан-ди была связана самая ранняя сексуальная практика и магическая эротика Китая.
 Илл. 24. Иероглиф «хуан», ныне означающий «желтый», в том числе и «Желтый император», в древности рисовался в виде Mt на груди которого — то ли татуировка, то ли кольцо из нефрита.
Илл. 24. Иероглиф «хуан», ныне означающий «желтый», в том числе и «Желтый император», в древности рисовался в виде Mt на груди которого — то ли татуировка, то ли кольцо из нефрита.
В определенной степени дополнением Хуан-ди как духа земли являлся «священный земледелец» Шэньнун. Его другим именем было Янь-ди; янь означает «языки пламени» или «огонь», и очевидным образом Шэньнун оказывается обожествленным духом огня или очага.
Этимология имени другого полулегендарного правителя Китая — Яо — так же очевидно говорит о символике земли: его иероглиф состоит из трех элементов ту («земля»), что указывает, как это принято в изобразительной иероглифике, на всеобщность или обобщающий характер «земли», т. е. «вся земля». Есть даже предположение, что его преемник Шунь (2255–2205 гг. до н. э.) есть не более чем антропоморфное воплощение гибискуса — растения из семьи мальвы с большими яркими цветами и зубчатыми листьями, которое могло использоваться в составе галлюциногенов, употребляемых древними магами и медиумами. Некоторые виды гибискуса до сих пор употребляются для приготовления припарок, уменьшающих боль, а семена имеют ярко выраженный возбуждающий эффект, как от кофе. Таким образом, Шунь оказывается не только и не столько человеком, сколько духом растения, вселяющегося в человека и приводящего его в состояния экстатического транса, характерного для медиумов.
Подобным же образом во многих преданиях с растениями оказывается связан и Фуси, принсеший китайскому народу все культурные достижения. Например, на рельефах храма У Лян (I–II вв.) говорится о Фуси как о «духе растительности». Он также был «первым правителем-ваном, начертал триграммы, изобрел узелковое письмо, установил правила отношений, чтобы управлять внутри морей»
25.
Примечательно, что Фуси здесь именуют «первым ваном». Обычно «ван» понимается как «правитель», однако первоначальная семантика этого понятия свидетельствует, что под ваном скорее понимался верховный жрец и медиум, объединяющий в себе силы земли и неба. Таким образом, учитывая также и «культурные» достижения Фуси, перед нами предстает образ племенного жреца, сумевшего объединить народ внутри единых культов. Это отвечает вообще именно сакральному, а не военно-вождистскому характеру власти, присущему древнему Китаю. А упоминание в этом контексте о «духе растительности», как и в случае с Шунем, указывает на активное использование древними медиумами галлюциногенных растений.
 Илл.25. Яо (2357–2258 до н. э.) один из первых полумифических правителей Китая. Рисунок XI–XII вв.
Илл.25. Яо (2357–2258 до н. э.) один из первых полумифических правителей Китая. Рисунок XI–XII вв.
В древних текстах нет согласия по вопросу об «очередности» древних правителей, и, как кажется, такой вопрос вообще не интересовал мифологическое сознание, построенное не столько вокруг вычисления точного времени, сколько вокруг образов самих правителей. Некоторые исторические тексты, например «Шаншу» («Книга преданий»), начинают описание культурной истории именно с Яо, а не с Хуан-ди, как делал Сыма Цянь. Более того, многие философы, например Конфуций и Мэн-цзы, говорят именно о Яо и его преемнике Шуне как о великих правителях или «духах» — ди, обходя стороной Хуан-ди. Вполне возможно, что речь здесь идет о разных традициях, к тому же Сыма Цянь активно пользовался устными преданиями, где временные рамки нередко смещаются, накладываясь друг на друга, и не исключено, что прямой линии преемствования между Хуан-ди и Яо в действительности не существовало, — можно предположить, что они были вождями разных народов. Тем не менее, для китайского сознания характерно все выстраивать в единую линию преемствования-передачи: так, например, произошло с историей даосизма, когда разрозненные школы и учения оказались объединены под единой историей и названием, так случилось и с чань-буддизмом, когда в X–XI вв. история десятков мелких школ чань была переписана, чтобы привести ее к понятию «единой линии». Не исключено, что подобное же случилось и с историей «пяти правителей».

Каждый из этих правителей обладал некой характерной функцией, особой миссией в этом мире, и в совокупности они выступали как творцы мира и культуры. Но мы без труда заметим, что функции «трех мудрецов» и «пяти правителей» нередко пересекаются, более того, порою создается впечатление, что речь идет об одном обобщенном Творце культуры, выступающем под разными именами. Так, Фуси научил людей ловить рыбу, пользоваться огнем, термически обрабатывать пищу, охотиться и пасти овец. Он же впервые сумел «прочитать небесные письмена» (
тянъ вэнь), введя в оборот иероглифическую письменность как отражение этих «письмен Неба». Он выступает и как отец китайской медицины, открывший пользу иглоукалывания (по легенде, он как-то задел себя мотыгой по ноге, отчего у него тотчас прошла головная боль) и траволечения. Часть этих «открытий» приписывается и Хуан-ди: обработка земли, письменный язык, разделение земли на наделы. Одновременно отцом землеобработки считается и Шэньнун, чье имя как раз и переводится как «священный земледелец», и он же впервые, принимая в пищу разные травы и экспериментируя на себе, создал таким образом канон китайского траволечения. И Хуан-ди, и Шэньнун, и Яо, как считается, внедрили основу жизни древних земледельцев — лунный сельскохозяйственный календарь, продержавшийся в Китае до его трансформации, связанной с арабским культурным влиянием. Хуан-ди также приписывается изобретение топора, ступки, ношения платья и туфель.
Нюйва и Фуси вообще являются основными миро-устроителями обитаемой вселенной. Не случайно на ряде изображений Нюйва, канонически рисуемая с правой стороны, держит в руке Илл. пару компасов, слева же Фуси сжимает измерительный треугольник. По ряду преданий, некоторые первомудрецы выступили и как создатели людей вообще. Так, одна из центральных богинь китайской архаики Нюйва, сестра Фуси, вылепила людей из глины и обожгла ее, а по другим преданиям, рот человека был «прорезан» Нюйва, которая к тому же создала и всю ритуальную музыку и песнопения, что выходят изо рта.
26
Таким образом, даже говоря слова и тем более воспроизводя музыку, человек пользуется тем «следом», что оставили ему великие прародители. Заметим, что все древние указания на музыку и песнопения связаны прежде всего с экстатическими ритуалами магов и шаманов, хотя позже, окультурившись, они превратились в часть придворного ритуала.
Уже в более позднюю эпоху I–V вв. и, вероятно, под воздействием мифов л. 27 южнокитайских народов все они явились и частями космогонических мифов: Хуан-ди определил порядок движения солнца, луны, звезд, Яо поручил неким «министрам» наблюдать за небесным порядком и определил нумерологический принцип солнца, луны и созвездий, также базировавшийся на пятеричной схеме.
Правители обладали и мироустроительной функцией, обустраивая землю. Так, Хуан-ди считается первооткрывателем компаса, а также самого понятия четырех сторон света (сам он пребывал, естественно, в центре и поэтому считался «правителем центра»). Яо отправил к четырем сторонам света своих посланников — «окультурил» варварские земли. Шунь создал схему поселений, по которой города имели четверо ворот, и таким образом даже сегодня китайские города, построенные по принципу взаимовключающих квадратов, а не кругов, как в других древних культурах, повторяют «схему Хуан-ди — Шуня», хотя сегодня мало кто из китайцев представляет, что живет внутри магического квадрата земли (небо при этом представляется в виде круга).
Даже выглядели «три мудрейших» и «пять правителей» нередко схожим образом: например, по многим преданиям и на ряде изображений Фуси, Нюй-ва и Хуан-ди выступают как существа со змеиным телом и головой человека, что является очевидной аллюзией абсолютизированного духа предка или медиума в ритуальных одеждах, обычно известного как таоте.
Все первоправители ценились за то, что обладали способностью понимать «волю Неба», читать «небесные письмена», и в силу этого народ пребывал в покое и гармонии. Обратим внимание на функции и способности, которые приписывались этим правителям, — все они так или иначе выделяются из общей массы именно своими возможностями общения с Небом. Нам еще предстоит показать, что под Небом в древности подразумевались не какие-то абстрактные высшие силы, но сам человек-посредник между миром духов предков и ныне живущими людьми, и именно этот человек изображался в виде иероглифа «тянъ» (сегодня — «небо»). Самое важное, что приписывается перво-правителям, — принесение культуры на землю. Именно из потустороннего мира эти люди узнают все то, что стало принято считать культурой (
вэнь хуа) или «письменами неба» — вэнь.
Изначально «вэнь» означало татуировку, нанесенную на грудь человека, — именно так в древности записывался этот иероглиф.
27
Таким образом, вэнь понимался первоначально как татуированный маг, передающий какие-то священные знания, способный поддерживать связь с Небом и предками. Поклонение культуре, письменам, трепетное отношение к литературе, одним словом, ко всему тому, что подразумевается под понятием вэнь, имеет свой исток в поклонении медиуму-еэнь, принесшему все эти знания из потустороннего мира. Именно так следует понимать «окультуривающую» миссию первых правителей. Таким образом, перед нами предстают не конкретные люди и не просто «мифологические правители», но некие мифо-типы, воплощенные носители священной силы, магического могущества и культуры. Более того, всякий ранний правитель, равно как позже и всякий философ в мистической культуре, даже, возможно, будучи реальным человеком, утрачивал свои персональные черты, становясь не просто прообразом какого-то духа, но самим этим духом.
Правитель превращался в духа на земле, философ-мистик воплощал собой сакрализованное и изначально бесформенное начало. Повествование о первоправителях Китая по существу представляет рассказ об особенностях ранней сакральной культуры, где основную роль начинают играть медиумы, общающиеся с Небом через экстатический транс и становящиеся лидерами целых народов.
 Илл. 27. Хуан-ди, один из мифических первоправителей Китая. Современное изображение в храме в Чэнду. Сычуань
Илл. 27. Хуан-ди, один из мифических первоправителей Китая. Современное изображение в храме в Чэнду. Сычуань
Предки из «государства Ся»
Три династии образуют классическую китайскую древность: Ся (2000–1600 гг. до н. э.), Шан (1600–1050 гг. до н. э.) и Чжоу (1050-221 гг. до н. э.). Именно эту версию поддерживают китайские источники, таким образом как бы «спрямляя» древнюю историю Китая. Реальность древности была все же многообразнее и сложнее. В частности, параллельно с правлением Ся и Шан существовало множество племенных образований и царств, которые намеренно игнорировались официальной историей Китая, изложенной в династийных хрониках. Таким образом, в китайском сознании, а затем и в популярных исторических изложениях глубоко укоренилась версия о возникновении единой китайской цивилизации в период Ся и Шан в среднем течении Хуанхэ.
Поселения на территории Китая развиваются, завоевывая новые территории и осваивая новые технологии. В IV–III тыс. до н. э. резко увеличивается площадь обрабатываемых пойменных земель. Огромным скачком вперед становится активное использование колеса для изготовления глиняных изделий хозяйственного и ритуального назначения, а в раскопах той эпохи встречаются удивительные по мастерству изготовления керамические сосуды, а также медь и медные сплавы. В нижнем течении Янцзы развивается шелкоткачество, индустрия поделок из бамбука, поля засеваются хозяйственными культурами, в том числе коноплей, идущей, в частности, на изготовление веревок, а это, в свою очередь, способствует более эффективному хозяйствованию.
Изменяется и вид жилищ: из полуземлянок, которые хорошо хранят температуру и быстро строятся, но неудобны для проживания, люди перебираются в наземные жилища с полом, приподнятым на несколько десятков сантиметров от поверхности земли. Первичные потребности в пище и жилище удовлетворены, и хотя, разумеется, борьба за жизнь постоянно продолжается, люди уже получают возможность размышлять о том священном, что стоит за этой самой борьбой за выживание. Сооружение могил, несколько вынесенных за основную территорию поселения, говорит о том, что уже существует культ предков и представления о загробном существовании.
Многие китайские исторические хроники и легенды рассказывают, что именно в тот момент на территории Китая возникает первое государство Ся (2207–1766 гг. до н. э.), открывшее долгую череду смены династий в истории этой страны. Споры о существовании Ся не утихают и до сих пор, археологические свидетельства не подтверждают непосредственным образом факт существования именно государственного образования Ся, хотя обнаружено немало косвенных упоминаний о наличии в ту эпоху каких-то племенных (?) объединений. Мнения исследователей по проблеме Ся резко разделяются, варьируясь от полного отрицания существования такого государства и приписывания ему исключительно мифологического характера, до абсолютного признания предания о Ся историчным.
Наиболее взвешенное мнение состоит в том, что под Ся подразумевается не государство и тем более не первая китайская династия и что Ся является собирательным названием для многих племен, некогда разбросанных по территории современных провинций Хэнань и Шаньси, многие из которых не были связаны между собой союзническими узами.
Сыма Цянь в своих «Исторических записках» признавался, что хотя сам не видел потомков династии Ся, однако встречал людей, которые помнили их. Правление Ся продлилось 400 лет, и, как следует из раздела «Анналы Ся», вошедшего в «Исторические записки», власть передавалась по наследству либо от отца к сыну, либо между братьями. Всего «Анналы» последовательно перечисляют 17 правителей Ся.
По-видимому, самыми ранними столицами Ся были Дэнсяфэн — поселение на юге современной провинции Шаньси и Ванчэнкан в центральной части нынешней провинции Хэнань. Ванчэнкан принято переводить как «Холм города правителей», и, действительно, в современном языке «вам» означает «правитель». Однако, как мы покажем дальше, в древности под понятием вон подразумевалась особая категория людей-духов или непосредственно дух, перевоплотившийся в человека. Таким образом, это было поселение магов и медиумов того времени, обслуживающих сакральную сферу жизни общества. Учитывая, что на территории южной Шаньси, неподалеку от предполагаемой столицы Ся, обнаружено пять богатых захоронений с пышной погребальной утварью, несложно предположить, что у лидеров Ся существовали пышные погребальные обряды и сформировавшиеся представления о царстве мертвых.
И именно ваны, являвшиеся не «административными руководителями» племени, но исключительно воплощением духов на земле, брали на себя роль посредников между миром мертвых и миром людей. Новое образование, где уже существовали свои наследственные лидеры, требовало концентрированных поселений и, естественно, дворцов. Так рождается комплекс Эрлитоу в нынешнем уезде Яныпи в провинции Хэнань. Собственно Эрлитоу включает в себя четыре культурных слоя, два из которых соответствуют времени Ся, а два — более поздней эпохе Шан-Инь.
Безусловно, Ся представляло собой неолитическую культуру, где существовало расслоение на очевидных лидеров-вождей и на иной люд — об этом свидетельствуют остатки дворцовых построений, в частности Эрлитоу.
Сельскохозяйственная культура Ся базировалась, как и прежде, на пойменном земледелии, Хуанхэ по-прежнему кормила раннее население Китая, которое использовало каменные орудия, оружия из костей животных и рыб. Тем не менее, каменный век сменялся постепенно бронзовым — бронзовые сосуды, в основном в виде треножников, прочно заняли свое место в ритуальной жизни людей того времени.
Возникновение династии и первого протогосударства Ся связано с одной из самых известных легенд китайской традиции. Как гласит одно из преданий, приблизительно в XXI в. до н. э. случился грандиозный потоп, который смыл почти все жилища и разрушил все поля. Все усилия людей обуздать потоп оказались тщетны, местные правители были не в силах сдержать разбушевавшиеся воды. Лишь один человек вступил в борьбу с потопом — некий Юй, чье имя дословно переводится как «рыба», а традиция называет его Да Юй — «Великий Юй». Он организовал людей на строительство дамб, работал сам не покладая рук, так, что «истерлись волоски у него на ногах», и не давал себе отдыха — «трижды проходя мимо своего дома, даже не зашел в него».
После победы над водами Юй был выбран лидером нового государства Ся, а после его смерти власть перешла к его сыну Ци.
Несмотря на многие легендарные подробности этот рассказ, передаваемый из поколения в поколение, несет немало реальных исторических деталей.
…???…
Илл. 28. Великий Юй. Изображение на камне. I–II вв. Шаньдун
Прежде всего, он передает историю возникновения наследственной власти. До этого, как нередко встречается у первобытных народов, лидеры были выборными, либо очевидного лидерства не существовало вообще. Таким образом, независимо от верификации рассказа о государстве Ся, очевидно, что в Китае возникает один из важнейших признаков раннего государственного образования — наследственная власть, связанная, как мы предполагаем, с особыми магическими способностями лидера.
До Юя власть, как гласит большинство легенд, передавалась не наследственным образом, а исключительно по личным заслугам. Так, один из полулегендарных первоправителей Яо (предп. 2357–2258 гг. до н. э.) передал свою власть Шуню (предп. 2257–2208 гг. до н. э.) за то, что тот был скромен, честен и упорно трудился на полях, а также «послал своих девять сыновей и двух дочерей вместе со множеством чиновников, которые привели овец, коров, заготовив полным-полно пищи, дабы прислуживать Шуню на полях». По преданию, отголоски которого мы находим, в частности, в «Мэн-цзы» (III в. до н. э.), Шунь женился на двух дочерях правителя Яо. Но у него произошел разрыв с родителями — он не объявил им предварительно о своей женитьбе, тем самым нарушив древние уложения.
28
Вероятно, это и послужило причиной его ухода из родного племени. Считается, что Яо правил династией Тан, а Шунь — династией Юй, хотя, скорее всего, Тан и Юй были названиями родов, к которым принадлежали Яо и Шунь, и передача власти объединила два племени. Примечательно, что сама китайская традиция отвергала наследование Шунем Яо, равно как и то, что Яо передал Шуню бразды правления в государстве. Это явилось лишь техническим актом, на самом же деле «сын Неба не волен кому-либо передать Поднебесную», и «само Небо передало Поднебесную Шуню»
29.
Шунь, став правителем, действовал очень решительно, изгнав на окраины своих владений одних и казнив других. В более поздних трактатах это объяснялось тем, что все они были нечеловеколюбивы (
бу жэнъ) или утратили связь с Небом, и Мэн-цзы, например, рассказывает о четырех «великих преступниках», на которых обрушился гнев Шуня. Вероятно, это были лидеры местных кланов и племен, также претендовавшие на власть. Значительно сложнее обстояло дело с названым братом Шуня — Сяном, который еще в ту пору, когда Шунь не был сыном Неба, неоднократно пытался убить его. Причем в этом Сяну помогал и отец Шуня, некий Слепой Старец. Став правителем, Шунь не только не казнил своего брата, но выделил ему небольшой надел в местечке Юби, что, впрочем, было подобно ссылке, так как он отдалил его от себя. Более того, Шунь не позволил Сяну самому управлять территорией, а назначил особого чиновника, который собирал там налоги и подати.
30
…???…
Илл. 29. Пагоды, архитектура которых берет свое начало в буддизме, нередко сооружались и на могилах конфуцианских чиновников. Провинция Сычуань.
Правитель и маг Юй
Юй, наследовавший Шуню, является, пожалуй, самым славным из всех правителей древности; именно ему посвящено наибольшее количество народных легенд и преданий. В то время как, например, Хуан-ди превратился в покровителя даосов, поскольку достиг «вечной жизни» благодаря приему пилюли бессмертия, Юй, так же как и его предшественники, посетил «четыре предела земли», и ему приписывается составление первой писаной карты, названной «Каноном гор и морей» («Шаньхай цзин»). Его мироустроительная функция проявилась во всей полноте: Юй передвигал горы, приручал животных, строил дамбы, усмирял потоп, дал рекам их нынешние русла. Его имя, как и имена других первоправителей, несет символическое значение: дословно его можно перевести как «наполненность», «избыток», «процветание», что, по сути, означает моление о добром урожае и достатке в доме.
Юй стал одним из героев, обожествленных китайской традицией. Первые его изображения встречаются во II в. до н. э. (например, в Шаньдуне в уезде Цзясян, монастыре Улянцы); на них он предстает с заступом в руке — символ упорядочивания мира, привнесения в неистовство природных сил гармонизирующей роли человеческой культуры. Существует примечательный рассказ о чудесном рождении Юя. Во время потопа некий Гунь, взявшийся усмирить воды, украл где-то (в более поздних преданиях — на небе) сижан (комок священной земли, который обладал чудесной способностью бесконечно расти), дабы добавить его в материал дамб и перекрыть путь потопу. Узнав об этом, правитель Шан-ди (высший дух) разгневался и решил покарать Гуня. Гунь был предан смерти. Однако тело Гуня чудесным образом сохранялось в течение трех лет, а затем внезапно «раскрылось» и произвело на свет Юя. Именно Юю удалось при помощи драконов осушить реки, построить дамбы и спасти людей.
31
На первый взгляд, этот рассказ представляется традиционным мифологическим повествованием, однако мы попытаемся перевести его на уровень вполне понятных реалий древнего мира магии и оккультизма.
Сам по себе факт потопа, произошедшего на территории Китая в конце III тыс. до н. э., не вызывает сомнений, учитывая, что Хуанхэ часто меняла свое русло. Все же остальное — осушение воды одним человеком, привлечение на помощь драконов — кажется мифологическим преувеличением. Однако мы предположим, что речь идет о неком маге Юе, который воплощал собой очень древний по своему происхождению дух водной стихии и чье изображение можно встретить на древних сосудах, причем значительно более древних, нежели события, происходящие в период Ся.
И действительно, на некоторых керамических сосудах эпохи неолита, в частности этапа Баньпо (6500–4200 гг. до н. э.), встречается изображение странного существа, похожего на рыбу. Вместе с тем, очевидно, что это — лицо человека, круглая голова которого изображена фронтально с закрытыми глазами. Слева и справа, а также наверху нарисованы три треугольника, в которых при известном воображении можно угадать плавники.
Нередко к голове пририсовываются в виде небольших загибающихся черточек маленькие рожки. Изображение рисовалось как на внутренних поверхностях мисок, так и по внешнему краю, и когда в подобную миску наливали воду или суп, оказывалось, что человек «кормит» духа того существа, которое изображено внутри.
На древних неолитических изображениях периода Яншао нередко изображались рыбы в самых разных видах, и чаще всего можно без сомнения утверждать, что речь идет именно о рыбе, тогда как параллельно им встречается изображение получеловека-полурыбы, изначальная суть которого остается неясной. Примечательно, что даже ранний иероглиф «рыба» рисовался в виде нескольких треугольников, тем самым по технике повторяя рисунки человека-рыбы на мисках из Баньпо.
Не является ли это изображением самого духа Юя? Во-первых, по-китайски Юй в устной речи звучит точно так же, как и «рыба» (
юи), а учитывая, что письменный язык в древности был не развит, в устных преданиях эти два понятия могли контаминироваться. Это же подтверждают и многочисленные легенды о том, что Юй появился из воды, ушел в воду, боролся с водными потоками, общался с некими духами-лун (драконами), выходящими из воды, и т. д.
Примем во внимание, что те существа, которые именуются драконами (
лун), в древности отнюдь не были похожи на привычных нам сегодня драконов с чешуйчатой кожей, лапами и крыльями, а представляли собой то ли один из видов духов, то ли тип медиума, который впускал в себя этих духов, перевоплощаясь в них, — происхождение такого типа духов-лун мы покажем в следующих главах.
Предания о людях-рыбах вообще оказались широко распространены в мифологии Китая, причем сам характер этих преданий вновь приводит нас к мысли о том, что своими первопредками древние китайцы считали каких-то людей, пришедших из западных земель, вследствие чего западные земли и «Западный рай» считались приобщением к высшей мудрости и возвращением в царство усопших предков. Например, «Шаньхай цзин» («Канон гор и морей») передает предания о людях-рыбах, точнее о целом царстве, где обитали такие странные существа: «Царство людей Ди располагается к западу от древа-основания (прообраз центра мира и мировой оси. — А.М.). Лица людей того царства — как у рыб, а вот ног у них нет»
32.
Под людьми ди подразумевались так называемые «западные инородцы», а имя легендарной прародительницы всего рода Шан — Цзянь-ди — также оказывалось связано с некими западными народами ди.
В других источниках государство Ди носит название «государство Ху». В государстве Ху жил племенник Янь-ди или Шэньнуна — «священного земледельца», одного из пяти первоправителей Китая. Этот Линьцзя «имел могущество властвовать над Небом и землей»
33. Ху также использовалось для обозначения неких «западных народов», и здесь прослеживается очевидная связь между родственниками первоправителей и «пришельцами с запада». Обратим внимание на то, что собственно имя Линьцзя можно перевести как «равнодушный дух», и здесь, очевидно, указывается на некого духа-человека или медиума, принявшего на себя роль духа.
Юй, оказавшийся непосредственно связанным с водной стихией и миром духов, здесь выступает не только как усмиритель потопа, но и как усмиритель целого ряда духов, таким образом являясь, с одной стороны, экзорсистом, с другой стороны, медиумом, опосредующим через свое тело мир людей и мир духов. Он общается с разными типами духовных существ, которые, как представляется, могли в реальности являться другими типами магов того времени.
Мистическое перевоплощение человека в духа, т. е. выполнение им роли медиума, связано чаще всего либо с переодеваниями (например, маски или шкуры животного), либо с нанесением татуировок или раскраски на лицо и тело. «Переодевание» в рыбу явилось одним из видов защитной магии. Неслучайно многие рисунки на древней керамике интерпретировались как татуированные или раскрашенные особым образом лица, по-видимому, жрецов с головным убором в виде рыбы.
Под плавниками могло также подразумеваться и особое заплетение волос.
Примечателен и сам мотив рождения Юя от уже умершего Гуня. Гунь оказывается тем шаманом, которому удалось проникнуть в мир мертвых, достав оттуда чудесный ком. Из преданий многих народов мира хорошо известно, что из мира мертвых ничего нельзя приносить в мир живых, ибо обратной дороги не существует, иначе оба мира «перепутаются местами». Гунь же нарушил этот запрет, за что и поплатился жизнью — возможно, он действительно был убит за нарушение ритуала или умер в момент экстатического транса, что нередко случается среди шаманов и медиумов. Юй стал его преемником в миссии воплощения духов на земле. Возможна и другая трактовка: в более поздний период Чжоу умерший человек, при жизни обладавший особыми способностями, по сути перевоплощался в бессмертного. Бессмертными (и уже умершими) считались также различные категории медиумов и магов, например так называемые «бессмертные небожители» (
сянъ), чьи образы широко распространены даже в современном даосизме и народных верованиях. Появление Юя от умершего Гуня может означать передачу традиции и власти от одного мага к другому.
…???…
Илл. 30. Традиционно даосские храмы и конфуцианские кумирни строились по принципу анфилады залов, беседок и молельных помещений, дабы ничто не мешало духам передвигаться по прямой траектории. Храм, посвященный правителю Чжугэ Ляну в Чэнду, построен в XIII в. именно по этому принципу. В конце виден бюст самого Чжугэ Ляна, на колонне справа — надпись о пользе сыновней почтительности.
Таким образом, Гунь и его преемник Юй являлись, очевидно, представителями категории древних магов, с которыми мы еще неоднократно будем встречаться ниже. Именно такие люди и становились первыми племенными правителями, поэтому предание о том, что Юй благодаря своим чудесным способностям стал лидером Ся, не лишено основания.
Мир жителей Ся — мир магии и непосредственного духообщения через носителей экстатического транса, типа Гуня и Юя. Это мир причудливого ритуала, окруженный звуками музыки. Музыка оказывалась тем инструментом «упорядочивания» мира, которому через тысячелетие будет уделять столь много внимания Конфуций. Уже жители Ся использовали некие «музыкальные камни», которые обнаружены в Эрлитоу. Они представляли собой камни с отверстием посредине, обтесанные таким образом, что являли собой почти плоскую пластину, нередко в виде головы.
Камни разной величины подвешивались на веревках или жилах животных, и по ним били, скорее всего, деревянными палочками: так получался ранний ксилофон. В более поздние эпохи камни гладко полировались, пока не были вытеснены схожими с ними по форме бронзовыми пластинами, которые использовались вместе с колокольцами разной величины. Звук являл собой знак ритуальной гармонии мира, всякая музыка имела исключительно ритуальный подтекст.
Ритмические удары по музыкальным камням становились частью сложного медитативного ритуала, вводящего человека в экстатическое состояние.
Именно звук, ритмичные удары по камням, а позже и по бронзовым колокольцам сопровождал все ранние ритуалы начиная от эпохи Ся. Значительно позже все это превратилось в чинную придворную музыку, которую столь высоко ценил Конфуций. Ранние же «музыкальные» экзерсисы были наполнены яростью, экстазом безумия, дикими плясками. В историческом сочинении «Анналы бамбуковой книги» («Чжу шу цзинянь») мы встречаем именно такое описание: «Когда Шунь всходил на трон правителя, люди хлопали и стучали камнями, распевали песни на девять мелодий, а затем все животные пускались в пляску»
33. О каких животных идет речь? Очевидно, что люди, признавшие одного из первых полулегендарных правителей Китая Шуня (XXII в. до н. э.) своим лидером, переодевались в маски животных, идентифицировали себя с такими зверями и устраивали шаманскую пляску с песнопениями.
Несколько по-иному в этом свете видится и «восхождение на трон» Шуня и его функции. По сути, перед нами предстает шаман, который руководит экстатическими плясками в одеждах животных, — и этот сюжет можно часто встретить в изображениях на могильных плитах и керамике.
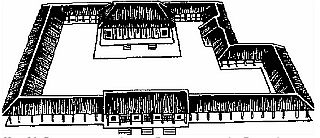 Илл. 31. Реконструкция дворца Эрлитоу периода Ся, представлявшего собой прямоугольное сооружение прибл. 108х100 м. Четырехугольная конструкция при сооружении священных построек сохранилась в Китае на протяжении тысячелетий.
Илл. 31. Реконструкция дворца Эрлитоу периода Ся, представлявшего собой прямоугольное сооружение прибл. 108х100 м. Четырехугольная конструкция при сооружении священных построек сохранилась в Китае на протяжении тысячелетий.
В поселениях Ся во множестве встречаются кости с небольшими засечками на них. Обычно мы традиционно называем такие кости гадательными, однако их функции до конца не ясны. Очевидно лишь одно — они активно использовались для ритуальной практики и составляли важнейшую часть священного космоса древних китайцев. Часть из них действительно использовалась для прочтения «небесных предначертаний», однако другие играли какую-то иную роль. Возможно, из них могли складывать мистические знаки на земле или приписывать им мистические свойства, как это обычно делалось у других ранних народов и сегодня встречается среди полинезийских аборигенов. Гадательные кости периода Ся не несут на себе следов надрезов или просверливаний, в то время как кости периода Шан изобилуют надписями, различными знаками, которые в конечном счете и сложились в особый язык надписей на костях — цзягувэнъ. Эти надписи представляют в первоначальном понимании некие записи или «вести» из потустороннего мира, записанные людьми, которые обладали способностью непосредственно общаться с миром мертвых и духов.
 Илл.32. Бронзовый сосуд с изображением лица некитайского типа
Илл.32. Бронзовый сосуд с изображением лица некитайского типа
Эпоха Шан-Инь: город и ритуал
Династия Ся на территории Китая сменяется правлением Шан-Инь (1750–1000 гг. до н. э., по другим предположениям — XVI–XII вв. до н. э.). Свое двойное название эта эпоха получает благодаря тому, что лидеры династии Чжоу, последовавшей за Шан, именовали ее Инь.
Шан становится периодом перехода от неолита к бронзовому веку, не случайно именно своими бронзовыми изделиями прославились шанские мастера. Возникновение письменности, металлургии, первых больших городов приходится именно на период Шан.
Изучение истории династии Шан прошло много стадий. С момента возникновения современной китайской археологии и до первых крупных находок в районе провинции Хэнань Шан рассматривали и как полулегендарную династию, и как конгломерат поселений. В известной мере и то, и другое подрывало традиционную версию, изложенную в десятках династийных историй и живущую в умах миллионов китайцев, о том, что весь Китай пошел именно из района Хуанхэ.
 Илл. 33. Древнейшая бронзовая находка на территории Китая — треножник типа «цзюэ» из Эрлитоу высотой ок. 15 см. Использовался для ритуального приготовления соматических напитков.
Илл. 33. Древнейшая бронзовая находка на территории Китая — треножник типа «цзюэ» из Эрлитоу высотой ок. 15 см. Использовался для ритуального приготовления соматических напитков.
Ситуация с реальным центром Шан оставалась туманной, пока не было обнаружено городское поселение Аньян, где люди жили в 1300–1050 гг. до н. э., т. е. в поздний период династии Шан.
Раскопки в районе Аньяна начали активно вестись с 1928 г., причем сам факт этих исследований имел для китайской официальной истории существенно большее значение, чем просто очередное
археологическое исследование. Фактически находки в районе Аньяна, указывающие на то, что именно здесь могла располагаться древняя столица, подтверждали официальную версию о том, что колыбель древнекитайской цивилизации находилась в центральном течении Хуанхэ.
Тем не менее, Аньян представлял собой довольно поздний центр, относящийся уже к поздней стадии Шан. Ранняя же история Шан до сих пор окончательно не ясна. По некоторым предположением, Ся и Шан-Инь могли не представлять собой последовательную смену неких династий, а в определенный период существовать параллельно. В связи с этим, строго говоря, следует различать Шан как археологическую стоянку и как династию или тип про-тогосударства, сложившийся на Центральной равнине.
Средний период Шан представлен останками поселения Эрлицзян (1600 г. до н. э.), располагавшегося неподалеку от нынешней столицы провинции Хэ-нань г. Чжэньчжоу и приблизительно в 80 км от самого раннего шанского поселения Эрлитоу. Это был уже настоящий город, обнесенный городской стеной, весьма внушительный по масштабам того времени — он занимал около 3,2 кв. км. Подсчитано, что должно было понадобиться около 10 000 человек, чтобы в течение 12 лет возвести такой город.
Поздний период Шан представлен культурой, сформировавшейся вокруг селения Сяодунь в северной части провинции Хэнань, неподалеку от г. Аньяна. Здесь в так называемых «руинах Инь» (
Иньсюй) жили девять последних правителей Шан от У-дина до Ди-синя, вошедшего в историю как правитель, погрязший в распутстве. Мы даже не знаем точных хронологических рамок этого периода, хотя существуют различные предположения. Например, наиболее распространенная так называемая «короткая хронология», основанная на интерпретации записей последующей эпохи Чжоу и вычислениях лунных затмений, свидетельствует, что последние девять правителей правили в 1200–1045 гг. до н. э. «Длинная хронология», основывающаяся на источниках I в. до н. э., в том числе на «Исторических записках» Сыма Цяня, говорит, что 12 последних шанских правителей, с Пань-гэна до Ди-синя, восседали на троне с 1398 до 1122 гг. до н. э. Как видим, расхождение в датировках существенное: во-первых, различается нижняя граница, во-вторых, на нижние двести лет правления приходятся лишь четыре правителя, что в действительности крайне маловероятно. Поэтому очевидно, что мы имеем дело с полумифологическими преданиями, передающими характер отношений с культурой Шан, но не с ее реальной историей.
Сяодун располагался в самом центре культурных связей Шан, к северу от него лежали шанский город Синтай, к югу — Синсян, объединяя таким образом южную и северные части провинции Хэнань.
Предположительно, люди Шан могли придти из северо-западных районов Китая (о чем, в частности, рассказывают многие предания), и таким образом на Центральной равнине они были «пришлыми», столкнувшись с уже жившим там населением. Возможно, в первое время они даже были вассалами Ся, однако затем, получив в свои руки ряд технологических новшеств и, самое главное, эффективное вооружение, стремительно захватили власть на Центральной равнине.
Местные крестьяне стали либо слугами, либо рабами шанцев, хотя вообще о наличии рабства в древнем Китае до сих пор ведутся споры. Самое главное, чего добиваются шанцы, — они целиком забирают под себя производство бронзовых изделий, которые в основном представляли собой ритуальные предметы, и таким образом как бы монополизируют «обслуживание» сакральной сферы жизни. Тот, кто знает, как правильно изготавливать бронзовый треножник или верно изображать лицо духа на нем, может управлять духами, кормить их, давать им «пристанище» внутри своего тела, выступая, таким образом, в роли медиума.
В ту эпоху в Китае жестокость ритуальной жизни удивительным образом сочеталась с утонченной мистериальной культурой, а изготовление великолепных бронзовых кубков шло параллельно с кровавыми ритуалами жертвоприношений.
Китай эпохи Шан-Инь представлял собой весьма обширное, хотя и аморфное в политическом плане образование. Разумеется, у нас нет возможности точно определить его границы за неимением таковых: сложно сказать, до каких пределов распространялась реальная власть иньских правителей. Скорее всего, на юге иньский Китай либо доходил до Янцзы, либо распространялся еще дальше на юг, включая территорию современных провинций Хэнань, Ху-бэй, Аньхой, Цзянсу, хотя, несомненно, политическим и социальным центром был комплекс поселений в Хэнани, недалеко от современных городов Чжэньчжоу (ныне — столица провинции), Лоян, Наньян.
Впрочем, среднешанские и позднешанские памятники обнаружены в Хубэе (уезд Хуанпи), Хунани и Цзянси (стоянка Цзинцзян), а это значит, что политическое и культурное влияние Шан-Инь распространялось в реальности далеко за границу Янцзы.
36
На севере же иньские поселения достигали современного Пекина и были разбросаны по всей территории провинций Хэбэй и Шаньси.
Сегодня на территории Китая обнаружено более сотни поселений периода Шан-Инь, однако не ясно, насколько крепки были хозяйственные и политические связи между ними и были ли они действительно объединены под властью единого правителя. Представляли ли они собой единое племя и имели ли общего тотемного предка и племенного вождя? Очевидно лишь то, что население всех этих поселений смыкалось внутри общей культуры: об этом свидетельствуют изображения на сосудах и гадательных костях. По структуре своих верований культура периода Шан могла составлять общий комплекс с южносибирскими культурами шаманизма и медиумизма.
Крупнейшим протогородом эпохи Шан стал Эрлитоу. Его древнее самоназвание нам неизвестно, поэтому город традиционно именуют по имени места, где он было найден в середине 50-х гг. XX в. Здесь жили люди в течение долгого времени, не случайно культурный слой уходит на глубину до трех метров, что свидетельствует не только о долговременности самого поселения, но и о нескольких фазах развития, сменившихся в Эрлитоу. Раннее поселение возникло здесь, судя по датировке радиоуглеродным методом, в 1620±95 г. до н. э. и бурно развивалось на протяжении почти 500 лет.
По археологическим данным, обнажившим «архитектурный костяк» Эрлитоу, он представлял собой уже не поселение деревенского типа, но ранний город, имевший центр в виде дворца, обнесенного стеной-оградой с большими воротами, галереями и, по крайней мере, одним большим строением. Вероятно, вокруг него располагалось поселение, сам же дворец датируется 1245±90 г. до н. э. По древним масштабам, городище было действительно огромно, оно тянулось на 1,5 км с севера на юг и на 2,5 км с запада на восток. Его логическим центром было сооружение, традиционно называемое «дворцом», почти правильной прямоугольной формы со сторонами 108 и 100 м. Основание сооружения было приподнято над поверхностью приблизительно на 80 см, крыша лежала на деревянном каркасе из 87 столбов, установленных с промежутками приблизительно в 1 метр, вокруг которых крепились стены, — таким образом, это была традиционная для Китая опорно-столбовая конструкция. К дворцу прилегала галерея, покрытая односкатной крышей. Со всех сторон здание было окружено стеной, покрытой двухскатной крышей. В южной части дворца располагались главные восьмиарочные ворота, от которых на юг тянулась дорога.
37
Примечательно само южное расположение центрального входа: как уже отмечалось, по китайской традиции все правители сидели лицом к югу, и именно южное направление считалось священным.
По-видимому, уже с эпохи Инь юг оказался сакрализован как воплощение благодатной энергии правителя.
Культура Эрлигана заметно отличалась от более ранней культуры Эрлитоу по своему бронзовому комплексу. Если не вдаваться в тонкости технологии изготовления бронзовых изделий, то можно заметить, что, по сути, речь следует вести не только о более развитой технологии, но и о более сложной форме ритуала, поскольку все подобные изделия имели смысл только в рамках ритуальной практики, в основном связанной с культом мертвых Эрлиган с известной долей условности (о ней мы скажем чуть ниже) можно считать центром распространения китайской культуры. Целый комплекс археологических открытий в Эрлитоу и Эрлигане позволил поместить Аньян в общий исторический контекст. Стало ясно, что именно здесь располагался центр той территории, которая находилась под военной и, по-видимому, под сакральной властью правителей Шан. И именно отсюда шанская культура шагнула в другие регионы в виде переселенцев, передающих шанские бронзовые технологии, — этот факт стал очевиден после многочисленных раскопок в 70-90-х гг. Следы шанской культуры из провинции Хэнань можно обнаружить практически повсеместно, ее влияние доходило на северо-востоке до территории современной провинции Ляонин, а на юге до бассейна Янцзы. Отголоски шанского влияния видны практически повсеместно: в декоре ваз, в технике изготовления бронзовых сосудов, в чертах ритуальных масок.
Священное в бронзе
Цивилизацию эпохи Шан можно охарактеризовать двумя словами: поклонения и жертвоприношения. Вокруг этих двух начал, по-видимому, строилась вся жизнь древнекитайского общества. Нам остается лишь догадываться об их глубинной сути, поскольку мы можем реконструировать тот период лишь по причудливым изображениям и узорам на бронзовых сосудах, благо их обнаружено немало, да по разрозненным надписям на костях, которые появляются в поздний период Шан, да к тому же до конца не расшифрованы.
Китайская бронза периода Шан и начала Чжоу, ставшая характерной чертой древнекитайской цивилизации, оказалась самым тесным образом связана с методами общения с духовным миром.
Впрочем, это поставило и другой вопрос, очевидного ответа на который не существует и до сих пор: откуда пошла столь развитая бронзовая металлургия? Китайские бронзовые изделия не только вызывают восхищение разнообразием узоров и форм, но и порождают ряд загадок, прежде всего самим фактом своего возникновения. Кажется, в своем развитии Китай «пропустил» целый этап, который можно встретить во всех других мировых культурах, — этап использования мягких металлов в «чистом» виде, например, меди, после которого переходят обычно к более прочным сплавам типа бронзы, представляющей более тугоплавкий сплав меди, олова и свинца. Из-за этого внезапного появления бронзы в Китае родилась версия о том, что вообще вся бронзовая технология была привнесена сюда откуда-то с запада с некими переселенцами, возможно связанными с образами культурных первоправителей Китая, в том числе Фуси, Яо, Шуня, Шэньнуна и других. Известный историк Ли Ци высказал предположение, что вся эта сложная техника ранней металлургии не была исконно китайской, но оказалась привнесена сюда откуда-то из западной Азии.
38
Тем не менее, большинство китайских ученых резко отвергли эту версию, затрагивающую национальное самолюбие.
Литейные формы, обнаруженные вокруг руин Аньяна — предполагаемой столицы государства, нередко поражают своими масштабами и геометрической выверенностью. Одним из самых распространенных бронзовых изделий становится сосуд типа дин, обычно на четырех ножках с двумя полукруглыми ушками. В начальный период Шан сосуды дин встречались двух форм: четырехугольные с ножками в форме усеченного конуса и круглые обычно на цилиндрических ножках. В поздний период шанцы отказываются от изготовления круглых дин, все больше и больше делая их прямоугольными, что, вероятно, было связано с тем, что дин символизировал собой землю, которая в китайской символике выступала в форме квадрата, в то время как небо — в форме круга. Количество ножек уменьшается до трех цилиндрических подставок. Так родились ритуальные треножники типа гуй.
 Илл. 34. Четырехугольный бронзовый сосуд для ритуальной пищи с характерным изображением стилизованного духа таоте на гранях. Поздний период Шан.
Илл. 34. Четырехугольный бронзовый сосуд для ритуальной пищи с характерным изображением стилизованного духа таоте на гранях. Поздний период Шан.
Сосуды украшались различными типами узоров и использовались в основном для жертвоприношений. Поскольку бронза в начальный период своего развития была крайне сложна в изготовлении и не всегда достаточно прочна, не исключено, что такие сосуды применялись лишь для ритуальных случаев, например, для приготовления «пищи духов», а отнюдь не в повседневной жизни. Об этом, в частности, свидетельствуют частые изображения духа таоте и других представителей загробного мира на стенках сосудов, а иногда и на внутренней поверхности сосудов — именно им предназначалась эта пища. Колеблясь от огромных до миниатюрных, бронзовые изделия получили широкое распространение по всему течению Хуанхэ, и это свидетельствует о наличии в этих местах единых представлений о необходимости «кормить духов» и приносить им жертвы. Шанцы порою изготавливали сосуды колоссальных размеров, пища или соматический отвар из которых, вероятно, в окончательной фазе ритуала разделялась между всеми членами племени. Одним из самых больших считается сосуд дин, обнаруженный в деревушке Угуан в Хэнани, где когда-то располагалось поселение Симуу: его высота составляет 133 см, ширина 115 см, а вес — 875 кг. Другой дин из Чжэньчжоу, обнаруженный в 1974 г., при высоте в один метр весит около 83 кг. Сами сосуды использовались в том числе и для опьяняющих отваров, изготавливаемых из семян на манер браги.
Эрлиганские мастера теперь могли изготавливать сосуды поистине огромных размеров — до одного метра в высоту и весом до 86 кг. Такие сложные изделия чаще всего делались в две отливки, и лишь при крайне внимательном рассмотрении можно обнаружить места скрепления частей, сделанных в разных литейных формах. Вообще, искусство плавки и отливки у шанцев было развито необычайно высоко, причем «прыжок» от примитивных сосудов к утонченным был поистине стремительным. И это дало основания предполагать привнесенный характер самого искусства литья в Китае из каких-то западных районов, где, по преданию, селились некие «предки», с которыми ассоциировали себя шанцы. В основном эти изделия представляли собой квадратные сосуды на четырех ножках и с двумя массивными ушками, сплошь покрытые сложным декором. Первоначально орнамент был весьма прост, в основном он ограничивался горизонтальными опоясывающими линиями, спиралевидными повторяющимися завитками, которые, предположительно, имели космогонический смысл членения мироздания на несколько этажей или эпох. Постепенно геометрические фигуры становятся все сложнее, причудливым образом образуя лик странного существа таоте. Нередко на сосуде изображалась лишь одна, вероятно самая значимая его часть — глаза и прилегающие к ним области, которые практически «растворялись» в окружающем орнаменте из геометрических линий. Таоте можно принять за изображение то ли тигра, то ли барана, то ли черепахи, выполненное в виде геометрических линий. Тем не менее, кажется, что смысл таоте значительно глубже, чем просто воспроизведение характерных черт животного, не случайно именно таоте оказался центральным «героем» практически всех ритуальных орнаментов как эпохи Шан, так и последующей за ней Чжоу. И именно таоте становится лейтмотивом всего ритуального искусства Аньяна, и ответ на вопрос, кем же являлось это существо, может привести к решению значительно более широкой проблемы — что являлось центром ритуальной практики шанцев?
Очевидно, что весь бронзовый комплекс Эрлигана и, говоря шире, эпохи Шан представлял собой исключительно «материальную» ритуальную составляющую жизни, в то время как сам вид и смысл ритуалов известен нам лишь отчасти.
Поскольку все эти бронзовые сосуды использовались, как предполагается, для приготовления ритуальной пищи, для повседневного питания применялась значительно более простая глиняная или деревянная посуда. Основа ритуала заключалась в том, чтобы накормить духов предков и порадовать их свежими жертвоприношениями. Не исключено, что сосуды могли доверху наполняться жертвенной кровью, не случайно этот акт получил название «кормление кровью» (
сюэ ши).
В сосудах пища подносилась духам предков и использовалась в погребальных обрядах проводов души на Небо. Все сосуды покрывались особыми is рисунками, изображениями духов, чтобы сами духи могли без труда опознать ритуальный характер пищи и принять ее.
В этой символико-сакральной культуре лишь правитель-медиум рассматривался как человек воистину. Не случайно, как видно из гадательных надписей, правители говорили о себе: «я — единственный из людей» или «я — единственный человек» (
у и жэнъ), что указывает на то, что само понятие «человек» (
жэнъ) по своему смыслу заметно отличалось от современного значения. «Человеком» считался тот, кто опосредует связь между Небом и землей, и таким образом перед нами в виде правителя выступает знакомый образ медиума. Не случайно во всех иероглифах, связанных с обозначениями магов, медиумов, Неба и правителя присутствует компонент «человек».
 Илл. 35. Сосуд типа «юй» с крышкой в виде тигра с геометрическим орнаментом; использовался для ритуальной пищи. Эпоха Шан.
Илл. 35. Сосуд типа «юй» с крышкой в виде тигра с геометрическим орнаментом; использовался для ритуальной пищи. Эпоха Шан.
Погребальные ритуалы занимали уже одно из центральных мест в жизни шанского общества. Сам факт возникновения богатых и, очевидно, тонко продуманных захоронений свидетельствует, прежде всего, не только о становлении концепции посмертного существования, но и о наличии четкого понимания, как надо общаться с потусторонним миром. Вообще, собственно цивилизация начинается в тот момент, когда тела мертвых начинают не выбрасывать, а именно захоранивать в соответствии с четко разработанным ритуалом. И в этом — не столько признак уважения к конкретному человеку, его заслугам и статусу, сколько осознание того, что дух его, независимо от тела и даже прижизненных заслуг, будет всегда пребывать в пространстве.
 Илл. 36. Бронзовый сосуд типа «дин» весом 82 кг. Цилиндрические ножи украшены изображением таоте, сам же сосуд представляет его «тело» Эпоха Шан. Обнаружен в районе г. Чжэнъчжоу, провинция Хэнан.
Илл. 36. Бронзовый сосуд типа «дин» весом 82 кг. Цилиндрические ножи украшены изображением таоте, сам же сосуд представляет его «тело» Эпоха Шан. Обнаружен в районе г. Чжэнъчжоу, провинция Хэнан.
 Илл. 37. Сосуд для ритуального напитка типа «и» весом 71 кг. Вероятно, напиток подогревался в этом сосуде. Крышка и корпус декорированы изображением таоте, рогатых драконов куй и птиц, связанных с погребальным ритуалом. Из гробницы Фу Хао.
Илл. 37. Сосуд для ритуального напитка типа «и» весом 71 кг. Вероятно, напиток подогревался в этом сосуде. Крышка и корпус декорированы изображением таоте, рогатых драконов куй и птиц, связанных с погребальным ритуалом. Из гробницы Фу Хао.
В конце эпохи Шан проявилась новая особенность осознания существования души после смерти — в захоронениях стали в том или ином виде фиксировать имена усопших, обычно нанося их на бронзовую погребальную утварь, что дает возможность предположить магический ритуал «идентификации» души по ее имени после смерти, и с этой чертой нам еще придется столкнуться в более поздние эпохи. Впервые удалось установить имя погребенного при обнаружении захоронения женщины Фу Хао, датируемого 1200 г. до н. э. и открытом в 1976 г. в районе Аньяна — столицы Шан. Фу Хао — «госпожа Хао» — была одной из жен У Дина, правителя Шан и одного из самых удачливых военных лидеров древности. В ее могилу было положено более двухсот бронзовых сосудов, около 750 яшмовых украшений, 560 объектов из камня и кости. Здесь же были обнаружены и около 700 раковин каури — двуполовинчатых, «завернутых» вовнутрь раковин, которые, как считается, благодаря своему характерному виду символизировали детородный женский орган, а позже служили в качестве денег.
В этом первом идентифицированном захоронении уже присутствуют все черты усыпальниц, которые встречаются на протяжении практически всей последующей китайской истории. Здесь, в частности, есть площадка перед самой могилой, на которой выполнялись все ритуалы перед погребением. В саму яму помещалось не только тело, но и жертвенные животные. Яма сверху накрывалась бревнами, которые как бы «запечатывали» погребение и скрывали его.
Ситуация с характером погребений заметно изменяется лишь в IV–III вв. до н. э. Захоронения всегда были особым способом показать статус и прижизненные достижения умершего. Теперь над захоронением сооружаются погребальные курганы, покрываемые лесом. Вполне возможно, что такой обычай пришел от кочевников, однако на китайской почве он приобрел всю необходимую помпезность и ритуальную обстоятельность. Апофеозом сооружения роскошных усыпальниц с насыпным холмом над ними можно считать грандиозную могилу первого императора Китая Цинь Шихуан-ди II в. до н. э. в районе города Сиань.
Параллельные культуры
До начала 80-х гг. XX вв. считалось, что основным центром развития цивилизации и, как следствие, ритуалов, представлений о мире и власти в Китае была культура вокруг Аньяна в Хэнани, которая и понималась как цивилизация Шан. Спорадические находки в других регионах не давали основания полагать, что в Китае могли существовать другие цивилизационные центры, сопоставимые с Аньянским.
Первоначально случайные находки, а затем и регулярные раскопки, проведенные за пределами бассейна Хуанхэ — традиционного центра развития китайской цивилизации, внезапно показали странную картину, заставившую целиком изменить взгляд на истоки древней цивилизации.
Оказалось, что на юге Китая, а также в провинциях Цзянси, Сычуань существовали крупнейшие культурные центры, не уступавшие по размаху Аньянскому. Они были современниками Шан и, как выяснилось в дальнейшем при исследовании бронзовой утвари и изображений на ней, были связаны с Шан какими-то культурными связями или, по крайней мере, обменивались технологиями и продуктами.
 Илл. 38. Треножник типа «Эмм» для ритуальной пищи, представляющий лик и тело мистического монстра. XI–IX вв. до н. э.
Илл. 38. Треножник типа «Эмм» для ритуальной пищи, представляющий лик и тело мистического монстра. XI–IX вв. до н. э.
И, тем не менее, древние тексты не упоминали об этих центрах — они как бы выпали из «писаной истории», став известными только благодаря археологическим находкам. Очевидно, что вся писаная история Китая формировала представление об одном или, по меньшей мере, о едином центре развития цивилизации в районе Хуанхэ. Все иные центры либо выпадали из общей картины, либо оказывались более поздними, да к тому же и зависимыми от Шан. В действительности же большинство культур являлись абсолютно самостоятельными по своему генезису и оригинальными по технологиям и культурному развитию.
Древняя история Китая, прочитанная по текстам, была «шаноцентрич-ной», а история, реконструированная на основе раскопок, показала мульти-центричность развития Китая.
Отголоски этой мультицентричности оказались заметны на протяжении многих веков и даже тысячелетий, отразившись в различных комплексах легенд, разных культурных типах, разных наречиях (а в ряде случаев, строго говоря, в разных языках, объединенных лишь иероглификой).
Таким образом, независимо от Шан на территории Китая обозначились несколько самостоятельных центров, вероятно, первоначально никак не связанных между собой. Очевидно, что несмотря на утверждения древних текстов власть шанских правителей была далеко не универсальной.
Однако распространение культуры Эрлигана — безусловно, одной из самых развитых в тот момент — привело к росту связей с другими регионами Китая, до тех пор развивавшимися в основном независимо друг от друга и имевшими свою оригинальную культуру. Постепенно вне влияния и контроля основного домена стали развиваться очень мощные культурные, а затем и политические центры.
Тем не менее, региональные культурные центры испытывали очевидное взаимовлияние, и культура оказывалась как бы склеенной из многих течений и представлений, что с очевидностью можно видеть в общих мотивах и декоре на бронзе. Так, практически повсеместно проступает образ некоего рогатого существа с огромными глазами, получившего название таоте, о сути которого мы еще скажем ниже.
Если углубиться еще дальше — за бассейн Хуанхэ, например в Хунань, здесь уже с очевидностью выявляется абсолютно самостоятельный стиль в бронзе и ритуальном орнаменте, что, в частности, хорошо видно на находках из Нинсяна, открытых в 60-х гг. XX в. В этом районе формировалась знаменитая южная традиция, которая надолго сохранила в своих недрах архаику мистических культов и оккультных техник, связанных с древнейшими ритуалами.
Этот тип южной традиции характеризуется весьма примечательными бронзовыми сосудами, выполненными в форме тигров, слонов, баранов или буйволов. Нередко изображения голов этих животных умело вплетались в общий декор кувшина, например, на гранях ритуальных кубков, используемых либо для вина, либо для крови, располагались четыре головы буйвола. Если отойти от стандартной «дешифровки» таких изображений как «культа животных», следует признать, что сама суть ритуального использования таких кубков неизвестна. Впрочем, можно высказать два предположения, которые частично подтверждаются в более поздние эпохи. Во-первых, в подобные кубки могла наливаться кровь закланного животного, в частности, самого буйвола. Во-вторых, хорошо известно, что шаманы во время закланий и молитв переодевались в шкуры этих животных, а многочисленные изображения рогатого существа (
таоте) есть стилизованное изображение шамана в ритуальном костюме. Таким образом, при наливании крови или соматического напитка в такой «животный» кубок, т. е. при погружении ее в «тело» животного, одновременно происходило и «кормление» шамана.
Еще один центр развития древней цивилизации располагался на территории современной провинции Цзянси. Еще в 70-е гг. здесь в местечке Учэн были обнаружены поразительные по своей красоте и первобытной утонченности изделия из глазурованной керамики. Однако в тот момент находка представлялась скорее случайностью, нежели открытием целой культуры, независимой от Шан. Но открытое в 1989 г. во время раскопок в районе местечка Синьган захоронение заставило пересмотреть прежние взгляды. Захоронение, несмотря на то что многие его предметы оказались повреждены водами реки, поражало своей роскошью и богатством погребальной утвари. Для путешествия в мир мертвых рядом с хозяином могилы было положено более 350 керамических изделий, 150 изделий из нефрита, 50 бронзовых сосудов, четыре бронзовых барабана и более 400 предметов и оружия из бронзы. На настоящий момент это захоронение из Синьгана считается вторым по богатству погребальной утвари среди погребений периода Шан.
Однако самое поразительное открылось после тщательного изучения этих предметов: оказалось, что они были привезены, скорее всего, из разных районов Китая. Например, некоторые бронзовые изделия имеют северокитайское происхождение и практически в точности повторяют классическую форму шанских бронзовых предметов. Часть предметов, хотя и несла на себе следы шанского влияния, была заметно модифицирована и адаптирована под локальные вкусы и представления.
Здесь, в этом районе, существовала своя оригинальная бронзовая культура. Так, бронзовые предметы, которые не привозились, а отливались прямо на месте, заметным образом отличались от культуры Аньяна. Мотивы, что встречаются в их декоре, свидетельствуют и о принципиально иной концепции ритуала, существовавшей некогда на территории Цзянси.
40
Пугающие демоны Сяньсиндуя
Еще одно открытие, сделанное в июле 1986 г., заставило кардинальным образом изменить мнение о шанском Китае как о единой культуре с центром вокруг Аньяна. В провинции Сычуань близ селения Саньсиндуй, почти в тысяче километрах от Аньяна, были открыты погребения, которые хронологически совпадают с Шан, но очевидным образом представляют самостоятельную культуру. Причудливые изделия из яшмы неоднократно извлекались местными рабочими, добывавшими камень, еще в 30-х гг., но лишь много десятилетий спустя в этих местах была открыта целая оригинальная культура. Из первого раскопа на свет были извлечены утонченные нефритовые изделия, 13 слоновьих бивней, раковины каури, обгоревшие остатки костей животных. Предметы были изготовлены из тонкого золотого листа, бронзовые изделия и изображения имели необычную форму. Всего же лишь в одном этом раскопе было обнаружено более 400 различных предметов. Такой разнообразный набор предметов свидетельствует прежде всего о весьма развитом культе усопших и безусловно впечатляющей картине погребального ритуала, при котором сжигались десятки животных.
Во второй яме, которая, предположительно, была устроена позже первой, оказались загадочные культовые предметы, например, бронзовое витое «дерево», вероятно имевшее значение «мирового древа», соединяющего «мир горний» и «мир дольний», — подобная символика нередко встречается во многих ранних культурах мира. В том же раскопе был обнаружен и ряд странных бронзовых изображений, о которых мы скажем чуть ниже.
Обе ямы располагались за городской стеной, и их содержание оказалось столь разнообразным, что не имеет очевидного и простого объяснения. Одним из предположений стало, что обнаружены две жертвенные ямы, а не просто индивидуальные погребения, — на это, в частности, указывают утварь и обгоревшие кости.
41
Однако с неменьшей вероятностью можно предположить, что речь идет о типичных «культурных ямах» — мусорных свалках, куда попадали и остатки пищи, подвергнувшейся термической обработке (отсюда и обгоревшие кости), и пришедшая в негодность утварь.
Культура, обнаруженная в Сычуани, как уже говорилось, хронологически совпадает с цивилизацией Шан с центром вокруг Аньяна. Но была ли это одна и та же культура? Имеем ли мы право принимать синхронность за цивилизационное единство? Безусловно, между ними немало общего, и прежде всего широкое распространение бронзовых и нефритовых изделий, однако существуют и немалые различия.
На территории Сычуани жили племена, называемые шу и ба, а затем в эпоху Чжоу (XII–II вв. до н. э.) так стали именоваться государства, образовавшиеся на этом пространстве. Здесь же жила и, отличавшаяся по традициям и антропологическому типу от ханьцев. Сычуань была заселена ханьцами только в V в. до н. э. и была присоединена к первой империи Цинь во II в. до н. э. Культуры шу и ба распространялись не только на территории Сычуани, но затрагивали также часть соседних провинций Хубэй, Хунань, а также и провинций Юннань и Гуйчжоу, куда из Сычуани простиралась юго-западная ветвь народности и (
лоло).
Бронзовые и нефритовые изделия, найденные здесь, обладая безусловными местными особенностями, во многом напоминают изображения на бронзе, что были обнаружены на Центральной равнине, и, очевидно, между ними существовала прямая связь или заимствование.
Однако предметы здесь отличаются еще большей фантасмагоричностью и намеренным искажением пропорций: гигантские деревья, пугающие бронзовые маски и загадочные фигуры.
Подавляющее большинство бронзовых ритуальных изделий — сосуды в виде человеческой головы с глазами навыкате, причудливые бронзовые фигурки большеглазых и большеухих людей — говорили об абсолютной оригинальности сычуаньского культурного центра. И одновременно с этим, так же как и в случае с культурой провинции Цзянси периода Эрлиган, в Саньсиндуе были обнаружены бронзовые сосуды, которые свидетельствовали либо об обмене с шанцами, либо об использовании их технологии.
В бронзовых изображениях и фигурках, обнаруженных в раскопах в Сычуани в Саньсиндуе и преисполненных чарующе-пугающего начала, можно заметить несколько стабильно повторяющихся сюжетов, нигде более не встречающихся. Перед нами предстает изображение некого человека-духа с утрированно заостренными чертами лица: сильно раскосые глаза, большие заостренные уши, тяжелая широкая челюсть, прямое переносье, подчеркнутые кожные складки под глазами. Рот прорезан в виде тонкой линии, поэтому может показаться, что странный персонаж усмехается.
Не менее странны головные уборы этих существ: на голову одного водружена тиара с двумя небольшими крылышками-рожками по бокам, голова другого обвязана платком, у третьего повязана перевитая веревка, и ни одно из изображений не встречается с непокрытой головой.
Другая маска имеет выпученные глаза в виде небольших бронзовых столбиков, угловатую тяжелую челюсть, крючковатый и абсолютно нехарактерный для древних жителей Китая нос.
Обычно утрированию подвергается именно то, что отличается от черт китайцев: нос, строение челюсти, разрез глаз. Так рождается образ духа-защитника, маску которого надевали медиумы.
Именно эти изображения и позволили предположить, что в Сычуани существовала одна из самых развитых магических культур шаманов.
Первоначально в Сычуани были обнаружены около сорока бронзовых голов подобного типа, часть из которых отлиты в натуральную величину.
Некоторые из этих бронзовых голов, обнаруженных в погребальной яме, были заполнены раковинами каури, часть несет следы полихромной росписи. Так, волосы расписывались черным цветом, губы — красным. Таким образом, за счет красок телесного цвета эти предметы «оживлялись» для совершения погребального обряда.
Тот факт, что в большинстве своем головы эти выполнены в полную величину, дает основания предполагать, что они использовались как маски, надеваемые во время погребальных ритуалов.
Другой тип бронзовых масок в общем повторяет заостренный лик духа, однако у него выпученные глаза в виде цилиндров, нос, выполненный в виде сложной спирали. Некоторые из этих масок были весьма велики по размеру, высотой ок. 85 см, шириной ок. 80 см, и очень тяжелы, поэтому вряд ли надевались на голову. Они служили для каких-то других целей.
Не меньшая загадка кроется и в бронзовых фигурках в полный рост, которые были обнаружены в погребениях. Они обладают такими же заостренными чертами лица, как и маски. Эти люди (духи, шаманы?) одеты в длинные халаты с запахом налево и юбки, доходящие до середины голеней.
Обычно они босы, а в руках держат какие-то предметы, которые не сохранились, возможно куски бивней слонов. Но самое поразительное заключается в том, что некоторые фигуры выполнены в полный рост: так, высота одной из скульптур составляет 1 м 73 см. И та же фигура частично приоткрывает нам смысл этих странных фигур. Она стоит на высоком постаменте, выполненном в виде перевернутой маски таоте. Таким образом, шаман, вероятно в маске, попирает ногами изображение духа и одновременно как бы возвышается на нем, объединяя мир предков и мир ныне живущих. Важная особенность заключается именно в том, что маска перевернута, символизируя таким образом противоположный, «зазеркальный мир» — царство умерших предков.
По многим чертам и особенностям орнамента подобные маски повторяют изображения на вазах типа цзунъ (сосуды в виде полуптиц-полудухов) и лэй, которые встречались на Центральной равнине, что позволяет предположить наличие связей между цивилизациями Шан и Шу.
Примечательно, что все эти изображения и фигурки абсолютным образом отличаются от предполагаемого облика древних жителей Китая. Более того, большинство изображений, наоборот, очевидно говорят о «непохожести» героев изображений не только на древних китайцев, но и на людей вообще. Сохраняя очевидный антропоморфный облик, они формируют у того, кто смотрит на них, ощущение «непохожей похожести»: складывается впечатление, что перед нами — человек, надевший маску, которая утрированно имитирует каких-то древних предков, живших на территории Китая до прихода сюда монголоидов.
Характер некоторых «витых» узоров на головах и телах этих существ напоминает нам татуировки, которые действительно широко встречались среди жителей южного Китая, особенно среди местных племенных лидеров и шаманов. Сами же лица близки к изображениям странного духа, именуемого таоте, с огромными глазами, пастью и то ли с ушами, то ли с рогами на голове.
И все же сычуанские бронзовые изображения значительно ближе к образам реальных людей, чем таоте из Хэнани, связанные с культурой Шан и последовавшим за ней периодом Чжоу. Более того, именно в случае с сычуаньскими большеголовыми идолами становится более очевидно, что это, скорее всего, и есть человек, надевший на себя маску, что в первобытных культурах обычно использовалось для «сокрытия» облика человека и превращения его в духа в момент ритуального общения с потусторонним миром. Мы полагаем, что в китайской культуре как раз именно духов никогда не изображали, все эти многочисленные рисунки на керамических изделиях, бронзовых сосудах есть изображения медиумов, вступающих в контакт с духами и в этот момент становящихся духами.
 Илл. 39. Бронзовая фигура из Сансиндуя, провинция Сычуань
Илл. 39. Бронзовая фигура из Сансиндуя, провинция Сычуань
Многие сычуаньские изображения были обнаружены в необычном виде: очевидно, что у фигур специально отламывали или отбивали головы, тем самым как бы умерщвляя духа. Таким образом, и здесь властвовала культура жертвоприношения, причем для него использовался заменитель — бронзовая статуэтка, изготовленная, как можно предположить, в виде медиума в маске. Именно маской и объясняется необычный вид головы фигуры.
Сычуаньский центр культуры был, по-видимому, весьма своеобразен, но не имел явного продолжения в истории, будучи подчинен другим культурам. Тем не менее, его отголоски видны в магических обрядах в эпоху Троецар-ствия, когда в этом районе образовалось царство Шу, известное своими военными успехами. Но Сычуаньский центр культуры показал и другое — многоцентровость развития древней китайской культуры и существование сразу нескольких векторов развития на территории древнего Китая.
Чжоу: от архаического к символическому
Период с середины II тыс. до н. э. проходит под знаком Чжоу — первоначально небольшого племенного образования, а в дальнейшем названия периода китайской истории, длившегося восемь веков, до II в. до н. э.
Это был период формирования многочисленных философских школ, государственных институтов и новой системы власти. Именно в период Чжоу Китай переходит от системы царств к единой империи. Чжоу стал также периодом, когда архаика мистических преставлений, основанная на смутных ощущениях и ярких личных переживаниях, уступает место логике постижения мистического через рассуждения и дискуссии.
Некогда, приблизительно в XIII в. до н. э., Чжоу было небольшим племенем, соседом шанцев на северо-западе. Постепенно племена Чжоу стали распространяться с их исконной территории, предположительно в провинции Шэньси, восточнее. В нескольких битвах, о которых ярко повествуют легенды и боевые танцы, чжоусцы разбивают шанцев и основывают свою столицу неподалеку от современного г. Сиань.
Название племени Чжоу дало название и всему периоду китайской истории, хотя сам домен Чжоу уже не играл решающей роли и не обладал тем могуществом, которое требовалось для контроля над Центральной равниной.
Многочисленные следы народа Чжоу еще до того, как он пришел к власти, были обнаружены в районах Цишань и Фуфэн в Шэньси, неподалеку от нынешней столицы провинции Сиань. Именно эти находки позволили провести разделение между чжоусцами как отдельным племенем и шанцами, причем особенно это было заметно в области металлургии, поскольку шанцы славились своим роскошным ритуальным бронзовым комплексом.
Первый период существования Чжоу, начавшийся в 1050 г. до н. э., получил название Западного Чжоу. В 771 г. до н. э. столица Чжоу после многочисленных войн и восстаний была перенесена восточнее, в провинцию Хэнань, что положило начало периоду Восточного Чжоу. В период Западного Чжоу центр культуры располагался в провинции Шэньси, однако влияние Чжоу постепенно расширялось и новые территории оказались слишком велики для прямого управления.
В связи с этим чжоуские правители передавали часть своих функций местным лидерам, которые до этого времени играли роль племенных вождей или высших священнослужителей — ванов. В свою очередь, местные лидеры, обладая немалым ритуальным влиянием на народ, приобретали все большую административную власть и независимость от правителя Чжоу. В конечном счете, дробление харизмы священного лидера и стало причиной краха Западного Чжоу.
Большинство бронзовых изделий эпохи Западного Чжоу извлечены сегодня не только из захоронений, но и из особых кладов, которые создавали в середине VIII в. правители царств в смутные времена войн и заговоров, заставлявших их покидать свои царства, что, в конце концов, и привело к падению Западного Чжоу. Часть их сокровищ была случайно найдена крестьянами в 1976 г. Массивные сосуды для вина, датируемые X в. до н. э., не только передавали лик некого мистического существа таоте, но даже изготавливались в виде его лица: ушки сосуда служили ушами таоте, посредине в виде линии выполнялся нос и два глаза как большие точки. Это была характерная форма сосудов периода Чжоу, сплошь покрытых сложным символическим рисунком, в котором можно угадать изображения птиц, змей, драконов и таоте.
Самая богатая находка была сделана в местечке Чжуанбай в районе Фуфэна, и датируется она XI–VIII вв. до н. э., т. е. периодом Западного Чжоу. Здесь было обнаружено 103 бронзовых изделия, в том числе кувшины, кубки, блюда, и среди них — бронзовая пластина с самой большой для того времени надписью по бронзе, включающей 224 иероглифа. Шанцы, особенно в поздний период, также наносили надписи на бронзовые пластины и кувшины, однако они были значительнее лаконичнее. Теперь же сами надписи становятся частью погребального ритуала, нанесение иероглифа превращается в особый вид «освящения» кувшина или пластины, и с этого периода берет свое начало священный характер любых надписей в Китае.
Безусловно, поводом для вдохновения чжоуских бронзовых мастеров служили изделия, некогда изготовленными их предшественниками — шанцами. Вообще вся ранняя культура Чжоу была проникнута стремлением адаптировать традиции шанцев; это ощущается не только в бронзовых изделиях, но и в высказываниях философов и правителей, которые, несмотря на разгром Шан, видели в том времени истинность традиции и ритуалов.
Тем не менее, постепенно чжоуская культура отходит от шанского образца. Она заимствует все больше и больше мотивов из западных и южных районов, в частности, чаще начинаются встречаться барельефы, зооморфные мотивы на кувшинах, а сам стиль становится невероятно избыточным в своем декоре. Приблизительно с X в. до н. э. происходит перелом в ритуальной жизни чжоуского общества, и это проявляется в абсолютно новом стиле декора. В нем появляются доселе
неизвестные мотивы, обычно характерные для шаманской традиции юга. Происходит как бы возврат в архаику шаманизма, что можно также расценивать как попытку найти новую идентичность культуры через невероятную плотность сакрального общения с высшими силами. Теперь основными сюжетами чжоуской бронзы становятся драконы, птицы с 40 длинными хвостами и высокими хохолками, которые даже частично вытесняют маску таоте. Все эти существа начинают встречаться не только на бронзовой погребальной утвари, но и на нефритовых украшениях, которые обычно клались в погребения. Порою нефритовыми пластинами целиком покрывалось лицо усопшего, образуя своеобразную маску, как в погребении правителя Го, найденного в Шансуньлине в Хэнани. Все же никакой глобальной революции в переосмыслении духовного мира не произошло: в любом случае, и таоте, и драконы, и птицы, — все считаются либо перевозчиками души в царство мертвых, либо воплощением самого шамана, который выполняет эту функцию. Очевидно и другое — к X в. происходит мощный вброс крайне архаичных ритуалов южных традиций в уже высоко развитую чжоускую культуру.
К концу периода Западного Чжоу формы сосудов и изображений на них становятся все более тереотипными, происходит определенная стабилизация ритуальной жизни, которая сумела вобрать в себя как собственно древнюю шанскую традицию, так и шаманские мотивы южных культур.
На этом фоне происходит настоящий переворот в ритуальной жизни, на что указывали многие исследователи этого периода
43. Прежде значимые части ритуальных изображений — птицы, змеи, лики таоте — становятся лишь частью декора, утрачивают самостоятельную значимость и превращаются в обычный узор, наносимый в виде арабесок на кувшин или блюдо. Изменяется и сам вид традиционных зооморфных композиций, они становятся крайне абстрактными, теряют четкость очертаний и как бы распластываются по всей поверхности сосудов. Так, змеи и драконы уже изображаются в виде своеобразных лент, идущих вокруг кувшинов и чаш. Из-за этого иногда вся композиция утрачивает симметричность — характерный признак древних изображений эпохи Шан и раннего периода Чжоу. Симметрия всегда связана с космогоническим представлением об устойчивости и повторяемости мира, которая выражается простейшей формулой «что наверху — то и внизу». Мир земной дублирует мир небесный, а видимое пространство жизни повторяет существование в мире невидимом. Симметрия в композиции вообще является ключевой частью раннего представления о ритуальной сущности мира, здесь даже люди или шаманы изображаются с симметрично поднятыми вверх руками.
Перенос столицы в 771 г. до н. э. западнее, в Хэнань, создал водораздел между двумя большими периодами существования Чжоу и дал начало эпохе, получившей название Западного, или Позднего, Чжоу (770–221 гг. до н. э.). Именно этот период оказался временем расцвета многих философских и мистических школ, кодификации раннего знания, расцвета городов, литературы и торговли. Однако одновременно он стал и периодом хаоса, что резко контрастировало с относительным покоем на Центральной равнине, который царил в период Раннего, или Восточного, Чжоу. Сотни и десятки царств соперничали за власть, влияние и, самое главное, за возможность овеществлять высшую сакральную функцию правителя Поднебесной. Собственно, сам период Позднего Чжоу распадается на два подпериода. Первый, получивший название «Весен и Осеней» (Чуньцю, 770–475 гг. до н. э.) по названию известной летописи, приписываемой Конфуцию, характеризовался усилением региональных аристократических группировок и созданием вокруг них отдельных царств. Стремительное ослабление верховной власти центрального домена Чжоу (по названию которого и получил свое именование весь период) породило массу царств и, как следствие, — региональных культур и традиций. Одновременно резко усилились и те региональные культуры, которые никогда не считали себя вассалами Чжоу или лишь формально связывали себя с чжоускими правителями.
Несмотря на относительную слабость политической власти культурное давление Чжоу и царств Центральной равнины было невероятно мощным. Под его воздействием в Китае вырабатывается единый стиль бронзы, росписей и, видимо, верований. Примечательно, что сегодня обнаружено несколько тысяч богатых захоронений и лишь несколько столичных городов, относящихся к периоду Восточного Чжоу. Этот факт можно интерпретировать по разному — и как следствие единой мощной власти, не позволявшей региональным элитам «расползаться» по собственным столицам, и как стремительное развитие особого слоя людей, связанных с обслуживанием сакральных нужд общества, чьи останки и покоятся в этих захоронениях. В первый период своего существования Восточное Чжоу являлось очевидным продолжателем традиций своих предшественников и в стиле росписей, и в манере изготовления бронзовых изделий. Бронзовые кувшины отличались богатым, многослойным декором, на котором чаще всего проступали изображения лика таоте, неких существ, похожих либо на змей, либо на драконов, свиней и птиц, — всего того, что связывалось именно с погребальными культами. Мир живых практически отсутствовал в росписях и инкрустациях, и, по сути, основная функция чжоуской культуры сводилась к «обслуживанию» мира мертвых.
К V–VI вв. до н. э. сложилось два крупных региональных центра культуры: северная традиция была представлена царством Цзинь, южная — царством Чу.
 Илл. 40. Бронзовое зеркало с серебряной отделкой, украшенное стилизованными переплетшимися существами «лун» — драконами. В центре — отверстие, куда продевалась веревка. Зеркало носилось на груди для отражения духов. 475–225 гг. до н. э. Из гробницы в Чжанцзяшань, провинция Хубэй.
Илл. 40. Бронзовое зеркало с серебряной отделкой, украшенное стилизованными переплетшимися существами «лун» — драконами. В центре — отверстие, куда продевалась веревка. Зеркало носилось на груди для отражения духов. 475–225 гг. до н. э. Из гробницы в Чжанцзяшань, провинция Хубэй.
Впервые остатки традиции Цзинь были обнаружены в 1956 г. в местечке Хоума в Шаньси, где были найдены развалины древней столицы, датируемые 584–450 гг. до н. э. Здесь же располагалась гигантская литейная мастерская, в которой находилось более 30 тыс. литейных форм для бронзовых сосудов. Примечательно, что формы эти имели очень разный характер и относились к разным стилям. Именно здесь, по-видимому, шел процесс специализации бронзовой продукции, разнящейся не только по мотивам и изображениям, но и по своим функциям. Огромное число литейных форм показало и другое: некогда очень сложные в изготовлении бронзовые изделия приобрели характер массовой продукции. И, как следствие, ритуал, связанный с этими сосудами, стал также массовым и обиходным. Изображения на бронзовых сосудах буквально «накатывались» за счет небольших форм, в результате чего по кругу сосудов и кувшинов шел барельеф из многократно повторяющихся изображений. Такое многократное повторение одного и того же изображения в сочетании с очень плотным покрытием всей поверхности кувшина получило название «бронза Лию» по имени деревни Лию в Шаньси, где крестьяне, обрабатывая землю, в 1928 г. случайно извлекли из земли первые подобные изделия, которые считаются самыми древними.
Параллельно с барельефами на кувшинах начинает все чаще и чаще встречаться техника инкрустации — значительно более ранняя и технически простая, к тому времени уже несколько подзабытая.
Поэтому сам факт возрождения к VI в. техники инкрустации, которая в основном использовалась шанцами для нанесения изображений на ритуальное оружие, весьма необычен. Частично этот факт можно объяснить усилившимися контактами с кочевниками, расселявшимися по северным рубежам Шан. К VI–V вв. до н. э. Китай превращается в страну, вполне открытую для внешних контактов и, как следствие, даже «обслуживавшую» вкусы соседних кочевых народов. Влияние это особенно заметно в инкрустированных изображениях различных церемониальных сцен придворной охоты. Кувшины и блюда плотно покрывались большим количеством силуэтов людей, выполненных в нарочито примитивной манере, несколько напоминающей наскальные изображения или рисунки на золотых пластинах, распространенные среди обитателей степи. Параллельно с этим встречаются и изображения каких-то полуфантастических существ, не характерных для традиции северного Китая, пришедших также от кочевников. Вероятно, это было причудливое смешение пришлых и местных верований, смыкавшихся внутри единого мистического опыта, не случайно и для кочевых народов, и для шанцев было характерно изображение некого антропоморфного существа с рогами. Но если шанцы обычно рисовали лишь голову, точнее маску рогатого существа с большими глазами, то на инкрустированных сосудах мы уже видим это существо в полный рост. Оно напоминает то ли человека, надевшего маску коровы или оленя, то ли само это животное, вставшее на задние ноги. В любом случае, речь, скорее всего, идет о зарисовке какого-то ритуального танца с переодеваниями.
Южная традииия Чу
Совсем иную традицию представлял юг Китая, где в 689 г. до н. э. правители Чу основывают свою столицу в бассейне Янцзы в провинции Хубэй, неподалеку от современного города Цзянлина. С этого момента Чу начинает стремительно расширяться и захватывает множество соседних царств, превращаясь в одно из самых больших территориальных образований на территории древнего Китая.
Чу становится самым сильным, а впоследствии и единственным мощным царством на юге Китая, противостоя царствам Центральной равнины, расположенным в основном вдоль Хуанхэ. Это противостояние шло как в области военной, так и в области культурной. Юг Китая надолго сохранил архаические ритуалы и шаманские обычаи.
Первые археологические находки, связанные с культурой Чу, обязаны своим обнаружением строительным работам вдоль железной дороги в провинции Хунань у столичного города Чанша в 30-х гг. С того времени были найдены сотни погребений, отличавшихся богатой ритуальной утварью и не менее богатыми росписями, суть символики которых до сих пор до конца не ясна.
Здесь, в Чу, активно развивается лаковое искусство, обычно представленное в виде красно-черных рисунков. Эти рисунки, равно как и подавляющее число других изображений, являются еще одной иллюстрацией «из потустороннего мира». Лаковые изображения наносятся на внешние и внутренние поверхности гробов (в частности, именно так расписано последнее пристанище правителя И из области Цзэн). Интересно даже не само изображение, а то, что его сюжеты практически в точности повторяют инкрустации на бронзовых сосудах, характерных для северного Китая. Те же рогатые головы, те же странные извивающиеся существа, отдаленно напоминающие драконов. Очевидно, что идет активный культурный обмен — и этот процесс подразумевает не только обмен внешними формами, но и заимствование самих образов потустороннего мира.
Влияние южной китайской традиции, полной четко разработанных шаманских представлений и методик достижения экстатического состояния, ощущалось весьма сильно и на севере Китая, причем не только в области художественных изображений и технологий изготовления погребальной утвари, но и в области «теории» и преданий, связанных с самой мистической традицией. Стоит вспомнить, что большинство текстов VII–III вв. до н. э., связанных с описанием магических практик, вышло именно с юга Китая или эти трактаты передавали во многом или частично южную традицию, например, «Лао-цзы», «Чжуан-цзы», «Ле-цзы». В свою очередь, влияние северной культуры отразилось и в мотивах росписей и изображений в провинциях Хубэй и Хунань, где пересекались самые разные формы верований и погребальных ритуалов.
Захоронения, относящиеся к V–IV вв. до н. э., оказались вообще ярким примером пересечения южной и северной традиций. Характер рисунков и сочетания цветов на гробе говорит о том, что чусцы имели весьма разработанные представления о том, что душа умершего переживает множество трансформаций после смерти тела и может быть атакована различными злыми духами. Поэтому предпринимались чрезвычайные меры для защиты тела и души умершего во время погребения. Собственно сам склеп состоял из нескольких частей, обычно четырех, помещавшихся одна в другую. Эта традиция, известная во многих регионах древнего мира, например в древнем Египте, сохранилась в Китае до XVI–XVII вв. при погребении императоров или высших чиновников. На внутреннем гробе изображались особые охранители души: существа в масках с рогами, похожие на таоте, с клевцами (
цзи) в руках — оружием на длинном древке с односторонним лезвием-крюком. На каждой стороне боковой поверхности гроба изображалось по восемь духов, разделенных на две группы по четыре.
Само захоронение помещалось под курганом, что можно считать новым явлением в ту эпоху. Оно состояло из нескольких частей, обычно трех или четырех камер. Вся совокупность этих камер воспроизводила собой подземные покои усопшего, как бы дублируя в тонком мире его прижизненную обитель. Здесь воспроизводился известный сюжет оккультных практик о повторении форм видимого и невидимого мира, известный практически по всему земному шару, причем в случае с захоронениями эта концепция соблюдалась особенно тщательно.
Яркой иллюстрацией сложнейших представлений о загробном мире может служить самое крупное чуское захоронение, принадлежащее правителю И из небольшой и до сих пор малоисследованной области (или царства) Цзэн, расположенной в самом центре Чу. История области Цзэн покрыта мраком, поскольку никаких письменных свидетельств о ней не сохранилось, — еще одно подтверждение того, что древняя китайская история освещена со стороны текстологической традиции весьма однобоко. Захоронение открыли в 1977 г. в провинции Хубэй в Лэйгудуне, и, как всегда, по случайности — его обнаружили солдаты, которые срывали холм. Холм оказался погребальным курганом, под которым покоился мужчина в возрасте около 45 лет, который умер в 433 г. до н. э.
Судя по этому захоронению, именно центральная камера была целиком связана с самим погребальным ритуалом, и туда помещались различные музыкальные инструменты, чьи звуки могли влиять на духов. В частности, в захоронении правителя И в центральной камере были обнаружены десятки бронзовых колоколов и гонгов.
Открытость Китая внешним воздействиям в древности хорошо известна, хотя и не всегда очевидна. Здесь параллельно происходили два процесса: во-первых, обмен технологиями между северными и южными районами Китая, представленными в тот момент абсолютно разными культурами, и, во-вторых, привнесение технологических новаций со стороны северных кочевых и полукочевых народов и даже с Ближнего Востока. Другой поток привнесений — заимствования в духовной сфере — проследить достаточно сложно, и можно лишь догадываться о них по появлению новых мотивов в погребальных изображениях, использованию новой цветовой гаммы в росписях.
В усыпальнице правителя И, например, были обнаружены бронзовые вещи, технология изготовления которых не встречалась в Китае до этого времени, в частности, ромбовидные узоры.
Все это стало возможным за счет использования литья по выплавляемым моделям: сначала глиняная форма лепилась вокруг восковой модели. Затем воск выплавлялся за счет того, что в форму заливался расплавленный метал. Скорее всего, эта техника была принесена в Китай с Ближнего Востока к VI в. до н. э. прежде всего в северные районы страны, затем пришла и на юг, в частности в царство Чу.
 Илл. 41. Бронзовая шкатулка в виде барана. На цоколе видно изображение духа таоте; таким образом, баран может пониматься как жертва духу. XII–IX вв. до н. э. Провинция Шэньси
Илл. 41. Бронзовая шкатулка в виде барана. На цоколе видно изображение духа таоте; таким образом, баран может пониматься как жертва духу. XII–IX вв. до н. э. Провинция Шэньси
Эпоха Хань: погребальный культ как искусство
В 221 г. до н. э. в Китае воцаряется первая единая империя: царство Цин во главе с правителем Чжэнем побеждает вся царства и объединяет Китай под единой властью. Первый император берет себе титул Цинь Шихуан-ди. Это был период нового порядка после затяжного хаоса. Новую столицу он основывает в городе Сяньяне в провинции Шэньси, неподалеку от современного города Сиань. Цинь Шихуан, придя к власти, начинает серию реформ, призванных кардинально перестроить жизнь в Китае. Новая единая административная система теперь распространялась на всю территорию Китая, страна же была разделена на провинции и уезды. Для образования единого культурного пространства Цинь Шихуан проводит реформу письменности, вводя единую систему написания иероглифов, а также единую систему мер и весов. По всему Китаю разворачивается гигантское строительство объектов, призванных не только подчеркнуть величие новой власти, но и очертить новое магическое пространство китайской культуры. Десятки тысяч человек были задействованы на строительстве Великой китайской стены, великого канала, многочисленных дорог и городов, сам же император, по описаниям историка Сьша Цяня, соорудил для себя несколько роскошных дворцов в разных районах Китая.
Могила Цинь Шихуана, случайно обнаруженная крестьянами при рытье колодца в марте 1974 г., представляет собой сооружение настолько же величественное, насколько и странное. Фотографии с содержимым могильного кургана Цинь Шихуана обошли весь мир, а само погребение в Сиани стало центром туристического паломничества. В погребальный курган было помещено несколько тысяч изображений из терракоты в натуральную величину: воины, повозки, лошади и даже макеты жилых домов. Воины раскрашивались в натуральные цвета; таким образом, все это воспроизводило почти реальную картину жизни, которая вместе с Цинь Шихуаном должна была переместиться в загробный мир.
Исследования погребения Цинь Шихуана продолжаются и по сей день, однако до сих пор сама концепция такого погребального ритуала остается не до конца понятной. В данном случае впервые все предметы воспроизводились в натуральную величину с соблюдением пропорций, а люди — даже с индивидуальными чертами лица. Высота человеческих фигур колеблется между 176 и 196 см, то есть здесь не было ни миниатюризации, ни гиперболизации, обычно свойственных похоронным ритуалам. Нет сомнений, что многочисленные терракотовые воины (а их на сегодня обнаружено более 6000 тыс.) были призваны защищать душу императора, но не ясны сами подробности такого представления.
 Илл. 42. Основатель первой империи на территории Китая Цинъ Шихуан-ди (259–210 гг. до н. э.)
Илл. 42. Основатель первой империи на территории Китая Цинъ Шихуан-ди (259–210 гг. до н. э.)
Сомнительна также и исключительно «защитная» функция воинов, поскольку в погребении, как отмечалось, обнаружены и фигуры каких-то гражданских чиновников, лошади, скот и даже дома. В принципе все эти статуи воспроизводили традицию помещения в погребение мелких фигурок людей и животных (
минци), заложенную приблизительно в VI в. до н. э., в период Восточного Чжоу. Они являлись заместителями кровавой жертвы, которая обычно помещалась в могилы в более ранние эпохи. Однако столь монументального размаха, как в сианьском погребении, погребальный ритуал не достигал никогда.
Очевидно, что задачей являлось именно абсолютное отображение реальности, например, воинам в руку вкладывалось настоящее бронзовое оружие (позже оно было разграблено восставшими крестьянами). Несложно предположить, что для изготовления такого количества фигур возник целый промысел, и тысячи людей в течение многих лет изготавливали по отливкам глиняные фигуры.
Погребальный ритуал начинал приобретать самостоятельное значение. Он не только был связан с общими представлениями о мире мертвых, как это было в эпохи Шан и Чжоу, но теперь представлял собой особый вид искусства со своими культовыми предметами, игровыми ритуалами и отдельными священнослужителями. Эта тенденция достигает своего апофеоза в эпоху Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) и сохраняется на протяжении почти двух тысячелетий. Империя Хань царствовала в Китае на протяжении почти 400 лет, и этот период вошел во все китайские хроники как эпоха расцвета культуры и расширения границ Китая. Торговые караваны активно осваивали Шелковый путь, военные отряды ханьцев направлялись в Среднюю Азию и на юг. В мире в тот период образовалось по сути два полюса цивилизации, которые активно осваивали окружающее пространство: Римская империя на западе и империя Хань на востоке.
На севере Китая в ту эпоху сохранялись традиции и погребальные культы периода Цинь: вокруг кургана выкапывался ров, куда помещались изображения воинов и охранников для сопровождения господина в загробной жизни. Причем, в отличие от южной традиции, такие фигурки имели явно символико-игровой характер и представляли собой не точные копии воинов (как, например, в захоронении Цинь Шихуан-ди), а некие символы.
Так, в Янцзяване Илл. 43 в Шэньси они по высоте не превышали 60 см. На юге же даже в эпоху Хань сохранялось влияние традиций царства Чу с его сложными ритуалами.
 Илл. 43. Погребальная фигура конного воина из могилы Чжан Лина. Императорский курган в Янцзявань, провинция Шаньси
Илл. 43. Погребальная фигура конного воина из могилы Чжан Лина. Императорский курган в Янцзявань, провинция Шаньси
Конец I в. до н. э. был отмечен все более нараставшим напряжением в обществе, причем теперь это ощущение нестабильности и ожидания переворотов, прежде характерное лишь для столичной и придворной жизни, захватывает и деревни Китая. Идет разрушение общин, рост богатых землевладений за счет захвата земель. В конце концов, на волне всеобщего недовольства в 9 г. н. э. власть на недолгое время захватывает Ван Ман — выходец из знатной семьи, связанной с прежними правителями. Он предпринимает ряд шагов, направленных на стабилизацию ситуации с землепользованием, но в 25 г. к власти приходит Лю Бан (
Гуан У-ди), считавший себя продолжателем прямой линии ханьских правителей. Столица переносится чуть дальше на восток, в г. Лоян в провинции Хэнань, и с тех пор Лоян становится центром культурной, политической и интеллектуальной жизни Китая. Он был расположен очень удачно, находился практически в «центре» китайского сакрального мироздания, неподалеку от одной из пяти священных вершин Китая — гор Суншань.
Именно в этот период в официальную культуру ханьцев из народных мистических традиций приходят представления о существовании двух типов душ у человека — хунъ и по (земных и небесных), причем позже это представление приобретет форму двух групп душ. Души разделяются в момент смерти. Именно с учетом этого фактора «удержания» душ рядом с телом строились все погребения, в частности, могила местного правителя Дай-гуна, обнаруженная в 1971 г. в Маваньдуе у города Чанша. Собственно само захоронение располагалось под могильным холмом и было «запечатано» несколькими слоями перекрытий, дабы души не могли вырваться наружу.
Изменяются и погребальные культы, связанные с самой персоной императора. Теперь, к середине I в., все церемониалы по усопшему императору, считавшемуся уже воплощением священного первопредка и духа, переносятся в специальные храмы или кумирни, созданные внутри мощных усыпальниц. Императорский погребальный ритуал и все церемонии поминовения становятся закрытыми культами, поскольку вход к таким могилам и кумирням для простолюдинов был закрыт.
В противоположность этому могилы выдающихся чиновников и состоятельных людей становятся местом поклонения многих людей. Сами усопшие тотчас превращались в могучих духов-защитников.
Период со II в. становится поистине золотым веком не только погребального искусства, но и всего того сложного церемониала, который оказался связан с погребальными культами, поминовениями и молитвами. Теперь мир мертвых был не только «параллелен» миру живых, как это было раньше, но стал даже значительно важнее, чем мир живых существ. Уже и до того сложные формы декора и рисунков на погребальной утвари заменяются еще более хитроумными погребальными фигурами. Здесь можно встретить подсвечники в виде прекрасных девушек и служанок, курильницы в виде животных. Более того, в этих фигурках нашли свое отражение реалии не только самой китайской культуры, но и окружающих Китай народов. Хорошо известны подвесные курильные лампадки, выполненные в виде танцовщиц с кудрявыми волосами, не по-китайски большим носом и большими глазами, что может свидетельствовать о влиянии южноазиатских культур, например Индии.
Характерно и другое — именно в период поздняя Хань идет рационализация самих погребальных культов. В погребальной утвари и росписях исчезают изображения всяких необычных существ, столь часто встречавшихся в эпоху Чжоу и в ранний период Хань. Лики таоте, изображения причудливых змей-драконов и зооморфных монстров теперь превращаются просто в узор, в то время как центральное место занимают вполне реалистичные изображения животных и фигурки людей, выполненные с соблюдением всех пропорций и очень точно передающие кинематику движений. Сознание как бы возвращалось в мир повседневных предметов и явлений. Это являлось еще одним подтверждением отрыва от архаической традиции представлений о мире мертвых как мире чудесно-искаженном, трансформированном, фантасмагоричном. «Интерес уже представляло не путешествие души как таковое, но сама жизнь
post mortem, перенесенная из мира живых»
Думается, что существовало несколько причин такого «прихода к реализму» в погребальном искусстве и культах как таковых. Прежде всего, уже была забыта связь между странными изображениями монстров и предполагаемыми первопредками с рогами и большими глазами, которые якобы пришли откуда-то с запада и чьи изображения встречались на погребальной утвари. Во-вторых, утратилось понимание правителя как абсолютного воплощения глобального духа предка во плоти, как медиума, содержащего в себе вселившийся дух.
…???…
Илл. 44. В погребения эпохи Хань закладывались точные копии самых обыденных предметов. Модель колодца (выс. 44 см) из погребения Шаогоу. Лоян, провинция Хэнань
…???…
Илл. 45. Погребальный наряд длиной 182 см из нефритовых пластин, скрепленных золотыми нитями. Такой тип погребальных одежд связан с представлением о том, что нефрит сохраняет нетленность тела и не позволяет душам распадаться после смерти хозяина. Использование священных свойств нефрита сохранилось до наших дней. II–I вв. до н. э. Хэбэй
В-третьих, постепенно уходила в прошлое практика мистического экстаза, порождавшая столь причудливые формы и видения. Мир стал менее страшен и более реалистичен. Но одновременно и менее «прозрачен». Формы этого мира просто механически переносились на загробное существование без реальной попытки проникнуть в инобытие.
Загробный мир как мир живых
Мир загробный отныне стал отражением мира живых. Раньше мир живых был как бы отражением деяний и велений духов. Теперь же загробный мир начинают парадоксальным образом «волновать» те же эмоции, чувства и ценности, что и обычных людей, например карьера, здоровье, богатство, удача. Все это отразилось на характере погребений, в которые теперь помещались изображения из жизни самого усопшего и даже небольшие скульптурки того, что он любил при жизни, например музыкантов, акробатов или танцовщиц.
…???…
Илл. 46. Водная беседка из глины, покрытой глазурью, — погребальный объект.
На верхней террасе беседки располагаются лучники, танцоры, музыканты, играющие на цитре; внизу — лошади и другой скот; в центре беседки — господин, который как бы переносит каждодневную жизнь князя в загробный мир.
 Илл. 47. Модель колесницы из погребения эпохи Ханъ. I–II ев
Илл. 47. Модель колесницы из погребения эпохи Ханъ. I–II ев
Одно из таких погребений было обнаружено во Внутренней Монголии в районе Хэлингера. Оно принадлежало высокопоставленному чиновнику, умершему в 170 г. Усыпальницу украшают роскошные и вполне реалистичные изображения, выполненные в цвете и повествующие об этапах его жизненной карьеры. Здесь и его первое назначение на должность, и встречи с людьми, и выездки в колесницах, и, наконец, возведение его в чин одного из руководителей области Ухуань.
Погребальная утварь теперь представлена десятками различных фигурок, выполненных в максимально реалистичной манере. Такие вещи получили название минци — «народные изделия» — и встречаются в погребениях тысячами. Слуги и танцовщицы, музыканты и акробаты, возницы и чиновники, — все они оказались выполненными в виде бронзовых или терракотовых погребальных фигурок. И лошади — в ханьских погребениях встречаются сотни изображений и статуэток длинноногих лошадей, за которыми император У-ди посылал целые военные походы в район Ферганы. Он же на манер жителей южных окраин ввел в обиход устройство конюшен. И кони, и конюшни оказались перенесены в виде терракотовых фигурок в загробный мир. В максимально изящной манере из глины делались точнейшие копии беседок и миниатюрные пагоды, сторожевые башни и павильоны для отдохновения. Поскольку погребальная утварь помещалась в могилы не только состоятельных чиновников, но и людей рангом ниже, то здесь нашли свое отражение и реалии деревенской жизни: амбары для зерна, печи, загоны для скота, свинарники и даже модели крестьянских домов.
В могилах в провинции Сычуань обнаружены десятки эстампов на глине, изображающих повседневный быт крестьян и чиновников: охоту на гусей, сбор урожая, перетирание соли.
Это уже было искусство в чистом, классическом виде — теперь сам предмет представлял собой некую эстетическую категорию, созданную уже не столько для установления контактов с духами иного мира, сколько ради отражения, повторения и напоминания о мире бытия. Примечательно и то, что подавляющее большинство минци делалось из глины, и тем самым они представляли значительно более дешевую замену бронзовой утвари прошлого. К тому же из глины можно было изготовить фигуры значительно точнее и сделать их значительно эмоциональнее, чем из бронзы.
Тем не менее, хотя большинство подобных минци помещались в могилы, даже в ту эпоху все эти глиняные поделки рассматривались скорее как имитация «истинной» погребальной утвари, что еще больше роднит их с «чистым искусством» более поздних эпох.
…???…
Илл. 48. Бронзовый позолоченный фонарь в виде служанки (выс. 48 см). 11-1 вв. до н. э. Из погребения в г. Манчэн, провинция Хэбэй
 Илл. 49. Композиция из погребения, избражающая 21 фигурку акробатов, танцоров шкантов. II в. до н. э. Цзинань, провинция Шаньдун
Илл. 49. Композиция из погребения, избражающая 21 фигурку акробатов, танцоров шкантов. II в. до н. э. Цзинань, провинция Шаньдун
 Илл. 50. Модель дома и двора из погребения, один из типичных примеров погребальных объектов эпохи Ханъ, воспроизводящих в миниатюре реальную жизнь и нивелирующих разницу между миром живых и миром мертвых. I–II вв. Гуанчжоу
Илл. 50. Модель дома и двора из погребения, один из типичных примеров погребальных объектов эпохи Ханъ, воспроизводящих в миниатюре реальную жизнь и нивелирующих разницу между миром живых и миром мертвых. I–II вв. Гуанчжоу
Все эти вещи должны были, с одной стороны, моделировать древнюю погребальную утварь, а с другой стороны, отвечать вполне раскованному и секуляризированному духу времени. Глиняные фигурки покрывались даже легкой зеленоватой глазурью, призванной имитировать благородную патину бронзы, стекло заменяло здесь древние резные украшения из нефрита, а расписная утварь — древнюю посуду, покрытую глазурью.
Несмотря на живость сюжетов, все это придавало некую искусственность погребальному ритуалу, сведенному отныне к типовым формам имитации неких архаических церемониалов, восходящих к древним правителям.
Глава 3. Медиумы и их видения
Двери в мир духов
Всю историю китайской цивилизации от древности до наших дней пронизывает идея «посредничества» между миром людей и миром духов. Кто же выступал в роли таких посредников? Прежде всего все китайские правители и императоры, в частности, рассматривались не как «управляющие территориями», но исключительно как медиумы, передающие через себя на своих подданных сакральную благодать Неба (
Ээ). Даже известная фраза Конфуция о том, что он «не создает, но лишь передает», в этом контексте воспринимается не как высказывание мудреца-философа, следующего древним обычаям, но как слова медиума, «предоставляющего» свою телесную оболочку для «передачи» велений высших духов. По сути, это одна из форм шаманизма в самом классическом виде, позже вышедшая на уровень философии, — именно та, которую Мирча Элиаде характеризовал как «технику сакрального экстаза».
В этой части мы попытаемся показать исток представлений о медиумизме в Китае на рубеже конца I тыс. до н. э. — II–III вв. н. э. Это в дальнейшем позволит несколько иначе взглянуть и на то явление, которое обычно именуется китайской философией, и на саму структуру сакральной власти в Китае на протяжении нескольких тысячелетий.
Истоки экстатического миропереживания, очевидно, уходят вглубь эпохи неолита. И хотя от того времени до нас не дошло ни текстов, ни, тем более, подробных описаний ритуалов или верований, все же по многим артефактам — изображениям на бронзовых сосудах, керамике, костях и камнях — мы можем частично реконструировать духовно-символический мир той эпохи. Духовный мир ранних китайцев был окутан мистикой, причудливые образы, смотрящие на нас с древних кувшинов и сосудов, до сих пор нередко могут внушать трепет своим непередаваемым духом сакрального и природного.
Примечательно, что по своим антропологическим чертам изображения духов абсолютно не похожи на древних китайцев. Скорее наоборот, они представляют полную их противоположность.
Что это: намеренное желание подчеркнуть запредельность, абсолютную непохожесть мира духовного на мир земной и профанный? А может быть, отражение каких-то иных жителей на территории древнего Китая, которые были обожествлены и позже вошли в традиционный китайский пантеон в виде духов? Впрочем, оба этих предположения смыкаются в своем крайнем воплощении: уже с самых истоков китайской культуры духовное воспринималось как мир иной и одновременно очень близкий, не столько враждебный, сколько незнакомый, населенный похожими, но все же несколько иными существами.
Цивилизацию эпохи Шан-Инь можно охарактеризовать двумя словами: поклонение и жертвоприношения. Вокруг этих двух начал, по-видимому, строилась вся жизнь древнекитайского общества. Нам остается лишь догадываться об их глубинной сути, поскольку мы можем реконструировать тот период лишь по причудливым изображениям и узорам на бронзовых сосудах, благо их обнаружено немало, и по разрозненным надписям на костях, которые появляются в поздний период Шан, да к тому же до конца не расшифрованы.
Весь комплекс ранних верований Китая до начала эпохи Чжоу обычно обозначают обобщающим словом «шаманизм». В принципе, многие из верований шанцев действительно можно отнести ко вполне традиционному типу шаманизма или медиумизма, не случайно неоднократно предполагалось наличие связи между верованиями Шан и сибирским шаманизмом, а еще в 50-е годы отечественный ученый Г.И. Андреев сопоставил палеолитическую стоянку Зайсановку с иньской бронзой и нашел целый ряд совпадений
В общем, это верно, и нельзя исключить существования единого культурного комплекса на территории древнего Китая и Сибири, однако это мало говорит нам о том многообразии верований, ритуалов и форм коммуникации между человеком и духами, которые существовали на Центральной равнине.
Структурированной религии не было, как до конца она не возникла и в значительно более поздний период. Был лишь набор приемов общения с духами, знание техники экстатического транса и визуализации духов. По существу, места для веры, на которой зиждется всякая религия, не было, существовала лишь своеобразная дверь, через которую можно было проникнуть в мир запредельного. А в том, что ощущение этого мира запредельной реальности (именно — реальности) присутствовало в каждом акте человеческого бытия, сомневаться не приходиться, об этом свидетельствует все до одного артефакты культуры Шан.
Следует признаться, что ранние китайские верования остаются во многом загадкой и до сих пор, поскольку пространство времени стерло многие следы той эпохи. Поэтому здесь стоит говорить не о том, что известно, а о том, что до сих пор остается непонятым и неразгаданным. Прежде всего, во что действительно верили древние китайцы? Да и были ли это китайцы — прямые предки ханьцев, ныне составляющих основное население Китая, либо, как иногда полагают, речь следует вести о некитайском или докитайском населении Центральной равнины? Были ли их культы автохтонными, «родными» или они, как считают некоторые исследователи, принесены откуда-то извне?
Многие ритуалы, формы верований и — самое главное — особый экстатический тип переживания, которые встречаются сегодня, можно проследить еще со II тыс. до н. э., хотя, очевидно, они существовали и раньше. В основе китайских духовных учений лежала и лежит не стройная, четко выстроенная религия (или религии) с постулатами и догматами, но особый вид медиумизма — прямого, неопосредованного общения с духами.
Во что верили люди эпохи Шан, чему поклонялись? Наши знания о взаимоотношениях человека той эпохи и сакрального, увы, крайне скудны, и по большей части специалисты опираются на гипотетические реконструкции на основе изображений на бронзовых изделиях и гадательных костях. Бронза и кость предоставляют в наше распоряжение огромное количество артефактов для размышления, но очень редко подсказывают нам верное направление мыслей. Следует признать, что нам не дано полностью восстановить реальные представления людей эпохи Шан.
Впрочем, в конце эпохи Шан появляются надписи на костях и панцирях черепах. Очевидно, они носили гадательный характер и представляли собой зачатки иероглифической письменности.
И все же надписи охватывают лишь поздний период Шан, к тому же они мало говорят о содержании верований. Очевидно лишь одно: человек страстно стремился установить связь с миром духов, с Небом, видя в этом залог своей безопасной жизни. О чем вопрошали надписи на костях? Чаще всего об урожае, о благоприятном времени для посевов и походов. То есть, несмотря на свою гадательно-оккультную подоплеку, они носили исключительно прикладной характер, это был мир не испуганных людей, но жестких прагматиков, старавшихся тем или иным способом договориться с духами о каких-то полезных для себя вещах.
Письменные источники, например тексты магических песнопений, такие, как «Ши цзин» («Канон песнопений»), или описания странных земель, типа «Шаньхай цзина» («Канона гор и морей»), хотя и обширны по своему объему, до крайности мало рассказывают нам о сути древних верований и древней культуры вообще. Как это всегда бывает в восточной культуре, самое главное остается сокрытым, невысказанным. А потому единственным источником здесь остаются изображения на древних сосудах, благо древняя китайская бронза оказалась богатой как на образы, так и на частоту обнаружения при раскопках.
Несмотря на то что две эпохи — Шан (XVIII–XII вв. до н. э.) и Чжоу (XII–III вв. до н. э.) — тесно связаны, существуют заметные различия в их ритуальных комплексах. Основным «героем» поклонения является некий дух, который может представать в самых разных обличьях, но, как мы покажем ниже, в реальности речь все же шла об одном и том же персонаже. Причем не о духе, а о человеке, обрядившемся в этого духа. Именно его изображения мы и встречаем на древних сосудах.
Древние бронзовые сосуды периода позднего Шан и раннего Чжоу (т. е. конца II тыс. до н. э.) богато декорированы самыми разнообразными изображениями, среди которых встречаются какие-то странные существа, чаще всего похожие на рептилий или птиц, но, очевидно, ими не являющиеся и напоминающие свои животные прообразы лишь некоторыми характерными чертами, например чешуйчатой кожей или перьями. Однако при всем многообразии мотивов лишь два встречаются постоянно. Первый — странное головастое существо с огромными глазами, пастью и подобием рогов на голове, обычно называемое таоте, хотя его первоначальное название нам не известно.
 Илл. 52. Один из духов-охранителей даосского пантеона
Илл. 52. Один из духов-охранителей даосского пантеона
В самых различных вариациях оно встречается на бронзовых сосудах, кувшинах, его образ просматривается в странных костяных жезлах; порою таоте бывает буквально «распластан» в узоре и прорисован неким подобием языков пламени, отчего его образ становится еще более фантасмагоричным.
Второй мотив, стабильно встречающийся на бронзовых сосудах, представляет собой какую-то птицу, чью зоологическую принадлежность установить невозможно. Впрочем, даже говоря о «птице», следует учитывать, что и само это название весьма относительно. Очевидно, что речь идет о каком-то странном духе с некоторыми элементами птицы, например, хохолком на голове, клювом как у совы, с неким подобием крыльев и т. д. Истоки таких изображений можно обнаружить еще в китайском неолите, например в спиральных изображениях культуры Яншао, в которых можно угадать головку птицы именно в том виде, как она потом стала изображаться в эпоху Шан.
Помимо таоте и птиц встречались также изображения неких переходных существ, например существа лун, позже превратившегося в традиционного китайского дракона, или фэн, прообраза более позднего китайского феникса. Как мы покажем чуть ниже, все они выполняли одни и те же функции: во-первых, были воплощением духов предков, во-вторых, служили особыми проводниками в царство мертвых и обратно. Более того, все они представляют собой в конечном счете одно и того же духа, трансформировавшегося в изображениях от эпохи к эпохе.
Предположим и другое: изображался не какой-то отдаленный дух, но вполне земной человек — представитель духов, медиум и маг, либо надевший маску на голову, либо символически трансформированный, дабы указать на его «потустороннюю» принадлежность.
Прежде всего, мы попробуем рассмотреть вопрос, кто мог являться центральным объектом поклонения древних китайцев, какую функцию он выполнял и во что мог трансформироваться его образ.
Загадочный дух древних китайцев
В самой глубокой древности, по крайней мере в середине III тыс. до н. э., в Китае зарождается культ предков — важнейшая часть и ядро всей китайской традиции на протяжении многих последующих тысячелетий. Разумеется, сегодня сложно точно установить формы раннего культа такого рода, однако по некоторым изображениям мы можем все же реконструировать ряд его особенностей. Основные сведения о сакральных представлениях древнего населения Центральной равнины мы можем получить из изображений на бронзовых
сосудах, рисунках и надписях на так называемых каменных барабанах, гадательных костях, например лопатках животных и панцирях черепах.
 Илл. 53. Бронзовый топор с изображением таоте. Он был обнаружен в погребении народности богу; это означает, что вера в этого духа бытовала у разных народов, населявших Китай, а само изображение придавало оружию ритуальный характер. Подобный топор был символом правителя.
Династия Шан. Суфутунъ, провинция Шанъдун
Илл. 53. Бронзовый топор с изображением таоте. Он был обнаружен в погребении народности богу; это означает, что вера в этого духа бытовала у разных народов, населявших Китай, а само изображение придавало оружию ритуальный характер. Подобный топор был символом правителя.
Династия Шан. Суфутунъ, провинция Шанъдун
Большая часть древних изображений чаще всего трактуется как изображение духа предка, хотя в первом приближении довольно сложно понять, о каком конкретно предке — племени, рода, клана, семьи или конкретного человека — идет речь. На части таких изображений предок выступает в виде стилизованного фаллического элемента, обычно называемого таоцзу — «глиняный предок».
Очевидно, он символизировал живительную силу рода, способность к продолжению жизни и в этом плане не многим отличался от подобных ему изображений предков, скажем, в африканской или древнерусской культурах. Логически он как бы противостоял культу мертвых, который в древней культуре играл значительно большую роль, чем символика жизни, и одновременно дополнял этот культ. Значительно более интригующе выглядит другое изображение — некого духа, возможно предка, в виде огромной то ли головы, то ли маски с большими глазами, — нередко выполненное в виде сложных спиралевидных линий. Этот дух встречается во многих видах и на многих изображениях: на бронзовых сосудах, на костях, на керамических сосудах, в виде фигурок из нефрита, камня и бронзы. До сих пор китайцы изготавливают в виде лика этого духа нефритовые пряжки для поясов и небольшие нефритовые амулеты на грудь, считая их оберегами, и расписывают им стены домов.
Часто этот образ как бы проступает из языков пламени или тумана в виде лика получеловека-полузверя и уже этим напоминает результат каких-то неясных видений и ощущений. Причем устойчивость этого изображения оказалась столь сильной, что, зародившись в конце II — начале I тыс. до н. э., в сильно трансформированном виде оно дожило до эпохи Тан (V–VII вв.). Впрочем, уже в начале нашей эры оно начинается восприниматься не столько как изображение какого-то существа, сколько просто как традиционный узор, а в середине I тыс., по-видимому, уже никто не мог объяснить его изначальную суть. Очевидно, что этот дух, представленный в сотнях вариаций на тысячах изображениях, и являлся центральным «героем» древних китайцев. Но кем он был? Духом предков? Персонажем видений? А может быть, пришел в Китай от каких-то других народов, и сами китайцы уже и не знали его изначального смысла? Мы не можем исключить этот вариант, принимая во внимание то, что многие герои китайской древности, описывающиеся как первоправители китайского народа, например Фуси, Яо и некоторые другие, считались пришедшими на Центральную равнину откуда-то с запада.
 Илл. 54. Изображение таоте на кувшине VII вв. до н. э. Сверху изображен один таоте
Илл. 54. Изображение таоте на кувшине VII вв. до н. э. Сверху изображен один таоте
Ответ на эту загадку, кажется, может дать анализ не только самого изображения этого духа, но даже тех предметов, на которых это изображение размещалось. И здесь мы исходим из очевидного постулата, что древние люди не были ни мифотворцами, ни фантазерами, действительность в их сознании была искажена не больше, чем в сознании современных людей. И, как следствие, всякое изображение должно содержать нечто однажды или многократно увиденное, пережитое, а затем, возможно, и трансформированное.
Чаще всего лик этого духа, в научной литературе именуемого таоте, изображался фронтально по центру ритуальных сосудов — существо с рогами на голове, большими глазами и иногда оттопыренными ушами. Рядом с ним встречаются и другие изображения, например, небольших духов гуй, которые, наоборот, никогда не занимают центрального положения. Это обычно какие-то рептилиеподобные существа, чаще всего похожие на змей с ногами и небольшими рожками либо удлиненными ушами. Встречаются также существа, похожие на традиционных китайских драконов (лун), но в любом случае именно таоте, безусловно, являлся центром культовой практики людей эпохи Шан. Сразу отметим, что далеко не очевидно, что речь идет о разных духах, скорее всего мы имеем дело с одним духом (или, по крайней мере, с одной категорией духов), который имел несколько обличий, а также трансформировался со временем.
…???…
Илл. 55. Петроглиф в виде трехпалого человека с поднятыми руками, похожий на более поздний иероглиф «тянъ» — «небо». Оставлен некитайским населением. Прибл. V–IV вв. до н. э. Из пещеры на реке Цзохэ, провинция Гуанси
К тому же заметим, что все эти названия для духов были даны уже значительно позже, и как их именовали сами древние люди, мы не знаем. Свое нынешнее имя — таоте — персонаж с огромными глазами и рогами получил по его первому описанию в трактате «Люйши чуньцю» («Весны и осени господина Люй Бувэя», III в. до н. э.), и оно может быть переведено как «обжора», вероятно, за его огромный рот. И само это название, как будет видно в дальнейшем, очень точно передает суть его функций. В настоящем изложении мы будем называть его таоте, хотя, как мы уже говорили, название это более позднее и, скорее всего, не соответствующее истинному.
Человек или животное?
Таоте представляет собой лицо то ли животного, то ли человека с рогами на голове, обычно с редуцированной нижней частью лица, без тела или с утрированно уменьшенным телом. По сути, его лицо завершается на верхней губе, поэтому для современных исследователей оно нередко казалось «божеством с огромной пастью вместо головы». Центральным в изображении таоте является именно его лицо с рогами, все же остальное «тело» как бы факультативно, и это свидетельствует, что именно в лице-маске и заключена сакральная сила этого существа. Сегодня известно несколько десятков вариаций в изображениях таоте, которые объясняются различным временем их создания, а также чисто художественными трансформациями. Тем не менее, основные черты, например рога (иногда — уши) и утрированно увеличенное лицо, остаются неизменными.
Таоте всегда вписывался в некий весьма сложный узор спиралевидной формы, напоминающий языки пламени или облака, откуда этот декор и получил свое название «письмена грома» или «громовой узор» (
лэйвэнъ). По мнению марксистского ученого Го Можо, он некогда появился как подражание оставшимся на поверхности керамических изделий отпечаткам рук мастера-гончара.
Однако по более распространенному мнению этот узор, сохранившийся на многих традиционных китайских изображениях до сих пор, символизирует либо облака, либо сильный порыв ветра. Из-за этого таоте одно время расценивался как бог шторма, грома и других небесных напастей.
Действительно, этот дух всегда изображен внутри какой-то туманности, будто проступает из нее, а это дает нам основание считать его не «богом грома», но, скорее, персонажем видений, воспринятым в момент медиативного транса древним медиумом.
Этот центральный дух появляется уже в эпоху неолита в III тыс. до н. э. и, несколько видоизменяясь, активно используется но крайней мере до конца эпохи Чжоу, т. е. до III в. до н. э.
Великий дух, вера в которого продержалась в Китае по меньшей мере две тысячи лет (не рекорд ли это?), порождает много загадок и неясностей. Помимо того, что его изначальное название не известно, не ясно также, какие функции таоте выполнял, как ему поклонялись, какие существовали формы коммуникации между человеком и этим духом.
Полностью истоки таоте не ясны до сих пор. Прежде всего, его изображения не встречаются в неолитической культуре периода Луншань, так называемой «черной керамике», хотя она самым непосредственным образом связана с более поздней шанской культурой. Отсюда же возникает предположение, что этот образ мог быть привнесен откуда-то извне — и на этой версии мы остановимся чуть ниже. Здесь же заметим, что некоторые схожие мотивы можно встретить в другом направлении архаической культуры неолита — культуре «крашеной керамики» Яншао.
Однако и здесь не встречается полных изображений таоте.
До появления рогатых божеств в палеолите и неолите люди поклонялись каким-то существам с таким же широким носом, большими губами и оттопыренными ушами, но без характерных рогов.
Маски и даже целые фигурки таких духов обнаружены в ряде провинций и относятся так называемой культуре Илл. Хуншань (Красной горы, 3800–2700 гг. до н. э.) в Ляонине (стоянка Нюхэлян) Илл. или культуре Ишао в провинции Ганьсу.
И таким образом прослеживается явная преемственность в изображениях таоте, которые генетически тяготеют к древнейшим наскальным изображениям. Вообще, многие изображения таоте и драконов, как ни парадоксально, тяготеют именно к культуре Хуншань, которая охватывала районы Внутренней Монголии и Ляонина, располагаясь достаточно далеко от традиционного центра развития этих мотивов в провинции Хэнань.
 Илл. 56. Бронзовый ритуальный кубок с изображены таоте как на самом кубке, так и на его основана По внутренней стороне идет надпись в 32 иероглифа о походах правителя У-Вана. XI–IX ее. до н. э.
Провинция Шанъ
Илл. 56. Бронзовый ритуальный кубок с изображены таоте как на самом кубке, так и на его основана По внутренней стороне идет надпись в 32 иероглифа о походах правителя У-Вана. XI–IX ее. до н. э.
Провинция Шанъ
Таким образом, в общих чертах можно проследить происхождение этого странного существа с рогами, которое всегда изображается только в виде большой головы и без тела. Помимо культур Хуншань и Ишао можно упомянуть еще по крайней мере два таких древнейших случая. Во-первых, полные аналоги рогатого существа в маске с большими глазами и рогами обнаружены в наскальных росписях в Гуанси, относящихся, как предполагается, к III–II тыс. до н. э. Во-вторых, на неолитической утвари этапа Баньпо встречается лик некоего существа, получеловека-полурыбы с закрытыми глазами и небольшими рогами, с подобием треугольных плавников, усеянных то ли волосками, то ли шипами. Весь рисунок выполнен в виде треугольников, которые создают впечатление треугольной разрисовки или татуировки лица.
Известно также подобное каменное изображение головы, относящееся к эпохе неолита и обнаруженное в Хэбэе, в уезде Уань. Несмотря на примитивность техники изготовления в нем безошибочно прочитывается весь фенотип более поздних духов.
Затем, вероятно к концу III тысячелетия, появляются весьма искусно сделанные керамические фигурки безрогих духов, и, наконец, к эпохе Шан на бронзовых сосудах перед нами предстает уже полностью воплощенный таоте с рогами, а затем и со змееподобным телом. Процесс художественной трансформации духа завершился.
А позже происходит и полная абстрагизация этого антропоморфного существа — он постепенно становится частью узора или декора, который встречается на кувшинах и даже в росписях плафона дворцов правителей и императоров. Древние китайские мастера ловко играют на нескольких «опознавательных признаках» духа — больших глазах, большом рте и рогах. Дух таоте оказывается, таким образом, растворен во вселенной, распластан в «громовом узоре» (
лэйвэнъ) Небес. Дух превращается в художественную абстракцию и прячет свой истинный лик за безобидным узором.
Что скрывает таоте?
Так что же скрывалось за изображением таоте? Признаемся, что окончательного ответа на этот вопрос никто до сих пор так и не дал, хотя существуют серьезные и многоплановые исследования по этому поводу. И все же вся глубина смысла таоте — безусловно, одного из центральных персонажей ритуальной жизни древнего Китая — остается неясной.
Нередко утверждается, что это маска, причем действительно можно проследить сходство изображений таоте с некоторыми масками, которые используются в народных танцах и обрядах.
Однако это сходство еще не доказывает, что перед нами — именно маска таоте, к тому же важно понять, почему эта маска изображалась на всех ритуальных сосудах и стабильно встречалась на протяжении многих тысячелетий. И, разумеется, гипотеза о «маске» ни в малейшей степени не объясняет, кто мог скрываться за нею.
Если речь идет о духе предка, то здесь гипотеза «маски» становится очевидно слабой: духи не носят масок, они рисуются нами в том виде, в каком становятся доступными для нашего воображения. Очевидно, что перед нами предстает какая-то реальность — искаженная, порою пугающая, но все же реальность ровно настолько, насколько вообще запредельное и связанное с миром духов может быть доступно и «реально» для человеческого сознания.
Известный исследователь Ф. Уотербери назвал его «духом-хранителем, источающим чудесную силу, отгоняющим злых духов». С этим можно было бы согласиться, но как раз изображений «злых духов» на древних сосудах не встречается! Вообще на сосудах встречаются лишь вариации одного тaoтe. Возможно, «злых духов» или «демонов» в древних представлениях не было вовсе, и разделение мистического мира на духов-защитников и злых духов происходит позже. Надо осознать, что мы имеем дело не с логическим религиозным построением и даже не с оккультной структурой, но, скорее, с ощущением «чего-то потустороннего» и зарисовками видений. Мы не знаем, считался ли таоте злым божеством или добрым защитником; скорее всего, он воплощал весь спектр духовных сил одновременно и был абсолютно амбивалентен. Именно поэтому он был один.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Для китайцев духи — это существа, с которыми, скорее, надо договариваться, нежели защищаться от них. Как-то в день Нового года в феврале, когда в Пекине разыгрывалось красочное представление с танцами львов и драконов, а воздух разрывался от ударов в гонги и барабаны, все иностранные корреспонденты традиционно сообщали, что китайцы этим шумом отгоняют злых духов. Я поинтересовался у некоторых участников представления, каких конкретно злых духов они отгоняют. Ни один человек не смог дать ответа! На следующий день я повторил тот же опыт в небольшой деревушке в провинции Хэнань, где, казалось бы, должны были сохраниться все древние обычаи. Результат был тем же — никто не смог назвать не только имени «злых духов», но даже того вреда, который они могут причинить.
В противоположность этому те духи, которых в западной литературе обычно именуют «хранителями», хорошо известны и по имени, и по функциям. Кстати, это не исключает того, что они могут нанести вред, убить человека и т. д. То есть большинство духов по-прежнему амбивалентно, и ритуал это и есть форма оптимальной коммуникации, договоренности с духами.
Итак, загадкой остается не только «прототип», но и функции таоте. Можно, безусловно, ограничиться стандартным определением, что он был «духом-покровителем» или «духом-защитником», но это мало что объяснит нам из сакрального комплекса древних китайцев. Был ли он центральным духом или вообще единственным духом? А ведь именно об этом говорит та частота, с которой он встречается на сосудах и гадательных костях, а также и то, что он всегда помещался по центру сосудов. Если этот так, то нам следует признать очевидные зачатки монотеизма в архаическом Китае.
Впрочем, говоря о «теле» тпаоте, было бы не совсем верным утверждать, что его вообще не существует. Нередко, когда тпаоте изображался на сосудах, сам сосуд, например четырехножник, и являлся «телом» таоте, а декорированные спиралями ножки сосуда становились его ногами. На одной из ритуальных костей периода Шан в широкой части кости мы встречаем изображение все той же большой головы таоте, а узкая часть представляет как бы змеевидное тело этого создания, украшенное спиралями и геометрическими узорами
Не это ли объясняет отсутствие «тела» у таоте — на самом деле это змея или, по другим предположениям, рептилия, например крокодил? Неслучайно высказывалась версия, что лицо таоте следует интерпретировать как комбинацию двух змей-гуй, изображенных нос к носу.
Не исключено, что позже таоте действительно трансформировался в некое подобие змеи, а затем и дракона (точнее, дракон стал одним из воплощений таоте), однако все же изначально никакой змеей или рептилией вообще он не являлся.
Может быть, это и есть непосредственное изображение духа предка, что, впрочем, не исключает его определение как духа-покровителя и защитника? Но почему он тогда столь не похож на человека?
Там, где этот дух антропоморфен, то есть обладает явными чертами человека, его вид оказывается весьма странен (например, нефритовые двуполые фигурки из могилы Фу Хао из развалин Инь). Прежде всего, черты его лица далеки от антропологических признаков, характерных для китайцев (строго говоря, к тому времени собственно этнос ханьжэнь не сложился, существовала лишь протоэтническая общность хуася). Обращают на себя внимание несколько приплюснутые и широкие крылья носа, широкие вывернутые губы, мохнатые густые брови. В этом существе скорее можно опознать африканоида, нежели монголоида. На всех подобных изображениях также встречаются оттопыренные уши, которые явно имеют некую функциональность, не известную нам (всеслышащий дух?).
Но, может быть, перед нами лишь несколько трансформированное лицо китайца того времени — действительно, классического духа предка? Хорошо известно, что в тот период облик жителей Центральной равнины еще находился в процессе становления. Нельзя ли предположить, что древние мастера просто изображали себе подобных? Однако, например, в культуре Ишао в провинции Ганьсу параллельно встречаются маски существ с большими ушами и вполне обычных людей типично китайского типа, выполненные с удивительным соблюдением всех пропорций.
 Илл. 57. Фигурки рогатых божеств из нефрита — возможно, женщин-шаманок в масках с рогами. V–IV вв. до н. э. Погребение правителя в поселении Пиншанъ, провинция Хэбэй.
Илл. 57. Фигурки рогатых божеств из нефрита — возможно, женщин-шаманок в масках с рогами. V–IV вв. до н. э. Погребение правителя в поселении Пиншанъ, провинция Хэбэй.
Последний тип изображений несет характерные черты тихоокеанских монголоидов, в частности, плоское лицо с выступающими скулами, прохейлия, альвеолярный прогнатизм. Большая часть изображений на бронзовых сосудах также имеет ярко выраженный монголоидно-австралоидный облик, о чем свидетельствуют, в частности, широкий нос, утолщенные губы, альвеолярный прогнатизм.
Столь очевидные различия на изображениях даже породили предположение о наличии двух расовых типов в иньских поселениях: тихоокеанских монголоидов и неких немонгололидных типов с большой головой негро-австралоидного и европеоидного типа. Второй тип был представлен брахицефальным (большеголовым) типом людей — именно они якобы и воплотились в
таоте. По ряду версий, шла постепенная брахицефализация иньского населения по сравнению с неолитическим. Это было связано с тем, что в иньскую культуру (XVIII–XII вв. до н. э.) приходили немонголоидные типы людей, предположительно с запада.
Впрочем, эта версия была отвергнута, и отмечалось, что «нет никаких оснований предполагать европеоидную примесь в монголоидных иньских популяциях». Значит, различные типы людей на изображениях принадлежат не к разным расовым типам, но представляют собой разные типы духов или духов и людей.
Тем не менее, символизация таоте настолько велика, что становится очевидным, что в ту эпоху, когда изготавливались изображения, таоте уже никак не соотносился с реально живущими людьми, не являлся их «фотографией» и представлял нечто иное.
Стоит заметить, что изображение духа не должно быть в точности похоже на его земной прообраз.
Именно непохожесть и призвана намекнуть на то, что перед нами — существо запредельное, а не портрет, скажем, предка, которого как раз следует изобразить в «похожем» виде. А вот дух предка должен быть настолько же отличен от своего оригинала, сколь и легко опознаваем, именно в этом, в частности, состоит суть и христианских икон, где изображение и не призвано нести черты портретного сходства, ибо должно ассоциироваться с духом святости и глубиной веры. В случае с таоте он опознавался именно по странной голове с рожками или удлиненными ушами.
Тотемное животное?
Существует и другое предположение: таоте представляет собой трансформацию некоего тотемного животного. С самого начала пробуждения научного интереса к таоте его пытались связать с обликом какого-то реального животного и тем самым представить его как тотем.
Например, одной из самых первых в 20-е годы XX в. была высказана версия, что таоте представляет собой всего лишь декорированного и несколько трансформированного тигра, традиционный китайский символ могущества и власти. Более того, предполагалось, что истоки таоте лежат не в Китае, а где-то в Персии, сам же таоте представляет собой мифологическую смесь тигра и грифона.
По другой версии, таоте — некая мистическая смесь тигра и быка, а последнее подтверждают именно рога. Однако, так или иначе, основным прообразом для духа послужил именно тигр.
Тигрино-кошачий характер облика таоте (на ряде изображений при некотором желании у него можно угадать характерные кошачьи уши), кажется, говорит в пользу этой версии.
С позднего периода Чжоу, т. е. с VII–III вв. до н. э., основным защитником человека от злых духов становится тигр, на него же были возложены и функции особого экзорсиста, способного изгнать духов.
Отсюда пошла традиция устанавливать скульптуры тигров по обе стороны от входа в присутственные места, дворцы и дома аристократов. Сохранилась она и по настоящий день, хотя сегодня фигуры могучих тигров ставят перед дорогими ресторанами и присутственными местами.
Развилась даже целая индустрия по изготовлению каменных тигров. Например, проезжая по окрестностям г. Чжэньчжоу в Хэнани, можно видеть огромные мастерские, где изготавливаются сотни тигров самого различного вида и размера.
На первый взгляд может показаться, что по своему характеру и даже по внешнему виду тигр действительно тяготеет к архаическому таоте. Он защищает от злых духов вход в дом, а морда тигра напоминает таоте с его огромной пастью и ушами и выпученными глазами.
Однако здесь существует явная несостыковка: несложно предположить, что тигр мог быть представлен в виде таоте и что на тигра перешли некоторые «защитительные черты» древнего духа, однако значительно сложнее понять, как мифологический таоте превратился в реального тигра.
Здесь напрашивается неожиданный ответ: истоки и смысл таоте среди китайцев эпохи позднего Чжоу были уже забыты. Вполне возможно также, что он не принадлежал собственно китайской культуре, а соотносился с тем населением, часть которого откочевала на американский континент, а поэтому самими китайцами это рогатое существо воспринималось как нечто незнакомое и
чуждое. Ему был найден некий «заменитель», который постепенно вытеснил самого таоте. Им стал тигр и частично дракон, именно поэтому два этих существа сегодня считаются основными священными защитниками людей.
Но вот на одном сосуде эпохи позднего периода Шан мы видим чудовище, держащее в лапах человека. Его нередко идентифицируют как «тигра, пожирающего человека». Действительно, чудовище обладает всеми чертами тигра, и в то же время фронтально оно похоже на рогатого таоте — круглые глаза, широкий нос, заостренные уши — рога, «чешуйчатый» рисунок на теле.
Человек же, которого сжимает в своих лапах чудовище, похож на другой тип изображений — человека с оттопыренными ушами, широким носом, без рогов. Далеко не очевиден и факт именно «пожирания»: изображение позволяет предположить, что речь идет о символическом совокуплении между одним духом и другим. Так или иначе, это не какая-то «охотничья» сцена гибели человека в лапах тигра, но духовное соитие или поглощение более слабого духа (представлен в виде человека) более сильным (одно из воплощений рогатого таоте). В принципе это соответствует и последовательности смены безрогих божеств рогатыми в древних китайских преставлениях.
Несколько иное направление рассуждениям дала необычная находка, сделанная в 1959 г. в местечке Шилоу в Шаньси, — это вытянутый сосуд, один из типов сосуда гуанъ периода Шан, напоминающий по форме крокодила со столь же вытянутой зубастой мордой, высунутым языком и то ли с рогами, то ли с ушами конусовидной формы. По бокам сосуда идут изображения каких-то рептилий, возможно крокодила или игуаны с характерной чешуйчатой кожей, а также дракона. Эта находка породила предположение, что найдено одно из воплощений таоте, который представляет собой мифологический образ крокодила.
Но должен ли таоте вообще иметь аналог в животном мире, если речь идет именно о мире духовном, потустороннем, где нет места абсолютным аналогам нашей жизни? Таоте, очевидно, не может быть, например, крокодилом, поскольку параллельно с находками таоте обнаружены и вполне обычные изображения крокодилов. По тем же причинам он не может быть тигром или змеей. Сам его непохожий и одновременно постоянно что-то напоминающий облик явно указывает на его сущность как духа, как обращенного двойника действительности.
Не исключено, что в основе изображений таоте и ему подобных существ лежало изображение рыбы, подобно тому, что видно на неолитической чаше из Баньпо. В частности, можно предположить, что изображения рыб, которые во множестве встречаются на неолитической керамике, постепенно трансформировались в анималистических существ с большой головой и большими глазами.
И на первый взгляд связь между таоте и рыбой может показаться почти очевидной.
Одной из самых известных находок стала разрисованная чаша или миска культуры Баньпо (по названию места, где находился центр этой культуры в провинции Шаньси, неподалеку от города Сиань). На внутренней поверхности чаши, датированной радиоуглеродным методом 6500–4200 гг. до н. э., мы видим фронтальное изображение то ли лица человека, то ли рыбы с двумя треугольными плавниками (?) по бокам и одним сверху. Не прообраз ли это таоте? Но куда позже исчезли плавники, по-видимому, очень важный элемент изображения из Баньпо? Можно предположить, что именно плавники трансформировались со временем в некие рога-уши, однако существует и более значительное различие — глаза. Глаза существа из Баньпо очевидно закрыты (они изображены одной линией), то есть, возможно, речь идет именно о культе усопших, а у таоте они всегда открыты. Итак, даже если они и имели единый исток, их мистическое содержание целиком изменилось.
К тому же характерные черты, воплотившиеся затем в таоте, как видим, встречались задолго до культуры Баньпо. Думается, что речь шла о разных духах, которые затем в процессе мифологической трансформации слились в один образ рептилиеподобного таоте, змеи и дракона.
Но все же существует одна черта, которая, безусловно, сближает изображение рыбы и многочисленные образы таоте. Так или иначе, ранние духи жителей Центральной равнины, по-видимому, были связаны с водной стихией. Это не сложно объяснить тем, что вся хозяйственная жизнь строилась вокруг Хуанхэ, и от ее разливов и внезапной смены русла зависело вообще выживание ранних племен. По одной из версий, высказанной известным синологом К. Витфогелем, Китай вообще являет собой «гидравлическую цивилизацию», которая строилась вокруг использования воды, борьбы с водной стихией, совместного строительства дамб и плотин.
Странная рыба, что изображена внутри миски из Баньпо, возможно представляет собой прообраз одного из героев китайской древности Великого Юя (
Да юй). Этот персонаж, как гласят легенды, отважно вступил в схватку с водной стихией во время разлива рек, который привел к настоящему потопу. Ни один из правителей не мог совладать с водными потоками, покуда Юй не организовал людей строить дамбы, работал так, что «даже истерлись волоски на ногах», и долгими днями даже не заходил к себе домой. В конце концов потоп был побежден, а Юя народ избрал своим вождем.
Само имя Юя омофонично слову «рыба», хотя записывается другими иероглифами. Однако, учитывая, что в древности письменность была скорее привилегией гадателей и шаманов, нежели обиходным явлением, не исключено, что речь шла именно о эвгемеризации водного божества, рыбы.
 Илл. 58. Прорисовка изображения на роге, в котором сочетаются черты таоте и змеи (по Д. Паперу)
Илл. 58. Прорисовка изображения на роге, в котором сочетаются черты таоте и змеи (по Д. Паперу)
О водном характере таоте говорят и изображения его в виде крокодила, змеи, его постоянно сопровождают драконы, которые, по древним представлениям, также являются водными существами. В китайской мифологии существуют многочисленные истории о рогатой змее с ногами, и ее описания абсолютно соответствуют некоторым изображениям таоте на костях.
Отчасти на вопрос о том, какая существует связь между таоте и змеей, дает ответ сосуд, сделанный в виде небольшого чайника. Этот сосуд обнаружен недалеко от Аньяна в Хэнани и относится к позднему периоду Шан. Крышкой сосуда служит голова духа с рогами, оттопыренными ушами, мохнатыми бровями. Основная часть сосуда, таким образом, является как бы телом духа, а потому ряд китайских специалистов идентифицировал его как «сосуд с лицом человека и телом змеи». Тезис о «теле змеи» можно считать определенным преувеличением, однако корпус сосуда действительно декорирован таким образом, что напоминает чешуйчатое тело рептилии. По окружности нарисовано три типа существ: существо с телом змеи и головой с длинными ушами; змея с большой головой, рогами и то ли передними плавниками, то ли ногами; существо, похожее на ящерицу, стоящую на задних лапах, с закрученным хвостом, когтистыми лапами и подобием клюва. Сосуд симметричен относительно своей оси, и, следовательно, каждое существо встречается дважды. Если считать передней частью сосуда ту, где прикреплен носик чайника, то на задней части есть овальное изображение, по своему узору и виду схожее с панцирем черепахи — другой священной рептилии китайского гадательного пантеона.
Важно, что образ таоте на разных сосудах и в разные эпохи постоянно трансформируется. Он не имеет постоянного облика — лишь некие «опознавательные» черты. Порою у него появляется чешуйчатое тело, и тотчас напрашивается вывод о его схожести то ли со змеей, то ли с рыбой, в других же случаях его лицо действительно приобретает очевидные тигриные черты, а иногда он являет собой совершенно самостоятельное изображение, не имеющее аналогов в животном мире.
Именно многообразие проявлений таоте и одновременно его единичность и подводят нас к мысли, что на всех изображениях перед нами предстает один и тот же дух, обладающий множественностью «перерождений». Но чей это дух?
В изображениях таоте встречается один постоянно повторяющийся элемент — рога странной формы. Порою они изображаются в виде небольших наростов, — чаще — как большие полукруглые рога (например, на нефритовых фигурках из погребения Фу Хао они ветвятся почти как у оленя), в ряде более поздних изображений рога трансформировались в небольшие конусовидные столбики. Существует сосуд, на котором в верхней части изображен таоте с рогами, в нижней — с заостренными ушами, напоминающими кошачьи.
Все остальные части тела таоте, например его тело, когти, хвост, не являются повторяющимися элементами, и лишь рога представляют собой действительно «опознавательный знак» таоте.
Такой же характерной особенностью является и отсутствие нижней челюсти. На ряде более поздних изображений таоте приобретает очевидные антропоморфные черты — это уже человек весьма странной наружности. Таковым, например, его можно видеть на ритуальных сосудах начала периода Чжоу (XII–IX вв. до н. э.). Сами эти изображения объемные, в одних случаях лицо представлено в виде выпуклого барельефа, в других оно представляет собой крышку небольшого чайника. Таким образом, здесь черты существа проступают значительно более явственно, чем на почти плоскостных изображениях Шан. Здесь даже появляется нижняя часть лица, но все равно частью. На крышках некоторых сосудов существо имеет сильно вытянутые, пухлые губы (из-за этого кажется, что таоте улыбается) и очевидно некитайские черты лица, на которые обратили внимание отечественные исследователи. Тем не менее, рога практически всегда присутствуют на изображениях таоте, повторяясь затем и у многих других китайских божеств. Откуда же появляются эти рога? Если исходить из постулатов сравнительного религиоведения, рога связаны с охотничьей магией, и это явление, в частности, встречается на изображениях у североамериканских индейцев, у народов Сибири; стало знаменитым изображение шамана из пещеры Ля Мадлен во Франции, надевшего на себя маску оленя с рогами и перевоплотившегося в животное.
 Илл. 59. Жезл в виде рогатого божеств, из погребения Фу Ха
Илл. 59. Жезл в виде рогатого божеств, из погребения Фу Ха
Однако ничто не указывает на то, что таоте хоть как-то связан с охотничьей магией. Более того, рога на изображениях духов появляются тогда, когда племена на Центральной равнине перешли к земледелию и одомашнили многих животных, то есть удача в охоте перестала быть определяющим фактором. К тому же особенностью ранней китайской цивилизации является то, что она изначально строилась вокруг пойменного земледелия и в значительно меньшей степени уделяла внимание охоте. Не представляет собой таоте и жертвенное животное. Рога на изображениях различного типа божеств так же очевидно не играют «запугивающей» роли, как это нередко встречается у других народов. И вполне возможно, что перед нами не животное и не маска, но изображение самого правителя и лидера клана, воспринимающегося как дух.
Примечательно, что многие мифологические первопредки Китая изображались с небольшими рожками на голове. Это относится прежде всего к легендарному мудрецу Китая Фуси, канонический портрет которого изображает его в виде старца с небольшими рожками на голове в виде бугорков, рисующего восемь триграмм по преданию, триграммы и гексаграммы были переданы людям именно через Фуси). Естественно, это изображение довольно позднее, однако во многих преданиях он выступает именно как рогатый старец, причем происхождение рожек нигде не описывается. Эта особенность очень важна: носитель всей мудрости древнего Китая, принесший культуру и цивилизацию людям, обладал, по преданиям, рогами. И здесь очевидна связь между перворедком и его «рогатым» обликом.
Ничто не говорит о том, что во времена появления изображений таоте уже существовало предание о Фуси; скорее, в образе Фуси — предположительно, одного из племенных лидеров — слились функции реального человека и духа-защитника. Перефразируя это предположение, в себе и духа, и человека, принадлежа и миру потустороннему, и миру людей. И «рогатый» облик является как бы указанием на его переходный статус.
Другой иллюстрацией рогатого духа-человека могут служить некоторые ритуальные танцы с рогатыми масками на голове. Так, вплоть до XII в. на территории современных провинций Хэбэй и Шаньдун сохранялся странный ритуальный танец-бой. Могучие мужчины, надев на голову шлемы с коровьими рогами, «нападали по двое-трое друг на друга», при этом нередко нанося серьезные раны. Этот танец-бой с рогатыми масками на голове, называемый «играми Чию» (Чию си) по имени одного из древних племенных вождей, уже к III в. стал едва ли не одним из самых распространенных народных развлечений в этой местности. Такие рогатые бои активно практиковались во времена династий Цинь и Хань (221 г. до н. э. — 220 г. н. э.) на территории области Цзичжоу (на территории современной провинции Хэбэй, в районах Пекина и Тяньцзиня).
Интересна и дальнейшая судьба этих игр — именно из них родилась известная китайская борьба цзюэли, позже — шоубо и сянпу, а последняя, попав на Японские острова, стала называться «сумо». В ряде случае борцы завязывали на головах ритуальные косички в память о древних масках с рогами.
 Илл. 60. Бронзовая чаша с изображением рогатого дракона или таоте внутри. Наливая напиток в чашу, люди таким образом «кормили» духа. XII–XI вв. Провинция Цзянси
Илл. 60. Бронзовая чаша с изображением рогатого дракона или таоте внутри. Наливая напиток в чашу, люди таким образом «кормили» духа. XII–XI вв. Провинция Цзянси
Можно проследить и истоки этого рогатого танца. Многие древние хроники, например «Лунюй хэту» («Иллюстрированные записи о речных драконах и рыбах»), «Лу ши» («История Лу»), «Шу и цзи» («Записи о об удивительном», рассказывают, как полулегендарный предок китайцев, считавшийся «правителем центра», Хуан-ди (Желтый правитель) вступил в войну с Чию — лидером южных китайских племен. Сражение развернулось в местечке Чжолу. Описание этого сражения на первый взгляд может показаться очевидной сказкой: «На передней линии воинов находились медведи (
стон), бурые медведи (
им), различные хищные животные (
пи и
сто), под флагами же стояли стервятники (
дяо), дикие гуси (
янь) и дикие птицы (
чжэнь)». Со стороны же Чию выступили некие «животные, что говорили человеческим языком, с бронзовыми головами и железными щеками».
Были среди них и люди с «бычьими копытами», и «люди с четырьмя глазами и шестью руками».
Сам же Чию и его братья обладали «рогатыми головами». Хуан-ди, призвав на помощь священные силы, в том числе драконов (позже мы покажем, что под драконами в древности подразумевалась особая категория медиумов), вышел победителем из этого сражения и стал главным правителем тогдашней территории Китая.
Очевидно, что эта история воспроизводит какое-то древнее столкновение между различными племенами центра Китая, расселявшимися по Хуанхэ, и народами его южной части, произошедшее в III тыс. до н. э. Различные «бурые медведи», «дикие гуси» и прочие животные являются тотемными названиями племен. Скорее всего, и Хуан-ди, и Чию являются не именами собственными, а обобщающим названием племенных объединений, которые и столкнулись друг с другом.
Примечательно, что китайская традиция нередко выставляет Чию положительным героем, носителем культуры и изобретателем многих полезных вещей, например арбалета и даже рыбной ловли, причем по этим качествам и своим изобретениям рогатый Чию дублирует рогатого Фуси.
Можно предположить, что племена Чию были представителями австронезийских народов, которые в результате столкновения с монголоидными народами были вытеснены с территории Китая в район южных морей, а часть откочевала на американский континент.
«Игры Чию», исполняемые в память об этом столкновении, по сути воспроизводят древнейший обряд инициации, где медиум, обрядившись в маску с рогами и нередко надев на себя звериные шкуры, целиком перевоплощается в сакрального духа предка. А сама маска с рогами соотносится в своих истоках с маской таоте и древнейшими танцами, связанными с перевоплощением медиума в духа.
Попутно заметим, что рогатый персонаж — далеко не редкость в ранних культурах, и во всех случаях он связан с некими обрядами, магией и культурой переодевания людей. Например, В древности для обозначения слова «хвост» (
вэй) рисовалось не животное, с привязанным хвостом, исполняющий ритуальный танец на печатях, обнаруженных в Тепе Гавре и в иранском поселении Тепе Гиян, очевидно просматривается некто с рогами на голове.
Его обычно именовали «хозяин животных».
Подобные же изображения шаманов встречаются и в далекой от Китая Сузиане.
Таоте: воспоминания о далеких предках?
Как видим, изображение таоте первоначально предположительно воспроизводило облик неких племен, населявших Китай в древности и вытесненных оттуда в результате межплеменных столкновений. Особенности некитайского облика и оказались зафиксированы в особом типе лица таоте. Позже таоте действительно превращается в маску, которую надевает медиум, вступая в контакт с духами предков. Таоте превращается в изображение медиума или лидера племени, а его изначальный смысл как представителя мудрых докитайских народов был утрачен.
Затем начинается этап воспроизведения этого «рогатого ритуала», проявившийся в танцах, ритуальных боях, а сегодня и во многих народных обрядах. Нам не известно ни точное значение ритуала, ни его вид, известно лишь, что медиумы надевали на голову маски, подобные изображениям таоте, и исполняли ритуальные танцы. На древних гадательных костях можно встретить иероглифы «м» (современное значение «удивительный», «необычный») и «гг/м» («дух»), которые изображались именно в виде человека с поднятыми вверх руками и с маской на голове.
Самое главное здесь, что духи сами не изображались никогда, речь шла именно о человеке, перевоплотившемся в духа путем переодевания. Такая трансформация, характерная для ранних культов по всему миру, позволяет предположить, что даже на бронзовых сосудах изображались не духи, а все же правители, которые «одеты как духи». Интересно, что для обозначения понятия «хвост» (
вэй) также рисовался человек с рогатой маской на голове и прикрепленным сзади хвостом, что трактовалось не просто как «хвост животного», но именно как ритуальный наряд медиума.
Следует учитывать, что у духов в мире мистического не было конкретных функциональных обязанностей, архаическое сознание еще не предусматривало разделения божеств по ролевым функциям, например, «духа горы» или «хранителя очага». И в этом смысле таоте был всем, воплощал все и реализовывался во всем. О единстве его функций свидетельствует, скажем, одна из фигурок из светлого нефрита высотой чуть более 12 см, обнаруженная в 1976 г. в гробнице правителя Фу Хао на руинах Инь недалеко от города Аньяна (пров. Хэнань). Это двусторонняя фигурка какого-то существа с характерными рогами и широким овалом лица. С одной стороны это существо имеет явные женские половые признаки, с оборотной стороны — мужские.
Таким образом, божество, похожее на таоте, являет собой одну из самых ранних форм ритуального гермафродитизма, точнее, абсолютного слияния мужского и женского начал внутри одного духа. Таким же образом в нем сливались и все сакральные функции, сам же древний Китай тяготел не ко множеству духов, а к единству их воплощения.
В любом случае, таоте и подобные ему изображения тяготели к некому изначальному и мифологически единому духу. Эта «изначальность» проступает и в ранних пиктограммах-иероглифах. Например, сам иероглиф «юань» («первичный, изначальный») на гадательных костях изображался в виде существа (человека?) с большой головой, стоящего боком к наблюдателю.
31
Существует одна особенность, которая позволяет пролить свет на функциональность изображений таоте. Изображение его встречается исключительно на ритуальных бронзовых сосудах. Оно составляет центральную часть
внешнего, а иногда и внутреннего декора треножников, котлов и других сосудов. Заметим, что такие бронзовые сосуды вряд ли использовались для повседневного приготовления пищи и скорее применялись во время ритуальных «кормлений духов», в то время как для обычного обеда древние китайцы, как и большинство других народов мира, употребляли деревянную или керамическую посуду. Таким образом, это существо своим присутствием либо освящало напиток и пищу, которыми наполнялись сосуды, либо посредством этого «принимало участие» в ритуале, который разыгрывался при помощи этих сосудов. Нелишне напомнить, что практически все ранние ритуалы Китая были связаны с приемом пищи, точнее с «кормлением духов». Не «окормляли» ли тем самым самого maome, изображенного на сосуде, закладывая пищу в сосуд с его изображением?
В продолжение этого можно высказать и другое предположение: мы уже обращали внимание на то, что нередко сосуд и есть само тело тaoтe, таким образом, вино и пища пребывают внутри него и как бы даруются тaoтe. Классическим примером, в частности, может явиться небольшой чайник, где голова тaoтe служит крышкой, носик чайника — его хвостом, а корпус чайника — телом духа. Наполняя сосуд пищей или вином, древние как бы закладывали пищу в тaoтe и кормили его. Собственно, весь ритуал заключается в том, чтобы сначала пища и напитки были погружены в таоте, прошли там мистическую трансформацию, тем самым сакрализовавшись, и уже потом в «истинном» виде вышли наружу и были приняты людьми. Эта трактовка может иметь несколько вариаций; в любом случае, для того чтобы отдать предпочтение хотя бы одной из них, доказательств не найдено. Так или иначе, тaoтe на сосуде связан с «кормлением духа» (духа предка?).
Таким образом, сам бронзовый сосуд оказывается вторичен относительно тaoтe. Сосуд не имеет самостоятельной функции как просто емкости для риса, бобов или вина. Он представляет собой не более чем символическое тело тaoтe, которое следует заполнить пищей, накормить духа, порадовать его.
 Илл. 62. Бронзовый сосуд, крышка которого выполнена в виде рогатого существа с очевидными антропоморфными чертами. VII–IV вв. до н. э.
Илл. 62. Бронзовый сосуд, крышка которого выполнена в виде рогатого существа с очевидными антропоморфными чертами. VII–IV вв. до н. э.
И здесь ключевую роль начинает играть тот, кто собственно «кормит» таоте, — посредник-медиум, который затем сам принимает пищу из этого сосуда. Таким образом, он делит пищу с духом и принимает на себя часть его энергии. Хорошо известно, что сам по себе акт разделения пищи с кем-то, например с гостем, нередко является символом породнения или, по крайней мере, установления близких отношений. Неслучайно на сосудах рядом с изображениями таоте мы встречаем символику правителя — например, иероглиф «ван», который позже стал обозначать правителя или императора, первоначально, скорее всего, обозначал медиума. Точно так же и в случае с таоте медиум разделял с ним пищу и становился его представителем на земле, воплощая тем самым свою посредническую роль.
Чаще всего в виде таоте выступает шаман или группа шаманов, которая, надевая маску этого существа, может проникать в загробный мир и провожать душу умершего. Представления с рогатыми масками на голове во время погребальных обрядов были распространены в Китае в V–III вв. до н. э. В этот момент, надевая маску на голову, шаман и перевоплощался в духа-таоте, превращаясь в особый переходный тип существа, стоящего между миром живых и миром мертвых.
Непосредственная связь шамана-maowze с проводами души в загробный мир, а также с охраной этой души, обнаруживается, например, в древних росписях на внутренних фобах, принадлежащих к южной традиции царства Чу. В частности, мы уже упоминали, что на внешней части гроба правителя И из области Цзэн (V в. до н. э.) были изображены духи или люди в полный рост весьма устрашающего вида в масках таоте, с рогами, с алебардами в руках, охраняющие душу усопшего.
32
Вполне возможно, что эта картина изображает шаманский танец проводов души, — не случайно изображения идут по обеим сторонам гроба в виде шаманов-духов, разделенных на группы по четыре человека.
Очевидно, что для членов племени повелителем является не сам правитель, а та мистическая сила, тот сакральный дух, что заключен в нем. Правитель ценен именно как носитель этой сакральной силы, как овеществленное воплощение всей совокупности духовных сил, защищающих племя. Ранние китайские правители, как и у многих других народов, совмещали административную власть, власть вождя и силу медиума. В моменты проведения ритуалов, по ряду реконструкций, китайские правители эпохи Шан надевали шлемы с рогами или с перьями, торчащими в разные стороны в виде рогов. И в этот момент правитель не имитировал, но именно целиком перевоплощался в таоте, или, говоря другими словами, в момент сакрального экстаза дух таоте воплощался в правителе. И в этом плане таоте был именно «маской», как его обозначает ряд исследователей, в том смысле, что его надевали на голову во время ритуалов.
Таким образом, скорее всего в виде таоте выступал либо шаман, либо реальный лидер племени, на время ритуального экстаза перевоплощавшийся в духа предка или центрального духа, — именно его изображения в виде человека в ритуальной маске и встречаются на древних сосудах.
Представления о высшем духе
Очевидно, таоте — название значительно более позднее, нежели сами изображения, и мы это подчеркивали выше. Как же в действительно мог именоваться тот дух, лик которого столь часто встречается на древних изображениях?
Прежде всего, стоит напомнить, что он был центральным или вообще единственным духом, все остальные являлись его трансформациями или частичными воплощениями. Возможно, это дух, который стал именоваться «дм» или <лиан дм» — «Верховный правитель». Позже иероглифом «дм» стали обозначать правителей и императоров. Таким образом, очевидна связь с сакральным характером правления на земле, а также с мистическим перевоплощением правителя в духа в момент осуществления им своих ритуальных обязанностей. По одной из версий, таоте обозначал «высшее небесное божество»
33. Мы готовы согласится с тем, что оно было высшим, но ничто прямо не указывает на то, что оно было «небесным», скорее дух-дм был распластан по вселенной. Позже он действительно «переместился», не случайно иероглиф «Небо» (
тянъ) первоначально рисовался как человек с большой головой (явная аллюзия таоте с непропорционально большой относительно тела головой), стоящий с широко расставленными ногами и широко раскинутыми руками.
34
Поскольку дух-дм переместился на Небо, став действительно «высшим дм» или «верхним дм» (
гиан дм), на земле его воплощением явился правитель, а позже и император, не случайно также называемый дм. К образу императора как воплощенного духа, а не просто как посредника между человеком и духами, нам еще предстоит вернуться.
Здесь стоит сделать одно замечание по поводу этимологии термина «Небо». Трудно спорить с тем, что Небо действительно изображалось как человек с большой головой и раскинутыми руками. Но причем здесь именно большая голова? Скорее всего, речь шла о медиуме с маской, надетой на голову в момент выполнения ритуала, что и давало в итоге изображение «большой головы». Многие иероглифы передают рисунки таких людей в масках или с «большими головами», и центральную роль среди них занимало именно изображение тянъ. Тянъ, как представляется, в своем раннем значении представляло самого высшего духа и одновременно медиума в маске, который устанавливает связь с духами и выступает в этот момент как высшая форма правления, благодатной энергии и власти. Он изначально воспринимался как переходный тип, стоящий между миром людей и миром духов, а поэтому постепенно стал «отделяться» от мира людей, приобретая тот смысловой характер Неба, который встречается практически во всех мировых религиозных культурах. Медиум-яшнь совпадает по значению и сакральным функциям с медиумом-ди.
Сам
ди многими чаще всего понимается как «предок» или некое абстрактное божество. Обычно, говоря о
ди или шан
ди, его именуют в литературе «верховным духом». Но откуда он взялся, этот верховный дух, когда в древнем Китае не было даже намека на монотеистические воззрения? Может быть, стоит вести речь о «верховных духах» во множественном числе, учитывая, что китайский язык грамматически не делает различия между единственным и множественным числом?
Большую помощь может оказать анализ древнего написания самого иероглифа «дм», поскольку даже столь абстрактные понятия китайцы, скорее, зарисовывали, сводя относительную абстракцию к пиктограмме. Кем же изображался
ди?
Здесь есть определенная сложность: поскольку в древности не существовало единой формы записи иероглифов (формально единообразие было введено лишь во II в. до н. э.), то не всегда возможно точно определить, действительно ли перед нами иероглиф «дм». Существовало и множество разнописей одного и того же иероглифа, более того, не всегда возможно точно понять, какой же смысл изначально закладывался в тот или иной рисунок, к тому же малейшее искажение даже одной черты рисунка могло во многом изменить его смысл. Именно эти разночтения и стали причиной многих споров вокруг раннего значения
ди — очевидно, центральной категории для всех древнекитайских магических и религиозных представлений.
Большинство исследователей предполагает, что в основе дм лежала графема, означающая «корень», «основа», что тяготело к общему понятию «изначалия» или первопредка. На это же указывают схожие графемы, также встречающиеся сегодня в понятии «отец»
35. Таким образом, под дм подразумевался не столько дух, сколько «изначальный предок», а понятие «высший предок» указывало не столько на его самый высокий статус в пантеоне духов, сколько на первичность по времени относительно всех других предков.
 Илл. 63. Трансформация иероглифа «дм» (ныне — «правитель», «император»).
Илл. 63. Трансформация иероглифа «дм» (ныне — «правитель», «император»).
Таким образом, скорее всего в виде таоте выступал либо шаман, либо реальный лидер племени, на время ритуального экстаза перевоплощавшийся в духа предка или центрального духа, — именно его изображения в виде человека в ритуальной маске и встречаются на древних сосудах.
Представления о высшем духе
Очевидно,
таоте — название значительно более позднее, нежели сами изображения, и мы это подчеркивали выше. Как же в действительно мог именоваться тот дух, лик которого столь часто встречается на древних изображениях?
Прежде всего, стоит напомнить, что он был центральным или вообще единственным духом, все остальные являлись его трансформациями или частичными воплощениями. Возможно, это дух, который стал именоваться «дм» или <лиан дм» — «Верховный правитель». Позже иероглифом «дм» стали обозначать правителей и императоров. Таким образом, очевидна связь с сакральным характером правления на земле, а также с мистическим перевоплощением правителя в духа в момент осуществления им своих ритуальных обязанностей. По одной из версий, таоте обозначал «высшее небесное божество». Мы готовы согласится с тем, что оно было высшим, но ничто прямо не указывает на то, что оно было «небесным», скорее дух-дм был распластан по вселенной. Позже он действительно «переместился», не случайно иероглиф «Небо» (
тянъ) первоначально рисовался как человек с большой головой (явная аллюзия таоте с непропорционально большой относительно тела головой), стоящий с широко расставленными ногами и широко раскинутыми руками.
34
Поскольку дух-дм переместился на Небо, став действительно «высшим дм» или «верхним дм» (
гиан дм), на земле его воплощением явился правитель, а позже и император, не случайно также называемый дм. К образу императора как воплощенного духа, а не просто как посредника между человеком и духами, нам еще предстоит вернуться.
Здесь стоит сделать одно замечание по поводу этимологии термина «Небо». Трудно спорить с тем, что Небо действительно изображалось как человек с большой головой и раскинутыми руками. Но причем здесь именно большая голова? Скорее всего, речь шла о медиуме с маской, надетой на голову в момент выполнения ритуала, что и давало в итоге изображение «большой головы». Многие иероглифы передают рисунки таких людей в масках или с «большими головами», и центральную роль среди них занимало именно изображение тянъ. Тянъ, как представляется, в своем раннем значении представляло самого высшего духа и одновременно медиума в маске, который устанавливает связь с духами и выступает в этот момент как высшая форма правления, благодатной энергии и власти. Он изначально воспринимался как переходный тип, стоящий между миром людей и миром духов, а поэтому постепенно стал «отделяться» от мира людей, приобретая тот смысловой характер Неба, который встречается практически во всех мировых религиозных культурах. Медиум-яшнь совпадает по значению и сакральным функциям с медиумом-дм.
Сам
ди многими чаще всего понимается как «предок» или некое абстрактное божество. Обычно, говоря о
ди или шан
ди, его именуют в литературе «верховным духом». Но откуда он взялся, этот верховный дух, когда в древнем Китае не было даже намека на монотеистические воззрения? Может быть, стоит вести речь о «верховных духах» во множественном числе, учитывая, что китайский язык грамматически не делает различия между единственным и множественным числом?
Большую помощь может оказать анализ древнего написания самого иероглифа «дм», поскольку даже столь абстрактные понятия китайцы, скорее, зарисовывали, сводя относительную абстракцию к пиктограмме. Кем же изображался
ди?
Здесь есть определенная сложность: поскольку в древности не существовало единой формы записи иероглифов (формально единообразие было введено лишь во II в. до н. э.), то не всегда возможно точно определить, действительно ли перед нами иероглиф «дм». Существовало и множество разнописей одного и того же иероглифа, более того, не всегда возможно точно понять, какой же смысл изначально закладывался в тот или иной рисунок, к тому же малейшее искажение даже одной черты рисунка могло во многом изменить его смысл. Именно эти разночтения и стали причиной многих споров вокруг раннего значения
ди — очевидно, центральной категории для всех древнекитайских магических и религиозных представлений.
Большинство исследователей предполагает, что в основе дм лежала графема, означающая «корень», «основа», что тяготело к общему понятию «изначалия» или первопредка. На это же указывают схожие графемы, также встречающиеся сегодня в понятии «отец». Таким образом, под
дм подразумевался не столько дух, сколько «изначальный предок», а понятие «высший предок» указывало не столько на его самый высокий статус в пантеоне духов, сколько на первичность по времени относительно всех других предков.
…???…
Или. 63. Трансформация иероглифа «дм» (ныне — «правитель», «император»). В древности под ди понимался высший дух; он изображался то ли в виде алтаря для жертвоприношений, то ли в виде скрещенных жертвенных топориков шамана
Вообще, к эпохе раннего Чжоу Китай, вероятно, сформировал концепцию единого высшего вседержителя, который и властвует над всем миром духов. Ее отголоски видны, в частности, в «Дао дэ цзине», где утверждается, что Дао «является предком всех образов и [верховного] владыки (дм)» (§ 4). И не его ли прообраз изображали на бронзовых сосудах? Параллельно в тексте «Дао дэ цзина» многократно упоминается некое Единое, или Единственный (
м), которое также можно рассматривать как воплощение единого духа предков.
Существует и предположение, что понятие
ди было как-то связано с ритуалами, поклонениями и жертвоприношениями, поскольку центральную часть иероглифа, как кажется, составляет элемент «алтарь» — ши, который в древности изображался как каменный столик с лежащими на нем дарами или жертвами. Казалось бы, это лишь подкрепляет представление о
ди как о неком верховном духе, которому поклонялись и подносили жертвоприношения. Однако современный анализ показал, что в древности графема «алтарь» изображалась несколько по-другому, чем в иероглифе «дм».
Обратим внимание на то, что обычно речь идет не просто о дм, но о шан-ди, что переводят как «верховный дм». В древности графема «верхний» (
шан) изображалась как две параллельные черты, иногда верхняя немного изгибалась в виде открытого вверх полукруга. И именно эту графему мы встречаем в верхней части древнего написания дм, т. е. «верховный дм» для древних людей представлялся не двумя словами, а одним. Эту же мысль подтверждают и древнейшие слова «Шо-вэнь цзецзы» (I в.), который трактует эти два иероглифа как один, взаимосвязанный (стоит напомнить, что традиционно иероглифы писались сверху вниз, и не всегда можно было легко различить, идет ли речь о двух разных знаках или о верхней и нижней части одного иероглифа)
36.
Под графемой «верхний» стоит графема «дерево» (
му), а под ней «квадрат» (
фан). Хорошо известно, что под квадратом в древних представлениях обычно подразумевалась земля — виде человека (шамана?) с маской на голове вероятно, первоначально это было связано с четырехугольными наделами. Небо же представлялось в виде круга. Таким образом,
ди понимался как некое существо, стоящее над лесами и землей, как бы сверху властвующее над земным миром. И в этом смысле это действительно «верховное божество».
…???…
Илл. 65. Трансформация иероглифа «втянь» (сегодня — «Небо»). В древности тянъ представлялось в виде человека (шамана?) с маской на голове.
Однако у
ди появляется еще одно значение, которое несколько приподнимает завесу над тем, какое существо подразумевалось под этим термином. Так стали обозначать правителей или императоров, иногда — властительных князей в древности. Именно этот иероглиф встречается в именах многих великих правителей, например Хуан-ди, У-ди и других. Император для Китая это всегда получеловек-полудух, точнее дух, воплотившийся в человека, и в этом смысле он подобен медиуму, впустившему в свое физическое тело духа (или духов?). Очевидно, что древнее магическое сознание не делало очевидного различия между духом, живущим где-то на небесах, магом и правителем. Они все были сведены в единый персонаж
ди, который, вероятно, и был представлен в реальной жизни неким сословием медиумов, постепенно превращающихся в племенных лидеров и правителей. И Хуан-ди, и, вероятно, все так называемые «первоправители» были такими медиумами, которые благодаря приписываемой им сакральной энергии и получили власть над своим народом.
…???…
Илл. 64 Именно лик ди, видимо, и изображался на бронзовых сосудах, именно он и был центральным элементом поклонения древних китайцев.
Очевидного различия между тянь-небом,
таоте и
ди не существовало, но сути это было одно и то же существо, обычно изображаемое в виде человека, медиума или мага, в маске. В частности, иероглиф «глянь» («небо») является лишь схематичным Илл. 65 изображением большеголового и рогатого
таоте, причем таких изображений, как будет видно в следующем параграфе, было множество. Сам же дух не изображался, на рисунках в виде человека в маске выступал его представитель-медиум или лидер племени.
Это единство функций и даже облика явным образом указывает на то, что у Китая был необычный вектор развития представлений о священном: если иудео-христианская традиция прошла путь от многобожия к единобожию, то Китай практически сразу же сформировал монотеистические представления. Высший дух был всегда один и единственный, он лишь развоплощался в массе проявлений, форм, обликов и представал перед людьми в виде медиума-посредника.
Спрятаться за маску
Первыми воплощенными «божествами» китайской традиции были люди, медиумы, надевавшие на себя маски предка и тем самым перевоплощавшиеся в них. В сущности, для древней культуры не было единого «адресата» для поклонений, и благодаря этому и таоте, и тянъ, и ди представляют собой различные реинкарнации одного и того же существа или, правильнее говоря, одного и того же мистического ощущения. На бронзовых сосудах, на керамике и костях в этом контексте изображался не некий отстраненный дух, но медиум, перевоплотившийся в духа.
Вся культура медиумизма была связана с изменениями статуса, с абсо-Илл. 67 лютной мистической трансформацией, когда человек перевоплощается в духа и, как следствие, переодевается и использует маску.
В китайской ритуальной культуре маска всегда играла особую роль. Сегодня она связывается чаще всего с театральными представлениями, однако сам театр имеет своим истоком ранние ритуалы изгнания духов — экзорсизма. Например, в эпоху Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) особые чиновники, проводившие обряд экзорсизма, надевали на голову деревянные маски животных.
37
Это, скорее, не скрывающая маска, но обнажающая, открывающая именно то, что сокрыто за повседневным лицом человека. Она в концентрированном виде воплощает сакральную сущность человека, преподнося наблюдателю его истинный лик. Мирча Элиаде отмечал эту особенность «масочной культуры» как абсолютной трансформации человека в запредельное существо, говоря, что «маска явным образом объявляет об инкарнации мистического персонажа (предка, мистического животного, бога)»
38.
Сами древние маски, естественно, не сохранились, практически не известен нам и их точный вид, однако многие современные иероглифы представляют собой изображения именно людей в масках.
Современное значение этих иероглифов уже не связано с масочной или шаманской культурой, однако в своем изначальном виде они непосредственно описывали (точнее — обрисовывали) комплекс ритуального перевоплощения человека в духа. Все подобные пиктограммы рисовались как изображения людей с широко расставленными ногами и очень большой головой, точнее маской, надетой на голову, а в ряде случаев и с рогами и, как представляется, то ли с раскрашенным, то ли с татуированным лицом. С течением времени эти изображения превратились в иероглифы, которые ни по своей сути, ни по прямому переводу не связаны с ранней магией.
Например, иероглиф «лом» (ныне — «красивый») представлял собой силуэт странного антропоморфного существа, на голове которого — то ли ветвистые рога, то ли маска с перьями (стоит напомнить, что шанские правители могли носить подобные шлемы с перьями). Иероглиф «лэы» (ныне — «черный») на бронзовых сосудах являлся рисунком человека с большой маской Дух Цзяо Титуй. Провинция Гуйчжоу на голове, с лицом, возможно, измазанным сажей либо выкрашенным в черный цвет.
…???…
Илл. 68. Маска Анъшуйской драмы «земли», связанной с вызыванием духов, ритуальными плясками, песнопениями и путешествиями в загробный мир.
Иероглиф цзи (название царства Цзи на территории современной провинции Шаньдун), очевидно, показывал человека с рогатой маской на голове, раскрытыми широко руками. То же относится и к иероглифу «стой» (ныне — «пустой», «полый»).
39
Скорее всего, мэй, хэй, цзи, аой являлись разными категориями медиумов или духов, что, в сущности, для магической культуры является одним и тем же.
Это же и объясняет происхождение иероглифа «тиянъ» — «Небо», который также изображался как человек с широко расставленными ногами, разведенными в сторону руками и большой головой. Представляется, что в этом случае речь также идет о человеке в большой маске, а собственно само священное Небо здесь дано в виде его «земного представителя» — медиума.
Попутно заметим, что на древних надписях люди как таковые, по-видимому, не изображались — достойными зарисовывания или записывания считались только духи и их земные представители.
Все подобные иероглифы, сегодня уже утратившие изначальный смысл, в своем первозданном виде очень точно передают сакральную суть многих понятий. Здесь достаточно напомнить, что, по одному из предположений, иероглиф «ван», ныне означающий «правитель, император», изображался как человек с широко стоящими на земле ногами (это подчеркивала нижняя горизонтальная черта), головой упирающийся в Небо. Иероглиф сп/ан», ныне «желтый», первоначально означал человека со священным нефритовым кольцом на груди, указывающего на магическую энергию. Вообще, многие иероглифы, ныне означающие цвет, в том числе «желтый» (
хуан), «черный» (
хэй), в древности рисовались в виде либо людей в масках, либо людей с татуировками на теле, указывая, по-видимому, на разную ритуальную раскраску медиумов.
Отсюда же и берется характерный лик таоте, представленный именно как маска или человек в маске. В некоторых погребениях, относящихся к периоду Шан, обнаружены маски, в которых явным образом проступают следы уже известного нам таоте — огромные глаза и практически полное отсутствие нижней челюсти, причем некоторые из них, как предполагается, могли действительно надеваться на голову.
40
Маска или переодевание вообще оказывались связанными либо с путешествием в мир мертвых, либо с превращениями души после смерти. В древних погребениях неоднократно встречаются маски, которые принято называть фу-мянъ — «покрывающие лицо». Они достаточно точно воспроизводят вполне человеческие черты лица, у них нет устрашающей пасти или рогов на голове. Тем не менее, смысл такого «покрытия лица» связан именно с моментом отделения души (точнее, нескольких душ) от тела. Маска, закрывая лицо, задерживает одну из душ (
хунъ), не давая ей улететь окончательно, что, в конце концов, позволяет ей превратиться в дух предка, которому и можно поклоняться. Так, в трактате «Тайпин юйлань» в разделе «Церемонии и ритуалы» мы встречаем странную цитату из ныне утраченного трактата «Всеобщие нравы и обычаи» («
Фэнсу тун»): «Душа-дл/нь и дыхание-г<м умершего человека воспаряют ввысь, а поэтому изготовь маску ему на лицо, дабы сохранить их»
41.
Здесь стоит вспомнить распространенный практически по всему миру обычай закрывать лицо умершему.
Очевидно, что ритуал, связанный с «запрятыванием лица», фумянъ, существовал еще в неолите.
Например, как обнаружилось при раскопках неолитических стоянок в Давэнькоу в провинции Цзянсу и в Мацзяване в долине Янцзы, в древности лица покрывали глиняными чашками, окрашенными в красный цвет. Красный цвет, вероятно, по аналогии с цветом крови, в Китае ассоциировался со смертью, не случайно императоров обряжали именно в красные погребальные однажды. Уже позже такой обычай стал встречаться у сопредельных с Китаем народов, например у киданей на севере Китая.
42
Погребальные маски активно использовались еще в раннюю эпоху Чжоу в X до н. э. Причем маски эти изготавливались не из металла или дерева, а из нефрита. В частности, такая маска обнаружена в захоронении правителя Го в Илл. 45 местечке Шансуньлинь в Хэнани. Сначала из желтоватого нефрита изготавливались пластины различной формы, например овалы, круги, полумесяцы. Затем эти пластины клались на лицо умершего на глаза, лоб, брови, уши, подбородок, таким образом образуя маску, целиком скрывавшую лицо.
43
 Илл. 69. Золотая погребальная маска из могилы в Ниная. 678 г. Уезд Гуйян
Илл. 69. Золотая погребальная маска из могилы в Ниная. 678 г. Уезд Гуйян
С этим же запрятыванием истинного облика умершего связана и традиция использования заместителя усопшего или «персонификатора» в обрядах похорон — на каждом ритуале поклонения духам предков, похорон, свадьбы в традиционном Китае присутствовал человек, который в полной мере являлся представителем духа на земле. Роль абсолютного представителя выполнял правитель, а позже и император. До сакрализации личности правителя эту роль выполняли медиумы, которые, надев маски, обычно рогатых духов, в этот момент перевоплощались в
ди или
таоте.
Маска на своем начальном уровне помогает носящему ее идентифицировать себя с образом маски.
Но это лишь первый шаг к перевоплощению, скорее игровой, нежели ритуальный. Человек, надевая маску, как бы зачеркивает свою человеческую сущность, запрятывая ее внутрь. Наружу выступает некий темный двойник, доселе находившийся внутри. Во многих древних произведениях, например «Анналах бамбуковых книг», речь идет о том, что люди обряжались в маски неких
цин. Это понятие ныне переводиться как «животное», поэтому принято считать, что в древнем Китае были распространены какие-то танцы животных, связанные с тотемом. Действительно, по крайней мере со II в. до н. э. при дворе были распространены ритуальные танцы животных. Входили они и в ранний развлекательный комплекс
байси — «сто игр», куда также включались акробатика, показ боевых искусств и демонстрация других возможностей человеческого тела.
Однако все это было уже развлечение, дальний отголосок древних магических действий. Китайцы эпохи Хань и более поздних династий уже не чувствовали сакрального экстаза этих танцев, выталкивающих сознание человека в потусторонние сферы, хотя тщательно повторяли все их движения. Так родились танцы обезьяны, собаки, дерущихся медведей, богомолов и многих других. К XV–XVII вв. они стали частью ритуального комплекса боевых искусств ушу, но в действительности мало соотносились собственно с боевым, прикладным применением — животные танцы, превратившиеся в так называемые «подражательные стили», или «стили имитации формы» (
сянсинцюань), как бы повторяли тот древний экстатический ритуал, который много веков назад практиковался в Китае. Параллельно родились и некие комплексы, позже ставшие считаться оздоровительными, хотя первоначально они также соотносились с древними подражательными ритуалами. Самым известным из них стала «Игра пяти животных» (
Уцинси), приписываемая великому медику древности Хуа То, хотя собственно его комплекс до нас не дошел, в «Хрониках троецарствия» сохранилось лишь невнятное упоминание о нем.
Изначально же, как нам представляется, речь все же шла не о танцах животных, а под
цин подразумевались не какие-то звери, а духи. Ритуальное присутствие духов предков на земле разыгрывали люди, обряженные в странные, пугающие маски. Именно эти люди и именовались цин, что в данном случае вполне уместно перевести как «бестии», «оборотни», «странные создания». Таким образом,
цин был не животным и не духом, а человеком-медиумом, перевоплотившимся на время в потустороннего духа.
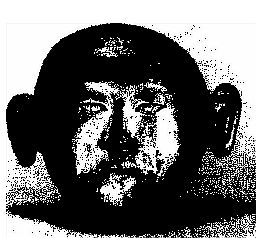 Илл. 70. Золотая погребальная маска принцессы народности киданъ династии Ляо. 916-1125 гг. Внутренняя Монголия шкуры тигров и леопардов.
Илл. 70. Золотая погребальная маска принцессы народности киданъ династии Ляо. 916-1125 гг. Внутренняя Монголия шкуры тигров и леопардов.
Переодевание шамана в животное часто встречается в ранних культах, причем речь идет не о каком-то конкретном животном, но о совокупности характерных черт животного мира — рогов, хвоста. Человек, переодеваясь, перевоплощается в пограничное существо лун, посредника между миром живых и миром мертвых. Он одновременно и похож, и непохож на человека, и в этом суть истинной антропоморфности — человекоподобия ранних «драконов». Например, демон Куй, нередко именуемый Куйлун, то есть Дра-кон-Куй, в древнейших источниках, в частности в «Шовэнь цзе-цзы» (I в.), выступает именно как переодетый человек: «Куй схож с драконом-лун, у него растут рога, руки и ноги у него человеческие»
44. Здесь мы вновь встречаем характерный признак священного переодевания и символа власти шамана над царством мертвых — рога.
Магия животных и переодевания в них в Китае была связана не с охотничьими ритуалами, как случалось во многих других странах мира, а исключительно с изгнанием духов. Следует понимать, что изгоняли не вообще духов, а лишь «чужих» или «вредоносных», чтобы освободить место для «своих» духов, в частности духов своих предков. Например, одним из трех основных ритуалов сакрификации эпохи Чжоу становится цюнно, смысл которого предположительно заключался в изгнании или отпугивании духов. Руководил ритуалом некий фон сянши, который обладал «золотыми глазами, а ладони его были покрыты медвежьей шерстью», то есть он надевал шкуру животного, наносил себе ритуальную раскраску и таким образом изгонял духов.
Переодевание, равное перевоплощению, часто использовалось в древних обрядах. И чаще всего для этого употреблялись шкуры животных или их части, например известные уже нам фартуки с хвостами или рогатые маски. Чтобы победить непокорные племена, следовало, в частности, обрядиться в
45.
Вообще в этом контексте «переодевания-перевоплощения» следует критически относиться к самому тезису о существовании в древнем мире тотемных животных. По сути, никогда не существовало поклонения именно животному, например медведю, тигру или леопарду, существовало лишь «неполное перевоплощение» человека в животное, указывающее на его промежуточный «не совсем человеческий статус», который и позволял ему соотноситься с духами и путешествовать между миром живых и обителью мертвых. Поклонялись не животному, а сакральному качеству, которое воплощалось в его образе. Эта мысль подтверждается и тем, что в реальности под названиями «тигров», «медведей», «драконов», «змей», «птиц» выступали различные категории жреческих служителей, шаманов, медиумов, магов, лидеров родов и т. д.
Перевоплощение шамана в духа после надевания маски сохранилось в Китае до сих пор. Например, отголоски «рогатых танцев» можно видеть в танцевальном масочном представлении уезда Уюань в Цзянси, прямо именуемом угуй — «танцы духов». До сих пор они исполняются медиумами, вошедшими в транс, и выполняются в виде церемонии жертвоприношения духам. Медиумы надевают на себя маски, разыгрывают очень сложное представление, включающее более сотни сюжетов, в которых используется около двухсот различных масок. Причем разыгрываются события глобального масштаба, где медиум-дух выполняет роль духа, вершащего космические события, например «отделяет Небо от земли» (
кай тпянь пиди), «перемешивает звезды» и т. д.
Уже с поздней Хань, с I–II вв., надевание масок, очевидно, всегда сопровождало ритуалы экзорсизма, изгнания духов или установления с ними прямого контакта — маги во время ритуалов обряжались в какие-то деревянные маски.
46
В других случаях маска могла изготавливаться из металла.
47
Такой ритуал контакта с духами именовался но (в другом чтении —
на), и предположительно ханьские мистики просто возродили значительно более древние ритуалы. Надевая маску духа предка, медиум становился как бы «опознаваемым» в потустороннем мире, «своим» для мира мертвых, и это помогало ему устанавливать контакт с миром мистического.
Однако со временем «масочное» перевоплощение утратило смысл непосредственного проникновения в царство мертвых, оно приобрело игровой оттенок, хотя сохранило, используя выражения М. Элиаде, оттенок «транссубстантивации» — обретения новой сущности при надевании маски. Именно отсюда вышел знаменитый китайский театр масок, достигший своего апогея в династию Сун (960-1279) и крайне популярный до сих пор. Масочные ритуалы экзорсизма и общения с духами но, проникнув в Японию, воплотились там в ныне всемирно известном театре масок но, и сегодня отголосками ритуалов экзорсизма может полюбоваться каждый, приобретя билет в театр.
48
…???…
Илл. 71. Многие иероглифы первоначально представляли изображения людей в масках (по Ма Гоцзюню)
Даже в китайское средневековье — значительно менее мистифицированное и оккультное, но попрежнему сакрализованное в своей сердцевине — этот мотив маски как «истинного лица» нашел свое воплощение в китайском театре. Театр масок особенно широко распространился в династию Сун (960-1279), считается, что именно тогда он шагнул за пределы Китая и проник в Японию. В одних случаях это была маска, сделанная из папье-маше или глины, в других — просто раскраска лица; в любом случае и то, и другое давало инвариантность характера героя, например «отважный генерал», «трусливый предатель», «жена-изменница» и т. д. Постепенная трансформация внутреннего образа героя, как принято в западной драме, здесь исключена, возможно лишь разовое и внезапное мистическое перевоплощение, характерное для древней мифопоэтики и для сказок.
Китайский театр, в частности знаменитая пекинская драма (
цзинцзюй), также оказался сведен к набору символов-масок, причем характер героев не меняется и даже не может измениться на протяжении спектакля. Личная драма, гамма чувств, трагедия полутонов и переживаний здесь заменена ликующим следованием канону, от которого нельзя отступить ни на шаг. По сути, китайский театр — это вывернутый механизм, детали которого торчат наружу. И именно эта открытость, очевидность и, как следствие, предсказуемость характеров и сюжетов ценится превыше всего.
Цзиньцзюй берет свое начало в магических танцах провинции Аньхуэй. Аньхуэйскую труппу в 1790 г. пригласили в Пекин, чтобы дать представление перед императорским двором в Запретном городе. Представление понравилось и прижилось, отныне пекинская драма стала пользоваться высочайшим покровительством, а затем во многих центральных провинциях Китая местные чиновники и аристократы стали набирать свои труппы, повторяющие в общих чертах пекинские.
В пекинскую драму пришли характерные особенности хубэйского театра, локальных театров Кунцю, Цинян, Банцзы и других. До сих пор маски в пекинской драме носят характер архаической символики, которая проступает, например, в знаковости цветовой гаммы. Так, красный цвет означает смелость, честность и преданность. Обычно краснолицые герои представляли собой доблестных аристократов и честных чиновников. Черный цвет лица говорил о грубоватом характере, нередко о нерешительности героя. Зеленый указывал на упрямство, несдержанность и полное отсутствие способности к управлению своими поступками. С лицами, выкрашенными в белый цвет, на подмостки поднимались исключительно классические злодеи — цвет указывал на все низменные чувства, которые только можно встретить в человеческой природе. Например, одного из самых талантливых правителей Китая, которому, однако, традиция приписывает большую подлость, Цао Цао, изображали белолицым, а вот мужественный обожествленный полководец Гуань Юй на подмостках, естественно, оказывался краснолицым.
Масочная культура переживает новый взлет в династию Юань (1271–1368) благодаря установлению отношений с Тибетом, где в ту пору сохранялись многие мистические культуры и прежде всего — ритуалы путешествия в мир мертвых, связанные с переодеванием и ношением масок. В принципе ритуальная часть тибетского буддизма содержит в себе ядро очень многих добуддийских (бонских) культов, представлявших собой шаманизм с его воспарениями в небеса и погружениями в царство мертвых. Из Тибета приходит популярный танцевальный ритуал изгнания духов
цянъму, характерно называемый также «прыжки духов» (
тяо шэнь), во время которого участники надевают на голову маски в виде человеческих черепов, защитников буддийской веры Дхармапалы.
По сути, тибетский буддизм дает толчок к ренессансу многих медиумных и шаманских культов, которые уже в чистом виде в Китае не практиковались, возрождаются многие масочные культы по всей территории Китая, в том числе и древние обряды рогатых божеств. Впрочем, в тот момент это уже было превращено в популярный народный обряд, утративший свою медиумно-магическую подоплеку.
Тем не менее, все подобные обряды, сохранившиеся и сегодня, тяготеют к древнейшей магической технике переодевания и надевания маски. Поразительным образом в истории Китая оказались связаны древнейшие изображения таоте, понятие Неба, духа и правителя ди и масочных обрядов и танцев, которые, так или иначе, стимулировали человека к выходу за границы обыденного мира и вступления в мир духов. И здесь проступает еще одна древнейшая функция медиума, одетого в маску, — посещение мира мертвых.
Загадка китайских драконов
Если спросить у любого человека, какие бы символы Китая он назвал, скорее всего, он вспомнит дракона, монаду инъ-ян и Конфуция. Именно дракон стал едва ли не самым распространенным символом Китая. Его изображали на нефритовых пластинах и фарфоровых вазах, рисовали на дверях домов, татуировали на теле, вышивали золотом на халатах китайских императоров, изображения дракона можно встретить на плафонах императорского дворца Гугун в Пекине.
Исток такой популярности драконов в Китае до сих мор малоисследован, хотя, казалось бы, столь распространенный символ, связанный прежде всего с императорской властью, не мог не привлечь внимания исследователей. Корни представлений о драконе как об одном из центральных символов Китая и мощи правителя загадочны, равно как и многое другое в символике ранней сакральной культуре Китая. По одному из предположений, высказанному известным синологом X. Крилом, лун имел какое-то отношение к правящему клану периода Шан, он же указывал на существование преданий о некой «женщине-драконе», однако никаких подробностей об этом культе до нас не дошло.
49
Частично предположение о том, что дракон каким-то образом соотносится с племенным духом-защитником, подтверждает следующий факт. В период Чжоу, в эпоху государственной раздробленности и непрекращающихся войн между царствами существовало царство Сун, которое, как считалось, управлялось прямыми потомками шанской аристократии. При этом в ряде текстов, например в хрониках «Цзочжуань», сообщалось, что на небе существует созвездие Лун (т. е. Драконов), которое соотносится с правителями царства Сун, и таким образом прослеживается возможная связь между потомками Шан и духом-покровителем драконом.
Поскольку изображения стилизованных драконов (иногда в виде змей) в древности были распространены практически повсеместно, стало принято считать, что дракон являлся не чем иным, как тотемом племени — жителей первого китайского протогосударства.
50
Частично это подтверждается преданием о том, что один из великих предков Шунь принадлежал к роду «Обуздывающих драконов», в то время как, например Желтый правитель — Хуан-ди принадлежал к роду «Владеющих медведем».
51
Тезис о драконе-тотеме, хотя и кажется на первый взгляд очевидным благодаря часто встречающимся изображениям этого существа, еще никому не удалось в полной мере доказать.
Дракона рассматривали не только как тотем, но и как персонифицированные силы
природы или стихии, например дождя, разливов рек, в его образе представлялись боги грома, боги гор, деревьев.
52
Культ драконов связывали с культом змей и находили в этом безусловные параллели с культами пресмыкающихся практически по всему миру.
Тем не менее, все это, даже вместе взятое, не объясняет столь большой важности дракона именно для китайской культуры. Следует учитывать, что символика дракона сохранялась в Китае на протяжении практически трех тысячелетий, причем если в других странах мира культ змей никогда не являлся частью императорского культа в течение многих столетий, то изображения драконов в Поднебесной остались популярны вплоть до наших дней.
То, что мы привыкли переводить как «дракон», по-китайски звучит лун. К V–VII вв. складывается целая иконография драконов: свернувшийся (сконцентрировавший свою силу), взметающийся ввысь из воды (символ яростной силы правителя), переплетенные драконы, дракон, играющий с жемчужиной (символ солнца) и т. д. Классическим стало представление о драконе как о существе с чешуйчатым телом змеи, головой тигра, с четырьмя ногами и небольшими рожками на голове. Хотя долгое время облик его не был окончательно сформированным. Например, по крайней мере уже к I в. существовали представления о лун как о существах с телом змеи и головой лошади.
53
Для нас же в данном контексте больший интерес представляют ранние изображения лун до его канонизации.
Чтобы дать ответ на загадку истоков «драконьего культа» в Китае, прежде всего обратим внимание на то, что еще никому не удалось показать, что древнее существо лун и современные изображения дракона с рогами на голове, змеиным телом и небольшими ногами — одно и то же существо. Более того, очевидно, что в древности лун как раз таким существом и не являлся. Не был он связан непосредственно и с культом змей, в котором, исходя лишь из гомологической схожести в поздних описаниях, нередко видят исток собственно культа драконов.
Вероятно, исследователей нередко вводит в заблуждение ассоциация архаического существа лун с «классическими» изображениями драконов, которые распространились в II–V вв., — с крыльями, рогами на голове, чешуйчатым телом. Нет сомнений, что «классические» драконы действительно стали своеобразным символом власти, могущества, ассоциировались с природными стихиями и скорее использовались уже как орнаментальные изображения, нежели обладали глубоким магическим смыслом.
 Илл. 72. Глиняный неолитический сосуд с изображением хвостатого существа с четырьмя лапами или плавниками. Возможно, так изображался дух предка Юй. Неолитическая культура Мацзяяо, провинция Ганьсу
Илл. 72. Глиняный неолитический сосуд с изображением хвостатого существа с четырьмя лапами или плавниками. Возможно, так изображался дух предка Юй. Неолитическая культура Мацзяяо, провинция Ганьсу
Совсем иная ситуация с теми древними существами, которые действительно именовались лун, но изображения которых были весьма далеки от пустой символики. Не были они и плодом мифологического сознания, равно как и неким абстрактным тотемом. Существо лун, как мы постараемся показать, обладало двумя ипостасями: во-первых, лун был перевозчиком в царство мертвых и одновременно хранителем его душ, а во-вторых, вероятно, именно так именовались сами служители культа мертвых, обладавшие властью над потусторонним миром и сопровождавшие душу умершего человека. Поскольку в древности шаман-медиум и те духи, которых он представляет, понимались как единое существо, то эти две стороны лун оказывались слиты воедино. И на изображениях мы видим не столько мифологическое чудовище, сколько шамана в ритуальном облачении.
Любой человек, обладавший способностью общаться с потусторонним миром и сопровождать душу человека в загробное царство, мог именоваться лун, что, разумеется, в этом контексте не имело непосредственного отношения к дракону. Скорее, речь шла о промежуточном существе, разъединявшем и одновременно опосредовавшем два мира. Так, древнейшие произведения «Канон гор и морей» («Шаньхай цзин») и «Канон преданий» («
Шу цзин») рассказывают о неких Куйлуне (обычно переводится как «Безобразный дракон») и Инлуне («Откликающийся дракон»), которые очевидным образом представляли собой то ли обобщенные образы шаманов, то ли образы антропоморфных божеств.
Весьма характерно, что многие лун персонифицированы и выполняют функции шаманов.
Существа лун, так же как и шаманы, управляют стихиями, и это наглядно иллюстрируют сами названия или традиционные функции таких лун. Например, Инлун («Откликающийся лун») управлял дождями, Куй-лун («Безобразный лун») — громами, Гоулун («Кривой лун») мог принести добрые плоды земли и т. д. Чжулун («Лг/н-светильник») регулировал смену света и тьмы. В случае засухи всем племенем взывали к «Откликающемуся лун» — Инлуну, который и выпускал дождь наружу.
54
Регулирование сил природы, с одной стороны, является центральной жреческой функцией шамана или лидера племени, с другой стороны, по-настоящему властвуют над стихиями природы лишь духи. И здесь происходит абсолютное слияние заклинателя и заклинаемого, шамана и духа, просящего и стихии, к которой обращаются. Лун оказывается амбивалентным человеко-духом или человеко-стихией. И вряд ли здесь можно вести речь об абстрактном «воплощении» стихии природы в неком символе дракона, поскольку абстрактная символика вообще невозможна для китайского сознания. Она лишь представляется нам абстрактной, поскольку с расстояния в тысячи лет мы не всегда способны понять ее скрытый смысл и ту реальность, которая стояла за этими символами. Все эти многочисленные драконы — «повелители» дождей и грома, равно как и другие духи стихий, типа Лэйгуна — божества грома, являлись именно теми, кто в реальности выполнял обряд заклинания этих стихий, то есть племенными шаманами.
Так, про некого Куя или, в других случаях, Куйлуня, частого героя «Канона преданий», в литературе рассказывают, что он представал в виде одноногого дракона. Одноногого дракона, учитывая структуру тела этого существа, представить достаточно сложно, и думается, здесь все же вкралась ошибка перевода и осмысления самого образа существа лун. Очевидно, что древние рассказывали не об абстрактном «одноногом драконе», а о заклинателе и шамане (т. е.
лун) Куе, который действительно мог быть одноногим. Он якобы был одним из сподвижников древнего правителя Шуня. Как рассказывает «Канон преданий», Правитель рек поручил Куйлуню важное дело: «урегулировать музыку и научить музыке старших братьев», то есть старейшин родов.
Первоначально это предложили известному герою Бои, знаменитому лучнику. Но тот отказался в пользу Куйлуня сочтя, что тот более искушен в музыке.
Здесь следует уточнить, о какой музыке идет речь. Разумеется, Бои и Куйлуню поручили не просто обучить исполнению музыки, но продемонстрировать суть шаманского камлания, сопровождаемого музыкой и танцами. И здесь становится понятен ответ Куя: «Хорошо же, я буду ударять камень о камень то слабо, то сильно, и поведу зверей танцевать». Под «зверями» здесь подразумеваются, очевидно, не животные, а заклинатели, одетые в звериные шкуры, обычно с рогами на голове и нередко с привязанными хвостами. Таким образом, один из высших шаманов Куй решает показать перед правителем шаманский танец в шкурах животных, используя так называемые «музыкальные камни» как ксилофон. И тогда Правитель рек обращается к Кую, взывая к нему «лг/н»: «О, лун\ [Благодаря твоим заклинаниям] я сумею искоренить ложь, прекратить вредные поступки и даже устрашу духов своих предков
55. Вспомним, что, когда на трон восходил один из полулегендарных правителей Шунь, в его честь также устраивались пляски животных.
 Илл. 73. Трансформация иероглифа «лг/н» — «Эракои». Очевидно, что первоначально л, представлял собой какую-то птицу с длинным хвостом и четырьмя ногами.
Илл. 73. Трансформация иероглифа «лг/н» — «Эракои». Очевидно, что первоначально л, представлял собой какую-то птицу с длинным хвостом и четырьмя ногами.
Попутно отметим одну особенность: история об «одноногом Куйлуне», равно как и о многих других «драконах», традиционно именуется преданием или даже мифом. Однако, как несложно заметить, если ввести в наши размышления такие категории, как шаманская пляска, удары в музыкальные камни, что было широко распространено вплоть до эпохи Чжоу, переодевания в животных, то сам миф исчезает, давая место вполне реалистичному описанию деяний древнего заклинателя — лун.
Сохранилось немало преданий о том, как некие существа лун были проводниками людей в небесных странствиях. Скорее всего, лун были проводниками шаманов (в основном, шаманок), поскольку женские служительницы культа были шире распространены) в мире духов, либо сами и были шаманами, и это представление о лг/н-проводниках, возникшее в южном царстве Чу, затем вошло в основной корпус китайской культуры.
Таким образом, лун являлся проводником и «мостом» в царство духов и мертвых, благодаря которому шаманы и медиумы могли связывать два мира. Эта «связующая», опосредующая роль, которая когда-то лежала на медиумах, позже воплотилась в образе священного китайского императора, который и являлся основным посредником между Небом и Землей и символом которого был дракон.
Изображения драконов и змей, нередко переплетенных, встречается в орнаменте могильных плит.
Здесь лун — не столько хранитель самой могилы, сколько существо, которое мистическим образом соединяет физическое тело, что погребено в ней, с той душой, которую лун перевез в иной мир.
Перевозчики в царство мертвых
Связь существа лун с загробным царством несомненна и проступает практически в каждой теме древнекитайской традиции, так или иначе связанной с драконами. Например, в эпоху Чжоу был широко распространен обряд экзоризма, именуемый «Большое изгнание», в котором одну из основных ролей играли лун. Они помогали обуздывать духов и проводили души умерших людей в мир предков. Изображение этого образа можно встретить, в частности, на погребальных рельефах эпохи Хань (II в. до н. э. — II в. н. э.).
Категория медумов-лг/к постепенно исчезает из ритуальной жизни общества, сами же существа лун становятся частью орнаментальной традиции, символом власти и способности управлять миром духов. Иными словами, сам образ дракона сохраняет качества, некогда приписываемые медиумам, хотя уже непосредственно с медиумами не соотносится. Некоторые летописи даже упоминают о причинах исчезновении лун.
…???…
Илл. 74. Перед каждым даосским храмом можно купить курильные палочки и специальные бумажки желтого цвета, на которых пишется пожелание в загробный мир. Потом они сжигаются в курильнице перед храмом.
Например, в хронике «Цзочжуань» («Хроники Цзо», V–III вв. до н. э.), которые представляют собой комментарии на летопись «Чуньцю» («Хроники Весен и Осеней») и первое большое произведении китайской наративной литературы, передается история о том, как правитель царства спрашивает у своего советника, куда же исчезли все драконы-лун. Тот отвечает, что некогда существовало особое искусство «кормить лун» или «давать пищу лун». Благодаря этому роды лун размножались, процветали и защищали тех, кто их кормил. Однако постепенно эти роды вымерли, искусство кормления лун навсегда утрачено, и больше некому заботиться о них.
56
Вряд ли стоит воспринимать этот рассказ лишь как сказание об исчезновении неких мифологических драконов — речь идет о вполне конкретной категории священнослужителей периода Шан-Инь и начала Чжоу. В самом термине «кормление лун» проступают отголоски ритуального кормления медиума-лг/н. Вымирание родов или поколений лун также говорит нам о том, что речь идет все же не о мифологических животных, а либо о самих медиумах, либо о тех, кто находился под покровительством их могущества, в частности о роде Шуня.
Образ существа лун, постепенно превратившегося в дракона, менялся на протяжении многих столетий.
57
Скорее всего, собственно представление о лун как о «драконе» сложилось под воздействием рассказов и историй о правителях-нагах, принесенные из Индии в Китай в период проникновения сюда буддизма, и по-настоящему лг/н-дракон появляется в китайской мифологии лишь в раннее средневековье.
58
Это значит, что знаменитый китайский дракон, как мы видим и понимаем его сейчас, и весь тот яркий изобразительный комплекс, который с ним связан, не был чисто китайским явлением. Но существовали ли представления о лун до индийских привнесений?
Очевидно, что «дракона» как хвостатого существа с ногами и рептилиеоб-разным телом до III в. до н. э. не было, однако существовали предания и весьма развитые представления о неком водном существе или духе, которое и именовалось лун.
Собственно, весь ритуально-сакральный и изобразительный комплекс лун сложился в Китае к III в. до н. э., т. е. к самому концу эпохи Чжоу, хотя упоминания о мистической силе дракона встречались и в значительно более ранних текстах, например в «Каноне песнопений» («Шицзине»). Несомненно, лун был одним из священных созданий, одним из духов. Древний трактат «Гоюй» («Нравы царств») говорит о лун как о «чудесном создании, что живет в водах»
59.
Встречаем мы упоминания о лун и в других ранних китайских текстах, например в «Шицзине», трактате даосского характера «Хуайнань-цзы» («Мудрец Хуайнань», II в. до н. э.) и многих других.
Все эти упоминания о чудесном
лун появились значительно раньше того, как индийско-буддийское влияние стало реально ощутимым в представлениях китайцев.
Не случайно иероглиф «гун» — «поклоняться», «возносить молитву» — на древних надписях изображался в виде рук, молитвенно воздетых к дракону в небесах.
В средние века молитва собственно драконам никогда не возносилась; таким образом, речь могла идти о неком сакральном едином духе-лг/w, воплощенном в медиуме в момент выполнения ритуала или в правителе.
Очевидна и связь лун с таоте как по магическим функциям единого духа-шамана, так и по происхождению. Классический вид китайского дракона, как писалось выше, весьма характерен — обычно это существо, обладающее змеиным чешуйчатым туловищем на коротких ногах с небольшими рожками, огромной вытянутой мордой, большими глазами и острыми зубами. И в этом описании мы без труда опознаем характерные черты таоте.
Скорее всего, лун явился дальнейшей трансформацией таоте — и как изобразительного элемента, и как медиума, впустившего в себя некий дух. Несложно заменить, что таоте уже содержит все те черты, которые затем встречаются в драконах, — достаточно вспомнить его изображения в виде странной рептилии. Скорее всего, лун и является одной из трансформаций таоте и рогатой змеи, и именно поэтому ему как восприемнику духовной мощи
таоте и приписывалось так много сакральных свойств.
Тайное знание змеи
Основное, что объединяет все эти странные создания — таоте, лун, гуй, — их рептилиеобразный облик, тяготеющий к змее или крокодилу. В китайском фольклоре до сих пор считаются мистическими существами мифологические производные от рептилий: черепахи, змеи, ящерицы, игуаны. Помимо того, что все это связано с водной стихией и «гидравлическим» характером ранней китайской цивилизации, с ирригацией и совместным строительством дамб, существует еще одна важная черта. Она заключается в том, что, по поверьям, змея объединяет две важнейших стихии — землю и воду, будучи способна жить как в воде, так и на суше.
 Илл. 75. Одно из самых ранних изображений существа лун с двум, крыльями, когтистыми лапами и головой тигра. IV–III вв. до н. э. (Погребение Пиншань, провинция Хэбэ.)
Илл. 75. Одно из самых ранних изображений существа лун с двум, крыльями, когтистыми лапами и головой тигра. IV–III вв. до н. э. (Погребение Пиншань, провинция Хэбэ.)
Нередко змея присутствует как основной элемент в архаической эротике, что связано прежде всего с ее фаллическим видом, с другой стороны — с аллюзиями змеи, заползающей в узкую и темную нору. В современных китайских поверьях многие компоненты змеи, например ее сердце или печень, резко повышают мужскую силу и входят в состав многих лекарственных средств. И все же сколь бы странным это ни показалось, змея не столько символ сексуальной силы, сколько знак абсолютного воплощения сексуальности, поскольку в ряде представлений сочетает в себе и женское, и мужское начала одновременно. Она же в мифологии практически всего мира связана с переправой в царство мертвых.
…???…
Илл. 76. Классическое изображение дракона, спускающегося с облаков. XIV в.
Египетская «Книга мертвых» пестрит упоминаниями о змеях — стражах царства мертвых. В греческой мифологии Ехидна рождает змею Гидру именно на берегу реки Леты, границы между миром живых и царством мертвых.
Это же и символ сакральной силы, нередко связанной с мужской потенцией. Например, Дионис имел венок в виде змей как символ своей священной силы, Моисей носил жезл, увитый змеями. И все же в начале стояла не змея как животное, но, скорее, дух Абсолютного Предка имел в одном из своих воплощений некое подобие змеи. Представления об андрогинности «истинных людей» или ранних людей вообще характерны для ранних культур, а в более позднем виде такие представления можно встретить и у Платона.
Символика змеи проступает и в китайских представлениях о Нюйва, одной из прародительниц человеческого рода на земле. Нюйва и ее брат Фуси нередко изображались с человеческими туловищами и змеиными хвостами. В некоторых других случаях Нюйва рисуется с человеческой головой, телом змеи и рыбьим хвостом. Переплетенные хвосты этих существ на ряде картин говорят о том странном союзе, в который вступили брат и сестра, чтобы породить род людской.
По одному из преданий, Нюйва и Фуси, брат и сестра, жили на горной вершине Куньлунь, других же людей в мире в ту пору не существовало. С одной стороны, они желали породить людей, с другой — не желали нарушать запрет инцеста. Поэтому они решили дождаться какого-нибудь небесного знамения, которое вскоре пришло: по одним версиям, два облачка дыма слились в небе в одно, по другим — они пустили с горы два мельничных жернова, и в конце склона больший жернов накрыл меньший. В любом случае, «небесное разрешение» было получено, и они вступили в брак. В момент соития Фуси решил, что было бы правильным закрыть лицо своей жены-сестры платком (здесь присутствует мифологический элемент «сокрытия героя»); с той поры, по преданиям, многие женщины в момент совокупления закрывают свои лица.
Мотив стыда за инцест — безусловно, более поздний, чем вся легенда, принадлежащая китайской архаике. Здесь примечательно другое: в образе Нюйва сводится воедино сразу несколько черт, которые раньше были присущи тао-те, дракону-лг/н и духам гуй, а также странным изображениям рыбы на мисках из Баньпо. Нюйва, с одной стороны, является человеком (или божеством с ярко выраженными антропоморфными признаками), но, с другой стороны, имеет черты рыбы и змеи. Примечательно, что на одном из изображений Фуси и Нюйва, относящихся к эпохе Хань, вокруг них изображены более мелкие духи (по некоторым предположениям — женские божества) со змеиными хвостами, в точности повторяющие изображения на боковых стенках бронзовых сосудов эпохи Шан.
 Илл. 80. Каменный гроб с изображением врат в загробный мир и четырех слуг. Династия Хань
Илл. 80. Каменный гроб с изображением врат в загробный мир и четырех слуг. Династия Хань
Но не только Фуси и Нюйва представлялись существами с лицом человека и телом змеи. Один из первоправителей Китая, считающийся родоначальником китайской нации, «Желтый император» Хуан-ди также нередко изображался со змеиным туловищем. Речь идет, скорее всего, о «незавершенном превращении», широко известном в этнографии первобытных народов. Незавершенная трансформация была характерна для культуры древнего Египта (например, Гор, Тот), Месопотамии, ее отголоски мы встречаем и в доантичной Греции, в то время как античные боги, например Зевс, Гера, уже проходили полный цикл трансформации, превращаясь из людей в зверей. Даже современная тибетская культура, зафиксировавшаяся на очень раннем этапе своего развития, наполнена полулюдьми-полуживотными. Нередок и образ змея, в Китае тот же Хуан-ди — змей — понимался в даосской культуре как проводник из тьмы норы на свет. Однако именно в Китае и Фуси, и Нюйва, и Хуан-ди считались не богами и не полубогами, а людьми, первопредками китайского народа.
Как видно, лун, название которое принято переводить как «дракон», представлял собой не какое-то мифологическое существо или лишь символ правителя (эти свойства он приобрел значительно позже), но, прежде всего, причудливое воплощение Великого предка без имени и без антропоморфного облика, совокупного знака всепорождающей силы. Предок-лг/н действительно нередко выступал как абсолютный символ мужской осеменяющей силы — позже это проявится и в облике императора, который «осеменяет» нацию своей благодатью-дэ.
В более поздних народных преданиях драконы осеменяли людей значительно более непосредственным образом. По одному из преданий, как-то два существа лун появились в императорских покоях и в немалой степени беспокоили их обитателей. Было неясно, добрый ли это знак или недобрый. В конце концов, после гадания на панцирях черепах было решено, чтобы придворный чиновник попросил драконов оставить свою слюну, которая, как считалось, обладала не меньшей магической силой, чем семя. После чего драконы исчезли, а драгоценная слюна была бережно собрана и запечатана в небольшую шкатулку. Много лет спустя, когда на троне воцарилась уже другая династия, по неосторожности шкатулку открыли, слюна разлетелась повсюду, и никто не мог ее собрать. А все женщины гарема под действием какой-то загадочной силы внезапно скинули свои одежды и громко закричали. В тот же момент слюна превратилась в черную черепаху, которая вползла в покои и сумела совокупиться с семилетней девочкой из гарема. И через некоторое время в результате этого зачатия родилась красавица Бао-цзы.
62
Примечательно, что лун, хотя и имели угрожающий облик, не только не вредили женщинам, но даже приносили им детей, чаще всего — либо девушек-красавиц, либо великих героев древности, а в Китае про мудрецов даже говорили: «Он рожден от дракона».
Этот мотив проступает в предании о неком пруде, где жили лун. Как-то раз одна из девушек, что жила в деревне неподалеку, напилась из пруда, и тотчас возникло облачко, которое обхватило ее со всех сторон, а затем появился дракон, который совокупился с нею. Девушка никому не решалась рассказать об этом случае, но вскоре ее дыхание стало холодным (мотив трансформации живого существа в представителя мира мертвых), а люди стали сторониться ее. Вскоре она родила дракона, в жилах которого текла не кровь, но лишь вода. Как только дракон начал появляться на свет, девушку вновь окутал легкий туман, который и унес с собой необычное существо. После этого мать дракона жила абсолютно нормальной и ничем не примечательной жизнью. Лишь когда она умерла, из озера появился дракон-лун и унес ее тело с собой в воду.
63
 Илл. 81. Бронзовая шкатулка в форме причудливого сочетания рогатой змеи, крокодила и дракона. Прибл. XII в.
Илл. 81. Бронзовая шкатулка в форме причудливого сочетания рогатой змеи, крокодила и дракона. Прибл. XII в.
Подобных историй о женщинах, рождающих драконов, встречается немало в китайском фольклоре. И все же было бы напрасным считать это лишь плодом фантазии. Думается, что лун здесь выступает как отголосок все того же совокупного образа предка, а рождение лун — это рождение мудреца и героя, а не некого существа с крыльями и телом змеи. Примечательна и трансформация, которая происходит с девушками в момент зачатия, — одни «холодеют как мертвые», другие становятся «необычны обликом», потом же, после рождения дракона или ребенка от дракона, все возвращается на свои места. По сути, это передает символику все той же древнейшей практики медиумов — впадение в транс, ритуальное умирание, а затем воскрешение в обновленном облике.
Люди, родившиеся от птиц
Другим типом духов, с которыми связывали свою жизнь древние китайцы, были некие птицы или птицеобразные существа. Как мы уже отмечали, их зоологически-видовую принадлежность определить сложно, да и практически невозможно, учитывая, что речь все же идет не о реальных птицах, а о духах, приобретающих вид птицы в определенный момент времени, например в момент перевозки души умершего человека в мир мертвых. На изображениях птицы частично напоминают сову, частично — ворону или ласточку, но говорить о точном соответствии этих изображений реальным птицам вряд ли возможно.
Птицы начинают в большом количестве встречаться на изображениях в поздний период Шан, то есть к концу II тыс. до н. э., а затем переходят и на сосуды последующего периода Чжоу.
Что же послужило прообразом этих птиц, и какой смысл вкладывался в их изображения?
Прежде всего, предполагалось, что некая «темная» или «священная» птица была тотемом шанцев
64. Это утверждение как абсолютно верно, так и абсолютно ни о чем не говорит. Почему именно птица? Да и птица ли? Что для шанцев являлось тотемом вообще и чему он служил?
Ответы на эти вопросы также нуждаются в многочисленных пояснениях. Мы постараемся показать, что то, что обычно изображалось в древности как птица, а позже как феникс, являлось также либо духом загробного царства, либо медиумом, переодевшимся в этого духа.
По большинству преданий, народ Шан-Инь то ли пришел на Центральную равнину откуда-то из северо-западных краев, то ли зародился мистическим образом. Сам священный характер народа подчеркивался историями о внезапном возникновении его не от людей, а от птиц (или, в ряде случаев, от рыб), что должно было подчеркнуть его запредельный, священный характер.
Например, поразительное предание о происхождении народа Шан-Инь мы встречаем в «Каноне песнопений» в оде «Священная птица» («Сюаньняо»): «Небо отдало приказ Священной птице, та спустилась вниз и дала рождение народу Шан». Согласно другому преданию, мать первопредка Шан-Ци, которую звали Цзянь-ди, происходила из некой дальней страны Южун (собственно, под ди долгое время подразумевались «варвары» севера и северо-востока Китая, например царств Ци, Лу и других, и такое обозначение сохранилось в эпохи Цинь-Хань). Однажды, прогуливаясь, Цзянь-ди случайно проглотила яйцо какой-то птицы, которая на самом деле была воплощением священного духа.
65
Цзян-ди забеременела и родила от совокупления с духом Священной птицы первого правителя народа Шан — Ци. История эта встречается во многих источниках с небольшими вариациями. Так, «Бамбуковые анналы» («Чжушу цзинянь», ок. II в.) рассказывают, что «Цзянь-ди в день весеннего равноденствия, когда прилетела пурпурная птица, отправилась вместе с Предком приносить жертвы духу-свахе. Затем с младшей сестрой стали они купаться в реке, что у Пурпурного Холма. Тут прилетела Пурпурная птица, держа в клюве яйцо, и бросила его вниз.
Цзянь-ди первая схватила его, положила в рот и проглотила». Через какое-то время она рассекла грудь, в результате чего родился Ци — предок всего рода.
66
Сам образ «священной птицы» нуждается в некоторых пояснениях. Хотя ее название и принято переводить как «священная», все же, учитывая особенности древнего языка, выражение
сюань няо следует трактовать как «черная птица», «темная птица», «потаенная птица». Сюань, то есть темнота, потаенность, запрятанность, — это важнейший атрибут, которым обладают все священные или магические реалии китайской традиции. Например, путь-Дао является
сюань, истинная энергия-благодать (
дэ), исходящая на правителей, медиумов и магов от Дао, также является
сюань, по этому поводу трактат Лао-цзы «Дао дэ цзин» указывает: «Подлинная благодать-дэ является сокрытой (
сюань)».
На первый взгляд, кажется, что это — не более чем древний миф. Однако не исключено, что у этой истории существует и реальная подоплека, если учесть, что в виде священной птицы мог выступать и шаман — это хорошо известно у других народов мира. Таким образом, первый правитель народа Шан Ци был порождением священных сил и играл роль связующего звена между загробным миром и людьми своего племени. Став лидером своего народа или его правителем, он выступал в роли носителя магической энергии. В известной мере при знании мистической символики это прочитывается в пассаже из «Бамбуковых анналов», который мы процитировали выше. Пурпурный цвет в китайском оккультизме всегда связан с бессмертием, вечной жизнью или перерождением в виде сяня — мага или бессмертного. Отсюда же и пурпурный цвет как птицы, так и реки, в которой купалась Цзянь-ди. Показательно и присутствие здесь Предка (
дм), учитывая, что ди обычно понимался как совокупное воплощение племенного лидера, верховного жреца и медиума, в котором обитает дух-защитник племени. Таким образом, историю можно трактовать следующим образом: ди и Цзянь-ди совершают моление о наследниках, затем Цзянь-ди проводит омовение и они совокупляются, в результате чего и рождается Ци. Присутствие здесь Пурпурной птицы — знак священного совокупления с магом или медиумом, и это подразумевает, что ребенок рождается не от его семени, а от священных энергий Неба, сам же медиум выступает лишь как физическая оболочка этого священнодействия.
Может быть сюанъняо следует рассматривать в буквальном смысла как «темную птицу», то есть черную, например ворону или ласточку.
67
Однако термин сюань никогда не понимался как темный цвет, но, скорее, как темнота и потаенность в противоположность открытости, явности. Что, впрочем, не исключает того, что прообразом тотемного предка шанцев действительно могла быть птица с темной окраской, однако сама эта окраска несла символический оттенок священности и тайности.
 Илл. 83. Сосуд для вина «цзг/нъ» в виде стилизованной птицы (совы?).
Его вес — почти 17 кг, высота — 50 см. Характерны перья в виде небольших рогов, которые сближают подобные сосуды с «рогатыми»- изображениями.
Из погребения Фу Хао на развалинах Инь у г. Аньяна
Илл. 83. Сосуд для вина «цзг/нъ» в виде стилизованной птицы (совы?).
Его вес — почти 17 кг, высота — 50 см. Характерны перья в виде небольших рогов, которые сближают подобные сосуды с «рогатыми»- изображениями.
Из погребения Фу Хао на развалинах Инь у г. Аньяна
К образу птицы пытались привязать и древнейший миф о десяти солнцах, которые когда-то светили на небе, не давали людям спать и сжигали весь урожай, пока меткий стрелок И не сбил девять из них. Эти солнца могли ассоциироваться с некими солнечными птицами, которые встречаются на древних изображениях. Однако миф о десяти солнцах имеет очень позднее происхождение, он распространился не раньше IV в. до н. э., в то время как духи в виде птиц повсеместно изображались уже во II тыс. до н. э. Вообще, как будет видно ниже, китайская мифология есть продукт народного сознания, упростившего многие мистические шаманские методики до уровня народных сказок и преданий.
Таким образом, ни о какой «зоологической» птице речи и не могло идти — в сущности, изображались не сами птицы, а дух рода, от которых ведет свое начало династия Шан.
Часть птиц на изображениях не имеет характерного птичьего хохолка, поэтому их часто идентифицируют с ласточкой. По некоторым преданиям, Цзянь-ди, мать первого правителя Шан, проглотила именно яйцо ласточки — впервые так передает эту древнюю легенду трактат даосского толка «Люйши чуньцю» («Весны и осени господина Люй Бувэя»), III в. до н. э.
68
Скорее всего, те сосуды, на которых изображалась птица, относились к жертвенной утвари. Рисуя птицу-предка на стенках сосудах, а затем закладывая в него пищу, шанцы таким образом как бы кормили духа. Примечательно, что во многих культурах именно птица выступает знаком царства мертвых — она либо проводит душу умершего в это царство, либо сама является посланцем загробного мира. Так, сова, чей образ в преданиях во многом связан с ее ночным образом жизни, странным видом и пугающими звуками, считалась проводником из царства живых в царство мертвых и обратно у некоторых племен североамериканских индейцев. Очевидным образом здесь же прослеживаются связи с культурным комплексом севера Дальнего Востока, где птицы нередко связывались с представлениями о душе человека. В качестве символа души они выступали у эвенков, алтайцев, якутов. К таким птицам могли относиться ласточка, стриж, синица, из крупных — гусь или филин.
69
…???…
Или. 84. На гадательных костях иероглиф «фэн» (сегодня — «феникс») рисовался в виде хвостатой птицы или странного змееподобного существа (первые два иероглифа)
Птица является перевозчиком в царство мертвых — и в этом ее основная функция в древних преданиях.
Фениксы из загробного мира
Строго говоря, существовало сразу несколько духов, которые были представлены в виде птиц или каких-то существ, внешне похожих на птицу. Чаще всего они именовались либо
фэн (феникс), либо сянняо (птица-слон), хотя собственно птицами не являются.
В частности,
фэн принято переводить как «феникс», хотя никакого отношения к западному понятию феникса, птицы-симурга и другим подобным существам он не имеет. Скорее всего, в эпоху Шан это было обозначение еще одного духа, первоначально не связанного с «птичьим» обликом.
В значительно более поздних преданиях феникс-
фэн и дракон-
лун стали двумя существами, воплощавшими инь и ян. В этом случае
фэн являлось как бы женским, иньским представителем,
лун же воплощал мощную порывистую силу ян. В императорском дворце Гугун в Пекине во множестве встречаются изображения переплетенных дракона и феникса. Ими обычно украшалась центральная часть в виде небольшой площадки между двумя лесенками, ведущими к императорским залам, поскольку оба священных существа связывают самого императора-медиума с миром мертвых и являются его помощниками и перевозчиками на Небо.
По поводу происхождения
фэн высказывалось множество предположений, например, что фэн то ли было символически связано, то ли непосредственно обозначало одно из двух небесных созвездий, известных жителям древнего Шан.
70
На гадательных костях эпохи Шан сам иероглиф «
фэм» предположительно мог обозначать неких «духов ветра», при этом следует учитывать, что по-китайски «ветер» и «феникс» звучат одинаково — «фэн», а оба иероглифа очень близки по написанию.
71
Примечательно, что некие существа, подобные фениксу, в японской древней культуре, генетически связанной с китайскими религиозными представлениями, и в современном синтоизме обозначают также посланцев в мир духов. В преданиях, распространенных среди татарского населения Казани, рассказывается также о птице, обычно уточке, которая, достав со дна реки три зернышка, дала начало всему роду. Учитывая, что во многих сказаниях река, особенно ее дно, обозначает именно загробный, или «нижний», мир, здесь птица также связана с миром мертвых и «вытягиванием» оттуда всей связующей нити с миром живых.
В виде духа-посланца, связующего мир живых и мертвых, выступали вороны (
у я). В частности, трехногие вороны считались посланцами от богини Сиванму — «Западной матушки-правительницы», они же приносили ей пищу.
72
Учитывая, что образ Сиванму и ее «западное» расположение нередко сочетались с представлениями о мистическом путешествии в мир мертвых и предков, то и вороны понимались как посредники между двумя мирами. Сама же Сиванму, о глубинном смысле образа которой мы расскажем ниже, окружена символами смерти, загробного царства и одновременно — окончательного бессмертия.
В поздний период Шан, т. е. в XIV–XI вв. до н. э., начинают изготавливаться причудливые сосуды типа цзунъ, один из которых, в частности, был обнаружен в гробнице Фу Хао, на развалинах царства Инь в Аньяне. Они представляли собой изображения птицы, предположительно филина, однако по многим чертам птица повторяет черты таоте, особенно если смотреть на сосуд фронтально: на голове располагаются два хохолка, похожие на рога, нижняя челюсть отсутствует, так же как и у масок таоте, а все тело расписано спиралями, образующими в том числе и крылья существа.
Примечательно, что птицы найдены именно в захоронениях и являлись, таким образом, погребальной утварью. Связь птицы со смертью прослеживается практически во всех культурах Сибири, Дальнего Востока и Восточной Азии. Хорошо известно, что образ птицы активно задействован в шаманской космогонии и олицетворяет душу умерших или еще не родившихся людей.
В шаманской космогонии находят свое место и рыбы, которые составляют общий комплекс с загадочными птицами, столь часто встречающимися на глиняной посуде и в росписях утвари: в шаманской культуре рыбы обычно выполняют роль классификаторов нижнего или загробного мира, а иногда выступают в качестве помощника шамана во время его путешествий в загробный мир.
73
Сочетание изображений птицы и рыбы на китайской керамике впервые встречается уже в неолитической культуре Яншао. На керамическом сосуде со стоянки Бэйшоулин (уезд Баоцзи, пров. Шэньси) встречается изображение какой-то птицы, держащей в клюве рыбу, и это изображение интерпретируется либо как знак удачи, либо как некий проторелигиозный мотив.
Мысль о связи птицы, поймавшей рыбу, со смертью и миром мертвых подтверждает и находка другого кувшина из погребальной утвари культуры Яншао со стоянки Яньцунь в Хэнани. Здесь уже очевидным образом изображен аист, держащий в клюве рыбу. Рядом нарисован топор — часть шаманской утвари. В самом же кувшине высотой 47 см был найден скелет человека, а потому связь птицы и рыбы с представлениями о мире мертвых становится здесь бесспорной.
74
В преданиях прослеживается и другая общность образов: в ряде случаев змея могла трансформироваться в птицу. Например, одна из легендарных прародительниц людей богиня Нюйва чаще всего представлена в виде змеи с человеческой головой.
Вместе с этим, в «Каноне гор и морей» можно встретить историю о том, как некое женское божество Нюйва (ее первый иероглиф совпадает с Нюйва, прародительницей людей, а второй отличается), также жившее в обличье змеи, реинкарнировало в священную птицу Цзинвэй.
75
Мы уже знаем, что мистическое перевоплощение и смена образа чаще всего в магической жизни соответствует ритуалу инициации, смене сакрального облика. Здесь стоит несколько отвлечься от буквального понимания лун как дракона, фэн — как феникса, няо — как птицы, и тогда перед нами предстанут различные категории древних священнослужителей с их мистериальными обрядами и инициациями.
Таким образом прослеживается очевидная преемственность в осознании древними китайцами таоте, птиц, змей, драконов и даже рыб. По сути, это был единый дух, воплощенный в разных образах. И связан этот дух был исключительно с культом мертвых — основным и по сути единственным культом древнего Шан, а позже и раннего Чжоу.
Безумство опьяневших духов
Странные лики духов проступали в видениях магов и медиумов китайской древности. Надев маску, поддавшись ритму ритуального танца, опившись соматическими напитками, человек терял ощущение собственного «я» и оказывался во власти странных ощущений, вступая в беседу с духами. По сути, то, что порою мы называем «религией», в эпоху Чжоу было не более чем видениями и экстатическим трансом, «спусковым механизмом» к которому чаще всего служил прием алкоголя и различных наркотических и психосоматических средств. Именно алкоголь или его заменители играли основную роль в ритуалах культа предков, а также в различных формах медиумизма и спиритизма, путешествиях в загробный мир и т. д. Огромное количество бронзовых сосудов для вина эпох Шан и Чжоу говорят, что обильные возлияния играли едва ли не основную роль в формировании состояния транса, столь необходимого для вступления в контакт с духами. Обширные сравнительные исследования показали, что алкоголь является одним из основных методов погружения в транс не только в ранней китайской культуре, но и в ряде других, например угаритской и палестинской начала железного века.
76
Следует признать, что во многом первый мистический опыт, выливающийся затем в структурированную религию, приходит как измененное состояние сознания под воздействием наркотических средств. Не было ни одной ранней культуры, которая не использовала бы в своем арсенале наркотические и психоделические средства, дающие прорыв в иную реальность. Шаманы и медиумы приносили из «той» реальности опыт соприкосновения с запредельным, неясные образы, фантастические цвета бытия, невероятные ощущения. Они говорили об абсолютно ином бытии, находящемся рядом, буквально на расстоянии глотка опьяняющего средства. И все же выразить и передать свой опыт путешествия в иной мир было невозможно, человеческий лексикон просто не способен вместить описания тех ощущений, что не даны нам в посюсторонней жизни. И тогда в течение столетий разрабатывались способы введения человека в это состояние за счет иных средств, например долгих постов и лишения себя белковой пищи, молитв, концентрации внимания на конкретных образах божеств, что встречается в любой религиозной традиции. Однако все это уже — характерные черты значительно более позднего этапа развития цивилизации.
Собственно, любой ритуал начинался с приема вина. В момент жертвоприношения уездных князей общему предку в царстве Чжоу прежде всего наливают «доброго, мягкого вкусом вина»
77.
Сам же обряд в символическом смысле заключался не в том, чтобы опиться самим, но в том, чтобы вдоволь напоить духов, а поскольку на каждом обряде присутствует непосредственный представитель духов («заместитель»), то именно он, выполняя обязанности медиума, принимал на себя весь алкогольный удар. А затем:
Закончено все — и великий, и малый обряд.
И в колокол бьют, наконец барабаны звучат.
Потомок сынопочтительный занял престол.
И вновь прорицатель искусный к нему подошел:
Вещает, что духи упились довольно…
И вот в величии своем замещающий духов встает
И бьют барабаны и колокол духам вослед —
Ушел заместитель, и духи уходят, их нет.78
Примечательно, что здесь существует полная ассоциативная связь между заместителем духов и самими духами, которые присутствуют на ритуальном пиру жертвоприношений предкам: уходит заместитель — исчезают и сами духи. Здесь человек играет роль духа — выступает в виде медиума, принимая возлияния от его имени. По сути, именно он, а не духи, «упился довольно».
Заместитель духа всегда восседал на пирах жертвоприношений предкам и поглощал жертвенную пищу, тем самым полностью беря на себя роль духа. Существовал свой «заместитель» и у умершего человека во время
похоронных обрядов, а в ряде деревень юга Китая и сегодня сына или ближайшего родственника покойного в момент погребального обряда называют именем усопшего.
Мы в точности не знаем, чем же опаивали себя древние китайцы в моменты ритуальных радений.
Иероглиф «цзнэ» может быть понят и как «вино», и как «водка». Однако сама этимология «цзто» говорит, что китайцы подразумевали под этим нечто большее, чем дает нам европейский аналог. В древности этот иероглиф рисовался в виде кувшина с рисунком-маской посредине (скорее всего таоте), наполненного каким-то опьяняющим варевом. Таким образом, опьяняющее зелье наливали как бы внутрь самого духа, с одной стороны, освящая отвар, с другой стороны, успокаивая духа, дабы «духи упились довольно». «Цзю» не обязательно должно было быть столь обычной сегодня для Китая гаоляновой водкой и, тем более, виноградным вином. Предположительно, это были различные наркотические отвары из трав, галлюциногены, психоделики и т. д.
В эпоху Шан-Инь и, вероятно, в период раннего Чжоу всякое жертвоприношение сочеталось с опаиванием соматическими напитками. Вообще, акт принесения жертвы не обязательно, как следует из источников, предусматривал заклание кого-либо, но, прежде всего, требовал вступления в связь с духами (а отнюдь не их «задабривания»). В «Шаньхай цзине», например, упоминается некая Гора Барабана и Колокола, где располагается жертвенник предков. На этой горе все духи угощаются соматическими отварами или «вином» (
цзю).
79
Барабан и колокол еще с древности являлись шаманскими инструментами для призвания или, наоборот, обуздания духов, и позже эта традиция прочно вошла в даосизм и буддизм. При входе в любой буддийский монастырь человека слева и справа встречают Колокольная башня и Барабанная башня, где висят эти инструменты.
Близко к этому стоят многочисленные сюжеты о том, как бессмертные сяни (особая категория священнослужителей в древности) регулярно пируют в священных горах Куньлунь с большим количеством цзю. Вообще, такое «пьянство» стало характерной чертой сяней, и довольно необычно выглядит, если под цзю понимать лишь некий алкогольный напиток. Однако все становится на свои места, если вспомнить, что под цзю подразумеваются любые опьяняющие и галлюциногенные напитки, в том числе отвары грибов, средства из конопли, напитки из гаоляна и т. д. Из потенциальных китайских «алкоголиков» классические Восемь даосских бессмертных (
ба сянь), отличавшиеся весьма либеральным отношением к приему цзю, превращаются в древних священнослужителей, входящих в групповой транс при помощи галлюциногенов.
Не меньше, чем алкоголю, древние китайцы уделяли внимание легким наркотическим средствам, например конопле, не случайно «Шицзин» включает немало стихов, посвященных сбору конопли.
Поскольку практически каждый акт традиционной жизни, например рождение, свадьба, похороны, сопровождался соответствующим ритуалом, то его важной частью являлись и обильные возлияния. На «алкогольный» характер указывает и ранний вид многих иероглифов, которые, казалось бы, мало связаны с винопитием. Например, понятие «сопровождать», «вступать в брак», «совпадать» раньше обозначало «готовить вино» и зарисовывалось в виде человека, стоящего на коленях и размешивающего что-то в высоком сосуде.
80
Вряд ли стоит считать, что древнейшая культура целиком базировалась на неумеренном приеме психосоматических средств, — сравнительные исследования показывают, что существовали нормы, формы и границы приведения себя в это состояние
81.
В отличие от древних ритуалов «пьяного общения» с духами, эпоха Тан (VII–X вв.) приносит уже эстетическое наслаждение состоянием опьянения. Рождается особая «культура вина» (
цзю вэнь-хуа): вопрос не в том, как и какое вино пить, а в том, какое состояние испытывать в результате его приема. Творчество великих поэтов Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюъи ассоциируется с винопитием как моментом творческого толчка, а знаменитый Ли Бо, по преданию, утонул, «ловя луну в воде». Но сам исток этой культуры и даже переживание, обычно именуемое жу-шэнъ — «вхождение в соприкосновение с духами», берет свое начало в древнем «опаивании духов».
Если соматические отвары и алкоголь должны были привести человека в транс и «выбросить» его сознание за пределы его физической оболочки, то особая ритуальная пища должна была породнить его с духами.
Пища — важнейший компонент ритуальной культуры Китая, она пронизывает всю жизнь китайца, и далеко не только как способ подкрепить свои силы. Собственно прием пищи в ритуально-символической цивилизации Китая очень редко связан с насыщением человеческой утробы, это, прежде всего, ритуал кормления духов, с которыми связан человек.
До сих пор гостя, особенно иностранца, первым делом стремятся усадить за обильное угощение, а прием пищи может длиться несколько часов — значительно дольше, чем деловые переговоры, предшествовавшие трапезе. Все это — отголоски архаической культуры Китая, нимало не изменившие своего содержания.
Все ритуалы жизненного цикла — рождение ребенка, похороны, свадьба — строились вокруг приема пищи. Именно момент «кормления» становился центром всякого праздника, и на это уходили основные силы его участников. Примечательно, что все они, так или иначе, соотносились с обильным приемом пищи, по существу представляя собой церемонии приема пищи и вина по особым поводам.
…???…
Илл. 88. «Дзю» («емко»); в древности означало любой опьяняющий отвар или галлюциногенный напиток и зарисовывалось в виде сочетания графемы «вода» и кувшина с ликом духа на нем основные силы его участников. Примечательно, что все они, так или иначе, соотносились с обильным приемом пищи, по существу представляя собой церемонии приема пищи и вина по особым поводам.
Тем и объясняется колоссальное количество самых разных сосудов для пищи и вина среди чжоуской бронзы — они были важнейшей частью «разыгрывания» ритуала цикла человеческой жизни.
Это был именно цикл — цикличность, круговорот жизни весьма явственно прослеживается во всех аспектах жизни старого Китая.
Как в древности, так нередко и сегодня инициация, переход человека во взрослое состояние, сопровождалась обильными возлияниями, готовилось много пищи для духов предков, для духов местности и очага, которые своим присутствием и добрым отношением должны были «удостоверить» рождение взрослого человека во всей полноте его качеств. Угощение получали все пришедшие на этот праздник взросления родственники, соседи. Еще пышнее обставлялась церемония свадьбы: здесь празднование длилось уже не менее двух дней, нередко крестьянские семьи полностью разорялись на этих церемониях.
Все, что связано со свадьбой, происходило на самом деле не на земле, а в мире духов, земные люди лишь разыгрывали некий ритуал, чтобы установить общение с потусторонним миром и получить одобрение на сам акт женитьбы. Ведь происходило нечто большее, чем заключение союза юноши и девушки, — в клан вступала некая персона (невеста), которая до этого находилась под покровительством своих духов и локальных божеств. Она меняла не столько семью, сколько тип духовного покровительства, и представлялось очень важным, насколько позитивно воспримут ее духи предков жениха. Таким образом, на земле разворачивался ритуал смены духовного покровительства, который и реализовывался в виде свадьбы.
Предварительно к родителям невесты приходил специальный посланец, который приносил дикого гуся (ритуальная суть его не до конца ясна, вероятно, он связан с ранними тотемными представлениями), взамен его поили и кормили. Так проходил ритуальный обмен дарами — столь важный для всей китайской культуры. Наконец, после улаживания всех формальностей, начиналась сама церемония свадьбы. Брак в Китае был всегда патрилокален: невеста переселялась в дом жениха. Первый день свадебной церемонии касался жениха и невесты, второй — невесты и ее новых родственников.
Церемония начиналась в небольшой кумирне предков жениха, которые таким образом принимали девушку под свое покровительство и делали ее членом своего клана. Здесь же подносился и второй дикий гусь. После чего молодые переходили в специальное помещение, где готовилась особая пища для духов предков. Сама пища подносилась духам, но поедалась молодоженами — знак того, что они в момент священного праздника устанавливали прямую связь с предками и даже заменяли их в момент поглощения пищи. После этого молодых оставляли одних. На второй день жена приходила к родственникам мужа и подносила им пищу, сама же ела лишь то, что останется после трапезы; в ответ те угощали ее вином. Вино это предназначалось собственно не для молодой женщины, а для духов, которым она его и передавала.
Существовал также специальный комплекс ритуалов для нижнего уровня аристократии того времени, именовавшийся или — «ритуал и церемонии», однако его содержание остается неизвестным.
Похоронные обряды также включали в себя роскошный банкет, при этом считалось, что усопший лично присутствует за столом и вкушает пищу. Он становится посланцем в мир предков, и поэтому представляется крайне важным полноценно накормить его. Меню во многом зависит от благосостояния семьи, в древности самым простым блюдом была искусно приготовленная свинья, части которой готовились по-разному и подавались по отдельности. Также подавалась рыба, различные бобовые и разнообразные приправы. Все это вновь сопровождалось обильными возлияниями.
Вероятно, первоначально, в частности в эпоху Шан, вхождение в экстатический транс непосредственно связывалось с приемом различных галлюциногенных напитков, которые и обозначались современным термином «вино» (
цзю). Однако приблизительно к X в. до н. э. в период Западной Чжоу прежде очень большое количество сосудов для вина и галлюциногенных отваров резко вытесняется сосудами для пищи, которые изготавливаются в основном в виде широких чаш или треножников.
Очевидно, что меняется и сама форма ритуала: самоопаивание как форма «опаивания духов» уступает место безудержным пиршествам с «кормлением духов», и чаще всего это происходило при погребальных ритуалах.
 Илл. 89
Илл. 89.
Янь Хуэй (XIII в.). Пьяный бессмертный-сянъ (фрагмент).
Рядом с ним — лягушка, символ магического отвара бессмертия; она сидит в той же позе, что и сам сянь.
По одному из отрывков «Шицзина» можно реконструировать, как это происходило в древности: сначала пищу пробовал некий «представитель» умершего, который символизировал его присутствие на банкете, затем мужчины вместе поглощали ритуальную пищу и покидали праздник. Женщины же приносили жертвенную пищу из печи, в которой готовилось угощение для банкета.
Ритуал приема пищи, превращенный в «кормление духов», был событием бесконечно радостным, вокруг которого объединялась вся община, весь локальный социум. Он расставлял статусы — давал благодатную мощь местному правителю и напитывал его подданных энергией духовного мира, предоставляя им тем самым преимущества перед теми, кто не сумел откушать из одного сосуда с духами. Правители не просто имитировали или разыгрывали кормление духов, но непосредственно воплощали само принятие пищи, переживая за духов, насколько они будут довольны угощением. А поэтому духи могли наедаться и напиваться, как обычные люди, радоваться и гневаться.
Такие ритуальные кормления духовного мира были центром духовной жизни древних, поскольку это был удивительный и радостный момент соприкосновения небесного и земного, посюстороннего и потустороннего. Удивительным образом, говоря словами чань-буддийского мудреца Ма-цзу, «высшая радость обнаруживалась на дне котла», а физиологическое наслаждение от пищи оборачивалось радостью от встречи с чудесным.
Даже сам иероглиф «собрание» или «встреча» (
хуэй) имел в древности «кулинарный» смысл: он зарисовывался в виде сосуда с приоткрытой крышкой, наполненного то ли мясом, то ли рыбой.
Примечательно, что этот же иероглифов в чтении «куай» обозначал и «радость», «ликование». А современный иероглиф «радость» (
лэ) некогда также зарисовывался виде нескольких рук, поднимающих котел с пищей.
Космос и кровь
Мир ранних китайских культов — это мир кровавых жертвоприношений, в том числе и каннибализма. Возможно, что погребение людей заживо в качестве жертвоприношения практиковалось в середине II тыс. до н. э. в Эрлитоу. В гадательных надписях того времени встречаются слова, подобные следующим: «Гадали, не принести ли в жертву у алтаря Земли (
тпугиэ) [человека из племени] Цян». Характерно, что в разнописях иероглифа «тиг/шэ» встречаются точки или черточки, которые некоторыми исследователями понимаются именно как капли крови, падающие на алтарь Земли
87.
Во многих шанских могилах обнаружены не только массовые захоронения, но и головы без туловищ, что очевидным образом указывает либо на казни, либо на жертвоприношения.
Практически любое действие, так или иначе связанное с установлением «договоренностей» с сакральными силами, сопровождалось жертвоприношением: строительство жилищ, погребение племенных вождей и знатных людей и т. д. В загробный мир вместе с мужчиной отправлялись его наложницы, слуги и скот. Можно предположить, что это было связано не столько со смертью, сколько с понятием бессмертия, которое потом воплотилось в даосских верованиях: физическое угасание человека есть не более чем избавление его от телесной оболочки («избавление от трупа»), в то время как совокупность его нескольких душ может переселяться и оставаться в этом мире. Примечательно, что у нас нет сведений о том, обладали ли древние китайцы представлениями о загробной обители, куда отправляются души умерших. Вообще массовую сакрификацию (принесение в священную жертву) людей и животных нередко называют одной из наиболее характерных черт цивилизации Шан.
88
В 1976 г. археологами была открыта одна из не тронутых грабителями могил эпохи Шан XIII в. до н. э. близ Аньяна. На глубине более 7 м взорам исследователей открылось богатейшее захоронение, в котором находилось 440 бронзовых и 590 нефритовых изделий (в два с лишним разом больше, чем всех бронзовых изделий из всех захоронений, открытых к тому времени). Здесь было тонко инкрустированное оружие, металлические полированные зеркала из бронзы, ритуальные колокольца. Однако самое примечательное заключалось в том, что в гробнице находились останки 16 человек обоего пола и нескольких собак. Скорее всего, все они были умерщвлены одновременно как один из видов жертвоприношений в честь основного обитателя гробницы — жены тогдашнего правителя царства У Дина.
Кого приносили в жертву — рабов или соплеменников? Точного ответа на этот вопрос нет. Большинство сведений указывает на то, что в загробный мир отсылались военнопленные, благо правители Шан вели постоянные войны с северными и северо-западными племенами. В 1927-36 гг. был открыт ряд захоронений, указывающих на развитую «военную тематику» жизни шанцев и связанные с этим жертвоприношения. В частности, в одной из могил находились воины в полном снаряжении, вооруженные боевыми топорами-фз, клевцами-гэ. Рядом располагались пять погребений, в которых находились пять запряженных колесниц со своими наездниками.
Человеческие жертвоприношения к I тыс. до н. э. стали вытесняться суррогатной сакрификацией: теперь на алтарь приносились глиняные или соломенные фигурки людей и животных, причем эта практика сохранилась вплоть до позднего средневековья, а в некоторых деревнях встречается и по сей день. В жертву приносится не столько плоть, сколько душа — точнее, души, которые, по китайским понятиям, могут воплотиться и в неживых предметах.
Кормление и опаивание духов (вернее, их земных заместителей) было также связано с многочисленными жертвоприношениями, характерными для раннего Китая. Жертвоприношение было делом тонким и вариативным, то есть не существовало раз и навсегда заданного количества жертв. В частности, когда после похода против одного из соседних племен в руках победителей оказывалось много плененных, гадатель вопрошал, каким способом и какому предку следует их принести в жертву, например: «Принесем ли в жертву предкам начиная с покойного вана Шанцзя цянов (одно из племен. — AM), приведенных Шэ и Ча, в день иря-шэ?» Жертв обычно обезглавливали (
фа), причем жертвы людей сочетались с забоем скота, обычно быка.
89
В жертву могли также приносить собак, не случайно в иероглифе «сянъ», «жертвоприношение», изображалась вертикально подвешенная собака рядом с жертвенным сосудом. На иньских гадательных костях, в частности, описывается, что духу ди приносили в жертву двух собак.
90
Кровавый характер жертв можно считать основной характерной особенностью этого акта. Даже современный иероглиф «кровь» (
сюэ) изображался в виде ритуального сосуда со стекающей туда кровью. Это приоткрывает нам еще одну интересную особенность древнекитайского мышления: предмет или явление воспринимались не сами по себе, не как данности, но лишь в соотнесении с возможностью их использовать. Поэтому кровь — это именно «то, что наливают в сосуд в момент жертвоприношения».
По всей видимости, жертвовали не только человека «целиком», умерщвляя его, но нередко в жертву приносили какой-либо его орган, например выкалывали глаз, отрезали ухо. Обычно глаза лишались рабы, не случайно иероглиф, некогда обозначавший какой-то зависимый класс населения, рисовался как глаз, поражаемый древним оружием клевцом. Другой иероглиф с тем же значением «цзай» изображался в виде большого ножа для жертвоприношений внутри жилища. Другое понятие «наложница» (
це), в древности означавшее «женщина-раб», рисовалось в виде коленопреклоненной женщины, над которой завис нож для жертвоприношений. Мужчина-раб (
иг) представлял собой мужчину, держащего на вытянутых руках корзину, также с ритуальным ножом над ним.
91
Сам символ жертвенного ножа свидетельствует о том, что речь идет о потенциальных жертвах. Не вдаваясь в тонкости спора о том, было ли рабовладение в Китае, заметим лишь, что существовала категория населения, которая рассматривалась как жертвенная во всех отношениях.
Так, для обозначения престижа и власти рисовался посох с надетой на него головой жертвенной овцы. Сегодня эти изображения превратились в иероглиф «
м» — «долг», «праведное дело». Более того, понятие «семья» в его первоначальном смысле воспринималось как группа людей, объединенная единым жертвоприношением. Сам иероглиф «семья» (
цзя) изображался в виде жертвенной свиньи, помещенной внутри дома. По одной из трактовок, после смерти аристократа его духу возводилась ритуальная кумирня. Простолюдины же, не имея средств на это, закалывали свинью, подвешивая ее вертикально, дабы кровь стекала вниз, что и изображалось на рисунке.
92
Свинья использовалась не случайно: по ряду причин, не очень понятных сегодня, это животное издревле стало ассоциироваться именно с миром мертвых. Скелеты свиней обнаружены во многих погребальных ямах центрального Китая. Не исключено, что эта традиция пришла сюда с переселенцами. У племен
илоу (
польцевцев), живших в III в. по северо-восточным границам Китая на берегах Японского моря, существовал погребальный ритуал: тело клали в небольшой гроб, а сверху помещали заколотую свинью.
93
И здесь кровь свиньи также должна была протечь вниз на тело, напитав его энергией.
Все эти действия были весьма далеки от того спокойного, чинного церемониала, который нередко встает в воображении, когда речь заходит о китайских ритуалах. Это было действительно сакрализованное безумие, когда все участники входили в резонанс. Жертвенная пища могла буквально раздираться на куски, к тому же она термически не обрабатывалась — она должна пойти в пищу духам и их «заместителям» на земле именно в том виде, как это предписано самой природой.
…???…
Илл. 91. Понятие «жертвоприношение» (сянь) зарисовывалось в виде вертикально подвешенной собаки рядом с жертвенным сосудом
Жертвы были по-настоящему кровавыми в прямом смысле этого слова. Если в древности каннибализм был важнейшей формой жертвоприношений, то в эпоху Чжоу он был заменен поеданием сырого мяса животных, в основном свиней. Упоминание об этом проскальзывает, в частности, в одном из древнейших предписаний по совершению церемониалов «Чжоуские ритуалы» («Чжоу ли»): «Жертвы разделяются с князъями-чжухоу и чиновниками, а тот, кто получает эту пищу, получает и благодать от духов гуй и шэнь (т. е. земных и небесных. — А.М.).
Вот почему следует приносить мясо сырое, необработанное.
Примечательно, что поедание кровавой пищи вместе с духами было преференцией лишь чжухоу и дафу — аристократов, обычно управлявших небольшими территориями. Собственно, их статус зависел именно от того, что они имели право и возможность в момент жертвоприношения напитаться той же пищей, что и духи-покровители.
Если весь ранний Китай был подчинен единым жертвоприношениям, то секуляризация ритуала постепенно приводит к углублению самого смысла жертвы. Кому все же приносится эта жертва?
Ради чего?
Очевидно, что в китайских деревнях первейшей задачей было и до сих пор остается не столько накормить духа или, как иногда упрощенно считается, задобрить его, но именно разделить с ним пищу. Через сам акт разделения человек земной приобщается к своему небесному двойнику и обеспечивает себе жизненную энергию. А потому жертвоприношение в Китае всегда носило «энергетический» характер самовосполнения.
Жертвоприношение: «разделение счастья»
Древний термин очень точно передает смысл разделения жертвенной пищи, называя этот акт
санъ фу — «разделение счастья» или «распределение удачи». Поскольку «счастье» (
фу) в Китае носило также «энергетический» характер и понималось как получение доброго знака или благодатной энергии от духов предков, то ритуал разделения пищи можно также понимать как разделение этой благодатной энергии среди всех членов местного сообщества. Сам же акт принесения жертвенного мяса или бумажек с «жертвенными» надписями именовался «ритуалом [принесения] счастья» (
фу ли).
Во времена Конфуция, т. е. в VI–V вв. до н. э., уже очень четко был сформулирован «адресат», которому возносились жертвы: Небо и Земля. Для этого в основном использовалось жертвенное мясо, чаще всего свиньи. Примечательно, что сам акт жертвоприношения совершал правитель царства, наделенный здесь ролью старого шамана, а часть жертвенного мяса разделялась среди высших чиновников (
дафу) царства. Таким образом они участвовали в перераспределении жертвенной энергии через вкушение единой с небесными духами пищей. Конфуций как-то говорил по этому поводу ученику: «В [царстве] Лу ныне будут приносить жертвы Небу и Земле. И уж скоро дафу будут наделять жертвенным мясом, мне, по-видимому, лучше остаться»
95.
Ритуал всегда сопровождается жертвой, которая есть часть отторжения земной пищи ради небесного воздаяния. Эта мысль ясна Конфуцию, и он ее проповедует всей своей жизнью.
Жертвоприношения как путь сопереживания с духами единого вкуса и запаха сохранился в Китае повсеместно и до сих пор.
Жертвоприношение — не только разделение пищи с духом или умерщвление человека, но это вообще разделение с духами самого ценного для регулярного восстановления связей между ныне живущими людьми и их предками.
Например, для усмирения стихий нередко в жертву приносились молодые девушки.
Примечательно, что это считалось актом свадьбы жертвы с духом этой стихии. Так, каждый год жертвовали двух девушек в дар Янцзы, и считалось, что «дух Янцзы берет двух девушек себе в жены». Обильные жертвы также приносились духу Хуанхэ — Повелителю реки.
96
Мотив жертвоприношения как священной свадьбы нередок в древних культурах, он широко встречался в древней Индии, доантичной Греции, в Африке. Впрочем, само понятие жертвоприношения может быть в ряде случаев весьма условным. Принято считать, что любая «женитьба» на духе реки или другой стихии, по сути, представляет собой умерщвление потенциальной «невесты», что нередко и случалось. Однако возможен и другой, не менее реальный вариант. Он, в частности, встречался в греческих мистериях и был связан с широко известным преданием о критском быке Минотавре в Кносском дворце, которому также посылали на заклание девушек в виде «невест». По одному из предположений, девушек далеко не всегда умерщвляли, а сам акт «умирания» представлял собой обряд инициации в тайные общества, при котором человек как бы умирал и затем возрождался уже в новом, истинном виде. Нередко сам обряд жертвоприношения представлял собой совокупление с верховным жрецом, который и считался воплощением Минотавра.
97
Для «мира» жертва действительно умирала и становилась либо жрицей, либо посвященной прислужницей в храме, а священная свадьба являлась символом и жертвоприношения, и нового рождения. Далеким отголоском этих инициации является самоидентификация монашек как «невест Христовых», где венчание с Христом одновременно означает и умирание для внешнего, несакрального мира.
Духи стихий, которым приносили в Китае жертвы, всегда персоницифицированы, причем, как представляется, это персонификация является предельной и буквальной — дух стихии всегда был представлен тем или иным типом жреца-служителя: шаманом, медиумом, магом. Шаман не столько заклинал силы природы, сколько являлся ими, предоставляя свое тело в качестве пристанища абстрактным, но, тем не менее, могущественным стихиям. Таковыми являются духи рек, Лэйфэн — дух грозы, Хо-уту — дух земли и т. д. Дух обитал в теле медиума, как мы наблюдали в случае с понятиям
тянь (Небо),
лун (дракон), и пользовался этим телом — здесь достаточно вспомнить предания о рождении великих правителей «от драконов» или «от яйца птицы». Не исключено, что медиумы и шаманы, воплощавшие духов рек, совокуплялись с девственницами (как указано выше, например, «два раза в год»), что и считалось принесением жертвы духу реки.
Немало жертв в период Чжоу приносилось Хоуцзи (Владыке Проса) — божеству земли и плодородия, одному из легендарных основателей земледелия и всего рода Чжоу. Хоуцзи считался и предком-родоначальником племени Чжоу, что следует, например, из ряда пассажей древнейшего текста «Канона песнопений» («Ши цзин»).
На образе Хоуцзи хорошо видно, откуда вообще брались представления о духах-покровителях и кому конкретно приносились жертвы. Хоуцзи рождается от земной матери Цзяньюань, после того как она наступила в след великана, и устанавливает на всей земле порядок земледелия и высевания гаоляна, проса, риса и других культур. Таким образом, о нем ведется речь именно как о земном персонаже, вероятно, племенном лидере или, как гласят многие предания, родоначальнике племени Чжоу.
98
По другим преданиям, Хоуцзи являлся министром при дворе правителя Шуня.
Тем не менее, он одновременно представляется и духом, которому приносят жертвы, возносят молитвы и славословия. Часть ритуальных песнопений жрецов в честь Хоуцзи дошла до нас в составе «Ши цзина» («Книги песнопений»). И здесь, в песнопении «Совершенный», мы встречаем описание высшей инициации Хоуцзи: «О, Великий Хоузци. Смог ты стать равным Небу! И начало дал нам, научив жертвы приносить»
100. Ритуальная формула «равный Небу» или «сумевший стать равным Небу» весьма важна, учитывая, что Небо (
тянь) представляло собой не какие-то абстрактные «высшие силы», но являлось явным указателем на верховного медиума, воплощавшего в себе всю совокупность сил духов и природы. Утверждая, что Хоуцзи стал «равным Тянь», древний источник не столько прославляет его этой формулой, сколько указывает на то, что Хоуцзи был посвящен в высшие духовные лидеры, то есть «стал Тянь», воплотив в себе и черты живого человека, и черты духа. Очевидна и его функция — он учит народ «жертвы приносить», то есть совершать «правильные» ритуалы, адресованные истинным духам, кладет начало, по сути, новому Учению и устанавливает через это учение связь между своим народом и миром духов.
…???…
Илл. 93. Иероглиф «раб» (цзан) первоначально зарисовывался как процесс жертвенной выкалывания глаз.
Жертвы приносились и ему лично, и воплощенному в нем духу — никакого различия между земной и небесной ипостасями мага древнее сознание не делало. В историю и в народное сознание Хоуцзи входит уже исключительно в виде духа-покровителя, поскольку, утратив свою физическую оболочку, он как маг и посвященный продолжает оказывать протекцию своим потомкам.
Парадоксальным образом во всех этих ритуалах шаман в виде духа, например духа земли Хоуцзи или духа реки, приносит жертву самому себе, но только в небесном обличий. Шаман приносит жертву и сам поедает ее. Разделяя с духом пищу, он становится духом; поедая жертвенную пищу, дабы оправить ее духам, он становится единым также и с самой этой пищей. Известно, в частности, что в эпоху Инь женщины-медиумы, совершая жертвоприношение, рассматривались одновременно в качестве Матери-прародительницы (адресата жертвы), в качестве самой жертвы и в качестве приносящего жертву, — на этом парадоксальном факте нерасчлененности сакрального восприятия мы еще подробнее остановимся ниже.
И здесь как нельзя очевиднее проступает мотив абсолютного равенства жертвователя и жертвы, шамана и его закланника. Шаман приносит в жертву именно самого себя. Но и приносит эту жертву самому себе, поскольку сам выступает как воплощенный дух. Все трансформации и перетекания образов жреца, жертвы и адресата этой жертвы оказываются слиты воедино внутри одного мистического тела.
В «Дао дэ цзине» приводится, по-видимому, одна из древних ритуальных формул, сопровождавших ритуал жертвоприношения. Сам вид ритуала не дошел до нас, зато целый ряд пассажей «Дао дэ цзина» приоткрывает нам смысл совершаемых действий (§ 54):
То, что глубоко посадил, нельзя выдернуть.
То, что крепко обхватил, трудно отнять.
Поэтому нельзя положить конец ритуальным подношениям сыновей и внуков своим предкам.
«Дао дэ цзин» считается важнейшим даосским трактатом, но в реальности он мало связан с даосизмом и значительно больше соотносится с посвятительными и жертвенными формулами додаосских оккультных ритуалов. По сути, он представляет собой сборник нередко не связанных между собой ритуальных речитативов и описаний медитативных практик и методов духообщения I тыс. до н. э., в основном из южного царства Чу, собранных и частично прокомментированных в центральном царстве Чжоу предположительно Лао-цзы в VII–VI вв. до н. э.
Далее сам параграф очень точно указывает, почему же нельзя положить конец «ритуальным подношениям»:
Пестуй это в своем теле —
и Благодать [в тебе] обретет истинность.
Пестуй это в семье —
и Благодать будет в достатке.
Пестуй это в своем государстве —
и Благодати будет в избытке.
Пестуй это в Поднебесной —
и Благодать станет повсеместной.
Очевидно, что речь идет о повсеместном насыщении всего вокруг особой энергетической эманацией дэ, которая здесь переведена как Благодать. Из контекста видно, что само проистекание этой эманации в древности соотносилось не с путем-Дао, что справедливо для более поздней эпохи, а с духами предков, удовлетворенными кормлением и жертвоприношениями.
Существовало несколько типов жертвоприношений, окончательно сложившихся к эпохам Мин и Цин: великие, средние и малые. Великие жертвоприношения обычно возносились исключительно самим императором духам Неба. Обычно это происходило три раза в год. Раз в год император приносил жертвы духам Земли, пять раз в год — духам императорских предков. Два раза в год возносились жертвы и духу Конфуция, который таким образом включался в пантеон императорских предков, так же как и некоторые духи-покровители. Примечательно, что и в этом случае император продолжал играть роль посредника-шамана, как бы подтверждая и постоянно возобновляя связь между духами Неба, Земли и миром живущих. Обычно под духами Земли подразумевались души умерших по, которые после смерти уходили в землю, обычно — в могилы. Небесными духами были небесные души шэнъ, которые принадлежали тем же усопшим предкам. Таким образом, большие жертвоприношения императора сводились к ритуалу установления связи с царством мертвых, разделенным на небесную и земную (строго говоря, подземную) ипостаси, и получения от него благодатного покровительства (вспомним: «Поэтому нельзя положить конец ритуальным подношениям сыновей и внуков своим предкам»). Лишь император, продолжая во все времена играть роль шамана-медиума, имел возможность вступить с ними в прямую, неопосредованную связь. И именно поклонение духам мертвых сопровождалось обильными жертвами. А вот духам Солнца, Луны, Большой Медведицы, некоторых других планет, Шэнь-нуну приносили жертвы куда меньшие, и считались они средним жертвоприношением. Хотя формально по статусу они также были «императорскими», их проведение могло доверяться ближайшим родственникам императора, а некоторые жертвоприношения в династию Цин приносились и императрицей.
…???…
Илл. 94. Рабыня или служанка рисовалась в виде коленопреклоненной женщины, над которой завис нож для жертвоприношений.
Средние жертвоприношения считались менее благодатными, но также крайне необходимыми.
Малые жертвы приносились местным духам-покровителям, например дома, холма, реки, божествам долголетия, благополучия и многим другим. Единой строгой формы у этих жертвоприношений не было — в общую материю нередко вплетались местные ритуалы.
Именно обильность жертв становилась залогом процветания государства. Более того, сам акт вкушения жертвенной пищи означал, что ее разделяют как духи на небесах, так и правитель на земле. Питаясь единой пищей, они вступают в самый непосредственный контакт, разделяя жертву между миром материальным и миром духовным. На это, в частности, намекает ода правителю Чэнь-тану, основателю династии Шан в XVIII в. до н. э.: «Жертвы обильны, обильны у нас, что ни год. Жертвы вкушает — приблизился дух праотца. Счастье пошлет он потомкам своим без конца»
101.
Прямая сакрификация оказалась вообще специфической чертой китайской культуры вплоть до настоящего времени, в то время как, например, на Западе она присутствует в «снятом» виде лишь в церковных обрядах, например евхаристии. В Китае же жертвенник стал обязательной частью культурного пространства любого дома, поскольку здесь религия не была вынесена в отдельную «обслуживающую» структуру, на манер церкви, но была интегрирована в повседневную жизнь.
Сам Пекин строился с учетом того, что город должен был играть роль огромного культового сооружения — жертвенника, благодаря которому в этом месте должна происходить встреча небесных и земных сил. Как только в 1420 г. в правление династии Мин (1368–1644) столица переносится в Пекин, здесь тотчас в соответствии с нормами геомантики фэншуй выстраивается вся сакральная архитектоника. Прежде всего возводятся городские стены, призванные не столько играть роль защитных сооружений, сколько очерчивать благодатное пространство.
Кстати, ту же функцию выполняла и возведенная в династию Мин новая Великая стена, располагавшаяся значительно ближе к Пекину, чем старое сооружение II в. до н. э.: стена явилась еще одной энергетической формой защиты «центра культуры» от внекультурных влияний. За городскими стенами в виде отдельных храмов строятся жертвенники. Так появляются алтари (танъ) Неба, Земли, Солнца, Луны и Шэньнуна. Последний алтарь, посвященный легендарному первоправителю, подарившему людям земледелие, представлялся особенно важным, поскольку жертвы ему могли обеспечить хороший урожай. Примечательно, что все эти сооружения носили названия алтарей, хотя представляли собой целый ряд построек, окруженных парковым ансамблем. Тем не менее, суть алтарей оставалась прежней — принесение жертв, в основном в виде животных. Алтари защищали сакральное пространство внутри стен, «направляли» одних духов и отваживали вредоносных. Впрочем, после того как город разросся, к XVII в. алтари оказались внутри так называемого Внешнего города, хотя продолжали выполнять свою функцию вплоть до начала XX в.
Сегодняшняя достопримечательность Пекина — Алтарь Неба (
Тяньтань) — находится на том месте, где когда-то стоял древний жертвенник. Сам храм был заложен в 1406 г., то есть тогда, когда всякие жертвоприношения, связанные с человеческими жертвами, давно прекратились.
Алтарем Неба он стал называться лишь в 1530 г., когда в Пекине были заложены отдельные храмы Солнца и Луны, Неба и Земли.
Теперь для самого акта моления Небу и жертвоприношений составлялось подробное расписание, за которое отвечало особое министерство церемониалов и отдел жертвоприношений. Отныне вся сакральная составляющая жертвоприношений оказалась формализована до предела, сведена к чистой механике заклания. Отдел жертвоприношений отбирал животных, а на следующий день император начинал трехдневный пост на территории Запретного города в особом павильоне. Затем император обряжался в ритуальное «драконовое одеяние» — парадные желтые одежды, расшитые золотом и драконами, и под удары гонга в паланкине отправлялся в Храм Неба.
В этот момент император переходил в иной статус — статус медиума, вместителя небесного духа, поскольку должен был непосредственно общаться с миром потусторонним. Древняя мистерия правителя как человека-духа, готовящегося доставить жертву на небеса, повторялась вновь, но разворачивалась уже в ином, крайне формализованном виде. Подтверждением того, что после трехдневного поста в паланкине находится не император — Сын Неба, а его дух, был обычай запрета даже смотреть на проезжающую процессию. Если в обычные дни проезд императора сопровождался радостными криками и коленопреклонением толпы, то теперь все окна и двери завешивались плотной синей материей, жителям же под страхом смерти запрещалось взирать на процессию.
102
Именно на духов нельзя было смотреть, а император в этот момент и являлся таким духом. Уже на территории Алтаря Неба, проходя через ряд сложных построек и двигаясь по определенной траектории, император очищался окончательно и тем самым как бы утрачивал земную оболочку. И в конечный момент на самом алтаре с духами общался не человек, даже являющийся Сыном Неба, но такой же дух, лишь вселившийся в тело человека.
…???…
Илл. 95. Иероглиф, изображавший зависимых людей, рабов, рисовался в виде мужчины, держащего на вытянутых руках корзину, с ритуальным ножом над головой
Глава 4. Посвященные в знание
Гадатели и маги
При поверхностном прочтении китайская культура представляется крайне рациональной даже в глубокой древности. После знакомства с некоторыми научными книгами может сложиться впечатление, что она быстро миновала оккультно-мистический период развития, через который проходили все народы, и осветилась дидактическими наставлениями Конфуция и мудростью «недеяния» Лао-цзы, воспитательными советами неоконфуцианцев, «безумной мудростью» чань-буддистов, утонченными и безыскусными размышлениями эстетов, художников и поэтов. Из-за этого кажется, что Китай очень рано вступил в период «философии», миновав период «религии», а «примитивная» вера в духов осталась уделом лишь народной культуры. Но насколько мы можем быть уверены в том, что представляем этих людей и их мысли действительно такими, какими они были в древности?
Вообще, тезис о том, что большинство древних китайских мудрецов являлись лишь «философами» и некотором роде даже «рационалистами» был весьма широко распространен в китаеведении с середины прошлого века. Отчасти это объяснялось тем, что в Китае искали те же тенденции и процессы, что и в античном мире, пытаясь обнаружить некие универсалии для всех древних культур, отчасти тем, что исследователи нередко подходили к Китаю с сугубо рационалистических и глубоко материалистических позиций. Как следствие, и Лао-цзы, и Конфуций, и Чжуан-цзы и десятки других героев китайской древности оказывались «философами», их изучали, и порою изучают до сих пор, с позиций строгой философии, изучая их «понятийный аппарат», «трансформацию взглядов» и многие другие подобные вещи. Мы же предположим другое: все подобные «философы» были, если воспользоваться терминологией, принятой для других культур, именно мистиками или «магами».
И основой их учений стала не морализаторская философия, но «опубликование», постепенное раскрытие некогда тайных знаний, характерных ранее лишь для оккультно-магической среды. И поэтому истоки всей китайской философии, как и более поздней эстетики и искусства, следует искать в трансцендентном опыте магов и гадателей.
Гадатель — посредник между миром духов и миром людей — представлял собой безуcловно ключевую фигуру периодов Шан и Чжоу. Для мистического мышления, готового единомоментно перейти в состояние трансцендентного соприкосновения с духами, характерно не столько познавать явления мира, сколько «опознавать» их сокрытую сущность по гаданиям, предсказаниям, знакам. И поэтому гадатель-медиум превращается в особого трактовщика небесных знаков, «знаков культуры», спущенных на землю.
Самым распространенным в древности стало гадание по лопаточным костям животных, например баранов и коров. Лопатки специально обжигали и затем резко охлаждали, получая таким образом характерные трещины, по расположению и конфигурации которых и узнавали предначертанное Небом. Подобные гадания уже существовали в неолитической культуре Луншань в 2300–2000 гг. до н. э. и превратились в основной вид магической практики в Шан-Инь и раннем Чжоу, т. е. во II–I тыс. до н. э. Чуть позже трещины на лопаточных костях стали сочетать с рисунками и знаками, постепенно складывающимися в надписи. Илл. 96. Надписи на гадательных костях сегодня являются ценнейшим эпиграфическим источником по истории архаического Китая. Именно в них, по одной из версий, и берут свое начало китайские иероглифы, точнее, их пиктографический раздел, и, таким образом, с самого раннего этапа своего существования они в умах китайцев стали
связываться с процессом передачи сакрального знания.
Долгое время на находки таких костей никто не обращал внимания, их можно было приобрести в китайских аптеках, где они именовались «драконьими костями» (лун гу) и, как утверждалось, в толченом виде могли помочь избавиться от многих болезней, начиная от ушибов и заканчивая бесплодием. Первым, кто серьезно ими заинтересовался, был китайский собиратель эпиграфических источников Ван Ицзюнь (1845–1919), который привлек к работе своего друга историка Линь Е (1857–1909). Последний и идентифицировал их как ценнейший эпиграфический материал периода Шан-Инь. С того момента было обнаружено и классифицировано несколько десятков тысяч подобных надписей, содержащих сведения о самых разных сторонах жизни той эпохи: описания военных походов, смены вождей, поклонения предкам и духам, назначения на официальные посты, описания потопов, дождей, нашествий саранчи, результаты гаданий и жертвоприношений, рассказы о видениях и предзнаменованиях. Надписи на костях стали еще одним подтверждением многих сведений о периодах Шан и Чжоу, которые прежде встречались лишь в источниках конца I тыс. до н. э., в том числе и в «Исторических записках» Сыма Цяня. Так родилось целое направление китайской исторической науки — «изучение надписей на костях» (
цзя гу вэнь сюэ) или «иероглифы на гадательных костях» (
пу цзы).
Подчеркнем, что письменный китайский язык появляется как запись не о земных, а о небесных событиях и их проявлениях на земле, таким образом письменные знаки изначально стали восприниматься как символы священного, как отзвуки сакрального в земном. Они «природны» по своей сути, а природное в китайской культуре всегда священно. Не случайно все легенды, связанные с возникновением иероглифов, так или иначе указывают на что, что они были переданы «природным» образом на землю через великих мудрецов. Одно предание гласит, что священная черепаха выползла на берег реки Лохэ, и узор на ее спине образовывал некие знаки. Они были восприняты одним из легендарных первоправителей Китая Фуси, который и придал им характер иероглифов. По другой легенде, письмена — это отпечатки лап птиц на мокром песке (по одной из версий, сам иероглиф «вэнь», обозначающий и «узор», и «письме-Ил/на», представляет именно рисунок отпечатка лапы птицы). Предположительно, «вэмъ» первоначально зарисовывался как человек с татуировкой на груди — маг, приносящий священные знания из мира духов в мир людей.
1
«Культурное» в китайской традиции оказывается непосредственно связано с письменными знаками, однако оно не противостоит «природному», но продолжает его, переводя неистово-бешеный ритм природной архаики в культурно-упорядоченный ритуал. Более того, иероглиф «вэмъ» в равной степени может означать «культура», «язык», «надпись», «Небесные письмена», «узор» «литература», причем для китайской традиции эти понятия были абсолютно целостными.
Таким образом, всякое письменное слово есть не слово, созданное человеком, но некое веление Неба, услышанное, воспринятое и зафиксированное человеком. Человек не создает культуру-вэнъ, он лишь улавливает помыслы Неба (будучи «флейтой неба», пользуясь словами Чжуан-цзы) и переводит их в понятные для него и для других знаки и письмена. Небо передает на землю сакральные указания, человек же лишь вносит «изменения в письмена Неба» — именно так сегодня звучит сегодня понятие «культура»: «изменения письмен» (
вэнъхуа).
Гадательная практика, по-видимому, была одним из важнейших методов и, сакральной жизни древних китайцев, связанной с «опознаванием» знаков культуры — «письмен Неба». Мы говорим «по-видимому», поскольку до нас по понятным причинам не дошло устных речитативов, молитв, песнопений, мы мало знаем о ритуальных танцах, но часто находим гадательные надписи и кости.
Так или иначе, правители Шан использовали гадательные книги и панцири черепах для вычисления удачных и неудачных деяний, и эта практика сохранилась и даже усилилась в более поздние времена Чжоу. Обычно панцирь или лопаточная кость буйвола или коровы нагревалась раскаленным докрасна орудием, похожим на кочергу, в результате чего на костях возникали трещины различной конфигурации. Именно их формы и указывали на результаты будущих деяний.
Здесь следует уточнить, что мы называем гаданием. Обычно под этим подразумевается предсказывание судьбы или каких-то событий по особым знакам, исходящим «от Неба». В принципе, базируясь на оккультных приемах, классическое гадание носит исключительно прагматический характер: на основе предсказаний принимается решение о времени начала сева, о выступлении в военный поход, о возможности спастись от несчастий. Так обстояло дело во всех древнейших культурах, и Китай в этом плане вряд ли был исключением. Однако магическая практика, в том числе и описанная в древних текстах, далеко не обязательно должна была заключаться именно в гадании и предсказаниях. Ее основной целью могло быть установление контакта с духами и душами мертвых, их ритуальное кормление и «ухаживание» за ними, за что и отвечал медиум, становившийся нередко лидером племени или народа. В ответ люди получали от духов добрые знаки или, во всяком случае, могли нейтрализовать их вредоносное влияние. И в этом плане само гадание или тот набор приемов, который использовался при предсказании на лопаточных костях, панцирях черепах или тысячелистнике, представлял собой лишь технику вхождения в контакт с духами.
Первоначально в неолитических культурах для гадания использовались панцири черепах, которые особенно широко были распространены вокруг Аньяна, и лопаточные кости животных, однако в позднем Шан и в Чжоу на рубеже II и I тыс. до н. э. гадательные кости специально обрабатывались, что, вероятно, уже само по себе носило характер священнодействия и подготовки к встрече с запредельным миром. Так, на кости наносились круговые и овальные бороздки, которые после нагревания огнем приобретали форму Т-образных трещин. Отсюда пошел иероглиф «иг/», обозначающий гадательные кости и на письме представляющий собой вертикальную палочку с небольшой откидной чертой вправо посередине — прообраз надреза на кости.
«И изин»: ианон обращения мира вспять. Был и другой — не менее распространенный способ гадания, который дал начало одной из самых загадочных частей древней истории Китая. Речь идет о гадании на тысячелистнике; упоминание об этом типе магических предсказаний встречается на гадательных костях эпох Шан и Чжоу — как видно, этот тип гадания использовался в течение многих столетий. Как кажется, в литературных текстах упоминание об этом впервые встречается в «Каноне исторических документов» («Шу цзин»), в отрывке, созданном, скорее всего, в эпоху Западного Чжоу (XII–VHI вв. до н. э.)
2.
…???…
Илл. 96. Гадательная надпись на лопаточной кости быка. Период правления У-дина. Династия Шан. Прибл. XIII в. до н. э.
Очевидно, что способ гадания на тысячелистнике был важнейшей частью магической практики всего древнего Китая. Ранние способы этого гадания нам неизвестны, дошла лишь относительно поздняя техника, относящаяся ко II в. до н. э. Считается, что эта техника гадания заключалась в следующем. Гадатель получал необходимую конфигурацию из шести стеблей разной длины — коротких и длинных — путем случайного раскладывания их в разном порядке, в результате чего и рождалась священная гексаграмма.
Первоначально гадатель брал 49 стеблей тысячелистника и в случайном порядке разделял их на два пучка. Затем, отсчитывая каждый четвертый, отбрасывал его. Пучки вновь смешивались, вновь разделялись, и таким образом процесс повторялся дважды, пока не оставалась по 6, 7, 8 или 9 групп по четыре стебля в каждой, т. е. всего 24, 28, 32 или 36 стеблей. Поскольку гексаграмма всегда строилась снизу вверху, эта цифра определяла прежде всего, какая линия будет располагаться снизу. Цифра 7 указывала на целую, цифра 8 — на прерывистую, девятка говорила о переходе прерывистой в целую, а шестерка — о переходе целой в прерывистую. Вся процедура повторялась несколько раз, пока не открывалась каждая из шести линий, собственно и составлявших гексаграмму.
Если гексаграмма вся получалась из линий 7 или 8, то есть из целых или прерывистых линий, то она считалась устойчивой и представляла собой уже готовый ответ на гадание. Если же получался хотя бы один переход шестой или девятой линии, то именно эта линия и была ответом на вопрос.
Если же менялась больше чем одна линия, то приходилось вычислять новую гексаграмму путем смены линий, и в этом случае уже сочетание двух гексаграмм было ответом на вопрос.
Именно эта техника, а также некоторые видения, испытываемые медиумами и магами, и описывается в одном из самых знаменитых трактатов китайской традиции «И цзин», название которого принято переводить как «Канон перемен» или «Книга перемен».
В древних китайских источниках «И цзин» фигурирует под названием «И» — «Перемены» или «Чжоу и» — «Чжоуские перемены» (по имени династии, когда она вошла в оборот) или «Круговорот перемен» («Чжоу» здесь может пониматься и как название династии, и как «круговорот», «всеобщий»). В принципе, весь трактат представляет собой достаточно позднюю запись каких-то очень древних представлений, существовавших еще в начале II тыс. до н. э., ранняя же часть самого трактата относится к концу II тыс. до н. э. Хотя формально «И цзин» и не является самой ранней дошедшей до нас книгой древних китайцев (самой ранней все же следует считать «Ши цзин»), он стал широко известен именно как гадательная книга, хотя далеко не очевидно, что она действительно начиналась именно как текст для предсказаний.
«И цзину» приписывается много загадочных свойств, значительно больше, чем другому китайскому тексту. Более того, он стал вполне «модной литературой» в кругах мистически настроенных любителей Востока, изучающих его в любительских переводах. Впрочем, параллельно с этим существует и масса вполне профессиональных исследований, которые до сих пор признают, что изначальный смысл «И цзина» остается не до конца ясным. Высказывались и самые невероятные предположения, обставленные, тем не менее, вполне весомыми аргументами, например что «И цзин» содержит в своих гексаграммах полную информацию о генокоде человека
3.
Весь «И цзин» базируется на символической системе, об изначальном смысле которой нам остается только догадываться и реконструировать ее в разных вариациях, не будучи никогда до конца уверенными в правильности нашей реконструкции.
Символика изменений, описанная в «И цзине», базируется на сочетании двух черт: целой и прерывистой, которые позже стали понимать как выражение инь и ян, хотя собственно из текста этого не следует. Сочетание трех таких черт дает в результате триграмму, шести черт или двух триграмм — гексаграмму. 64 гексаграммы являются максимально возможным числом комбинаций таких фигур и трактуются как 64 состояния мира. Каждая гексаграмма содержит в себе некоторое количество «слабых элементов» (прерывистых черт) и «сильных элементов» (целых черт), и от их сочетания и взаиморасположения зависит смысл гексаграммы и, как следствие, всего предсказания. Поскольку каждая гексаграмма представляет собой сочетания двух триграмм, то она и трактуется по триграммам, а также по отдельным чертам, причем трактовка идет снизу вверх. Например, гексаграмма «
гог/» («подчинение») представляет собой сочетание двух триграмм. Сверху идут три целых черты — «сильное действие», отражающие абсолютную силу и мощь. Снизу идут две целых и одна прерывистая черта — это триграмма «стоять на коленях в преклонении». Скорее всего, здесь смысл в том, что сверху расположены две «сильные» черты («небо»), внизу — одна «слабая», имеющая в данном случае значение «подчиняться».
Числовые вариации практически у всех ранних народов мира являются элементами магии и кодирования магической информации. Возможность «управлять числами» дает ощущение управления и некоторыми силами, которые стоят за этими числами, например духами. Собственно числовая магия древнего Китая таит немало загадок, но не вызывает удивления ни ее происхождение, ни сохранность до сегодняшнего дня.
Роль «И цзина» в китайской культуре вызывает много споров. Одни считают, что он самым непосредственным образом повлиял на становление не только ранней, но и вообще всей духовной мысли Китая. В частности, благодаря «И цзину» сформировалась концепция вечнотекущих изменений, постоянного перехода инь и ян, которая затем проявилась в даосизме, в художественной эстетике и даже в повседневном мировосприятии китайцев.
Другие авторитетные исследователи высказывали полностью противоположное мнение, утверждая, что «И цзин» затормозил процесс развития и прогресс китайской науки. Из-за этого наука стала частью алхимии, которая строилась на сопоставлении естественных элементов и природных явлений с триграммами и гексаграммами. Все природные процессы вследствие этого не столько «научно» анализировались, сколько осмыслялись в терминах взаимоперехода и трансформаций.
4
Впрочем, такую оценку можно рассматривать как попытку понять китайскую цивилизацию при посредстве западного, научно-логического понятийного аппарата, который по определению отсутствовал в традиционном менталитете китайцев, осмыслявших мир с точки зрения магии и мифа, но не логики и науки.
Принято считать, что «И цзин» — это гадательная книга, заложившая основы традиционной китайской философии. Не отвергая в принципе этого мнения, мы попытаемся встроить «И цзин» в историю формирования пространства магической культуры Китая. На наш взгляд, «И цзин», особенно в его раннем варианте, никакого отношения к философии не имеет и является своеобразным учебником магической техники, принадлежащим одной из школ древних магов, и записью видений медиумов, составленной в начале I тыс. до н. э. Причем трактат родился именно в тот период, когда магическая техника перестала представлять абсолютную тайну, ореол тайны развеялся и стало допустимым записывать видения посвященных.
Считается, что «И цзин» представляет собой один из древнейших мистических текстов Китая. До сих пор нет согласия в вопросе, какой же канон был создан раньше — «Ши цзин» или «И цзин».
Думается, вопрос этот вообще не имеет решения. Книги эти очень разные и состоят из разнородных слоев, очевидно записанных в разное время. Составлялись они на протяжении столетий и, по-видимому, имели разные функции. «Ши цзин» — запись магических формул, молений и ритуальных песнопений. «И цзин» — запись видений магов и медиумов во время ритуальных радений и общения с духами, а также некоторые гадательных приемы установления связи с этими духами.
Точно не известно, когда возник «И цзин»: датировки расходятся от конца III тыс. до н. э. до начала I тыс. до н. э. Разночтения, впрочем, вполне объяснимы — как и любой древний текст, этот канон создавался послойно, в течение многих веков. Очевидно лишь, что к VII–VI вв. до н. э. уже существовал практически окончательный вариант «И цзина», начал же он записываться на рубеже I тыс. до н. э., а в устном изложении, в виде отрывков он существовал значительно раньше.
Более того, сам факт записи священного текста говорит о том, что он перестал быть тайным, по-настоящему эзотерическим, когда его содержание и — самое главное — методы и основы использования передавались лишь изустно. Естественно, первые экземпляры текста до нас не дошли — именно поэтому и ведутся споры о том, как же мог выглядеть изначальный «И цзин».
Самая ранняя копия, дошедшая до современных исследователей, была обнаружена в 1976 г. в хранилище древних рукописей Маваньдуе в захоронении, относящемся к 168 г. до н. э. Она в основном совпадает со всеми остальными копиями, которые были распространены в Китае, в частности в эпохи Тан и Сун, поэтому ко II в. до н. э. «И цзин» уже в основном сформировался, хотя, очевидно, возник он за сотни лет до создания маваньдуйской копии.
Как нам представляется, в середине I тыс. до н. э. «И цзин» не столько становится объектом сакральной практики, сколько, наоборот, постепенно утрачивает свое мистическое значение, секуляризируется до канонического открытого текста и постепенно становится вообще непонятным для самих носителей китайской культуры. Не случайно академик В.М. Алексеев высказал мысль, что уже во времена Конфуция, т. е. в VI–V вв. до н. э., предназначение «И цзина» было непонятно самим китайцам и гадательные свойства ему лишь приписывались. У самих древних китайцев, по-видимому, исток происхождения «И цзина» и других священных канонов не вызывал сомнений — все это так или иначе считалось переданным священными предками, первоправителями или их духами и уже поэтому являлось сакральной ценностью культуры. Например, самая распространенная версия происхождения «Канона перемен» рассказывает о том, что трактат относится ко времени чжоуского завоевания, когда племена Чжоу захватили власть на территории, принадлежавшей до этого династии Шан-Инь.
Легенда рассказывает, что правитель Вэнь-ван из Чжоу был заточен шанским правителем Диъи и, находясь в заточении, написал часть священного текста или, по крайней мере, зарисовал сами гексаграммы. Но отнюдь не он создал их — они были переданы Вэнь-ди одним из священных первомудрецов Китая Фуси, которому традиция приписывает множество «культурных инноваций», например приготовление пищи (предполагается, что до этого она поедалась в сыром виде), письменность, лук со стрелами, навык рыбной ловли крючком и многое другое. По сути, Фуси приносит культуру (вэнъхуа) как таковую, отделяя Китай прошлого — внекультурного и внецивилизованного — от Китая культуры и цивилизации. Именно он впервые сумел прочитать «письмена Неба» и принести их на землю.
Скорее всего, большинство сакральных текстов, подобных «И цзину», составлялись ранними медиумами и шаманами на рубеже II–I тыс. до н. э., собираясь из различных источников.

Составление самого «И цзина» началось, как представляется ряду исследователей, в начале I тыс. до н. э. и в основном завершилось к VIII–VI вв. до н. э. По одному из предположений, гексаграммы, считающиеся самой важной и самой ранней частью трактата, первоначально не имели к нему отношения и вошли в текст уже позже. Они пришли, вероятно, либо из другого источника, либо вообще из другой традиции. Тогда же «И цзину» стали приписываться гадательные свойства.
5
Мантические тексты, подобные «И цзину», собирались по частям и строились на основе каких-то очень древних первичных высказываний, вероятно ходивших в устной форме, а затем первоначально записанных вне строгой структуры. Первичный слой представляли медитативные или психосоматические образы, рождавшиеся в ритуальной практике в момент приема галлюциногенов и психосоматических средств, обычно сопровождавших любой ритуал. Образы эти врывались в сознание и, будучи не сопоставимыми ни с какими явлениями «посюсторонней» жизни, были столь необычны, столь запредельны по своему содержанию, что не поддавались логическому осмыслению. Более того, здесь сложно даже говорить о каких-то конкретных образах — скорее, перед человеком представали образо-ощущения, не имеющие конкретной формы, которые потом подгонялись под нечто знакомое или уже известное, например «мощный дракон», «сильный ливень», «воля Неба». Итак, первый слой — записи переживаний и ощущений — «образы». Второй слой (обычно — вторая фраза в тексте) — комментарий к образу. В отношении «И цзина» таким «записывателем» образов и комментатором вполне мог выступить Вэнь-ван, образ которого в древней литературе более схож с образом медиума, нежели классического правителя.
Таким образом, «И цзин» распадается на две логически связанные, хотя и не равные по объему части: геометрические изображения и текстовые комментарии к ним. Изображения представляют собой рисунки в три (триграммы) или шесть (гексаграммы) линий, каждая из которых соответствует какому-то явлению в этом мире. 64 гексаграммы описывают целостную картину различных состояний мира. Сами же комментарии также включают две части: имажинарную (образную) и предсказательную, содержащую в себе знак или знамение.
 Или. 98. «Бэнъ» — «культура»- или «письмена» — в древности изображалось в виде человека с татуировкой или магическим знаком на груди
Или. 98. «Бэнъ» — «культура»- или «письмена» — в древности изображалось в виде человека с татуировкой или магическим знаком на груди
Покажем это на примере первой гексаграммы «цян» (доел, «мощный», «усиление»), представляющей шесть целых черт. Она трактуется как «сильное действие», и ее сопровождает следующий текст, обычно понимаемый как комментарий к гексаграмме: «Дракон остается под водой. Он не должен действовать». Здесь первая фраза вызывает к жизни образ затаившегося мощного духа лун, символа правителя, которого стали позже понимать как дракона. Вторая фраза содержит в себе конкретное предсказание, которое, как предполагается, могло служить советом правителю царства, например, не начинать военных действий, а переждать.
Таким же образом, например, строится и объяснение к 14-й гексаграмме «да ю», или «Великое процветание»: «Небо помогает. Благоприятно. Способствует всему». Первое — это слепок образа сознания, возникающего в момент медитативной или ритуальной практики. Второй — и, вероятно, более поздний — попытка осмыслить его в сравнительно логических, знаковых категориях.
Сегодня «Чжоу и» — центральная часть «Канона перемен», содержащая в себе гексаграммы и комментарии к ним, — воспринимается как сравнительно целостный текст, возникший в основном в одно время. Во всяком случае, средневековые китайские комментаторы и даже мудрецы древности, например Конфуций, не допускали мысли о том, что речь может идти о случайно и разномо-ментно собранных разных текстах и традициях.
«Чжоу и» на самом деле очень точно отражает все этапы трансформации мистического ощущения древних китайцев. Первоначально существовали «образы» — видения шаманов и магов.
Предсказания или «выводы» из видений были, вероятно, добавлены уже позже. Еще позже и из другой традиции пришли графические рисунки — гексаграммы и триграммы. Изначальный же текст описывал медитативные видения, образы и рассказывал о жизни и деяниях духов (в нашем случае — духа-лг/н). Он не содержал гексаграмм, они существовали отдельно и независимо от текста. Собственно, эти образы не нуждались первоначально в комментариях, а представляли собой типичные видения медиумов в тот момент, когда духи вселялись в них и начинали вещать через их физическое тело. А значит, сам текст видения можно перевести следующим образом: «Дух-лун затаился под водой». Видение медиума ценно само по себе, оно не требует комментариев до той поры, пока понимается именно как визуализация действий неких духов. Однако, как только такое понимание со временем и с переходом к постархаической традиции утрачивается, возникает необходимость в комментариях и трактовках, в результате чего и рождались тексты, подобные «И цзину».
Сторонники теории о том, что весь текст был составлен одним человеком (например, Вэнь-ваном) приводят в качестве аргумента тот факт, что структура текста относительно одинакова, равно как и одинаков (скорее — ограничен) набор иероглифов, использованный в «Чжоу и». Мы как раз не исключаем, что текст мог и, скорее всего, должен был компилироваться в окончательном виде одним человеком, однако значительно более реальной представляется другая гипотеза.
«Чжоу и» принадлежал к одной конкретной школе предсказателей или медиумов, внутри которой он и составлялся и, таким образом, представлял собой «аккумулированное собрание практических знаний отдельно взятой школы прорицателей»
6.
Приведем еще один аргумент в пользу того, что еще до окончательного составления «Чжоу и» существовали какие-то отдельные записи, никак не связанные с гексаграммами. Многие цитаты из «И цзина» встречаются в известной древней хронике «Цзо чжуань» («Хроники Цзо»). Она была составлена в эпоху Восточное Чжоу, в период Сражающихся царств (475–331 гг. до н. э.), и описывала события, происходившие в предыдущий период Весен и Осеней (770–476 гг. до н. э.). В части параграфов «И цзина», приведенных в этой летописи, текст совпадает с аналогичным в «Каноне перемен» и с названием гексаграммы. А вот в других случаях гексаграмма абсолютно не совпадет с текстом, и наоборот.
На первый взгляд, это может показаться недопустимым нарушением гадательного ритуала.
Хорошо известно, что в период гадания и установления контактов с духами важно каждое слово, жест и рисунок, поэтому изменение ритуального текста (а порою он вообще не встречается в «И цзине») должно разрушить весь ритуал. Однако такие разночтения говорят нам прежде всего о том, что еще в V–IV вв. до н. э., то есть в момент составления хроник «Цзо чжуань», текст видений и предсказаний еще не был накрепко привязан к рисункам — к гексаграммам. Более того, это свидетельствует и о том, что могло существовать несколько письменных версий «Канона перемен», в то время как истинная форма ритуального радения хранилась в тайне и передавалась только изустно.
 Илл. 99. Лао-цзы, странствующий на буйволе, как его представляли в XVII–XIX вв.
Илл. 99. Лао-цзы, странствующий на буйволе, как его представляли в XVII–XIX вв.
Но откуда же берется рисуночная часть «Чжоу и»?
На наш взгляд, эта часть относится к другому типу цивилизации и, возможно, к другому народу, жившему на Центральной равнине. Во-первых, не прослеживается очевидной преемственности между характером мысли, изложенной в «Чжоу и», и структурой всей дальнейшей китайской культуры. Во-вторых, сам рисуночно-линейный характер письменности или, говоря более общо, передачи информации не был ни до этого, ни после этого характерен для Китая. Впрочем, не исключено, что целая и прерывистая линии связаны с какой-то ранней узелковой письменностью, существовавшей у предков китайцев. На это указывает, в частности, тот факт, что прерывистая линия иногда зарисовывалась как черта с окружностью посредине — узелком. О «распускании узлов» именно как об устранении знания говорит, например, «Дао дэ цзин»: «
Притупи лезвие, распусти узлы, пригаси блеск, уподобь его пылинке» (§ 4, 56). Здесь описывается состояние, которое должно переживаться медиумом в момент входа в состояние транса: отвлечение от всех внешних факторов, «само-забытие», устранение всех предшествующих знаний. Узелковая письменность как способ передачи информации в двоичном виде (да — нет, сбудется гадание — не сбудется) хорошо известна у дописьменных народов, например, узелковые записи в виде пучка веревок (
кипу) были широко распространены у инков и играли роль своеобразных хронологических записей.
Предсказания и гексаграммы начали добавлять к основному тексту в тот момент, когда изначальный смысл видений уже не очень понимался, в эпоху рационализации мистического знания, что, как представляется, происходит не раньше VIII–V вв. до н. э. Собственно, это уже относилось не к мистической традиции, которая вряд ли записывалась самими медиумами, а к ее рационализации, в конце концов приведшей, с одной стороны, к рождению явления, которое принято называть китайской философией, а с другой стороны — к народному мистическому даосизму.
Парадоксальным образом «И цзин» оказался не столько пиком мистической культуры Китая, сколько отголоском ее взлета, зафиксированным и в какой-то мере умерщвленным знанием о сакральном.
Гадательный характер был приписан «Чжоу и» значительно позднее — философами периода Борющихся царств, к которым принадлежали такие выдающиеся личности, как Конфуций. Они уже утратили понимание изначального магического смысла большинства изречений и теперь, составляя комментарии на этот текст, старались объяснить его с рациональной, доступной для них точки зрения. Так, в частности, рождаются комментарии «Десять крыльев» («Ши и»), приписываемые Конфуцию, где указывается на «гадательный» характер «Чжоу и». И именно эта «гадательная» трактовка прижилась в истории, именно благодаря ей стало считаться, что рисунки (гексаграммы), «образы» и их трактовка с самого начала существовали вместе.
В течение многих столетий после этого комментирования вся китайская традиция, а затем и многие западные исследователи рассматривали «И цзин» именно в ключе «гадательной книги».
Примечательно, что таким же образом строились многие тексты древних магов и предсказателей, хотя они могли возникать и в абсолютно разных районах Китая. Мы с удивлением замечаем, что многие параграфы «Дао дэ цзина» также распадаются на две части. Первая, обычно более короткая и архаичная, в две-четыре строки, представляет собой некое подобие народной поговорки, «мудрого» высказывания или описательного образа. Вторая же, скорее всего более поздняя, родилась как комментарий мудреца (например, самого Лао-цзы) на высказывания ранних мистиков. То есть текст «Дао дэ цзина» представляет собой уже комментированный трактат, сочетающий древнейшие мистические заклинания и образы, присущие шаманской практике, и более поздние, относительно строго-логичные комментарии VII–V вв. н. э. Причем комментарии пытаются привязать магические высказывания к конкретной политической ситуации того времени, например способам управления страной, хотя изначально такой смысл в высказывании очевидно отсутствовал.
 Илл. 100. Трактат «Дао дэ цзин», приписываемый Лао-цзы, возможно, был записью видений и мистических откровений, прокомментированных хранителем архивов Лао-цзы.
На фото — самая ранняя из его обнаруженных копий на шелке. Найдена в погребении императоров династии Хань
Илл. 100. Трактат «Дао дэ цзин», приписываемый Лао-цзы, возможно, был записью видений и мистических откровений, прокомментированных хранителем архивов Лао-цзы.
На фото — самая ранняя из его обнаруженных копий на шелке. Найдена в погребении императоров династии Хань
Да и сам «И цзин» отнюдь не был единственной гадательной книгой или текстом, описывающим видения медиумов. Таких текстов, принадлежащих, скорее всего, к разным школам магов, было несколько десятков. Например, в «Истории династии Хань» упоминаются книги «Лянынань» («Череда гор») и «Гуйцан» («Собрание поклонений»), причем, возможно, они, так же как и «Канон перемен», были связаны с гадательной практикой по тысячелистнику. «История династии Хань» утверждала, что относятся эти магические книги к эпохе даже более древней, чем предполагаемая дата создания «И цзин»: «Лянь-шань» — к династии Ся (2207–1766 гг. до н. э), а «Гуйцан» — к династии Шан (1765–1122 гг. до н. э.). Безусловно, такая древняя датировка ничем не подтверждается, кроме традиционных китайских преданий, и не исключено, что оба трактата были составлены значительно позже, в эпоху Борющихся царств (475–331 гг. до н. э), на основе более древних записей и гадательной практики каких-то конкретных школ, а прообразом для них послужил «И цзин».
Гадательная практика сегодня является одним из древнейших отголосков мистерий архаической эпохи. Вся жизнь представлялась китайцам «считыванием» небесных знаков и умением их правильно трактовать и понимать. Боязнь не понять или понять неверно — ведь, говоря словами Конфуция, «Небо не говорит» — заставляла все глубже и глубже уходить в магические приемы, завязывать свое обыденное сознание и каждодневные, например чисто житейские, нужды на их мистическую трактовку. Все истинное — потаенно, сокровенно и невидимо. Внешняя сторона предмета и явления говорит лишь о том, что за ней есть нечто сокрытое и уже поэтому истинное, но ни в малой степени не передает суть сокровенного. Поэтому надо угадывать смысл знаков, проводить гадания, раскрывать внутреннюю сущность каких-то внешних предметов, чтобы, наконец, понять волю Неба.
Встреча с бессмертными
Магические культуры обслуживала особая категория посвященных людей, о характере жизни которых сохранилось не много упоминаний. Однако очевидно, что многие из произведений древней китайской литературы, в том числе некоторые части «Канона песнопений», «Дао дэ цзина», «Чуских строф», содержат в себе ритуальные формулы и заклинания, принадлежащие к культуре жизни этих людей.
По своей сути они были шаманами и медиумами, по социальной функции нередко становились правителями, племенными лидерами или просто обслуживали контакты между миром духов и миром людей. Из их учения вышла и ранняя китайская философия, а многие китайские философы передавали отголоски их высказываний и наставлений.
 Илл. 101. Восемь бессмертных сяней — героев народной и даосской традиции. Красное дерево. XIX в.
Илл. 101. Восемь бессмертных сяней — героев народной и даосской традиции. Красное дерево. XIX в.
Здесь важно сделать одну существенную оговорку. Следует различать шаманов и медиумов. Если шаманы являются посредниками между миром людей и миром духов, договариваются с ними, то медиумы лишь предоставляют свое тело для духов, которые, вселяясь в него, напрямую общаются с людьми. Обычно медиумы не помнят содержания своих речей в тот момент, когда они находились в состоянии транса, сами же эти речи могут быть обрывочны, их части логически не связаны, и, как следствие, требуется человек, который мог бы их интерпретировать. Этот же человек бережет и физическое здоровье медиума, поскольку после транса силы покидают его, многие жизненные функции замедляются. Так вокруг медиума формируется категория особых слуг-интерпретаторов, отношения с которыми постепенно приобретают характер взаимоотношений правителя и его слуг-чиновников.
Обычно, говоря о китайском шаманизме, чаще всего упоминают южное царство Чу — царство, откуда вышел комплекс протодаосских идей, откуда, скорее всего, пришли в северное царство Чжоу великий Лао-цзы, Чжуан-цзы и ряд других мистиков.
7
Здесь же появляются и первые тексты, непосредственно связанные с экстатической традицией, наиболее известными из которых становятся «Чу цы», обычно переводимые как «Чуские строфы», собранные в IV в. до н. э. Цюй Юанем.
8
 Илл. 103. Различные способы записи понятия «сянь» — «бессмертный», «шаман» или «маг» (по Дж. Паперу): А — человек рядом с горой, В — человек на горе, С, D и Е — различные вариации танцующего или прыгающего человека
Илл. 103. Различные способы записи понятия «сянь» — «бессмертный», «шаман» или «маг» (по Дж. Паперу): А — человек рядом с горой, В — человек на горе, С, D и Е — различные вариации танцующего или прыгающего человека
Северяне, жившие в Центральных царствах, нередко считали их варварами и отмечали одну из их необычных черт: некоторые категории южно-китайских жителей, возможно шаманы, густо татуировали себе лицо и тело. Этим, например, отличались народы древних южных царств Чу, Юэ и У.
9
Вероятно, отголоски татуировок на лице можно встретить на некоторых изображениях духов и медиумов на бронзовых сосудах — скорее всего, именно этим объясняются странные узоры на масках таоте.
Царство Чу располагалось к югу от Янцзы и существовало в первой половине I тыс. до н. э. В то время как на севере Китая уже постепенно утверждался путь рационализма, представленный наставниками типа Конфуция, Мэн-цзы и другими, на юге, например в царстве Чу, царствовал еще оккультно-мистический комплекс, который обычно принято называть шаманизмом. Все же шаманизм как форма экстатического культа не ограничивался югом Китая — здесь он просто был ярче и концентрированнее выражен. Распространенное слово «шаманизм» (сам термин имеет свои корни в тунгусском языке) не очень точно отражает тот характер верований, обычаев и форм ритуальной жизни, который встречался практически по всему Китаю вплоть до эпохи Хань, а в трансформированном виде существует и до сих пор. Мы же употребляем слово «шаманизм» как обозначение форм ритуальной жизни, основанных на экстатическом трансе, священных параферналиях. Важнее всего, что шаманы и медиумы в Китае сочетали выполнение социальных функций с экстатическим характером их выполнения, например общением с духами, принятием решений в состоянии транса и т. д.
…???…
Илл. 102. Печь и курильница в даосском храме стали символом получения пилюли бессмертия
Кем же все-таки являлась в Китае эта категория людей? Традиционно ранних служителей мистических культов Китая именуют шаманами, хотя было бы более правильным считать их медиумами — людьми, что осуществляют посреднические функции между духами и людьми, предоставляя для духовных сил свое физическое тело. По крайней мере, именно такие функции выполняли ранние мистики в поздний период Чжоу, т. е. в VII–III вв. до н. э. Можно предположить, что подобная же картина существовала и раньше, но никаких достоверных сведений об этом мы не имеем.
Существовало несколько терминов для обозначения этих людей: «г/» (обычно женщины), «цзы», «см», «чжу», причем далеко не всегда ясно, то ли речь идет о разных категориях медиумов, то ли это региональные синонимы для обозначения людей одного и того же качества. Обычно на юге Китая, например в царстве Чу, в тех районах, откуда вышел Лао-цзы, под названием «г/» фигурировали женщины-медиумы, «см» — мужчины.
10
Происхождение термина «г/» могло быть связано с традиционными экстатическими танцами (по-китайски танец также обозначается «г/», но другим иероглифом), и это указывает на одну из основных форм проведения ритуала.
К ним же можно отнести и тех людей, которых называли «сянъ» (так называемые «бессмертные»), а также большую категорию людей, способных творить чудеса, так называемых «магов» (фанши).
Весь максимум магической силы, присущей медиумам и носителям духовной мощи, воплотился в культе
сяней. «
Сянь» — понятие, ставшее классическим для всего даосизма народных верований и обычно переводимое как «бессмертные», «небожители». Парадокс названия заключается в том, что как раз к физическому долголетию сяни не стремились, да и само понятие «сямъ» служило в раннем Китае не для обозначения категории людей, а для описания определенных качеств, присущих самым разным людям. И, как видно, основным таким качеством являлось умение устанавливать непосредственный контакт с духами и впускать их внутрь себя. Человек не становился бессмертным, а позволял бессмертной (или, точнее, уже умершей субстанции) войти внутрь себя, захватить себя и в какой-то момент полностью вытеснить личностное «Я» из тела.
…???…
Илл. 104. Лян Кай изображает бессмертного при помощи особой техники
Что же изначально скрывалось под названием сянь? Обычно под сянями подразумеваются некие бессмертные небожители, люди, сумевшие по разным причинам, например благодаря приему пилюли бессмертия, удержать воедино свои семь душ, и после смерти сохранившие соприкосновение с этим миром. Классическими в народной и даосской традиции считаются восемь сяней (ба сянь), семь мужчин и одна женщина, которые имели вполне «земную» биографию, однако после смерти оказались на одном из небесных этажей.
По представления, сложившимся в эпоху Хань, эти люди, мистическим образом достигшие чрезвычайного долголетия, обитали в горах, в отдаленных скитах; неслучайно одно из написаний иероглифа «сянь» состоит из графем «человек» и «гора». Несмотря на перевод термина сянь как «бессмертный», сяни не обладали полным физическим бессмертием, они умирали в смысле утраты физического тела, однако сохраняли целостность всех духовных компонентов. Благодаря этому они могли переселяться в тела других людей или странствовать во внетелесном облике на большие расстояния. В даосизме сложилась развитая иерархия сяней, например подземные, земные, небесные и т. д.
Сяни не были обычными медиумами, не являлись они и просто магами (фанши), способными вызывать духов и врачевать людей, хотя качества обеих категорий этих «чудесных людей» был присущи сяням. Первоначально сяни действительно являлись одним из видов медиумов, однако после того, как в эпоху Чжоу поиски бессмертия и долголетия не только среди магов, но и в кругах аристократической и интеллектуальной элиты становятся особенно популярными, под сянями теперь понимаются те, кому удалось достичь высшего посвящения, и такое название окончательно закрепляется ко II в.
11
Сяням приписывались многие чудесные свойства, в том числе и обучение людей тайным знаниям, передача некой традиции, которая способна внести гармонию в мир. Не исключено, что концепция сянь была привнесена в Китай откуда-то с Запада и первоначально обозначала духа человека, который продолжает пребывать в умершем теле и во время кремации воспаряет вверх, достигая вершин Куньлунь.
12
По ряду предположений, сам образ жизни и поведения сяней можно соотнести с ранними ритуалами шаманов.
13
По другим версиям, представление о сянях пришло с переселенцами с Запада, из неких священных «западных земель», и в тот период оно означало дым от тела, который воспарял к священным горам Куньлунь во время ритуального сожжения усопшего.
14
Таким образом, сянъ был в прямом смысле «духом», бестелесным представителем человека.
Постепенно в народной традиции сяни превратились в неких небесных существ, изначально имевших отношение к земным обитателям. И все же такое представления о сянях — скорее народного, фольклорного свойства; очевидно, что в китайских мистических трудах речь первоначально шла о несколько ином понимании этих загадочных существ.
Так что же изначально подразумевалось под сянъ? Бессмертный? Маг? Дух? Шаман? Некое запредельное существо? Частично ответ на это дает нам раннее изображение иероглифа «сянъ».
Этимология этого слова на первый взгляд абсолютно очевидна: иероглиф «сянъ» II в. до н. э. записывается как сочетание графем слева — «человек» (жэнъ) и справа — «гора» (шанъ).
Однако в древности существовало еще несколько написаний иероглифа «сямь» — впрочем, это было не удивительно, учитывая, что в основном иероглифы воспринимались со слуха, на письме могли записываться по-разному, в зависимости от предпочтений писца. Такая ситуация сохранялась даже после реформы Цинь Шихуана во II в. до н. э., упорядочившей написание иероглифов по всей китайской империи. Так,
сянъ записывался по меньшей мере пятью способами, каждый из которых имел свой «оттенок».
15
Более ранние рисунки намекают нам на несколько иное понимание сяня — графема «человек» рисовалась сверху, как бы «сидящим» на горе.
Тотчас напрашивается вывод о каких-то людях, поселившихся в горах в отшельничестве, пестующих свое бессмертие, занятых приготовлением чудесной пилюли долголетия в отдалении от людей. Но именно ли о людях, поселившихся в горах, идет речь? В горах обитают именно духи людей, но не сами люди, и, действительно, древние китайцы именно так понимали значение «сянъ», о чем и говорит один из самых первых
словарей китайского языка эпохи Хань «Шовэнь цзецзы» — «духи, что поселяются на самых вершинах гор»
16.
Впрочем, здесь встречается определенное разнописание иероглифов: если в первом случае графема «человек» стоит рядом с «горой», то во втором случае «гора» помещена под «человеком». Оба этих иероглифа употреблялись в текстах параллельно и, очевидно, в одном и том же смысле, причем во втором случае практические напрямую изображается человек, сидящий высоко в горах.
Составители словаря «Шовэнь цзецзы» считали, что оба эти иероглифа были взаимозаменяемы с другим его написанием, где изображался человек и древняя графема «подниматься», причем трактовалось это как «тот, кто живет очень долгое время». А вот именно о бессмертии речи не идет — этот смысл пришел значительно позже уже из фольклорных преданий.
Таким образом, сяни очевидно были медиумами — переходными, лиминальными существами, а не людьми и не духами в чистом виде. Медиумы хотя и впускали духов в себя, сохраняли свое физическое тело. Впрочем, если, говоря о медиумах или шаманах (у, цзи, чжу), китайцы описывали их как бы глядя из человеческого мира, то
сянъ — описание той же самой категории существ, но уже с точки зрения мира потустороннего и наполненного духами.
Ранняя практика сяней была связана с шаманскими танцами, различного рода экстатическими «прыжками», не случайно в трактате «Чжуан-цзы» фигурирует именно такое написание «сямъ», состоящее из двух частей: «человек» и «прыгать» или «взлетать». А понимание термина сянъ в древнейшем «Каноне песнопений» («Ши цзин»), непосредственно соотносящемся с архаическими традициями шаманизма, также может трактоваться как «танцевать», «пританцовывать», равно как и обозначение для женщин-медиумов контаминируется с понятием «танцевать».
17
Хотя в средние века сяни благодаря общему мифологическому настрою народной традиции действительно стали восприниматься как некие бессмертные небожители, тем не менее в своем первоначальном смысле они представляли собой типичных медиумов, переходный тип между миром людей и миром духов. Говорить именно о вере в сяней было бы бессмысленно, поскольку они были частью магической культуры древности. По сути, такие категории, как фанши (маги), сянъ (т. н. бессмертные), у (чаще всего — женщины-медиумы) представляли собой единую страту посвященных людей, хотя между ними, безусловно, были различия и в региональных трактовках, и, возможно, в образе жизни. Были у них и свои «функциональные обязанности»: сяни ассоциировались с продлением жизни и общением с духами, мати-фанши — с чудесами, например моментальным перемещением на сотни километров, способностью трансформировать свой внешний облик и т. д., а медиумы южной части Китая — с экстатическими ритуалами, врачеванием и т. д. Однако все они так или иначе выполняли единую роль: обслуживали сферу сакрального в древнем китайском обществе.
Во II–III вв. культ бессмертных стал восприниматься не как бесконечное продление духовного существования и странствия по небесным сферам, но как мирское долголетие и процветание.
Известны случаи, когда сянями именовали просто мудрых людей, достигших преклонного возраста, но при этом сохранивших отменное здоровье. Таким образом, и в этой области наступает секуляризация мистической традиции сяней.
…???…
Илл. 107. Большая курильница в несколько уступов — неизменный атрибут многих даосских и буддийских храмов. Ее дым отгоняет вредоносных духов. Основание курильницы выполнено в стиле древних бронзовых сосудов. Слева и справа — стелы в честь известных монахов, что жили здесь. Провинция Хэнань
Вообще некоторые школы даосской традиции были склонны относить к сяням практически всех великих людей, ушедших из этого мира, например Лао-цзы, Хуан-ди, при этом грань между духом-
шэнь и
сянем практически стиралась. По народным преданиям, сяни селились на склонах священной горы Куньлунь (в реальности существует хребет Куньлунь в районе современного Синьцзяна). В зависимости от своих прижизненных заслуг и накопления благодатной энергии-Ээ они расселялись на разных «этажах» Куньлунь, само же восхождение на Куньлунь, таким образом, являлось знаком погружения медиума в царство мертвых. Отсюда и возникает мотив бессмертия, присущего сяням.
В мифах многих ранних культур путешествие в царство мертвых в своем «прижизненном» теле и возвращение оттуда делало человека либо бессмертным, либо почти бессмертным, например неуязвимым. Здесь достаточно вспомнить легенду о том, как мать Ахиллеса искупала его в реке забвения Лете, отделяющей царство мертвых от мира живых, то есть окунула его на мгновение в загробный мир. В результате этого Ахиллес и приобрел свою знаменитую неуязвимость, равную бессмертию, и лишь часть его тела — пятка, за которую держала его мать во время купания, — осталась по-прежнему уязвимой. В нее он и был в конце концов убит стрелою.
Медиум-сянь также совершает путешествие в царство духов и мертвых. Делает он это обычно путем восхождения на гору, где селятся духи умерших предков, откуда, вероятно, и пошла ранняя семантика иероглифа «сямь» — «человек в горах». Именно за счет этого путешествия он приобретает чудесные свойства, в том числе и мифологическое бессмертие, откуда, собственно, и пошло представление о сянях не как о вполне земных людях, хотя и обладающих свойствами магов и медиумов, а именно как о бессмертных.
Женщины, на которых «снизошли духи»
Наряду с сянями существовала еще одна категория магов и медиумов, называемая у в случае, если они были представлены женщинами, и си, если мужчина-Илл. 106 ми. Причем очевидно, что в древности именно на женщинах в основном лежали задачи общения с потусторонним миром и с душами умерших людей. Отрывок из известной летописи «Гоюй» («Нравы царств») говорит о двух типах медиумов — женщинах и мужчинах: «Есть люди, чей разум не раздваивается и кто благодаря этому способен испытывать уважение к духам и быть внутренне правильными, их мудрость может прозревать верхние и нижние миры. За счет своей святости они способны прозревать далекое, освещая это ясностью. Их знания способны осветить добрых духов, а способности достаточны, чтобы понять и изгнать злых духов. Вот поэтому духи и нисходят на них. Когда духи нисходят на мужчину, он зовется
си, а если нисходят на женщину, то она зовется — г/»
18.
Это очень важное указание — «их разум не раздваивается» или, по-другому, «они способны быть постоянными». Целостность сознания является важнейшим фактором существования медиума, когда ему необходимо быть постоянно слитым со своим духовным двойником, пребывать в состоянии промежуточного статуса. «Уважение к духам» — это тот трепет, который рождается не столько от веры в их абстрактное существование (напомним, что именно «веры» Китай никогда не знал), но от личного и очень конкретного ощущения их присутствия внутри себя. И после достижения этого состояния уже не оставалось разрыва между духом и человеком.
Какие функции имела эта категория людей — весьма важная для становления концепции священного, в общем, и священной власти в Китае, в частности? Прежде всего, они выполняли обычные шаманские функции: договаривались с духами о точном времени дождя и его количестве, изгоняли злых духов, леча тем самым болезни, и т. д.
19
В их обязанности также входило изгнание духов, различные типы экзорсизма, погребальные обряды, проводы души, предсказания от имени духов, что вселялись в их тело.
Описание приемов, которые использовали медиумы, мы встречаем у известного философа Ван Чуна (27–97), причем это первое из известных нам очевидных описаний смысла искусства магов и медиумов: «Умершие прошлых поколений вводят людей в транс и пользуются ими для того, чтобы говорить.
Когда медиумы молятся при помощи таинственных звуков, они призывают в наш мир души мертвых, которые и говорят через рот медиума»
20. Ван Чун, впрочем, будучи известным скептиком, считал, что все их слова — «не более чем хвастовство», но этот критический настрой можно объяснить тем, что в I в. эти категории медиумов уже рассматривались как пережитки прошлого (хотя, как видно из цитаты, они продолжали существовать), в то время как их сакральные функции, способы «вещания» из загробного мира перешли к философам и другим «людям знания».
Танец, неистовая пляска становится основным приемом у для вхождения в мистический транс. Другим приемом является традиционный прием галлюциногенов, который и позволяет медиуму вступать в контакт с духами, однако именно танец выступает самым очевидным признаком
у, не случайно о нем упоминают многие источники того времени. «Танцами они заставляли духов Ил спуститься», — отмечает древнейший словарь «Шовэнь цзецзы» (I в.).
21
Основная цель всей медиумной практики — войти в контакт с душами умерших, с людьми предыдущих поколений. Собственно, именно к этому сводятся все ритуалы Китая с древности до наших дней. Во время ритуалов у впадали в транс, издавали причудливые, невероятные звуки, входя в резонансные колебания с потусторонним миром. Затем они начинали говорить от имени духов мертвых, скорее всего, используя разные, в том числе и не существующие, языки.
Использование разных языков древними медиумами вряд ли можно считать лишь мифологическим преувеличением. Мне, в частности, пришлось видеть, как в Фуцзяни, на юге Китая, недалеко от столичного города Фучжоу, один из местных мастеров ушу сначала монотонно и неторопливо выполнял один из комплексов боевых искусств таолу. Раскачиваясь и двигаясь рывками, он передвигался по площадке перед домами, повторяя речитатив (цзюэ), суть которого, как выяснилось позже, для него не понятна, и делал он это, по его собственному признанию, для того чтобы «прочистить каналы тела, чтобы духи могли свободно передвигаться по ним». Затем он вдруг начал делать странные прыжки на месте, подрагивал всем телом, а вместо речитатива из его уст стали раздаваться какие-то обрывки фраз на… французском языке, причем некоторые слова можно было без труда разобрать. Никто из жителей деревни даже не представлял, что это за язык, однако затем кто-то рассказал, что в этих местах в начале века погиб отряд иностранных солдат.
«Говорение» чужими голосами или на непонятных языках у многих народов мира считалось «одержимостью духами», и хотя с приходом структурированных религиозных систем, например христианства, такое явление стало осуждаться, у многих восточных народов оно до сих пор понимается как признак вступления в контакт с душами умерших. Скорее всего, именно это имел в виду Ван Чун, говоря о том, что медиумы сначала «молятся странными звуками», а потом «души умерших говорят через рот медиума».
Можно предположить, что медиумы для ритуалов использовали бамбуковый крест, каждый конец которого заканчивался перпендикулярной планкой. Этот крест, вероятно, поджигался и раскручивался — предположительно, отсюда во многих культурах Востока появляется свастика как знак креста и 108 языков пламени. В китайский язык он вошел как знак «
еа», обозначающий удачу и счастье. На древних гадательных костях можно встретить рисунок этого креста, который позже стал обозначением самих носителей этого ритуала — женщин-медиумов (г/).
22
Существует и другое, значительно более интересное объяснение происхождения как названия у, так и всей этой загадочной категории мистиков. Возможно, оно связано с отголосками древних контактов китайцев с индоевропейской культурой.
Хорошо известно, что со II тыс. до н. э. произношение многих иероглифов заметно изменилось.
Предположительно, в древности иероглиф «г/» произносился как «маг» (
maag) и был аналогичен понятию «маг», пришедшему из фарси, т. е. из персидского языка. Эти маги изображали у себя на лбу рисунок, напоминающий иероглиф «у», откуда и пошло «рисованое» обозначение этих людей.
23
И все же, несмотря на привлекательность такого предположения, кажется маловероятной и, по крайней мере, недоказанной прямая связь между магами древнего Ирана и китайским медиумизмом.
Ритуальная роль женщины как носительницы сакрального знания была исключительно велика.
Царство Шан во все его периоды было населено шаманками, которые делали предсказания, общались с духами, играли роль медиумов. И хотя, предположительно, именно юг Китая был центром женского шаманизма, очевидно, что это было повсеместное явление. Существовали и мужчины-шаманы, однако, судя по древним надписям, их роль в эпоху Шан была значительно меньше. Женщины понимались как категория наиболее восприимчивая к «велениям» духов и открытая для общения с ними. Это разрушает представление как об абсолютном патриархате, так и о превалирующем матриархате древних китайцев.
Вот один из таких примеров. В гробнице близ Анья-на, открытой в 1976 г. и принадлежащей периоду раннего Шан, было найдено роскошное по своей погребальной утвари захоронение женщины. Первоначально бригада китайских археологов во главе с Чжэн Чжэнсинем, руководителем раскопок шанской культуры в районе Аньяна, предположила, что перед ними — останки одной из наложниц царствующего лидера Шан, однако надписи на предметах и костях, оказавшихся в раскопе, преподнесли очередной сюрприз. В могиле лежали останки женщины Фу Хао, которая не только была одной из наиболее влиятельных жен правителя того времени воинствующего У Дина, но и сама являлась видным военачальником. Под ее командованием находилась армия в 13 000 человек, которая участвовала, в частности, в сражениях против племен цянов, населявших земли к западу от Шан, и туфаней, живших к северо-западу. Не исключено, что Фу Хао сочетала функции военачальника и медиума, чем и могла объясняться ее столь важная роль в государственных делах, не случайно именно культ женщин-шаманок был главенствующим в Шан. Надписи свидетельствуют, что она участвовала во многих церемониях экзорсизма и общении с духами предков.
24
 Им. 108. У представляли собой женщин-медиумов или шаманок и, вероятно, в своей практике использовали скрещенные и зажженные палки, откуда и пошел рисунок, обозначающий эту категорию священнослужителей
У
Им. 108. У представляли собой женщин-медиумов или шаманок и, вероятно, в своей практике использовали скрещенные и зажженные палки, откуда и пошел рисунок, обозначающий эту категорию священнослужителей
У и
см были двумя основными категориями священнослужителей в эпоху Шан. Их роль была настолько велика и очевидна, что известный востоковед де Гроот для обозначения этого явления даже ввел особый термин «уизм»
25.
К эпохе Чжоу у уже не были лишь женскими медиумами, но представляли собой обобщенное название и мужчин, и женщин, способных вступать в контакт с душами умерших людей. Древние функции у, особенно в период Шан, не до конца ясны, а большинство описаний относится к более позднему периоду Чжоу. Предположительно у исполняли священный танец плодородия, который воспроизводил то, как некое священное существо (обычно речь идет о птице) осеменило мать первого правителя династии Чжоу, откуда и пошел весь род.
26
Медиумная практика вообще построена на слиянии абсолютно священного и запредельного и окончательно земного, профанного. Образы причудливо трансформируются один в другой, и не всегда понятно, идет ли речь о духе или о человеке, которым он представлен, поскольку для них употребляется один и тот же термин. Изначально женщины-медиумы у не просто являлись отдельной жреческой категорией, но понимались как живое воплощение духов-прародительниц рода. Например, в надписях на костях эпохи Инь, как полагают комментаторы, под термином «г/» подразумевается именно некое женское божество. Но одновременно здесь же этим же термином обозначается и «принесение жертвы» этому божеству.
27
Жертва и жертвователь становятся едиными, оказывается, что сам женский дух отдает себя на заклание (самому себе?). Не исключено, что сами у приносили себя в жертву, поскольку в древнем мире жрец и жертва нередко выступают в одном лице — и это мы показали на ритуалах китайских жертвоприношений.
В более поздние периоды Шан и Чжоу у уже очевидным образом выступают как воплощенные в физическом теле женщины женские духи, сообщающиеся с миром мертвых. По существу, такое общение с миром мертвых является общением с самим собой, но только прошлым, ушедшим, перешедшим в духовную ипостась.
Здесь повторяется та же ситуация, что и в случае с «высшим духом» ди или небом Тянь, когда в действительности в древних текстах подразумеваются не абстрактные духи, но шаманы и медиумы, представляющие этого духа на земле.
Обычно в мировых культурах шаманская практика постепенно исчезает, вливаясь в более структурированные религиозные системы, а шаманы и медиумы превращаются в священнослужителей, в основном общающихся со священными книгами, но отнюдь не с представителями потустороннего мира. В Китае ситуация сложилось абсолютно противоположным образом — медиумный фактор, особенно в отношении категории у, наоборот, усиливался. К эпохе Чжоу ситуация вокруг у поразительным образом «официализируется». К тому времени у уже не была маргинальной категорией, замкнутой в рамках отдельных деревень, но представляла собой вполне официальную прослойку, приглашаемую местной аристократией для совершения различного ряда ритуалов.
 Илл. 109. Бронзовое изображение танцующих людей на змее; очевиден заклинателъный характер танца. Куньмин. Эпоха раннего Чжоу
Илл. 109. Бронзовое изображение танцующих людей на змее; очевиден заклинателъный характер танца. Куньмин. Эпоха раннего Чжоу
Например, трактат «Чжоуские ритуалы» («Чжоу ли») в нескольких местах упоминает о существовании мужских и женских медиумов чжи, которым помогали в ритуалах как мужские, так и женские медиумы
у, занимавшие место в официальной табели о рангах. Различия между
чжи и
у не совсем ясны, причем в последующую эпоху Хань даже возник общий термин для всех медиумов —
учжи, а упоминания о них в избытке встречаются в текстах I тыс. до н. э. Традиция медиумов и магов сохранилась в Китае на долгие тысячелетия, хотя с каждой новой эпохой приобретала новые формы. В частности, древняя магия нередко прорывалась в обыденную жизнь в виде восстаний и народных волнений. Практически все восстания Китая, начиная с древнейшего Желтых повязок вплоть до восстания Ихэтуаней в конце XIX в., руководились людьми, которым приписывали магические свойства, способность общаться с духами, вызывать души умерших, возвращать к жизни мертвых. Это был мощный и резкий «вброс» магической энергии, когда количество различного рода магов и посвященных заметно превышало реальные потребности магической культуры того времени. Цивилизация нуждалась уже не столько в медиумах, сколько в администраторах и чиновниках, время необразованного, но импульсивного и экстатичного медиумизма проходило. И тогда начинались массовые волнения.
В поздний период Хань (I–II вв.) Китай впервые охватывает настоящий мессианский бум, в основном представленный даосскими магами и бродячими лекарями. В конце концов он выливается в грандиозное восстание Желтых повязок, приведшее к коллапсу и полному краху империи Хань.
28
Восстание было порождено людьми, которых именовали
тянъши — «небесные наставники» и которые по своим функциям и были медиумами и магами.
«Небесные наставники» считались людьми «священными» и «чудесными» (
шэнъ жэнь), посланными Небом для того, чтобы спасти человечество от грехов (чэнфу), которые уже накопились в мире. Сделать это возможно лишь путем правильного использования священных текстов и канонов — «Небесных книг» (
тянъ шу), которые должны были обратить человечество к древним методам идеального управления страной. В результате этого мир должен наполниться энергией Великого покоя (
тайпин ци).
29
Столетия спустя та же самая концепция «Великого покоя», который должен охватить мир в случае преобладания в нем энергии «истинных людей», была повторена в середине XIX в. во время грандиозного восстания Тайпинов, которые даже название своего государства позаимствовали из практики магов II в. — «Небесное государство Великого покоя» (Тайпин тяньго). В 1898–1901 гг. в Китае бушуют волнения, поднятые мастерами боевых искусств ушу, которые удалось подавить только при помощи объединенной армии западных государств. Именно методы и комплексы (
гпаолу) ушу начиная с XVI–XVII вв. явились отголосками древних магических ритуалов общения с духами.
В разные эпохи практику медиумов даже пытались запретить, например известны запреты, издававшиеся в династию Мин. Однако запрещались именно архаические формы практики, в то время как само явление «посредничества» между миром живых и царством мертвых перешло уже в другие формы, живя, в частности, в школах ушу, среди даосских и буддийских монахов и народных знахарей.
Медиумная практика, некогда основанная на экстазе, который буквально выбрасывал сознание человека за пределы его тела, постепенно приобретала «культурные» черты, вписываясь в общий контекст «государственных верований». Сегодня ее нередко можно встретить среди мастеров ушу и «внутренних искусств», а медиумы, приносящие послания из загробного мира, живут на юге Китая, в провинции Сычуань и на Тайване.
Очевидно, что традиция медиумизма, воплотившаяся в культе так называемых «бессмертных» (
сянъ), магов-фангии и других, надолго закрепилась в китайской культуре. Сами же предания о бессмертии, позже нашедшие свое воплощение в даосизме и традиционной китайской медицине, в своей основе имели отншешние к ритуалам посвящения. Суть этих инициации, связанных, прежде всего, с посещением мира мертвых, забылась, остались лишь мифо-символы: рассказы об обретении бессмертия, долголетия и чудесных способностей. Именно с этими преданиями, а не с изначальной сутью ритуалов инициации сталкивается современный исследователь, занимающийся изучением формирования духовной традиции Китая.
Духи, что живут на западе
Традиционно было принято считать, что древний Китай формировался как изолированная страна, питавшаяся только собственными соками, что и привело к удивительной самобытности китайской культуры. Однако в реальности Китай был значительно более открыт внешним влияниям и «ветрам с запада», чем нередко представляется, причем открытость эта существовала с глубокой древности. Многие китайские знания в области математики, астрономии, календаря и даже расписной керамики приходили извне, в основном благодаря контактам с арабами, начавшимся уже с VII в., или народами Центральной Южной Азии. Однако мощь китайской культуры оказалась такова, что Китай, вбирая в себя персидские танцы или арабскую медицину, стремительно адаптировал эти явления, и китаизация абсолютно вымывала всякое, даже случайное упоминание об «иностранном» истоке явления.
В период династии Западная Хань (25-220) развиваются торговые отношения Китая с Римской империей, и теперь китайцы узнают много нового о внешнем мире. Они, например, знают о «бегущих песках» (т. е. пустынях), о «тонких водах», которые существовали в районе Красного моря. Император У-ди (140-87 гг. до н. э.) открывает западный коридор, так называемый «коридор Хэси», который становится одним из основных каналов общения Китая вдоль западного берега Янцзы до гор Цилянь на востоке (ныне провинция Ганьсу) и пиков Памира на западе.
Именно в тот период в геокультурный лексикон Китая входит понятие
сиюй — «западные земли» или «западные районы», под которым подразумевались все земли к западу от Китая, в том числе районы Центральной Азии, Европа, Анатолия и даже Африка, откуда в Китай стали доходить сведения, а также, вероятно, и некоторые представления о богах.
Однако «западная сторона» была чем-то большим, чем просто указанием на географическое пространство. Многое, что Китай считал священным, связывалось именно с западной стороной света, например именно там пребывала одна из основных богинь китайского пантеона Нерожденная праматерь (
Ушэн лаому), спасающая людей, там жила обладательница плодов бессмертия Сиванму, там китайские буддисты располагали место посмертного спасения «Западный рай», где обитает боддисатва Гуаньинь, или Авалокитешвара. Оттуда, по преданиям, пришли первые предки, в частности Фуси, принеся священные и хозяйственные знания. Оттуда же, как считается, пришел и буддизм, хотя, строго говоря, Индия находится к юго-западу, а не к западу от Китая. В чань-буддизме одной из центральных тем стал вопрос «в чем смысл прихода Бодхидхармы с Запада?», в подтексте которого подразумевалось открытие скрытого, священного («западного») смысла учения чань.
Таким образом, «запад» (си) из простого географического направления превращался в особый знак, указывающий на священный характер происходящего. Более того, «запад» оказывался пространством запредельного, связанного с миром духов и бессмертных. И здесь следует обратить внимание на своеобразный характер восприятия священного пространства в древности. Хорошо известно, что для архаического сознания характерно отсутствие деления на горизонтальную и вертикальную проекцию в осмыслении пространства как такового.
30
Это совпадение горизонтального и вертикального путешествия, превращенного в странствия в волшебный мир, часто используется в народных сказках. Например, герой отправляется куда-то «за тридевять земель в тридесятое царство» (то есть странствует в горизонтальной проекции), но в конце концов вдруг попадает в некий потусторонний мир, например в волшебное царство или вообще на небеса.
Встречается этот мотив и в ветхозаветных сюжетах. Достаточно вспомнить, что, строго следуя библейскому изложению, мы узнаем о земном характере рая: «
насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил туда человека» (Быт. 2:8), и, таким образом, рай имеет строго «земную», а не небесную локализацию. Этот участок земли омывают реки, некоторые из которых вполне «опознаваемы», например Евфрат. Изгнание из рая также происходит не в вертикальной (с Небес на землю), а в горизонтальной проекции. Вместе с этим, в обиходных религиозных представлениях рай совпадает с понятием Царствия Небесного и располагается где-то в ином, внеземном измерении, но отнюдь не на земле.
Нечто подобное — мотив совпадения реального географического представления со священным ино-пространством — мы встречаем и в случае «западных земель» в Китае.
Согласно множеству преданий, где-то там на западе располагались священные земли — обитель магов, бессмертных и множества божеств.
Обретение состояния сянь, обычно понимаемого как «бессмертный», в ранних преданиях чаще всего связывалось с путешествием к горе Куньлунь, на отрогах которой обитали все известные герои китайской истории, обретшие бессмертие, в том числе Фуси, Хуан-ди, Лао-цзы и многие другие. Чертоги Куньлунь стали идеальной точкой устремлений эстетов и интеллектуалов периода Тан-Сун (V–XIII вв.). Средневековые поэты мечтали «веселиться в персиковых кущах на склонах Куньлунь», «вдыхать душистые ароматы садов и любоваться цветением слив на отрогах Куньлунь».
Согласно древнейшему «Канону гор и морей» («Шаньхай цзин») — каталогу полузагадочных мест, — гора Куньлунь располагается где-то на северо-западе, где действительно пролегает хребет Куньлунь, протянувшийся к западу от Центральной равнины Китая. Он примыкает к Тибету и представляет собой цепь пологих гор. Другое название Куньлунь, встречающееся в древних текстах, — Тяньтан («Небесный зал»). Примечательно, что в преданиях реальный горный массив Куньлунь смешивается с некими чертогами Куньлунь — то ли страной, то ли горой. В любом случае — это обитель предков и бессмер-тных-сяней. По преданиям, на вершине Куньлунь обитает верховный дух Тай-ди. Гора возвышается на 500 ли (ок. 250 км) и, как подчеркивает «Канон гор и морей», именно «здесь располагается центр земли».
То, что именно гора ассоциируется с «центром земли», не должно вызывать удивления — практически во всех культурах существует символика того, что принято называть «мировым древом» или «мировой осью». Она может представляться в виде огромного дерева, уходящего кроной в небо, а корнями в землю, фаллолингама, горы, храма на вершине горы и т. д. Функция этого древа заключается в том, что по нему можно забраться на небо или спуститься под землю.
Чаще всего это ассоциируется с путешествием в мир духов или мир мертвых, таким образом, речь идет не о древе или оси, а о некой точке пространства, где сходятся три основных части мироздания: небесный мир, мир подземный и мир людской. Именно в этой точке находятся ворота на Небо и в преисподнюю, не случайно прообразами таких мировых деревьев являются храмы и алтари, обычно располагающиеся на возвышенностях или даже высоко в горах, где и происходит контакт с миром духов и предков. Тот, кто располагается в этом «центре космогонии», и правит миром. В этом суть обладания сакральной энергией медиума, жреца, правителя и императора.
В ранней магической практике Китая именно горы Куньлунь обретают статус такого «мирового центра» и «ворот» в потусторонний мир, не случайно на них живут разного рода бессмертные.
То, что Куньлунь есть не что иное, как воплощенный центр мира (а следовательно, и центр происхождения всех людей), говорит и его описание в «Каноне гор и морей»: «Куньлунь занимает в окружности восемьсот ли (ок. 400 км. — AM.), в высоту она вздымается на десять тысяч женей. На ее вершине растет хлебное дерево высотой в пять сюней, а шириной в пять обхватов. На горе той — девять колодцев, огороженных нефритом, и девять ворот, их охраняет животное, Открывающее Свет. Здесь живет множество богов»
31.
Указание на точную высоту Куньлуня здесь несущественно, поскольку «в десять тысяч женей» — не более чем традиционное определение чего-то очень высокого. Девять колодцев и девять ворот являются как бы микромоделью мира, который также разбит на девять областей или пределов (
чжоу) — один центральный, где, собственно, и располагается энергетическая ось мира, и восемь областей, окружающих центр. Строго говоря, не архитектоника Куньлуня воспроизводит окружающий мир, но весь мир построен по модели «истинного» или изначального мира — Куньлуня. Не случайно во всех преданиях утверждается, что именно из Куньлуня пошли предки китайцев, то есть именно там находится истинный исток всего живого и всей культуры вообще.
Куньлунь устремлен в небеса и завершается могучим деревом — типичным символом мирового древа или фаллолингама, соединяющего мир горний и мир дольний, мир смерти и мир вечной жизни. И здесь проступает важнейшая особенность Куньлуня как точки инверсии вечного и тленного. Все, кто попадает сюда, могут достичь бессмертия, точнее, состояния сянь, либо просто оказавшись в этой местности, либо приняв особый отвар. Следует все же учитывать, что в ранних преданиях сянь еще не был бессмертным, он являлся, как мы показали выше, особым типом посвященного, магом или медиумом, которому были доступны измененные состояния сознания и общение с духами.
В трактате «Хуайнань-цзы» (II в. до н. э.) рассказывается, что долголетия можно достичь, если испить неких «желтых вод» из колодца в горах Куньлунь
32. «Желтые воды» вообще в Китае ассоциировались с духами недавно умерших людей, поэтому прием внутрь такой воды означал обретение качеств уже умершего человека, пребывая в своем прежнем физическом теле, что в общем и означало обретение бессмертия. Именно благодаря каким-то чудесным свойствам этой местности в горах Куньлунь обитают бессмертные-
сяш. Туда должен стремиться каждый, кто хочет постичь мистическую мудрость и достичь бессмертия. Существовало несколько этапов восхождения на Куньлунь и далее на более высокие вершины, что абсолютно соответствует некоторым ритуалам посвящения в китайских тайных обществах, понимаемым как «восхождение на гору». После восхождения на гору Куньлунь человек должен совершить путешествие на вдвое более высокие горы Линфэншань — «Горы холодных ветров», и тогда он сможет достичь полного бессмертия. Наконец, если человек решит еще выше подняться по горным хребтам, он сможет обнаружить там великие «висячие сады» или «висячие площадки» и обретет возможность управлять ветрами и дождями. Странствуя все дальше и дальше, он достигнет Неба, войдет в обитель верховного духа Тай-ди и станет бессмертным небожителем-сянем.
33
Этот рассказ, очевидно, передает суть посвятительного ритуала, обычно связанного с путешествием в мир мертвых, поскольку, как мы покажем позже, сяни первоначально представляли собой не каких-то отдаленных небожителей, но определенную категорию магов, мистиков и посвященных.
Именно западная сторона света привлекала китайских мистиков. По сути, путешествие на запад оказывалось равносильно возвращению в лоно рождения, приобщению к духам предков, которые, по преданиям, когда-то пришли именно с запада.
В гостях у «Правительницы запада»
Именно там, где-то западе, в горах Куньлунь обитает, согласно древнейшим представлениям, Сиванму — дословно «Западная матушка-правительница», причем вплоть до сегодняшнего дня Сиванму является одним из основных народных божеств Китая. В средневековом Китае она выступает как божество милосердия, спасающее людей из моря страданий и несчастий. Сам образ Сиванму формировался веками, на него повлияли и древние архаические мотивы, и буддизм (образы боддисатв), и даосские представления. В даосизме она вообще превратилась в одну из центральных богинь, дарующих долголетие обычно через вручение особого плода долголетия — волшебного персика (
паныпао). До сих пор во многих деревнях центрального Китая возносят молитвы «Матушке-правительнице», а перед алтарем с ее изображением кладут персики. В народных буддийских культах она стала ассоциироваться с «Нерожденной праматерью» (
Ушэн лаому), а та, в свою очередь, — с боддисатвой милосердия Гуаньинь, спасающей всех заблудших людей из моря страданий, и, таким образом, женские божества слились в единый образ спасающего женского духа.
Происхождение этого странного персонажа представляет собой загадку. Почему, например, речь идет именно о «западной» правительнице? В большинстве преданий она обитает в западной части неба или «где-то на западе», откуда и осуществляет свои спасительные функции. Но представления именно о спасительной функции Сиванму — значительно более позднего времени, во многом они обязаны своим происхождением буддийским идеям «западного рая». Изначально же Сиванму представлялась совсем иной.
Первоначальный облик Сиванму отнюдь не был «добрым и милосердным» (шан энъ), каким он представляется сегодня. Наоборот, это было весьма кровожадное существо, поедавшее людей и оглашавшее окрестности гор Куньлунь, где она жила в пещере, львиным рыком. Обитель ее располагалась где-то «к югу от Западного моря, у самых Зыбучих песков, за Красной рекой, перед Черной рекой»
34.
Сиванму распоряжалась болезнями, могла насылать на людей мор и другие несчастья. И вместе с этим, она владела средством достижения бессмертия, которое она иногда даровала людям. Как видим, облик Сиванму, как и многих ранних духов, амбивалентен. С одной стороны, она выступает как божество смерти, с другой — как обладательница средства вечной жизни, и это сочетание в одном образе абсолютной смерти и абсолютной жизни характерно для облика шаманов и древних божеств.
Сиванму вообще окружена символами царства мертвых. В рассказах о ней практически всегда фигурируют вороны — классические перевозчики в царство мертвых. Так, Сиванму прислуживали три трехногие птицы (обычно речь идет именно о воронах), каждый день приносившие ей в когтях пойманных птиц и животных, которых она поедала. Еще один трехногий ворон очищал пещеру, где жила Сиванму, от костей съеденных животных. Впрочем, и само место ее обитания — горы Куньлунь — считается обителью не только бессмертных, но и душ умерших людей.
В ранних представлениях Сиванму не была женщиной-отшельницей, у нее был супруг (по некоторым легендам, одновременно и брат) Дунвангун (Князь-правитель Востока) или Му-гун, присматривающий только за мужчинами в обители «Восточных цветов» (Дунхуа). В отличие от Сиванму ее супруг не стал столь популярен, со временем его облик тускнел, пока не исчез вообще.
31
Страшный облик Сиванму вполне очевидно связан с ранними сексуальными страхами народов, населяющих Китай. Он был сродни преданиям о
vagina dentalis, встречающимся до недавнего времени, например, на Тайване, — страшных зубах, которые могут вырастать в половых органах женщины и доставлять страшные мучения мужчине. Сиванму также, по преданиям, поедала мужчин, представляя абсолютную силу женского плодородия, которая всегда вызывает мистический страх и поклонение одновременно.
Династическая хроника «История Поздней династии Хань» («Хоу хань шу») описывала отдаленные пустыни на западе и утверждала, что эти места находятся «очень недалеко от дома, где обитает Сиванму, и почти там, где садится солнце». Еще более ранний трактат «Канон гор и морей» («Шаньхай цзин», VIII в. до н. э.) рассказывал, что Сиванму жила где-то в пещере в священных горах Куньлунь, у западных границ культурной сферы Китая — в одном из основных мест обитания разных странных персонажей, магов, бессмертных и духов. «Лицо ее было в обрамлении волос, обладала она тигриными клыками и хвостом леопарда». Облик довольно необычный для матушки-спасительницы и для женщины вообще — некая первобытная праматерь дикого вида, обитающая в пещере… В более поздних изданиях «Шаньхай цзина» ее образ уже несколько окультурен. Теперь она обитает в горах Юйшань, что на восточных отрогах Памира. Уточнение места ее обитания не случайно, поскольку здесь теперь пролегла дорога из Китая на запад.
Предположительно, ранний «дикий» облик Сиванму соотносится с каким-то древним некитайским племенем, обитавшим на запад от основного очага китайской культуры. Речь может идти не о «западе», что встречается в имени Сиванму (иероглиф «см»), а о народе
си — скифах, которые жили в Северном Причерноморье. Точно так же в «Эръя» (часть «Канона поэзии») образ Сиванму ассоциируется с какими-то отдаленными пространствами на западе, где жили народы, говорящие на иранских языках, в том числе и некие сэ, предположительно сака, говорящие на персидском.
Считается, что
сэ происходили из окрестностей гор Цилянь, что в нынешней провинции Ганьсу, а затем постепенно переместились западнее, окончательно утратив всякую связь собственно с легендой о Сиванму. Существует еще один указатель на возможное родство
сэ с Сиванму. Как считалось, именно
сэ были как-то связаны с древним Вавилоном и впервые принесли архитектуру знаменитых висячих садов Вавилона. А по китайским преданиям, на высших отрогах Куньлуня, где обитала Сиванму, существовали именно висячие сады.
Вместе с этим горная гряда Куньлунь лежит действительно к западу от Китая, прилегая к хребтам Памира и Каракорума. Сами горы Куньлунь невысоки, со стороны Тибетского плато, то есть со стороны наиболее близкой к Китаю, их высота составляет не более 1500 метров, но в легендах они предстают в качестве высочайших вершин. Однако здесь реальная физическая высота не столь важна, горы Куньлунь являют собой в контексте всех этих легенд метаобраз «мировой оси», соединяющей небо и землю. И вдоль этой оси осуществляется связь мира людей и мира духов.
Сегодня трудно определить, кто в древности обитал на склонах Куньлуня, предположительно, на восточных склонах это были тибетские племена, на северных склонах можно встретить уйгуров, а на западных — таджиков и киргизов. Очевидно, что китайцы могли встречаться именно с тибетскими племенами, которые действительно могли представать в «диком» виде в их одеждах из шкур. Характерно, что именно в Тибете была широко распространена культура масочных танцев, переодевание в шкуры животных, прикрепление хвостов к пояснице. Эти традиции можно до сих пор встретить у многих народов этого региона. Не являлась ли Сиванму, равно как и многие другие боги в масках и с рогами, результатом контактов ханьцев с тибетскими племенами?
По другим предположениям, китайская богиня Сиванму была не кем иным, как одной из правительниц царства Куши из Мерое, где найдены захоронения по крайней мере пяти правительниц, царствовавших в период от III в. до н. э. до I в. н. э.
36
Как видим, на «пришлый» характер Сиванму указывает очень много факторов. Тем не менее, сегодня трудно в точности определить, насколько Сиванму действительно была связана с некитайскими народами, жившими на Западе.
Так или иначе, странный дикий облик Сиванму может объясняться, по крайней мере, двумя причинами. Первая — речь действительно идет о представителях какого-то отдаленного народа, воспринимавшегося, с одной стороны, как пример абсолютной дикости, но, с другой стороны, обожествляемого в силу своего отдаленного или горного расположения. Более вероятно другое. В облике Сиванму очевидным образом перед нами предстает женщина-шаман, причем именно женский шаманизм и медиумизм был широко распространен в Китае. Прежде всего, на это указывает то явление, которое Элиас Канетти метко назвал «неполным перевоплощением», описывая жизнь аборигенов, представляющих себя наполовину охотником и наполовину зверем, за которым охотится этот абориген
37. В частности, он одновременно чувствует себя и охотником с луком и стрелами, и тем оленем, который стремится скрыться от этого охотника, но, в конце концов, все же получает стрелу. И охотник чувствует эту стрелу, будто она входит в тело этого странного человека-оленя. Классическими примерами «неполного перевоплощения» могут являться кентавры или многие египетские божества с телами человека и головой животных, например Гор и Сет. Суть такого перевоплощения — в пограничном состоянии самого шамана, вынужденного принадлежать к двум мирам одновременно и при этом не быть пленником ни одного из них. Сиванму, полуженщина-полузверь, является представителем той же категории архаических шаманов и медиумов, живущих в нескольких мирах параллельно. Вот характерное описание Сиванму из «Канона гор и морей»: «Сиванму похожа на человека, но с хвостом барса, клыками, как у тигра, любит свистеть»
38.
Самое примечательное в облике Сиванму — именно хвост. Сегодня стали широко известны рисунки на китайской неолитической керамике, изображающие танец неких «хвостатых» людей — типичный шаманский групповой танец в фартуках с прикрепленными хвостами и нередко с рогами на голове. По описаниям, у
Сиванму был подобный головной убор с зубами тигра.
39
Здесь становится ясен и смысл упоминания о неком «свисте» Сиванму — пронзительных звуках, которые она может издавать. Свист, завывания, крики на очень высокой или, наоборот, очень низкой ноте нередко встречаются в шаманской и медиумной практике для введения себя и окружающих в состояние транса и ритуального экстаза. Позже этот ритуальный звуковой ряд превращается в монотонное пение с многократным повторением одной и той же фразы, часто используемое во время даосских и буддийских медитаций, однако ставящее своей целью не столько молитвы, сколько отключение сознания от внешнего мира и достижение прорыва в иную реальность.
С «неполным перевоплощением», переодеванием в шкуры животных, прикреплением рогов на голову, особым пением и ритуальными танцами нам уже доводилось сталкиваться при описании образа таоте — полушамана-полудуха. По сути Сиванму, а также еще ряд женских божеств продолжают этот ряд переходных типажей, где за образами неких потусторонних существ в реальности скрываются медиумы и шаманы древности.
Поскольку именно женщины, как уже говорилось, чаще всего и обслуживали сферу священного в архаическом Китае, то и божества носили женский облик. И хотя рассказы о них с течением времени также оказались окультурены, подобно превращению Сиванму из владычицы мира смерти в богиню милосердия, первоначально они также носили инфернальный характер. Часть из них соотносилась со сторонами света или с некими природными явлениями, равно как и шаманы управляли дождями, молниями, засухами. Таковы, например, Юньму — «Мать облаков», Дунму — «Матушка Востока».
Другие же, равно как и Сиванму, носят характер «неоконченного перевоплощения», также указывающего на промежуточный характер этих существ, одной стороной находящихся в мире людей, другой — либо в мире духов, либо в мире неких природных существ. Так, одна из легендарных прародительниц людей Нюйва выступает в древних преданиях в виде полуженщины-полузмеи.
40
В других же случаях Нюйва может перевоплощаться в птицу Цзинвэй, что очевидным образом указывает на ее посредническую роль между миром живых и миром мертвых.
41
Эпоха за эпохой ее облик окультуривался, с I в. н. э. в Сиванму проявляется все больше и больше «спасительных» черт. Теперь она дарует людям персик как плод бессмертия. До сих пор на многих китайских изображениях встречаются персики в окружении летящих богинь, в том числе и Сиванму. Сиванму становится символом не только долголетия, но и вечности. У Сиванму появляется даже «день рождения» — особый праздник, отмечаемый в третий день третьего месяца по лунному календарю.
…???…
Илл.112. Богиня Сиванму и ее служанки в Западном раю. Роспись на стене буддийского храма появляется даже «день рождения» — особый праздник, отмечаемый в третий день третьего месяца по лунному календарю.
Ее облик трансформируется вместе с трансформацией представлений о бессмертии, святости, взаимоотношений с духами. Ощущение священного теперь теряет характер личностного прорыва в некое ино-пространство, а становится частью ритуальной жизни — окультуренной и нередко предельно эстетизированной на китайский манер. Во многих поздних текстах Сиванму представляется небесной красавицей, своеобразной феей, а в народных рассказах иногда помогает влюбленным, как, например, в популярном народном предании помогла соединиться Ткачихе и Пастуху, разделенным «Небесной рекой» — Млечным Путем.
Но и здесь проступают глухие отголоски древних культов смерти и регулярного возвращения душ умерших. Так, Сиванму на помощь влюбленным Ткачихе и Пастуху посылает птиц (по разным версиям, это либо сороки, либо вороны), которые строят мост через «Небесную реку», и отныне Ткачиха и Пастух могут раз в год встречаться. Здесь фигурируют известные символы культа мертвых, о сути которых в Китае будет рассказано чуть ниже. Прежде всего, птицы, и в особенности вороны, в архаической традиции выступают как посредники между царством живых и царством мертвых, прокладывающие путь душе усопшего. Образ реки и нередко именно «небесной реки» — это всегда указатель на границу, безвозвратно разделяющую мир живых и мир мертвых, и здесь достаточно упомянуть Реку забвения Лету, которая не только разделяет два мира, но и отсекает воспоминания о земном существовании. Ежегодная встреча Пастуха с Ткачихой соответствует ритуалам регулярного возвращения душ усопших на землю, сопровождаемым праздниками и молениями. Несложно заметить, что даже в «окультуренном» образе Сиванму по-прежнему выступает как божество смерти и одновременно преодоления этой смерти.
Мотив мистического преодоления смерти, также связанный с шаманизмом, проступает в преданиях о том, что Сиванму обладает отваром бессмертия, который может даровать людям. Вообще, горы Куньлунь, где обитала Сиванму и многие другие чудесные создания, во многих рассказах выступают тем местом, где цветут плоды бессмертия, например персики. По одному из преданий, Царь обезьян Сунь Укун как-то выкрал персик бессмертия у Сиванму, устроив страшный переполох на небесах.
Почему именно персик в руках Сиванму служил «плодом долголетия и бессмертия»? Самое простое предположение, которое напрашивается само собой, заключается в том, что отвары и вытяжки из персиков входили в состав многих даосских рецептов для продления жизни, а сегодня даже стали ингредиентом многих китайских лекарств для омоложения.
…???…
Илл. 113. Чжан Чжун (XVII в.). Восемь бессмертных в кущах у Сиванму
Однако думается, что это явление все же вторичное, возникшее уже после того, как персик стал считаться плодом долголетия. Скорее всего, под персиком подразумевался не столько плод, сколько особая пилюля, сделанная из различных трав и галлюциногенов, которые принимали ранние шаманы и медиумы для путешествия в загробные миры. Мы еще будем говорить о том, что само путешествие в загробный мир и возвращение оттуда имплицитно предполагает бессмертие того, кто совершил этот путь. Поэтому средство для вхождения в транс, священный «персик», и стало считаться плодом долголетия. Примечательно, что, по многим легендам, Сиванму преподносит не персик, а либо священный камушек, либо некую пилюльку, причем в разных версиях персик и камень оказываются взаимозаменяемыми.
Так, предания гласят, что Сиванму иногда посещала императоров — обычно это случалось в 7-й день седьмой луны, и этот день считается женским днем в Китае. Как гласит известная даосская легенда, однажды Сиванму явилась перед правителем династии Хань У-ди (141–187 гг. до н. э.), прославившимся своими добродетелями и большой благодатью-дэ, и дала ему чудесный персик или, по другим версиям, камушек. У-ди озаботился тем, чтобы запрятать и закопать священный камушек, однако Сиванму сказала, что земля не способна его принять и в любом случае он дает плоды лишь раз в три тысячи лет. Примечательно, что Сиванму в легенде ссылается на то, что камень-персик привезен из дальних стран или с гор Куньлунь и не сможет жить на местной почве.
Через много столетий первому императору династии Мин Хунь-у (1368–1398) преподнесли в подарок странный камень, обнаруженный еще при предыдущей монгольской династии Юань.
Каково же было его изумление, когда из десяти иероглифов, что были выбиты на камне, император узнал, что это — тот самый камень, что был дан императору У-ди самой Сиванму.
Скорее всего, Сиванму есть отголосок старого культа женщин-медиумов, игравших большую роль в жизни древнего общества. Они же обычно во время ритуалов переодевались в маски и одежды из шкур животных — этим объясняется, в частности, странный «дикий» облик Сиванму, а для вхождения в транс и бесед с духами использовали различные галлюциногены и отвары, что трансформировалось в предание о чудесном камешке-персике.
Эту же версию, как кажется, подтверждают и некоторые даосские и народные предания, повествующие о некоторых праздниках, связанных с этой 13 богиней. Предания утверждают, что день рождения Сиванму регулярно празднуется восьмью даосскими бессмертными небожителями (
ба сянь), в честь чего устраивается огромное пиршество с редкими блюдами, например, медвежьими лапами, обезьяньими губами и даже печенью дракона. Наконец, в самом конце торжества подносятся плоды долголетия — персики. Поэтому пиршества в реальности собираются не каждый год, а раз в три тысячи лет, когда плодоносит персиковое дерево бессмертия. Как мы показали выше, те, кого в традиции называли бессмертными небожителями (
сянь), изначально, вероятно, являлись особой категорией посвященных магов, обитающих высоко в горах.
Пиршества, устраиваемые в честь Сиванму, представляли собой ритуальные подношения ее духу и акт традиционного разделения пищи между духами и людьми, обычно выполняемый особой категорией лиминальных (т. е. переходных) персонажей, находящихся на границе между мирами, каковыми и были маги-сямм. Вкушение неких «плодов бессмертия» с очевидностью представляет собой употребление наркотических и галлюциногенных средств, широко применяемых в ранней китайской культуры для общения с духовным миром.
Достижение бессмертия здесь становится равным возвращению к своим предкам. Китаец не верил, да и не мог представить бога как единую всеуправляющую силу. Он верил в бессмертие, в способность воплотиться в облике бессмертного небожителя (
сянь). Идея бессмертия в Китае целиком заняла место бога или любого центрального духа. Она была практичной — именно в этом аспекте она отличалась от абстрактного божественного бытия или «пребывания в боге».
Бессмертие оказывалось галлюцинацией и одновременно прорывом в некое иное пространство, где уже не существует ни ощущения жизни, ни страха смерти. Образы Сиванму и бессмертных-сянем, мотивы эликсира долголетия, плодов бессмертия и чудесной пилюли, стремление к абсолютному здоровью через занятия медитационно-дыхательными упражнениями, — все это абсолютным образом растворяло материальный мир в потоке грез и видений, позволяя соприкоснуться с миром духов. Прекращение зависимости человека от своего тела и от мира вообще — не есть ли это бессмертие?
«Сокрытие себя»: знак тайного посвящения
Стремление к обретению бессмертия, связанное с шаманскими культами и практиками странствия в мире мертвых, создало особую культуру, где все истинное и ценное оказывается сокрытым, потаенным, отделенным от обычной жизни. На мотиве сокрытости, равной сакральности, нашедшей свое выражение в китайском термине
стань («темный, потаенный, священный»), была построена вся ранняя культура достижения истинного знания. Она не ограничивалась лишь какими-то строго определенными мистическими школами, как было, например, в древней Греции, но представляла собой общий настрой сознания, характерный для определенного среза древнего общества. И это общество стремилось не столько проявить, сколько закрыть, зашифровать свое знание, перевести свое представление о мире в некую противофазу, где самое важное — одновременно и самое недоступное, где самое великое есть одновременно и ничтожно-незаметное, ускользающее от непосвященных.
И здесь еще одним проявлением превалирования мотива «сокрытия» или начала инь в мистической культуре стало учение о неком «противоразвитии» мира, которое нашло свое воплощение в даосизме.
Дао — путь невидимый, непостижимый и абсолютно противоположный обычному порядку вещей. Он выступает как абсолютное инь по отношению к внешнему, упорядоченному миру ян: «Обращение вспять — это движение Дао. Ослабление — это использование Дао» («Дао дэ цзин», § 40).
Мир в этой традиции перевернут, здесь все наоборот, все противоречит обыденной логике вещей. Здесь даже «гора находится ниже поверхности земли», как сказано в «Каноне перемен», в комментарии к гексаграмме 15, как будто бы взгляд на наш мир дан из мира противоположного, потустороннего, зеркального.
В связи с этим следование мистическому пути-Дао всегда ассоциировалось с какой-то утратой, потерей, уходом от внешнего мира и обыденного порядка вещей. «Следуя учению, день ото дня обретают. Следуя Дао, день ото дня теряют», — говорит «Дао дэ цзин» (§ 48). Даосы также говорили о «самоутрате», «самозабытьи» (вам во) как о полном, окончательном растворении своего «Я».
Все эти рассуждения отнюдь не были какими-то абстрактными философскими спекуляциями. Скорее всего, они соотносились со сложными ритуалами мистического посвящения, которые проходили в мистических школах. Хорошо известно, что всякий ритуал инициации, ритуал перехода из одного состояния в другое всегда связан с концепцией «смерти» себя прежнего и нового рождения в неком «истинном» виде. Старый человек исчезает, «утрачивается», он должен забыть о своих прежних привычках, желаниях и привязанностях. В большинстве ритуалов посвящения как знак нового рождения присваивается и новое имя — отголоски этого можно встретить в именах, которые даются инициируемому послушнику или монаху. В китайском буддизме они именуются фахао — «дхармическое имя» или «имя закона». Это означает, что человек, получая новое, «истинное» имя, теперь находится под покровительством новых духов, вхож в круг посвященных, объединенных единой тайной. До сих пор во всех китайских буддийских и частично даосских монастырях фахао присваиваются не только монахам, людям, которые решили уйти в монастырь, но и послушникам (часто в современном мире между ними нет очевидной разницы).
Таким образом, мотив «самоутраты» и нового рождения связан с ритуалом инициации, который в древности носил характер куда более серьезный и «всамоделишный», нежели современные буддийские и даосские посвящения, нередко просто имитирующие древние мистерии. Для человека это должно было стать обращением к абсолютному началу инь — темному, потаенному, сокровенному, связанному с оставлением того мира и того образа жизни, к которому он привык. Не случайно посвящение могло быть связано с реальным или символическим оставлением семьи и уходом из мира (
чу цзя).
«Обращение вспять» в конечном счете приводит как бы к обратному развитию человека — не случайно все известные китайские мистики уподобляют себя ребенку. К тому же сам иероглиф цзы в именах известных наставников — Кун-цзы, Мэн-цзы, Лао-цзы — в равной степени может обозначать как «мудрец», так и «ребенок», причем именно значение «ребенок», «младенец» является изначальным смыслом этого иероглифа, а значит, все эти люди воспринимались как вернувшиеся в состояние собственного рождения.
Чтобы понять исток мотива ребенка, нам следует вспомнить суть ряда шаманских культов.
Большинство культов связано с тем или иным видом инициации, которая заключается в скачкообразной смене статуса человека, например превращении юноши в мужчину, вступлении в мистическую школу, то-есть переходе из разряда непосвященных в посвященные и т. д.
42
Они живут в видениях, и Лао-цзы говорит о себе: «Лишь я один безразличен и не подаю знаков, будто младенец, который еще не научился улыбаться», в то время как все другие люди «радостны, будто захвачены праздником императорского угощения или прогулкой по весенним террасам» (§ 20). Здесь мудрец-ребенок выступает как абсолютно сокрытый, предрожденный типаж, как абсолютное инь, противопоставляя себя явному ликованию других людей, утверждающих своей радостью начало ян.
Есть здесь еще один мотив, который очевидным образом проявляется в подобных текстах, — мотив радости или ликования. Собственно, мотив радости или смеха в мифологии всегда ассоциируется с жизнью, и таким образом в древних мистериальных культах присутствует мотив абсолютной смерти, полного и окончательного инь.
Угасание и абсолютная смерть, предшествующие истинному рождению, переплетаются в китайской оккультной традиции с ритуалами мира мертвых. В конечном счете оказывается, что идеальное состояние мудреца и мага — быть мертвым или предрожденным, что в данном случае одно и тоже.
Покажем, как это понималось самими носителями мистического знания. Высшей стадией озарения посвященного-мудреца является состояние
шэнь. Обычно его переводят как «чудесный», «волшебный», «духовный». Но этим же словом обозначается и душа человека, точнее, та ее часть, которая остается после смерти, пребывает на Небе (по другим представлениям — в горах) и к которой обращаются во время молитв предкам. Строго говоря, молитвы возносятся не столько предкам, сколько их шэнь. Для китайской традиции понятие
шэнь наполнено вполне конкретным смыслом — это пребывание в высшем надбытийном пространстве. По сути, на определенном этапе совершенствования мудрец обретает свойства духа шэнь, пребывая при этом в своем физическом теле. Для него исчезает граница между мирами, состояниями, между духовным и физическим, жизнью и смертью.
В даосской психопрактике считалось высшим достижением (да чэн) пробуждение и управление собственным шэнь. Управление собственной бессмертной душой при жизни человека доступно лишь мудрецам и посвященным, более того, то, что традиция подразумевала под «мудростью», есть необходимый этап на пути к управлению шэнь. Шэнь в данном случае превращается в непостижимую часть трансцендентной мудрости, равной бессмертной душе человека.
Точно так же понимает его и мудрец Мэн-цзы: «Переполняющее и ослепляющее нас зовем великим. То великое, что изменяет нас, зовем мудростью. То мудрое, что не можем познать, зовем чудесно-одухотворенным»
43.
Если рассматривать китайскую мистическую традицию именно в контексте стремления к перерождению, самотрансформации для пестования собственного шэнь, то можно сделать заключение, что путь посвященных заключался в стремлении реализовать состояние мертвого на земле.
Например, даосы стремились «избавиться от трупа» или «потерять тело», то есть избавиться от оков своей физической оболочки, дабы она не мешала чистым трансформациям духа-шзнь. Да и само состояния достижение бессмертия описывалось как отбрасывание своего физического тела.
Мудрец — посредник и представитель духов, более того, он уже «мертвый», как считаются «мертвыми», например, африканские шаманы во время ритуалов, как «мертв» посредник, исполняющий роль «трупа» умершего родственника. Вследствие своей «мертвости» мудрецы и отличаются парадоксальным образом от остальных людей, как мир живых отличается от мира усопших. Здесь становятся понятными, например, характеристики мудреца, даваемые в «Дао дэ цзин»: «
Лишь я один безразличен и не подаю знаков, будто младенец, который еще не научился улыбаться» (§ 20).
Как видим, обращение в ребенка, в зародыш, «который еще не научился улыбаться», восходит к древнейшим образам инициации, которые в большинстве случаев трактуются внутри самой традиции как абсолютное перерождение, рождение в истинном виде. Человек вновь превращается в младенца, уходит в семя, а затем рождается вновь. Есть в исторических преданиях некоторые намеки на то, что ряд великих китайских учителей проходил подобного рода посвящения и «перерождался в истинном виде». Одна из таких историй рассказывает, что легендарный основатель даосизма и составитель трактата «Дао дэ цзин» Лао-цзы родился от матери, чье фамильное имя было Ли. В буквальном переводе этот иероглиф означает «слива» и восходит к тотемным символам древнего Китая, в частности в даосской и народной традиции широко почитались духи сливы (обычно в женском обличье) как божества, способные даровать бессмертие. Родившись, он вновь вошел в утробу своей матери и еще раз появился на свет, когда был уже глубоким старцем.
От этого, как считается, он и получил имя Лао-цзы — «Старый мудрец» (по ряду предположений, Лао все же было его фамилией, а не прозвищем)
44.
Даосизм наполнен этими мотивами апокалипсического обновления — но не мира, а самого человека. Он не ожидает, что «будет новая Земля, и новое Небо», как ожидали и евангелисты, — магическую культуру интересует не состояние мира, но, скорее, состояния самого человека в этом мире.
Мотив младенца как знака нерасчлененного, целостного сознания встречается в культурах, ушедших далеко от чисто архаического способа осмысления мира. В Новом завете обретение состояния ребенка является одним из залогов вхождения в Царствие Небесное: «
Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3).
45
На всех этих примерах хорошо видно, что начало инь, а точнее, тот комплекс представлений, которые ему соответствовали, было связано именно с характером мистериальных культов, а следование всему тому, что было связано с инь, являлось знаком приобщенности к кругу посвященных. Заметим, что далеко не обязательно, чтобы все эти посвященные были «великими учителями» (даши), «наставниками закона» (
фаши) или «мужами Дао» (
даоши). Так обычно именовались монахи, в то время как даже в современном Китае в тайных обществах могут проходить посвящение практически все жители деревни.
 Илл. 114. Даосское божество, которое охраняет души, странствующие в загробном мире. XVIII–XIX вв. Провинция Хэнань
Илл. 114. Даосское божество, которое охраняет души, странствующие в загробном мире. XVIII–XIX вв. Провинция Хэнань
Другим аргументом инь выступает в мистических культах пустота (кун) или опустошенность (
сюй), которая, в частности, в ранних культах и в даосизме ценилась значительно выше, чем что-то наполненное и проявленное.
В трактате «Чжуан-цзы» и других даосских произведениях речь идет о неком «изначальном коме», в котором пребывали все вещи нерасчлененными, непроявленными и нерожденными. А следовательно, и не начавшими путь к своему умиранию.
Еще одним началом, связанным с традицией «сокрытости» и инь, стало энергетическое начало-Ээ. Дэ чаще всего трактуется как проявление Дао в этом мире. Поскольку само Дао не видно и дано лишь как состояние предрож-дения, то Ээ выступает как его энергетическо-магическое проявление. Обычно этот термин принято переводить как «благодать» или «добродетель», хотя ни тот, ни другой термины не передают целиком того содержания, которое приписывалось ему в китайской культуре.
Именно обладание благодатью или энергией-Ээ отличает посвященного и мудреца от обычного человека. Человек же, который сполна сумел получить дэ, может стать правителем, о чем мы скажем ниже.
Конфуцианцы как представители светской культуры понимали дэ именно как набор морально-этических качеств, а в отношении правителя — как способность поддерживать связь с Небом и осенять своей благодатью всех подданных. В мистической традиции
дэ парадоксальным образом оставалось все время непроявленным, скрытым и глубоко запрятанным.
В мистических учениях благодать-
Ээ никогда не очевидна и дана как особая энергия посвященным мудрецам. Это очень важная черта истинного дэ — она всегда сокрыта и, по-видимому, доступна лишь посвященным, откуда и возникает постоянный мотив тайности вокруг
Ээ. О ней говорится как о «темной», «потаенной» или «сокровенной» (
сюань), причем обычно термин
стань в древности связывался с какими-то тайными культами. Все, что связано с получением энергии-
Ээ, — какое-то «кажущееся», очевидно непроявленное, ускользающее: «
Всеохватная Благодать кажется недостаточной. Подлинная Благодать кажется сокрытой» (§ 41). «
О, сколь глубока, сколь отдалена сокровенная Благодать! Сколь противоположна она вещам! Но лишь то, что идет за ней, и есть Великое Следование» (§ 65).
Именно с получением благодати-Ээ связывается и обращение в состояние ребенка, о котором мы говорили выше и которое, говоря современным языком, является инициацией в тайное учение. Лао-цзы говорит именно об этом: «
Постигший глубину дэ уподобляется новорожденному» (§ 55).
Посвященные, то есть «обладающие Ээ» или «люди высшего Ээ», вероятно, не имели права открыто показывать свои знания и умения, более того, именно закрытость их жизни, отшельничество или отказ говорить на «сокровенные» темы становились знаком приобщения к особой категории людей. Это хорошо видно на примере Конфуция, который избегал говорить о чудесах и духах, — эту особенность его проповеди мы еще обсудим ниже. «Дао дэ цзин» также подчеркивает особенность образа жизни этих людей: «Человек высшей Благодати не проявляет свое Ээ, и потому он действительно обладает
Ээ». Человек же низкого
Ээ стремится не отклониться от Ээ, и потому в действительности он не обладает
Ээ». Прежде всего, здесь очевидно проявляется «энергетический» характер этой благодати: «высокое
Ээ» или «низкое
Эз».
Сокрытость и самосбережение характеризуют древних мистиков. Поскольку в Китае все духовное было сведено либо к материальному, либо к энергетическому (квазиматериальному), то и самосбережение понималось как сохранение или максимальная концентрация внутренней энергии.
Для каждого из энергетических начал существует своя «обитель», причем это не просто место, где пребывает, например, внутренняя энергия ци, но абсолютное уподобление квазиматериального начала некому материальному объекту. Так, ци Первонебесного (то есть то, которое существовало еще до возникновения Неба и материального мира) сосредотачивается в голове, в то время как воля (и) и чувства пребывают в сердце, а интуитивное начало — в нижней части живота, причем оно может рассеиваться, когда человек слишком увлечен своей славой, известностью, благосостоянием и желаниями.
Таким образом, чистота сознания и способность отстраниться от всепоглощающих чувств и желаний является залогом того, что духи внутри человека пребывают «в здравии» и не вредят человеку. Об этом, в частности, говорится во многих пассажах «Дао дэ цзина»: «
Похваляться богатством и знатностью — значит накликать на себя беду. Добившись успеха, тотчас отступай — в этом путь Неба» (§ 9). Если первая фраза, на первый взгляд, несет просто «воспитательное» значение, то вторая фраза показывает, что речь все же идет об особом мистическом состоянии, равном «пути Неба», — ускользании от славы и успеха. Даосский трактат «Вэнь-цзы» также описывает состояние истинного мага как постоянное «избегание» собственного успеха: «Обращая свой взор к малому и сберегая податливость в себе, [он] отступает и ничем не обладает. Он уподобляется рекам и морям — ведь реки и моря пребывают в недеянии и благодаря этому достигают славы и преображают сами себя»
46.
Отступление, ускользание, отсутствие даже малейшей попытки воспользоваться своим успехом или даже магическим мастерством являются отнюдь не проявлением скромности, обычно не знакомой китайской традиции, а особым методом «самосбережения», сохранения своей духовно-энергетической сущности. Эту концепцию проповедовали отнюдь не только даосы — во всей полноте она проявилась именно в конфуцианском учении, уделявшем немало внимания качествам «благородного мужа» цзюныры, в частности его скромности и непроявлению себя.
Древние труды буквально испещрены историями о том, как мудрецы отказывались от должностей, которые предлагали им правители царств. Именно так поступил Чжуан-цзы, сравнив себя с черепахой, что предпочитает «волочить хвост по грязи, нежели быть чучелом во дворце правителя». Неоднократно покидал свой пост Мэн-цзы, Конфуций также удалился от государственных дел. Широко известно и предание о Лао-цзы, который покинул пост придворного хранителя архивов в царстве Чжоу и отправился куда-то на запад. Сыма Цянь даже в своем кратком описании характеризует Лао-цзы как человека, чье «учение заключалось в том, чтобы придерживаться самосокрытия и пребывать в безвестности»
47 — классический образ мага, который, живя в мире, ускользает от него, сберегая свое энергетическое тело.
Мистичесиий полет и «самоутрата»
Когда мне пришлось обучаться в одном из даосских монастырей в провинции Хэнань, мой наставник, пожилой и жизнерадостный монах, неизменно повторял: «Самое главное — научиться сначала правильно очищать сознание, потом воспарять высоко над своим телом, туда, где нет ни тебя, ни кого-то другого. А затем — потеряй себя!».
В этом наставлении — один из ключевых секретов мистического даосизма. Современные даосские посвященные, равно как и иногие даосские произведения изобилуют пассажами, говорящими о «самозабытьи», состоянии «не-я», «самоутрате». «Чжуан-цзы» и «Чуские строфы» рассказывают о людях, что «летают на облаках», «воспаряют ввысь с драконами», «погружаясь в воду, не намокают», то есть повествуют о поистине чудесных способностях, которые у обычных людей не встречаются. Из-за этой необычности такие пассажи и, как следствие, многие подобные произведения воспринимаются либо как традиционные китайские предания, либо как возвышенная философия, которой «простительно» и позволительно иметь малопонятные и несколько отстраненные рассуждения.
Попробуем посмотреть на это несколько с другой стороны. Прежде всего, предположим, что перед нами произведения не философского и даже не духовно-воспитательного характера. Они не несут в себе никакой традиции глубокомысленных рассуждений и отстраненно-догматических построений, но передают исключительно опыт медиумного общения с духами и переживания после транса.
В них восприятие неких «подвижных духов» является вполне очевидным, равно как и очевиден контакт человека с этими бессмертными духами. Один из самых архаичных параграфов «Дао дэ цзин» рассказывает: «Дух долины никогда не умирает. И зовется это сокровенной самкой. Врата сокровенной самки зовутся корнем Неба и Земли» (§ 6).
Центральный герой мистических произведений периода Чжоу — мудрец (
шэн жэнъ), которого принято рассматривать как философа и служивого мужа, пекущегося о благе государства.
Действительно, такие черты присущи ему в некоторых пассажах, однако в наиболее архаичных кусках встречается совсем иное описание «мудреца». В связи с тем, что говорилось об этих людях выше, посмотрим, как они изображались, в частности, в «Дао дэ цзин». Прежде всего, мудрец знает о Дао «из него же самого». Фраза эта, очень темная при первом прочтении, многократно повторяется в трактате в нескольких вариантах. Думается, суть ее в том, что маг постигает магическое знание непосредственно, то есть «
из него же самого», поэтому он «учится не обучаясь» (§ 64). Таким образом, всякое знание достигается исключительно из слияния с вещью, проникновения в ее суть.
С этим же связаны и рассуждения о том, что мудрец как бы порождает весь мир заново, дает ему второе рождение — «порождает [все вещи], но не правит ими» (§ 2). И даже управляет духами (§ 60).
Мудрецу-магу также присущ целый ряд запредельных способностей, например «осязать то, что не имеет запаха», «действовать, ничего не делая» (§ 63). В «Чжуан-цзы» некий Ван Ни говорит об особых способностях «совершенного человека»: «Даже если замерзнут великие реки, ему не будет холодно. Даже если молнии расколют великие горы, а ураганы поднимут на море волны до самого неба, он не поддастся страху. Такой человек странствует с облаками и туманами, ездит на солнце и луне и уносится в своих скитаниях за пределы четырех морей. Ни жизнь, ни смерть в нем ничего не меняют»
48.
Вообще, состояние
увэй, обычно переводимое как «недеяния», является характерной чертой такого человека. Обычно это понимается как действие в соответствии с Дао, то есть отсутствие личного позыва к действию, но лишь отклик, эхо Дао. Это во многом верная, но все же крайне философско-запутаная трактовка. Если обратить внимание на действия центрально-американских шаманов, то там мы без труда встретим практически аналогичный мотив «ничего не делания», «приглашения проявлений жизни», состояния «не-желания» — практически весь тот арсенал состояний и переживаний, которым описывается в даосских трактатах «мудрец». Мудрец в состоянии транса, когда его личностное сознание отключено и он как персона «пребывает в недеянии», оказывается непобедим и совершенен во всем — например, «пребывая в недеянии, не терпит неудач» (§ 64). В момент недеяния на него переходят свойства того духа, который пребывает в нем в этот момент.
Транс мудреца приводит его к переживанию абсолютного единства с миром, и это состояние подробно описывается в специальной литературе, посвященной приему различных галлюциногенов и измененным состояниям сознания. В древних текстах под «единением» (чаще всего в текстах — «сокровенным единением») или «Единым» подразумевается некое состояние и — дословно «один», «единый». Скорее всего, речь идет об абсолютной целостности ощущений, которой достигает любой медитирующий, равно как и объятый экстатическим возбуждением адепт. «Дао дэ цзин» практически точно воспроизводит это переживание единства всего со всем и, более того, характеризует правителей и мудрецов именно как «пребывающих в Едином» (§ 39):
Вот то, что с древности пребывало в Едином:
Небо пребывало в Едином и потому достигало чистоты.
Земля пребывала в Едином и потому достигала покоя.
Духи пребывали в Едином и потому были одухотворенно-подвижны.
Правитель и князья пребывали в Едином и потому были честны с Поднебесной.
Лишь благодаря Единому они достигали этого.
«Дао дэ цзин» содержит целый ряд пассажей, непосредственно представляющих собой медитативные наставления, которые должны привести к погружению человека в транс и обретению «сокровенного единого» или «священного единения». Вчитаемся в следующие строки: Закрой отверстия, запри двери, притупи лезвие, распутай узлы, пригаси свет, уподобься пылинке. Это и зовется сокровенным единением.
Примечательно, что многие современные техники даосской медитации оперируют схожими терминами и состояниями. Например, «закрыть отверстия» и «запереть двери» означает закрыть все свои органы чувств от отвлекающих факторов внешнего мира, более того, в провинциях Хэнань и даосских школах в горах Удан в провинции Сычуань существует даже четкая техника, именуемая «запиранием дверей», которая приводит к абсолютному отвлечению адепта от любых раздражающих и отвлекающих факторов, в том числе звуков, запахов и даже мыслей.
…???…
Илл. 115. Чжуан-цзы
Призыв «пригасить свет» вообще соотносится со многими описаниями и известными состояниями медитативного транса, сопровождаемого либо «гашением красок» и полной темнотой, либо, наоборот, яркой вспышкой, с чем, скорее всего, и связано буквальное значение китайского термина гуанъ — «сияние, которое видят даосы».
Вполне возможно, что здесь под «сокровенным единением» подразумевается вполне конкретная техника, а не какое-то отвлеченно-философское состояние.
Еще более подробно описана техника медитации в § 10 «Дао дэ цзина», где идет речь о дыхательных упражнениях:
Можно ли, соединив душу и плоть, объять Единое и не утратить это?
Можно ли, регулируя ци и становясь податливым, обрести состояние новорожденного?
Можно ли, отполировав сокровенное зеркало, не оставить на нем пятен?
Можно ли, любя народ и правя государством, пребывать в недеянии?
Можно ли, открывая и закрывая Небесные Врата, сохранять состояние самки?
Можно ли, постигнув четыре начала, пребывать вне знания?
Давать жизнь и вскармливать?
Давать жизнь и не обладать этим?
Действуя, не требовать воздаяния?
Взращивая, не править этим?
Это зовется сокровенной Благодатью.
Собственно, единственное, что отличает такого человека-мудреца от других, — то, что некая энергия дэ, обычно переводимая как Благодать, «собрана в нем в избытке» (§ 59). И при этом на него переходят некоторые черты самого Дао, например «он ярок, но не слепит» (§ 58).
Маг, контролирующий мир духов и общающийся с ним, оказывается выше любого правителя.
«
Взошедший на трон правитель и три владетельных князя, хотя и имеют драгоценные кольца и сопровождаются четверкой лошадей, не сравнятся с тем, кто, не сходя с места, снискал дары Дао» (§ 61).
С человеком, который достигает мира духов, так же как и с традиционным шаманом, происходят мистические трансформации и перевоплощения. Вообще, способность изменять свое тело является одной из важнейших характеристик древних магов, а позже и великих даосов. Нередко «великая трансформация» (
да хуа), о которой рассказывают многие даосские произведения, ошибочно представляется лишь аллегорией, однако нам думается, что за этим стоит широко известная техника мистического перевоплощения медиума в некое запредельное существо (например, духа горы) или животное (бабочку) с последующим возвращением в собственное тело.
Думается, именно к этой категории относится знаменитая притча о Чжу-анцзы (
Чжуан Чжоу) и бабочке, ставшая истинной жемчужиной китайской мистической классики:
«Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой — счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она — Чжуан Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я — Чжуан Чжоу. И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он — бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она — Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое превращение вещей!»
49
Здесь очевиден мотив полета и выхода за пределы собственного тела в момент перевоплощения — это известный сюжет практически для всех медитативных и мистических систем, и его наверняка переживали многие, кто хотя бы немного практиковал медитацию. С полетом и перевоплощением связан, например, и легендарный основатель китайской нации Желтый владыка Хуан-ди, который после своей физической смерти, как считается, обрел бессмертие и вознесся на небо вместе с колесницей, наложницами и слугами. Он стал сянем и поселился на горе Куньлунь. «Чжуан-цзы» указывает именно на полет Хуан-ди, после того как он «обрел Дао»: «вознесся в заоблачные дали».
Вообще такое состояние связано с перемещением в какое-то иное пространство. «Чжуан-цзы» рассказывает о целом ряде магов, которые после проникновения в Дао тотчас перемещались в некую мистическую сферу: «Каньпэй обрел его — и поселился на горе Тайшань. Пиньи обрел его — и погрузился в большую реку. Желтый владыка обрел его — и вознесся в заоблачные дали. Чжуаньсюй обрел его — и сделал своей обителью Темный дворец. Юйцянь обрел его — и нашел себе место у северного края земли… Фэюэ обрел его — и стал советником у царя У Дина, владел всей Поднебесной, а после смерти попал на небеса и странствовал вместе со звездами»
50.
Перемещение на горы, под воду, в какие-то труднодоступные места у всех народов традиционно связывается с путешествием шаманов в мир мертвых, так же как и полеты на облаках и странствия в волшебных мирах. Напомним, что «совершенный человек» также характеризуется тем, что «странствует с облаками и туманами, ездит на солнце и луне и уносится в своих скитаниях за пределы четырех морей». Он может «оседлать облака и вознестись к небесному чертогу, подобно сяню».
Полет и вознесение, проникновение в запредельные сферы, как видим, — характерная черта «совершенных людей», мудрецов, бессмертных-сяней. Вознесение на облака вместе с «ветрами, облаками и туманом» описывается в другом произведении, «Чу цы» («Чуские строфы»), содержащем немало пассажей, связанных с практикой медиумов. Примечателен здесь мотив «тумана» (иногда «облаков) — это характерное описание перехода из одного состояния в другое в момент медиативного или экстатического транса. Медиум здесь буквально окутан облаками, в частности в стихотворении «Цзю гэ» из «Чуских строф» говорится: «В моем одеянии из облаков и с полами из радуги, сжав свой лук, я воспаряю в небеса». Вряд ли эту фразу стоит воспринимать исключительно как метафору — речь могла идти о реальном одеянии медиума. Стоит напомнить, что дракон, особенно на изображениях, рисуется в окружении облаков или дымки и вплоть до начала XX в. именно в таком виде присутствовал на императорских одеяниях.
Очень часто «перевозчиком» мага в небесные чертоги являются существа-лун, которые, как мы уже показали, изначально понимались не столько как драконы, сколько как особый тип духов, связанных с посреднической функцией между миром людей и царством мертвых. Более того, образ «дракона, воспаряющего к облакам» напрямую соотносится с медиумом в момент экстатического транса, когда он не столько «седлает» дракона, сколько превращается в существо лун, способное преодолевать мистическую границу между мирами.
Характерен эпизод, рассказывающий о встрече Конфуция и Лао-цзы. Конфуций пришел к Лао-цзы, который тогда служил хранителем архивов в царстве Чжоу, спросить об особенностях ритуала. После наставлений Лао-цзы Конфуций так поведал о встрече своим ученикам: «Я знаю, что птица может летать, рыба может плавать, животное может бегать. [Для того, чтобы поймать] того, кто бегает, расставляют силки, на того, кто плавает, закидывают сети, а для того, кто летает, используют стрелу. Что же до дракона, то я не могу постичь, как он, оседлав ветер и облака, взмывает в небо. Сегодня я видел Лао-цзы — воистину он и есть дракон!»
51
Это не аллегория, не красочное описание Конфуцием своих впечатлений от Лао-цзы. Это непосредственный рассказ о том, как Конфуций беседовал с посвященным магом Лао-цзы, находившимся в тот момент на должности хранителя архива, где содержались документы, описывающие не только исторические подробности жизни царств, но и формы ритуалов. Лао-цзы оказался драконом, то есть воплощением того духа лун, которых в древности представляли медиумы.
Мотив мистического полета, пришедший из практики магов, затем стал излюбленным сюжетом в китайской поэзии и художественном творчестве. Переживания поэта в момент поэтического экстаза и творческого озарения также передаются в китайской традиции в терминах мистического полета и одинокого перемещения в какие-то иные сферы. Здесь само состояние сознания абсолютным образом повторяет состояние медиума с его полетом, размытыми, но явно проступающими образами чего-то Единого и Всеобщего. Блестящий перевод академика В.М. Алексеева стансов Сыкун Ту (837–908) «Поэма о поэте», как представляется, очень точно передает это состояние ощущения утраты собственной телесной оболочки, вознесения в высшие сферы и переживания встречи с запредельным Дао:
В лёте парю
Отдельно, особо…
Готов уходить я…
Высоко и гордо…
Не в стае других!
Имнится: то будто его не ухватишь;
То будто сейчас будет слышно о нем.
Познавший вот это, его уже принял,
А ждать его, значит все дальше отстать.52
 Илл. 116. Ши Кэ. Два наставника в единении сердец. Обращает на себя внимание абсолютная схожесть монаха и тигра
Илл. 116. Ши Кэ. Два наставника в единении сердец. Обращает на себя внимание абсолютная схожесть монаха и тигра
Обращает на себя внимание безличностная форма точки устремлений — его, отсутствие реального объекта постижения в мистических полетах — состояние, часто встречающееся в медитации.
С мистическими перевоплощениями медиума связаны и многие рассуждения о внетелесном опыте, о которых говорится как о состоянии «не-я» (
уво) или «самозабытии» (
ван во). Получение внетелесного опыта является одним из основных мотивов практически всех мистических учений.
С ним же связан и предсмертный или даже посмертный опыт, поскольку он также предполагает отсутствие физического тела, что в Китае нередко называлось «избавлением от трупа» — физической оболочки, которая сдерживает свободные странствия заключенного в ней духа-шэнъ. Принято считать, что именно буддизм принес в Китай мотив «освобождения» от тела, которое создает массу неприятностей и несчастий, заставляет быть погруженным в мир иллюзий и желаний и затрудняет достижение нирваны или сатори. В действительности же буддийская концепция преодоления физической оболочки есть лишь отголосок значительно более ранних культов внетелесного опыта. Это переживание было известно в Китае задолго до прихода сюда буддизма и связано с самыми ранними шаманскими ритуалами выхода за пределы собственного тела, путешествия в царство мертвых, сопровождения души умершего человека через несколько этапов очищения.
В раннем даосизме тело понималось как некая мешающая оболочка. Уже в «Дао дэ цзин» мы встречаем утверждение: «Ценить свое тело — то же самое, что ценить величайшие несчастья…
Причина, по которой я сталкиваюсь с величайшими несчастьями, заключена в том, что я имею тело» (§ 13). Та же мысль звучит и в «Чжуан-цзы»: «
Однажды получив свое тело, мы обладаем им до самой смерти и не можем взять себе другого…Для чего говорить о бессмертии, коли наше тело рано или поздно обратится в прах, а вместе с ним исчезнет и сознание? Вот поистине величайшая из людских печалей»
53.
«Чжуан-цзы» вообще представляет собой сборник опыта медиумов и магов по проникновению в сокровенное пространство, мир духов и мертвых. Отсюда и появляются парадоксальные беседы, например между Тенью и Полутенью, поскольку «мир теней» это всегда мир загробный, а Тень и есть один из духов, представителей этого мира. Полутень же может пониматься как медиум, находящийся в состоянии перевоплощения, опосредующий собой «мир теней» и мир людей.
Древние тексты изобилуют описаниями состояний транса и путешествий в «дальние миры» — на горы Куньлунь, на некие «острова бессмертных», на «край земли», таким образом повторяя опыт мистических переживаний.
«Пробудившие знание»
Первый заметный перелом в осознании сакрального знания, получаемого от духов, происходит в поздний период династии Чжоу (VIII–III вв. до н. э.). Впервые название племени или народа Чжоу появляется на гадательных костях — шанский правитель вопрошает духов, будет ли ему сопутствовать удача, если он пошлет своих вассалов Чжоу против врагов. Очевидно, что в этом случае Чжоу — не только вассал шанцев (мы немного знаем о системе вассальной зависимости древнего Китая), сколько друг и союзник. Впрочем, даже в этом случае следовало поинтересоваться мнением духов о правильности посылки чжоусцев.
Примечательно, что у духов (как видим, в любом случае это были духи предков) ничего не просили, не вымаливали богатство и удачу в управлении страной или сражениях, но лишь спрашивали совета и надеялись на доброе предсказание.
Этот период получил в истории название Борющихся царств или Сражающихся государств (Чжаньго) и продолжался с 475 по 221 г. до н. э. Двумя крупными событиями был отмечен этот период истории. Во-первых, в государстве Ци власть узурпирует род Тянь. Во-вторых, некогда мощное государство Цзинь распадется на три отдельных царства: Хань, Чжао и Вэй, находящиеся в состоянии перманентной борьбы друг с другом.
И все же параллельно с непрекращающимися войнами идет рост экономики и своеобразная модернизация культуры. Экономический рост парадоксальным образом стимулировался именно затяжными войнами — царствам требовались ресурсы для продолжения борьбы. И самое главное — мистические учения постепенно приобретают вид светских политических доктрин, изложенных старым языком, характерным для оккультных школ.
В Китае в VII–V вв. н. э. происходит важнейший переход от архаического образного мышления к пост-архаическим попыткам объяснения оккультно-магической традиции. И именно в тот период складывается особая категория неких ши, которых принято переводить как «служивые мужья», хотя многие из них как раз на службе могли не состоять и в основном были выходцами из обедневших аристократических домов. Когда Китай кипел страстями, заговорами, мужей-шм нередко принимали ко двору в качестве советников, давали им сановные должности (
дайфу), иногда назначали главными советниками (
син), ответственными за управление всем царством. И все же их основная миссия заключалась в поддержании некоего интеллектуального баланса между воинствующей элитой и массой крестьян, оказавшихся заложниками этих войн.
Именно ши облекали мистические идеи в окультуренно-светские одежды, пытались вывести из них основы новой государственной доктрины, способы управления государством. И то, что обычно считается внезапным взлетом китайской философии, выразившимся в существовании знаменитых «ста школ», является на самом деле первым признаком угасания оккультной традиции, перевода ее на язык светской государственной власти. И сделано это было во многом благодаря
ши. Собственно, к
ши принадлежали и Лао-цзы, и Конфуций, и Мэн-цзы и ряд других философов и мудрецов.
Они путешествовали по царствам и провинциям, служили при дворах разных правителей, нередко изгонялись, ссылались или сами оставляли должность. Это не считалось зазорным, поскольку соответствовало каноническому образу человека, который служит не правителю, но лишь через свой пост устанавливает Небесный путь на земле.
Ши, далеко не все из которых были посвящены в тайные знания, активно собирали высказывания различных мистиков, отшельников, составляли списки текстов, нередко разрозненные и перепутанные, придавая им при этом свой порядок. Они же и комментировали их по-своему, давая новое, «окультуренное» звучание. Так, например, сборник тайных наставлений по способам медитации и ритуальных шаманских заклинаний превратился с новыми добавлениями и комментариями в «Дао дэ цзин». Если в изначальном варианте это были записи высказываний мистиков и медиумов разных направлений, собранные, вероятно, одним из ши — Лао-цзы, то в окончательном, «официальном» варианте трактат уже рассказывал о способах правильного правления, а сам мистический «мудрец» теперь напрямую ассоциировался с правителем.
Первыми носителями магического учения китайские мудрецы эпохи Чжоу называли полулегендарных первоправителей Яо и Шунь, причем то знание, которое они передали, понималось и как некая сакральная благодать (дэ), и как вполне конкретный набор информации, передаваемый из поколения в поколение. Все великие правители Китая, которых столь высоко ценил, например, Конфуций, были, по существу, не столько правителями, сколько магическими лидерами, посвященными, носителями этого тайного учения. Среди них традиция называет Юя, основателя династии Шан Чэнь Тана (XVII в. до н. э.), его главного советника Иъиня, первого правителя династии Чжоу Вэнь-вана (XI в. до н. э.).
Примечательно, что людей этих иногда именовали «те, кто пробудил знания» (чжи цзюэ). Знание для древних мистиков являлось чем-то имплицитно присущим неким особо одаренным людям.
Вопрос заключается лишь в том, чтобы пробудить эти знания, быть охваченным внутренним озарением. Мэн-цзы именно так характеризует великих правителей древности Яо и Шуня, говоря: «
Небо породило народ, поставив впереди него тех людей, которые пробудили знания перед тем, кто просто обладает знаниями, для того чтобы пробужденные, пробудившись, пробудили других» (9.7).
Весьма показателен монолог, вложенный Мэн-цзы в уста древнего мудреца Иъиня, который скромно работал на полях, а затем за свою мудрость был приглашен правителем Чэнь Таном стать его советником: «
Я — один из тех людей Неба, которые пробудились первыми. И я должен через этот путь-Дао пробудить этих людей. Кому как не мне — пробужденному — сделать это?»
Уже потом мотив «пробуждения знания» станет основным в воспитании просветленных буддистов и даосов. Даосы изначально говорили об озарении (
у) как о пробуждении, а буддисты уже с VI–VII вв. стали активно использовать выражение «пробудить Будду внутри себя». Как видим, истинное знание воспринимается как некое великое ощущение, вспышка в сознании. Это несколько отличается от концепции Конфуция, для которого знание — это в основном результат воспитания. Именно поэтому Конфуций выступает по отношению ко всей китайской традиции как великий рационализатор и одновременно демистификатор магической традиции.
Знание есть именно магическое знание, особое умение общаться с духами. И в этом плане для многих из этих людей знание — это всегда знание сокрытое, непроявленное. Его можно использовать, но ни в коем случае нельзя выносить на публику, как в случае любого тайного знания. Лао-цзы, вероятно цитируя какие-то древние изречения и приводя на них свои комментарии, замечает: «Издревле совершенные в следовании Дао не просвещали народ, но оставляли его невежественным. Причина того, что народом трудно управлять, заключена в избытке у него знаний. Потому управление государством с помощью знания будет разрушительно для государства. Отказ от управления государством с помощью знания будет благотворен для государства».
Если не знать подоплеку самой концепции «отказа от знания», это и многие другие высказывания могут показаться весьма темными или крайней отвлеченными рассуждениями. Нередко это понималось учеными как отрицание всякого «информационного», начетнического знания даосами, хотя непосредственно на такую трактовку в древности ничто не указывает. Нам же представляется, что за этим стояла попытка удержать посвященных от передачи своих знаний на светский, открытый уровень. Именно поэтому посвященный мудрец стремится к тому, чтобы люди «были не затронуты знаниями» (§ 4), что позволяет без труда управлять ими.
Нередко концепция знания в Китае, его исток в научной литературе трактуются вполне рационалистическом образом. Знание — это то, что достигается посредством обучения (
сюэ), воспитания (
ян). Обычно на подобную трактовку накладывает отпечаток традиция западного философского знания, в том числе античной философии, которое действительно рационально и противостоит архаическому мистицизму.
Однако далеко не все так очевидно рационально у ранних конфуцианцев, которые считались носителями или, во всяком случае, «трактовщиками» этого знания. У Мэн-цзы знание и учение ассоциируются с постижением чего-то «глубочайшего» (гиэнъ), учение приводит к «достижению истока этого и слева, и справа» (8.14).
Некоторые посвященные мудрецы вели отшельническую или бродячую жизнь. Они обладали удивительными знаниями и учениями, связанными с духообщением, психопрактикой, знахарством и даже воинскими искусствами. Нередко на них наталкивались случайно. В историю вошел случай со знаменитым отшельником и знатоком воинского искусства Тайгун Ваном (XII в. до н. э.). Он жил в уединении и занимался рыбной ловлей. Однажды знаменитый Вэнь-ван, основатель династии Чжоу, объезжая свои владения, заприметил старика на берегу реки Вэйшуй и пустился с ним в беседу. Он был настолько поражен мудростью безвестного старца, что воскликнул: «О, Великий! Давно надеялся встретиться с тобой!» Собственно, из этих слов «великий дед» (
тай-гун) и «надеяться» (
ван) и сложилось имя этого мудреца. Тайгун Ван был приглашен во дворец, Вэнь-ван возвел его в должность личного наставника. А У-ван, сын Вэнь-вана, правитель, покоривший иньского лидера Чжоу Синя, поклонялся ему как своему отцу.
Те, кого мы здесь именуем посвященными (в более поздних текстах их именовали «мужами, совершенствующими себя» —
сюши), конечно же, не представляли собой какую-то единую категорию общества. Тем не менее, их наличие четко идентифицировалось китайской традицией.
Их могли именовать шэн или шэнжэнъ (обычно переводится как «мудрец»). Параллельно конфуцианские тексты указывали на существование сянь — людей образованных и объединенных глубоким знанием, но все же не сравнимых с шэн. Хотя обычно на западные языки они переводятся одинаково, между ними все же было очевидное различие. Его чувствовал еще Мэн-цзы в III в. до н. э., указывая, что «знание — это то, что характеризует мудрецов-сянъ, следование Пути Неба — вот что объединяет посвященных-шэн» (14.24).
В текстах различных авторов такие люди могли именоваться по-разному. У Чжуан-цзы центральное место занимает мудрец, в собрании гимнов и песен царства Чу «Чуские строфы» («Чу цы») — поэт, охваченный сакральным экстазом. В значительно более позднюю эпоху мистик и алхимик Гэ Хун (III–IV вв.) выводит этот персонаж под именем «Наставник сакрального». Под этими названиями могли подразумеваться не только какие-то абстрактные и запредельные личности, но, в частности, такими людьми были и те, кого позже на рубеже нашей эры стали именовать даосами, в том числе Лао-цзы, Ян Чжу, Ле-цзы. О большинстве из них сохранились лишь обрывочные или полулегендарные сведения.
Мэн-цзы, например, очень чутко чувствовал разницу между мудрыми людьми и собственно посвященными. Он считал, что великие дела могут зачинаться и обычными людьми, которые одарены мудростью (
чжи), но способны их завершить, довести до «великого достижения» лишь посвященные-шэн. Он сравнивает выполнение любой миссии с плавным течением ритуальной дворцовой музыки: «С золотых звуков металлических колокольцев начинается музыкальный строй, а ударами в яшмовые била он завершается. Начинать музыкальный строй — это занятие познавших мудрость, а вот завершать музыкальный строй — это дело посвященных-мудрецов» (10.1). На древних китайских надписях посвященный-шэн рисовался как сочетание элементов «человек», «слушать» и «говорить», то есть это человек, который слушает волю Тянь (в данном случае, верховного духа, а позже обозначавшего Небо) и передает ее другим людям.
54
…???…
Илл. 117. Мудрец Мэн-цзы
Собственно, само мистическое знание заключалось в особом умении общаться с духами, вступать с ними в контакт, получать некую мудрость и с ее помощью управлять государством или народом. Все те, кого мы именуем «китайскими философами древности», по сути продолжали традицию медиумов и магов, хотя, безусловно, значительно более окультуренную, облеченную в аристократические одежды и преподанную светским языком. Тем не менее, многие пассажи, встречающиеся в древних текстах, говорят, что миссия мудреца и «философа» — черпать знания из мира духов и мертвых.
Мудрец и есть проводник духов в этот мир, он притягивает и проводит их по земным дорогам, выполняя функцию шамана-медиума. У Лао-цзы мы встречаем загадочную фразу, смысл которой становится ясен в контексте сказанного выше: «
Когда управляешь Поднебесной через Дао, даже духи утрачивают свою духовную мощь. Но даже если они и не теряют своей духовной мощи, то мощь эта не вредит людям. И если даже духи не вредят людям, то и мудрецы не могут им повредить» (§ 61).
Казалось бы, поразительная ситуация — некие мудрецы могут вредить людям, что вообще, на первый взгляд, противоречит устоявшимся взглядам на мудреца как на спокойного, благородного мужа и носителя высшего знания, приносящего лишь гармонию и покой в общество. Но посмотрим на это по-другому: те, кого здесь именуют мудрецами, на самом деле и есть посвященные медиумы. Они своей энергетической мощью, даруемой небесными силами, могут в равной степени и повредить, и помочь людям. Именно они притягивают духовные силы в этот мир. Дао же здесь поразительным образом выступает как прообраз высшего владыки, единого вседержителя, стоящего над миром духов. Именно его представителем является тот, кого мы здесь называем мудрецом, а на самом деле для китайской традиции того времени это маг и медиум.
Мистическое знание как умение проникать в мир духов рассматривалось как действительно «темное» или «сокровенное». Чжоуская культура, наполненная магическими образами и людьми, «проникшими в путь-Дао», тем не менее, содержала в себе и внутренний конфликт — само «посвящение в знание» было доступно лишь узкой категории людей. Остальных же следует ограничивать, всячески отодвигать от посвятительных тайных культов, способов прижизненного проникновения в загробный мир, получения сверхъестественных способностей. В этом свете приобретает вполне очевидный смысл один их пассажей «Дао дэ цзин»: «
Издревле совершенные в следовании Дао не просвещали народ, но оставляли его невежественным. Причина того, что народом трудно управлять, заключена в избытке у него знаний. Потому управление государством с помощью знания будет разрушительно для государства. Отказ от управления государством с помощью знания будет благотворен для государства» (§ 65).
Автор трактата, по сути, призывает к отказу от использования магических знаний для светской практики — то, что уже в период V–IV вв. до н. э. стало превращаться в часть политической культуры Китая, когда некоторые мистики, нередко из числа разорившихся наследственных аристократов, подобно Конфуцию, шли на государственную службу. «Передача знания» понималась именно как «передача Дао» или «передача истины». В древности она происходила, скорее всего, точно так же, как происходит и сегодня во многих полузакрытых мистических школах, практикующих различные народные ритуалы, гадание, знахарство, боевые искусства. Производится это только в результате личного общения при очень небольшой доле формального обучения. Поэтому для «получения Пути» важно иметь личный контакт с великим магом или учителем, который передает его как свою Благодать.
Личный контакт, интимная передача и были тем каналом, по которому передается истинное знание или происходит «передача истины» (
чжэнъчуанъ) как в древности среди «мудрецов», так и сегодня среди китайских мистиков. Далеко не каждый способен выйти своим сознанием за пределы физического тела, проникнуть в мир духов, а потому единственным способом приобщения к священному было прямое обучение или личное общение с таким посвященным. Переживание потери именно личной передачи неоднократно звучит в некоторых высказываниях Конфуция, Лао-цзы, Сюнь-цзы, а у Мэн-цзы мы читаем пассаж, рассказывающий именно о таком типе передачи и постепенном ее ослаблении.
Мэн-цзы переживает, что исчезла возможность личного восприятия мистического импульса, и в то время, как великие мудрецы учились, перенимая знание непосредственно один от другого, другим уже приходилось «слышать от других».
«От Яо и Шуня до Чэнь Тана прошло более пятисот лет. Люди, подобные Юю и судье при дворе Шуня — Гаояо, видели их лично и познавали их учения непосредственно от самих первоправителей. Люди, подобные Чэнь Тану, уже познавали их учение, слыша его от других. От Чэнь Тана до Вэнь-вана прошло более пятисот лет. Люди, подобные Иъиню и Лай Чжу (гражданский и военный советники при дворе Чэнь Тана. — Л.М.), видели его и познавали от него лично, а вот Вэнь-ван познавал его учение, слыша его от других. От Вэнь-вана до Конфуция также минуло более пятисот лет. Люди, подобные Тайгун Вану и Саньи Шэну, видели его и непосредственно познавали от него, а вот Конфуций познавал это, слыша от других. От Конфуция до сегодняшних дней прошло чуть более ста лет. Мы столь недалеки от той эпохи, когда жил этот мудрец, и обитаем мы очень близко к родным местам мудреца, но если нет сегодня преемника мудрецов, то не будет их также и в дальнейшем».
(14.38)
По сути, здесь речь идет о формализации мистического знания, переводе его на уровень философии и письменных рассуждений, в отличие от непосредственного переживания и озарения, характерных для древних магов. Частично это обуславливалось социальным развитием государств на территории Китая, выходивших за переделы архаической организации общества.
То ли трепет и страх перед духами вообще отсутствовали в древнем Китае, то ли сведения о таком отношении к духам до нас не дошли. Зато уже в эпоху Чжоу проявляется достаточно странное отношение к духам, которого мы практически не встречаем в других странах мира. Речь идет о духах не столько как о правителях земной жизни, сколько как о соседях, порою надоедливых и вредных, порою дружелюбных и способных помочь. В любом случае, надо не только поклоняться духам и разделять с ними пищу, но и управлять ими, подчинять их себе, порою критиковать, ругать и даже «снимать с должностей». Стала знаменитой фраза Конфуция о том, что «духов надо уважать и держаться от них подальше». Значительно менее известно, что, как следует из древних песнопений, Небу вообще не очень доверяли, считая его весьма коварным и не столько пугающим, сколько надоедливо-навязчивым. В «Книге преданий» («
Шаншу») откровенно говорится, что «Небу доверять нельзя». Небо и всех духов можно было ругать и поносить, как это делается, например, в некоторых песнопениях «Ши цзина», в частности в «Юйу чжи».
Мэн-цзы вообще советует «заменять» нерадивых духов: «
Когда князья-чжухоу своим беспутством угрожают духам земли и злаков, они должны быть заменены. Однако когда жертвенные животные хорошо откормлены, подношения благодатны, жертвы приносятся в соответствующее время, но засухи все равно обрушиваются на государство, значит, пришла пора заменить самих духов земли и злаков» (14.14).
Тот же мотив некой независимости человека от неба слышится и в «Каноне песнопений». Ода «Вэнь-ван» утверждает, что «Небо ниспосылает приказы не постоянно». Как мы постарались показать, в ту эпоху под Небом подразумевались не столько некие верховные небесные силы, сколько племенной лидер — медиум тянъ, который и изображался в виде человека с широко расставленными ногами и маской духа (скорее всего таоте), надетой на голову.
Глава 5. Странствия в чертогах мертвых
Мир предков — царство мертвых
Развитие мистических учений практически во всех странах проходит через ряд аналогичных этапов — и Китай в этом плане не оказался исключением. Наиболее интересным здесь представляется период, когда заканчивается архаический этап воздействия на сознание для вызывания неких видений, образов и соответствующих «умонастроений» путем приема галлюциногенов. А вот другой период институционализированной религии с ее символами веры, иерархией, социальными институтами, священными книгами и, самое главное, ясным пониманием, во что надо верить и кто является «своим» и «чужим», еще не начался. Этот мост между двумя этапами наполнен, возможно, самыми яркими ощущениями мистериальности, пребывания в потоке вселенских изменений, абсолютного родства с естественностью природы и осознания духовных сущностей не как сил высших, абсолютно надчеловеческих, но, скорее, как неких параллельных сущностей, живущих по своим законам, которые и следует постигать через ритуальное соприкосновение с ними.
Китай в силу ряда причин — причин очень сложных и не до конца понятных — не вошел в «религиозную» стадию духовного становления, хотя, разумеется, возникло много течений, которые принято называть религиями, например буддизм; порою так именуется и даосизм.
Напомним, что сам Китай называл их «учениями» (цзяо) или, трактуя более точно, хотя и значительно более расширенно, «поучениями, [оставшимися от предков]».
Естественно, существовала и особая иерерахия предков, которая строилась в основном по их способности воздействовать на земной мир. Одними из наиболее энергетически мощных предков считались сами правители Китая, не случайно до сих пор десятки тысяч людей посещают могилы императоров династии Мин (1368–1644) под Пекином. Тем не менее, сила сакрального импульса понималась в Китае не только как некий единый мощный поток, идущий исключительно от императора. Сакральный импульс может исходить от любого человека, который тем или иным образом сумел установить канал получения небесной энергии. Это известные философы и мистики, эстеты, гадатели и маги, мастера ушу и врачеватели, то есть люди, чей статус предусматривает наличие благодати-дэ. И это, безусловно, прямые предки самого человека, которые в силу своей бестелесности могут поддерживать энергетическую связь между миром бытия и миром небытия.
Китайское осмысление мира вообще корреляционно: человек осмысляет себя как некую точку схождения энергетических потоков от линий предков, то есть коррелирует свое самосознание не столько с собственными достижениями, сколько с социально-родовыми связями. Значимость его жизни зависит от того, кто был в его роду, откуда пошел его клан, с какими людьми он связан ныне. Для Китая человек — это, прежде всего, его статус, в том числе и родовой, а не совокупность личных духовных и интеллектуальных свойств, как это характерно для западной цивилизации.
И поэтому поддержание постоянной связи с миром предков, обителью мертвых есть забота не столько о предках, сколько о себе, о своем статусе и благополучии. Для Китая образ «параллельного мира» духов как нельзя лучше иллюстрирует эту мысль: все духи, божества и сущности являлись, так или иначе, пост-образами некогда живших (реально или предполагаемо) предков. Через несколько сотен лет эти предки могли целиком отделяться от своих земных образов, утрачивая большинство «посюсторонних» черт. Они могли приобретать тотемный вид змея, дракона (как дух
таотё), представать в виде даосского «истинного человека» (
чжэнъжэнь), фольклорной богини Ушэн лаому (Нерожденной праматери), прародителя китайской нации Желтого императора Хуан-ди или создателя культуры Фуси, но, так или иначе, они полагались именно как предки. Разумеется, вместе с этим существовали предки и более мелкого масштаба, соотносящиеся с конкретной семьей или патронимией; таблички с их именами ставились на домашний алтарь, в который переселялась часть души предка. Понятие «предок» (
цзу) первоначально записывалось как изображение кланового алтаря — скорее всего, небольшой каменной плиты, положенной горизонтально на каменную подставку. Позже оно стало изображаться в виде небольшой стелы с именем предка; таким образом, изначально понятие «предок» ассоциировалось не собственно с умершим человеком, а со знаком его сакрального бытия, не зависящего от физического тела.
…???…
Илл. 118. Погребальная ступа буддийского наставника
Понятие «предок» в Китае оказывается как бы «вне-человечно», хотя порою вполне телесно, как телесен может быть всякий тотем. Физическое бытие распластано в потоке священного времени, тем самым уничтожено и переведено в осознание «бытия» не как того, что существует сейчас, а как того, что остается после. Китайские мистики очень точно чувствовали этот нюанс, играя терминами «
ю» («бытие» или «наличие») и «
г/ю» («небытие» или «отсутствие»). С точки зрения западной традиции порою может представляться, что для китайских философов не существовало строгого понимания «бытия» и «небытия», они лишь играли образами перехода из одного мира в другой.
Обычно культы традиционного Китая обобщенно именуются культом предков, что, безусловно, верно. Но само выражение «культ предков» нередко является лишь сокрытием другого понятия, явно указывающего на архаическую форму общения с ритуальным пространством, — на культ мертвых. Культ предков, так или иначе, является культом мертвых, учитывая, что в Китае «предками» могут считаться не только прямые родственники, но, по существу, любые умершие, которых выгодно зачислить в категорию духов защищающих, оберегающих или, по крайней мере, не вредоносных. Широко известно, что китаец, знакомясь с человеком, пытается как можно быстрее поставить его в рамки квазисемейных отношений, называя его, например, «старшим братом» (дагэ), «собратом по школе» (сюнди). Жену своего наставника он именует «матушкой-наставницей» (
гииму), отца учителя — «дедом-наставником» (
шие)… Происходит формализация статусов, а по сути — иерархической лестницы, поскольку очевидно, что «старший брат» главенствует над «младшим», «матушке-наставнице» надо оказывать такие же знаки внимания, как свой родной матери, и т. д. Естественно, можно рассчитывать и на «ответный дар», поскольку ты также занимаешь свое место в квазисемейной иерархии и находишься под защитой не столько формального статуса, сколько духов, которые оберегают эту семейную общность.
 Илл. 119. Кладбище буддийских триархов «Лес Пагод» (Талинь) в монастыре Шаолинъсы. Прах ставников закладывается в ступу тмуровывается
Илл. 119. Кладбище буддийских триархов «Лес Пагод» (Талинь) в монастыре Шаолинъсы. Прах ставников закладывается в ступу тмуровывается
Точно таким же образом любого умершего, особенно соответствующего определенным «правильным» признакам, стремились сделать своим усопшим предком. В таких квазиродственниках полезно иметь великих мудрецов и легендарных личностей (Конфуций, Лао-цзы, воитель Гуань Юй). В современном Китае практически все носители фамилии Кун считают себя потомками Конфуция, причем между ними нередко возникают споры, кто соотносится с Учителем по более прямой линии. Основатель династии Тан Ли Шиминь (
Тай-цзун) умело воспользовался этим «фамильным» фактором, в ряде своих посланий тонко напомнив о том, что фамильный иероглиф великого Лао-цзы был именно Ли, совпадая с фамильным иероглифом самого императора, что может свидетельствовать о прямой связи (в реальности таковая не прослеживалась даже в отдалении). Именно в период правления Тай-цзуна культ Лао-цзы достиг своего апогея, по стране стали возводиться алтари Лао-цзы и строиться даосские монастыри.
Впрочем, умением призвать к себе в защитники известных людей отличались не только правители древности. Про известного деятеля КПК Чжу Дэ (1888–1976), прославленного главнокомандующего Народно-освободительной армии Китая и министра обороны Китая, еще в 30-40-е гг. XX в. ходили слухи, что он потомок великого Чжу Юаньчжана (1328–1398), основателя династии Мин и символа независимости Китая. Указывали и на совпадение их биографий: оба были выходцами из просых семей, испытали в детстве голод и нужду, присоединились к полубандитским отрядам, сформировав их в боеспособные подразделения, и, в конце концов, добились славы и высоких чинов. А отправной точкой всех этих забавных разговоров было совпадение их фамильного иероглифа — Чжу.
Компоненты души человека
Все мистические учения Китая были нацелены на вступление в контакт с духами предков. Разные школы, учения и философы предлагали разные методы для этого, однако, так или иначе, предполагалось, что магическое знание, а также жизненная благодать, успех, благосостояние, — одним словом, все, от чего зависит духовное и физическое существование человека, связывалось с духами предков. По сути, Китай создал, вероятно, самый развитый и сохранившийся по сей день культ мертвых, вокруг которого уже была «надстроена» вся культура с ее роскошными имперскими атрибутами и закрытыми эзотерическими школами, например даосской алхимии.
Причем эти предки могли быть либо прямыми, реальными прародителями, либо предками косвенными. Хотя китайцы в своих «домашних хрониках» и генеалогических книгах (
цзя пу) очень тщательно выстраивают линию именно реальных предков, нередко в общем понимании традиции фигурируют некие персонажи, которые тем или иным образом адаптированы кланом в качестве своих предков. Конкретные случаи мы рассмотрим позже, здесь же достаточно упомянуть, скажем, Конфуция, перед изображением которого во многих домашних храмах исполняются ритуалы, практически точно совпадающие с ритуалами перед табличками с именами предков. Нередко в качестве предков принимаются не реальные родственники, а какие-нибудь известные герои, например военачальники, поэты, потомки императорских фамилий. Зачем же это делается, если ни для кого не является секретом, что сей герой никак не мог являться членом этого клана? Уже упоминалось, что все семьи, носящие фамилию Кун, возводят свой род к Конфуцию, а несколько не связанных между собой семей считают себя прямыми потомками Цзи Кана (II в.), известного поэта, даоса-алхимика, одного из членов творческого союза, прозванного Восемью мудрецами из бамбуковой рощи.
Как видно, китайский культ предков является особым знаком духовной преемственности и централизации вокруг символа семьи. Существует очень много форм следования этому культу, более того — практически любой китайский культ сводим исключительно к культу предков или в самом общем плане — к культу мертвых. Формально он может выглядеть, например, как поминовение родителей перед ритуальной едой в период китайского нового года или на праздник Цинмин.
1
Это может быть также молитва перед алтарем с табличками, на которых написаны имена предков и в которые переселяется часть их души. Это может быть и возведение больших, а порою и роскошных кумирен предков, которые до сих пор отстраивают зажиточные китайцы; именно перед ними или внутри них проводятся многие ритуалы перемены статуса: похоронные обряды, свадьбы, молитвы по поводу рождения ребенка. Таким образом, алтарь предков становится центральной частью ритуальной жизни вообще, находясь в сознании китайцев на том месте, где у представителя западной традиции стоит церковь.
Концепция жизни как вечного духообщения предусматривала и то, что сама душа человека представляет собой совокупность душ. Форма поклонения предкам объясняется именно этим поверьем о «многокомпонентности» души человека и тем, что одна из этих компонент, дух-шэнь, остается «действующей» и после смерти.
…???…
Илл. 120. Курильница в даосском монастыре в виде тыквы-горлянки имеет символику долголетия, поскольку именно в таких кувшинах бессмертные, по легендам, и носят эликсир долголетия
Каждый человек в его прижизненном состоянии представляет совокупность двух начал — инь и ян, воплощенных в двух типах душ, обитающих в нем и составляющих, по народным представлениям, его духовную компоненту. В любом человеке обитает сразу несколько душ, которые и разделяются на души-ынь и души-ян. Души категории
инь при жизни именуются
по, а души
ян — хунъ. Уже в период ранней династии Хань сформировалось и понимание того, что представляет собой смерть человека: после смерти целостность человека распадается, души
пo уходят в землю, а
хунъ воспаряют в небо.
Обычно считается, что у человека три хунъ и четыре по (иногда речь идет о семи или десяти
по), что связано с представлением о том, что четные цифры символизируют землю, а нечетные — небо (хотя есть и иные нумерологические комбинации).
В этот момент — в момент окончательного расставания душ — человек исчезает. Человек, таким образом, в духовном плане растворяется во вселенной. Эта концепция имеет свои корни в древнейшей архаике, позже она стала частью даосской теории бессмертия, когда души не распадаются, но могут переселяться в иное физическое тело. Некоторые части души человека переселяются в табличку с его именем, которая потом помещается на алтарь предков, существующий в каждом доме. Другая часть остается на месте захоронения, третья уходит на Небо и в землю. Персона в прямом смысле распадается, человек оказывается дисперсным и оставляет свой след лишь, скажем, в табличке духа предка.
Впрочем, в древности «не-распад» душ представлял собой скорее пугающее явление, нежели благо.
Считалось, что, если человек умер насильственной смертью, был убит или казнен, его души оставались едиными и искали возможности переселиться в другое тело, чтобы обрести физическую силу. В результате такое создание получало возможность мстить своим обидчикам.
2
Существуют способы сохранить свои семь душ хунъ-по в целостности и после смерти. Именно на это были направлены многие даосские способы достижения бессмертия, прием пилюли бессмертия, дыхательные и медитативные практики. Кажется, ни древние даосы, ни их современные последователи не верили и не верят в абсолютное бессмертие именно физического тела человека — оно смертно и тленно так же, как и любой живой организм, растение и животное.
…???…
Илл. 121. Изображение генеалогического древа семьи.
В нижнем ряду — представители предыдущего поколения, в верхнем ряду — четвертое колено предков, после которого связь с духами предков утрачивается.
Картина на холсте. Кон. XIX в.
Однако в результате применения особых методик «тайной традиции» совокупность душ оказывается нерасторжимой, персона сохраняется, приобретая статус сяня, «бессмертного небожителя», который, в свою очередь, при определенных условиях может существовать либо в своем астральном теле, либо в телах других людей, в том числе и неявно умерших, как бы «занимая» их тело. Но даже распавшиеся души продолжают жить и определенным образом влиять на мир земной. Обычно души по, соотносимые с началом инь (их нередко не очень точно именуют «земными душами»), после отпадения от целостной души линь обращаются в свой пост-смертный аналог духов. В свою очередь, души начала ян, т. е. хунъ, обращаются в духов-шэнъ. Таким образом происходит мистическая трансформация части души в духа. Оговоримся, что в китайском лексиконе нет очевидного различия между понятиями «дух» и «душа», тем более отсутствует какое-либо моральное и этическое осознание «души».
Духи (и души)
шэнъ в народной традиции чаще всего считаются более могущественными, нежели
гуй, и носят позитивный оттенок ровно настолько, насколько
ян «позитивнее» (но не лучше и не хуже), чем
инь. Гуй нередко могут повредить человеку, хотя их вряд ли следует называть злыми или вредоносными — они лишь имеют иную логику своего поведения, крайне хитры и, как всякие духи, преследуют исключительно собственные цели. Иногда эти цели могут совпадать с целями человека — тогда духи помогают ему, чаще же они выступают как «обманщики». Духи стремятся задержаться у тела умершего человека на возможно долгое время, и именно поэтому мертвое тело в Китае считается опасным, приближаться к нему следует только после совершения определенных ритуалов и очищения. Гуй может быть вредоносен, если нет места, где он мог бы обрести пристанище, — тогда гуй начинает беспокоить людей.
Гуй — дух, который утратил свою индивидуальность, не имеет имени, и поэтому ему невозможно совершать поклонения. Это воплощенное начало инь, вредоносное не столько по своим функциям, сколько по своей сути. Он врывается в мир жизни, мир начала ян и именно этим может вредить людям. Если родственники по каким-то причинам забудут или не смогут поклоняться своему предку, его дух обратится в
гуй или
гуа по — «одинокую душу» или «покинутую душу», которая теперь будет пугать людей. Примечательно, что практически во всех странах мира есть подобное поверье об одинокой (иногда — неотпетой) душе. Как гласит одна из народных историй, как-то
дух-гуй пугал жителей небольшого городка, и людям пришлось обратиться за помощью к уездному чиновнику, знакомому со способами усмирения таких духов. Он произвел некоторые операции, в результате которых гуй успокоился. Когда же у чиновника поинтересовались, как он сумел добиться этого, тот объяснил, что, по сути, в Пекине воспользовался забавным «филологическим» приемом: «Когда цук-гуй находит место, где бы он мог обрести прибежище-гг/м (дух-гг/м и прибежище-гг/м записываются разными иероглифами. — AM), то он перестает вредить людям»
3.
 Илл. 122. В день поминовения предков Цинмин в даосском монастыре
Илл. 122. В день поминовения предков Цинмин в даосском монастыре
Итак, душам
хунъ и
по в посмертной жизни соответствуют духи
гуй и
шэнъ, причем свойства самого человека не переходят автоматически на тех духов, которыми он представлен после физической смерти. С течением времени практически все духи умерших стали выступать в виде
гуй за исключением, пожалуй, лишь прямого предка семьи, который остается представленным в виде шэнъ. Существует поверье, что души простолюдинов, преступников, падших женщин, убийц и бандитов превращаются в духов. Души же благородных мужей, честных чиновников и некоторых мастеров обращаются в
шэнъ. Однако через некоторое время могущество их энергии утрачивается в течение трех поколений, а затем они превращаются в духов-гг/м. Таким образом, любой
гиэнъ может однажды превратиться во вредоносного гуй прежде всего за счет того, что в третьем-четвертом поколении утрачивается связь между миром мертвых и миром живых.
Алтарь предков отражает эту связь с духами-шэнь именно до четвертого поколения. На алтарь помещаются четыре таблички обычно в следующем порядке слева направо: пра-пра-пра-прадедушка (4-е поколение,
ни), прадедушка (1-е поколение,
цзу), прапрадедушка (2-е поколение,
грэн), пра-пра-прадедушка (3-е поколение,
гао). Такой порядок имеет место, если отец и дед еще живы. Когда умирает глава семьи, все таблички сдвигаются на одну позицию, освобождая место для нового имени, а табличка с именем пра-пра-пра-прародителей (т. е. последних ни) кладется в специальный ящичек под алтарем. С этого момента связь с ними ослабевает, и они могут из духов-шэнь перейти в категорию
гуй, утеряв индивидуальность и связь с посюсторонним миром.
На алтарь рядом с табличками ставятся некоторые ритуальные предметы: слева и справа помещаются свечи и цветы, а между ними — благовония. Вообще алтарь может украшаться по-разному — все зависит от достатка семьи, однако свечи, цветы (сегодня нередко искусственные) и благовония остаются неизменным атрибутом, очерчивающим «вход» из мира человеческого в мир духов.
Идея о наличии двух типов духов умерших носит, очевидно, очень
древний характер, но уже в средневековье стало принято считать, что все духи умерших являются
гуй. Существует лишь один защитник — это светлый предок, который остается
гиэнъ по отношению к своим потомкам, хотя по отношению ко всем остальным он может выступать как гуй, опасный и потенциально вредоносный. Как следствие, необходимо всех возможных духов умерших обратить в категорию духов собственных предков
гиэнъ. Именно так возникают странные и далеко не «родственные» поклонения массовым захоронениям, захоронениям асоциальных личностей типа кровавых бандитов, проституток и т. д. Именно они, будучи при жизни чрезвычайно опасными и обладающими огромной энергией
инь, могут после смерти путем определенных ритуалов и правильного поклонения быть обращены в защитников и представлены как предки. Духов изображать невозможно; хотя существует определенная даосская символика духов, однако даже сами даосы рассматривают такие картинки не как «зарисовки» гуй и шэнъ, но как магические знаки, указывающие на возможность управления духами. Однако в Китае существует иная форма 21 изображения духовного лика нескольких поколений семьи. Несколько поколений рисуются в виде рядов, расположенных один над другим: предки сверху (их обычно двое — муж и жена), обычно утрированно большие по сравнению с другими персонажами, ниже идут дети и внуки со своими женами (род в Китае патрилинеен, поэтому очевидно, что изображаются потомки по мужской линии). Обычно рисовались три ряда родственников, в редких случаях — четыре, если речь шла о семье, известной своей мощной благодатью-дэ. По сути, это изображение не конкретных личностей, и их лица далеки от портретного сходства. В ряд оказывались выстроены духи-шэнь, духи предков-защитников, в то время как предыдущие поколения уже обращались в духов-гуй. И здесь вновь проговаривает поверье о благодатной силе духов лишь до четвертого колена, затем живые уже не способны вступать в контакт с ними.
Представление это очень древнее, происходящее, вероятно, из магических культов I тысячелетия до н. э. Так, например, Мэн-цзы (III в. до н. э.), передавая какое-то очень древнее поверье, говорит: «
Влияние духа благородного мужа прекращается через пять поколений. Впрочем, и влияние духа маленького человека также прекращается через пять поколений»
4. Таким образом, прижизненные деяния и даже соблюдение ритуалов не дают никаких преимуществ для сохранения своего
шэнъ в загробном мире.
Понятие шэнъ также означает высшую духовную субстанцию, которую человек может пробудить в себе посредством определенных психомедитативных упражнений. Например, даосские практики предусматривают несколько этапов внутренних метаморфоз человека, точнее, его двух душ-хунъ, прежде чем он достигнет просветления духа-шэнъ, т. е. третьей души-дяунь: «Опустошая себя (т. е. свое сознание. — А.М.), трансформируем семя-инь; очищая семя-цзин, трансформируем ци; очищая ци, изменяем дух-шэмь. На последнем этапе следует посредством очищения и успокоения духа-шэмь опустошить свое сознание и вернуться к изначальной пустотной нерасчлененности мира. Оказывается, что дух-шэнь непосредственно связан именно с тем духом, в который обращаются души-дл/нъ после смерти.
Рядом с алтарем предков
Центром общения с духами является алтарь предков, который представляет собой космический канал связи не только собственно с предками, но с миром духов вообще. Он имеет свою «архитектуру», соответствующую канонической архитектуре храма, но не столько по типу «постройки», сколько по конструированию космоса вокруг человека, находящегося у алтаря.
Естественно, алтарь предков с табличками и фруктами на нем есть в каждом доме, обычно он располагается в его западной части, что символизирует Западный рай и западные земли, где обитает Нерожденная праматерь (
Ушэн лаому) или богиня Сиванму, правительница Западного рая. Примечательно, что многие современные китайцы уже не могут в точности сказать, почему алтарь должен располагаться в западной части дома, однако очень точно соблюдают эту локализацию. Традиция, связанная с мистикой запада и загадочной Сиванму, очень точно, хотя нередко и рефлекторно воспроизводится современными китайцами во многих деревнях, а точность соблюдения месторасположения, как известно, есть одна из важнейших особенностей оккультных ритуалов: выполняющий их может не понимать сути происходящего, но обязан в точности повторять слова, движения и локализацию — и тогда духи примут его.
Обычно пышные ритуалы перед алтарем предков выполняются практически всю первую половину месяца по лунному календарю, а также при любой необходимости получить помощь — во время молений об урожае, прекращении засухи, излечении болезней и т. д. Наиболее зажиточные семьи имеют возможность поставить небольшой крытый алтарь, каменный или деревянный, на западной стене которого прикрепляются таблички с именами предков, представляющие миниубежища, где живет часть их души. Способность обращать в собственного предка любого, кто способен защитить тебя, приводит порою к интересным парадоксам. Практически во всех алтарях есть изображения Конфуция, Гуань-юя — некогда реально жившего генерала, бога очага и богатства Цайшэня, а сегодня, например, Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, ставших сакрализованными защитниками и отцами китайского народа. Алтарь существует в каждой семье — он может быть вынесен в отдельную постройку или, что бывает значительно чаще, располагаться непосредственно внутри дома. Далеко не всегда таблички с именами всех предков вплоть до четвертого колена ставятся на алтарь — это делается лишь в периоды праздников, но в левой части алтаря практически всегда можно обнаружить деревянную или мраморную табличку с именем предка. В самом центре помещают статую одного из наиболее почитаемых богов, обычно Гуань-ди или буддийскую богиню милосердия Авалокитешвару (
Гуань-инь), однако воспринимаются они не только как изображения божества, но как прообраз самого раннего представителя клана, которому поклоняется семья. И, таким образом, существует символика идентификации некогда жившего реального первопредка с общепризнанным божеством. Общее божество обретает локальное воплощение. Примечательно, что даже такие общекитайские божества, как защитник Гуань-ди, милосердная Гуаньинь, бог богатства Цаошэнь или бог долголетия Шоусин, несмотря на свой универсалистский характер, все же воспринимаются как духи локальные, частные, непосредственно связанные с предком семьи или клана. Более того, им даже придаются черты конкретной персоны, обычно одного из предков. Особенно это распространено на юге Китая.
5
Духи предков постоянно нуждаются в кормлении — именно акт кормления устанавливает связь между нынешними и ушедшими поколениями. Если на алтаре стоят четыре таблички, то следует «накрыть стол» на восемь персон — соответственно числу предков по мужской и по женской линии. Если в семье недавно умер один из членов, для него ставят дополнительные приборы. Затем алтарь сервируют привычной для любого китайца пищей.
…???…
Илл. 123. Молитва перед алтарем предков (по Г. Доре)
Обычно это мелко нарезанное мясо, засахаренные, сушеные и свежие фрукты, суп, сладкие пирожные или хлебцы, рис, чай, вино. Все это раскладывается по пиалам и ставится на алтарь. Все подготавливается как для настоящего обеда, кладутся палочки для еды слева от каждой пиалы, нередко ставятся и пустые тарелочки, в которые принято бросать остатки пищи. Духам предков преподносят в качестве даров в основном два компонента: вино и благовония. Вино и благовония помещаются на алтарь или ставятся внутрь кумирни предков и меняются два раза в день, утром и вечером. Считается, что за этот срок духи предков уже должны «израсходовать» эти запасы и их следует обновить. Одновременно «обновляется» и связь между духами предков и их земными потомками. Не случайно этот ритуал именуется термином
цзяо, что в даосских культах также связано с ритуалами обновления (например, Нового года).
В момент поднесения даров перед предками не только читают молитву, но и отчитываются о том, что их нынешние потомки делали в течение всего дня. Самым большим праздником поклонения предкам является весенний Цинмин. В этот момент кости усопших родственников чистятся после семи или десяти лет погребения. Могилы предков также посещают в середине осени на праздник Чунъюэ, причем для этого сегодня многим приходится ездить даже в другие провинции.
Ритуалы эти имеют одну характерную особенность: их составной частью является ритуальная трапеза, когда пища как бы разделяется с духами предков, причем так же как и в эпоху Чжоу, а возможно, и значительно раньше, в трапезе принимают участие только мужчины, а пищей является чаще всего свинина, что также было характерно для архаического «кормления духов». Общению с духами свойственна особая тонкость, суть которой — не в абсолютной строгости ритуальных норм, что было характерно для западной религиозной культуры, но в самой монотонности поддержания контакта с родственниками-предками, который не должен обрываться ни на минуту.
Форм ритуального общения великое множество, причем большинство из них, выйдя из глубокой древности, остаются актуальными и по сей день. Китай бережно поддерживает не только чисто механическую традицию поклонения, но буквально находит в этом свой духовный стержень. Не имея концепции единого Бога, не обретя общей всекитайской религии или символа веры, китайцы очень точно уловили суть тех, кто может выступать реальными защитниками. Духи предков,
шэнъ, в отличие от западной концепции Бога, никогда не бывают бесконечно далеко в Небесах, для установления контакта с ними не нужны посредники в виде священнослужителей, нет необходимости и в строгом соблюдении ритуала и богатых церквах. Все, с одной стороны, максимально приземленно и понятно каждому, с другой стороны, бесконечно мистифицировано — здесь каждый поклон или подношение означает моментальное соприкосновение с истоком своего рода и духом предка. Шэнъ оказываются не только близки и понятны, но и универсальны, выполняя функцию практически любого божества и замещая его.
Распадение душ
Смерть в китайской традиции — акт не менее экзистенциальный и великолепный по своему исполнению, чем в представлениях Ж.-П. Сартра. В этот момент души отделяются от тела человека, однако не покидают его окончательно. Они обитают рядом с телом, обычно в том же доме, где человек жил последнее время, пока его тело не будет захоронено должным образом. А потому сам ритуал похорон и все, что с ним связано, ни в коем случае не имели отношения к уважению к самому покойному или тем более не были воздаянием его памяти, но представляли собой проявление уважения к духам. Семь душ-ио, отвечающие за эмоциональное начало и соотносящиеся с началом
инь, остаются в теле и оказываются погребены вместе с ним. Таким образом, то, что воспринимается людьми как «живое тело», — не более чем конгломерат «эмоционально окрашенных» душ-
ио. Что же остается после погребения? В этот момент основную роль начинают играть три души-
хунъ.
Две из них —
ци и семя-
цзим — исчезают после смерти, третья же — дух-
шэнъ — является бессмертной частью человека. Примечательно, что по-китайски дух-шэнь как некое сверхъестественное существо и душа-
шэнь записываются одним иероглифом и, по сути, представляют одно и то же. А следовательно, именно шэнъ является «адресатом» всех погребальных ритуалов и культа предков.
Сам опыт смерти — крайне травматический как для самого умирающего, так и для его родственников — оказывается сведен к строгому церемониалу, где переживания, слезы, погребение в равной степени распределены. Подготовка к умиранию начиналась задолго до самого акта смерти и даже болезни человека. Даже гроб человек готовил себе еще при жизни: обычно китаец заказывал его себе, когда ему исполнялось шестьдесят лет, а порою и раньше. Человек сам определял его размер, материал, украшения. Меньше забот было с местом для погребения, поскольку кладбища были семейными, а урны с пеплом простых крестьян нередко до сих пор устанавливают на поле, которое они обрабатывали. После определенного времени пепел высыпается в землю либо сама урна зарывается там же, чтобы тело человека ушло в землю. Место погребения тщательно заносится в семейные хроники (
цзяпу) вместе с основными датами и событиями жизни. Важно, где человек оставит свое физическое тело, связанное с семью душами-
хунъ. За могилами всегда тщательно ухаживали, обычно принято посещать их на праздник поминовения усопших Цинмин, когда практически весь Китай, невзирая на расстояния, перемещается к праху своих предков. Особое внимание уделяется «правильному» расположению могилы относительно ландшафта и ее соответствию принципам земной геомантики (
ди ли фэншуй).
 Илл. 124. Три души хунъ и семь душ по беседуют друг с другом в виде мудрецов.
Иллюстрация из даосского канона «Записи о природных свойствах и предначертании». Эпоха Цин
Илл. 124. Три души хунъ и семь душ по беседуют друг с другом в виде мудрецов.
Иллюстрация из даосского канона «Записи о природных свойствах и предначертании». Эпоха Цин
Например, на юге Китая ее обычно располагают лицом к морю, а сзади она должна быть защищена горами или лесом. Лишь родные места, связанные с духами предыдущих поколений предков и добрым фэншуй, могут обеспечить комфортное пребывание души-шэнь. Поэтому тех, кто умирал вдалеке от дома, следовало доставлять в родные места и хоронить на семейном кладбище. Нередко прах китайцев, которые умерли на чужбине, например чиновников, что провели свои последние дни на государственной службе в отдаленных местностях, сначала хоронили по месту смерти, а затем, порою через несколько лет, привозили в родные места, на семейное кладбище. Именно эти, вторые похороны считались «истинными».
Погребальные ритуалы стали одной из важнейших частей жизни даже современных китайцев, традиционная же литература буквально наполнена советами, как управляться с духами после смерти родственника или близкого человека. По сути, человечество осознает свою сущность лишь задумываясь над своим посмертным опытом, и именно с погребальных ритуалов начинается становление истинной человеческой культуры. И даосизм, и китайский буддизм вобрали в себя многое из древних погребальных культов, придав им не столько оккультно-магическое, сколько религиозно-философское осмысление, однако мотив превращения человека в бессмертного духа-шэнъ остался прежним. На могилах начиная с эпох Суй-Тан ставились богатые стелы, где не просто высекалось имя усопшего, но и делалась подробная надпись, рассказывающая о жизненном пути человека, перечисляющая его заслуги, труды, пожалования от вышестоящих, — и эти надписи сегодня нередко служат одним из основных источников о жизни исторических деятелей. Примечательно, что забота об усопших родственниках была куда важнее, чем забота о них при жизни, поскольку в этот момент человек уже общался со своими представителями в загробном мире, не позволяя их духам превратиться в разрушительных и хаотичных духов. Страх перед духом предка буквально пронизывает учения многих философах древнего Китая.
Мэн-цзы восклицает: «Заботиться о родителях при их жизни — это вряд ли можно считать великим делом. А вот великое дело — это забота о них, когда они уйдут из этого мира!»
6
Как только после смерти человека его душа-шэнь отделяется от тела, она должна опуститься в нижний мир — мир начала инь. И в этот момент на помощь приходят способы внутренней алхимии, которыми человек должен был заниматься еще при жизни — магический огонь внутренней алхимии очищает ее от всех недостатков и желаний, которыми шэнъ тяготилась во время жизни в теле.
По буддийским и даосским представлениям, душа должна быть целиком очищена и все долги, которые человек создал своим неправедным поведением в этом мире, должны быть заплачены. Буддисты средневековья и нового времени даже разработали весьма красочную картину ада и адских мук — в общем, концепцию не характерную для классического буддизма и частично пришедшую из народных верований, а частично навеянную христианскими проповедями после XVIII в. Сегодня стены многих буддийских храмов в провинции Хэнань, Хунань, Хэбэй покрыты ужасающими картинами адских мук и очищения души. Так, например, главный молельный зал небольшого храма Чуцзуань («Обитель первого патриарха») в Хэнани, уезд Дэнфэн, на своих стенах отражает несколько сот (!) весьма натуралистических картин мучений грешников в чистилище с подробным описанием проступков и соответствующих им форм наказаний.
 Илл. 125, 126. Деревянная фигура небесного судии. В спине фигуры вырезали отверстие, куда закладывалось насекомое, и закупоривали бумажкой со священной надписью. Дух насекомого переходил в фигурку и «одухотворял» ее.
Илл. 125, 126. Деревянная фигура небесного судии. В спине фигуры вырезали отверстие, куда закладывалось насекомое, и закупоривали бумажкой со священной надписью. Дух насекомого переходил в фигурку и «одухотворял» ее.
По китайским представлениям, погребальный алтарь, иногда постоянный, иногда временный, следует возводить непосредственно за храмом; там и выполняется церемония погребения. Именно отсюда душа должна отправляться на несколько небесных этажей (обычно их десять), на каждом из которых она очищается от соответствующих грехов и получает наказание за соответствующие виды проступков. Примечательно, что основной задачей прохождения через такое «сито» является не столько наказание души (поскольку за вредоносные желания отвечает не душа-no, а часть
цуш-хунъ), сколько ее избавление от груза этих проступков. Теоретически душа-шэнь способна самостоятельно пройти через эти очистительные процедуры, однако даосские и буддийские монахи могут ускорить ее очищение и облегчить страдания. Существовали даже целые учебники, посвященные тому, как следует проходить все эти процедуры, например «Канъин пянь» — «Главы о взирании в преисподнюю», которые следовало читать еще при жизни, готовясь обойти все препятствия и не попасть в плен голодных демонов, не утратить свою индивидуальность, растворившись в мире духов.
…???…
Илл. 127. Воскуривание благовоний перед входом в буддийский храм с молитвой о сохранении души в целостности во время путешествия в загробный мир
Таким образом, после смерти важно сохранить свое очевидное начало ян относительно мира духов-гуй.
А это зависит, по меньшей мере, от двух вещей: правильно проведенной погребальной церемонии и ритуалов и жертвоприношений, которые родственники будут исполнять после смерти предка.
Как в средневековье, так и сегодня роль шаманов и медиумов, которые проводят душу через все этапы очищения, играют буддийские и даосские монахи — именно они обладают достаточной специальной подготовкой и умением общаться с «тонким» миром без вреда для себя. По сути, вся подготовка монахов, исключая нередко встречающихся сегодня псевдомонахов, направлена исключительно на обретение навыков сопровождения души человека в мире духов. В современном мире это стало одним из основных заработков монахов, причем их приглашают на погребальные церемонии даже вполне современные люди — бизнесмены, политики, деятели искусства. В деревнях же семьи нередко собирают последние средства и залезают в долги, чтобы пригласить действительно сильного монаха для сопровождения души умершего родственника в ее последнем путешествии.
В погребальной церемонии должны принимать участие и все те, кто хотя бы как-то соприкасался с умершим, например, помимо родственников, и те, к кому усопший был добр или кому оставил часть наследства. При смерти духовных учителей — буддийских и даосских наставников, мастеров ушу — все их последователи должны собраться вокруг погребального алтаря, возжигая благовония и творя молитвы.
Смерть в терминах инь и ян
В чем вообще заключается суть погребального ритуала в Китае? Только ли в выражении почтения к покойному? Думается, что как раз почтение стоит на последнем месте в сложной системе ценностей. Прежде всего, покойный является еще одним каналом поддержания связи с миром духов, поэтому он тщательно «обхаживается», а затем посредством последующих многолетних поклонений еще и обновляется. Во-вторых, само погребение в Китае к новому времени приобрело вид светской традиции с элементами древних мистических культов. А поэтому, в отличие от старых даосских ритуалов, важнейшая задача заключается не в том, чтобы через усопшего «посетить» царство мертвых, а в том, чтобы не соприкоснуться с ним, не допустить начало инь в этот мир, максимально «янизировать» покойного.
Смерть является переломным моментом в единстве духов-душ, из которых состоит человек. Как мы уже отмечали, вся китайская культура с ее культом предков построена вокруг культа мертвых, проявляющегося в самых разных ипостасях, и погребальный ритуал становится завершающим аккордом в «правильной» ритуальной жизни самого человека.
Смысл всякого китайского ритуала заключен в том, чтобы внести порядок в хаос, одолеть беспорядок, воплощенный через инь, гармонией абсолютного порядка-ян. Таким образом, погребальный ритуал в китайской традиции сводится к тому, чтобы не дать душам человека обратиться в неупорядоченный хаос. Поэтому центральная тема такого ритуала — «янификация» (термин С. Сангрена) человеческой души и устранение элементов инь в результате последовательного и поэтапного ритуального разделения души и тела.
7
Ритуал проводов души представляет собой постоянную борьбу с энтропией, с ее превращением в аморфную, неуправляемую массу. Ни в коем случае ИЛА нельзя позволить душе превратиться в какого-то анонимного духа или «потерянную», «одинокую душу» (
гуа хунь), одну из разновидностей гуй, к которому даже невозможно обратиться по имени во время молитвы. Ему нельзя будет и поднести ритуальную пищу, так как он не сможет понять, что пища предназначается именно ему. Дух после смерти должен легко опознаваться в течение по меньшей мере нескольких поколений — в этой его опознаваемости залог управляемости. И всякая забота о духе, начиная от праздников поминовения до молитв, совершаемых перед алтарем, представляет, по существу, постоянное возобновление связи с ним, возвращение его к уровню духов-шэнъ.
Поэтому несколько десятков человек, среди них специально посвященные из числа буддийских или даосских монахов, трудятся над тем, чтобы душа прошла через все этапы посмертных трансформаций.
Основная трансформация, по сути, также сводится к переходу из мира видимого и материального (мира ян) в невидимый и темный мир инь. Мертвое тело представляет немалую опасность, поэтому одна из задач погребального ритуала — очень строго контролировать его негативное воздействие на окружающих и прежде всего на родственников. Главная опасность таится в том, что сразу после смерти тело начинает воплощать начало инь, открывает путь в мир духов, и пока весь ритуал не будет совершен, этот страшный канал остается открытым. Важно удержать его на грани начала ян, ассоциирующего с жизнью.
Особая роль в этих обрядах отводится различным средствам, которые могут оберечь человека от воздействия духов из мира мертвых. В качестве таких оберегов до сих пор используются небольшие нефритовые кольца, вешающиеся на шею на красном шнурке, или нефритовые изображения буддийских божеств. Нефрит как одно из средств долголетия и компонент пилюли бессмертия, по-видимому, в древности рассматривался как способ сохранить все компоненты души в целостности. Например, умершему в рот вкладывался кусочек нефрита, что должно было предотвратить быстрое разложение тела, а в более широком смысле — слишком стремительное распадение душ и обращение человека в хаос.
Этому же способствует и целый ряд небесных «чиновников», представляющих собой начало ян и контролирующих иньских духов. Впрочем, и на земле чиновники также являют собой упорядочивающее начало, передаваемое от самого императора. Они создают и контролируют порядок в империи, собирают налоги, наказывают и воспитывают, обучают, посылают на работы, одним словом, борются с энтропийными тенденциями общества. Таким образом, и здесь параллелизм небесного и земного проявляется в полной мере. Момент умирания и самой смерти в Китае планируется заранее, поскольку??? и тем более отделение душ от тела, следует совершать в соответствии с ритуалом, дабы не нарушить различные типы договоренностей с духами.
Важный элемент похоронного ритуала — большое количество света, также являющегося знаком присутствия ян, защищающего родственников от начала инь и духов, канал которым открыл умерший. Дом ярко освещен, причем освещение поддерживается постоянно даже днем — свет должен помочь душе найти дорогу в обитель света. Другой необходимый элемент символики — очищение тела и души от грехов и плотских желаний, накопившихся в период земной жизни.
Важно, чтобы душа-шэнъ была уже не привязана к телу, иначе, храня воспоминания о плотских наслаждениях, но, уже не имея физического тела, она может сильно страдать. Даосский монах вместе с родственниками омывает как тело, так и внутреннюю поверхность гроба, во время всей церемонии бьют в гонги и играют на парных флейтах красного цвета. Тело омывается, волосы тщательно расчесываются, и усопший оказывается целиком подготовлен к переходу в иной мир."
По описаниям «Ли цзи», в древности в случае смерти господина специальный слуга приносил ведро с водой и передавал его слугам низшего разряда, которые омывали тело: четверо держали его у щиколоток, а двое производили омовение, используя полотняные салфетки. Вода сливалась обратно в ведро, дабы мир мертвых не оставлял свои следы в мире живых. Еще один слуга чистил и подрезал ногти покойному, а затем остатки воды сливались в специально приготовленную яму — остатки мира мертвых должны были уйти в землю и не затрагивать живых.
С того момента, как тело помещено в могилу, оно представляет значительно меньшую опасность.
Плоть (инь) распадается, остаются жесткие кости (ян). После этого тело откапывают, кости очищают и помещают в специальную урну из керамики или обожженной глины. Обычно китайцы не посещают могил, кроме как в период особых праздников: на китайский новый год, праздник поминовения усопших Цинмин (через 105 дней после зимнего солнцестояния), в день всех душ (15 июля). В эти дни могилы прибирают и совершают обряды поминовения. На пятый год после похорон кости очищают и помещают в урну — это связано с поверьем, что дух окончательно утрачивает интерес к физической жизни и его можно окончательно «очистить». В связи с этим из урны изымаются зубы — символ потребления физической пищи — и захораниваются отдельно.
В этом акте очищения костей также проявляется борьба с началом инь как воплощением хаоса, разрушения и возвращения человека в «первоначальный ком», где все неразличимо и туманно и где полностью утрачиваются индивидуальные различия. В отличие от описываемого во многих философских трактатах, в обиходе китайцы страшно боятся кануть в безвестность, по сути, стать «одиноким духом». И вся погребальная символика служит именно для возвращения этой индивидуальности: многочисленные погребальные стелы, семейные хроники, алтарь и храмы предков, устные клановые предания. Все это должно возвращать душу умершего из неупорядоченной безличной массы духов. И здесь становится понятна сама традиция поклонения наалтарным табличкам предков как полноценным представителям и даже заместителям усопшего. Табличка являет собой начало ян по отношению к телу в могиле, которое даже после всех актов очищения продолжает оставаться инь.
Еще раз напомним, что мышление китайцев ситуативно и корреляционно, здесь все воспринимается не в своей окончательной и самостоятельной форме, а лишь как трансформация по отношению к чему-то другому. Когда становится ясно, что смерть человека близка, нанимается специальный даосский или буддийский монах, а среди членов семьи умирающего выбирается руководитель церемонии, который отныне должен организовывать все семейные дела в соответствии с ритуальными традициями. Он, в частности, заботится о гробе, могиле, угощении на поминках. В последний момент умирающего человека переносят из его комнаты в небольшое помещение рядом с табличками духов предков, оставленными в главной комнате дома, — это означает, что человек уже готов встретиться со своими предками. Мужчину обычно помещают непосредственно перед табличками с именами предков лицом на юг — это священное направление в мистической традиции Китая и начало ян. Женщину же помещают слева от табличек — и это соответствует началу инь. Таким образом разыгрывается чрезвычайно тонкий спектакль, где основными действующими лицами являются уже не люди, но начала инь-ян, духи предков и дух самого умирающего человека. Теперь все пронизано символикой «ухода». Нередко человека вместо кровати кладут на соломенную или ватную циновку на полу, как бы приближая его переход в землю. Сложнее было в домах, где не существовало алтарей предков, — такое иногда встречается в деревнях и особенно среди бедных крестьян. Но и здесь символика ухода и перемены статуса присутствовала в полной мере — умирающего просто клали на пол в последний момент. Все это делаюсь спокойно и чинно, как и подобает исполнять ритуал.
 Илл. 129. Большая монастырская курильница для курительных свеч и сжигания бумажек с обращением к духам
Илл. 129. Большая монастырская курильница для курительных свеч и сжигания бумажек с обращением к духам
«Заместитель» умершего
Ритуалы, связанные с миром мертвых, погребением и всем тем, что принято называть «загробным миром», — это еще одна категория эзотерических таинств, при которых присутствовал «заместитель» духов. В них в качестве основного персонажа начиная с глубокой древности (вероятно, еще с I тыс. до н. э.) принимал участие некий
ши — понятие, ныне формально переводимое как «труп». Речь, однако, в данном случае, равно как и в ритуалах «кормления духов», шла не о реальном теле умершего человека, которое помещалось в отдельное помещение, но о представителе духа умершего.
9
На древних гадательных надписях такой «труп» изображался в виде сидящего человека (отголоски этого Илл. 130 видны и в современном иероглифе ши).
10
По сути,
ши выступает как воплощение души умершего, персонификатор его материальных свойств в момент прохода души через ряд небесных сфер. Персонификатор — важнейший участник всех погребальных церемоний, хотя трактовки смысла
ши в разные периоды истории могли различаться.
Важнейшим требованием к
ши было то, что он должен состоять в родственных отношениях с умершим и совпадать с ним по полу. Например, в случае смерти мужчины, как предписывали «Записи о ритуалах» («Ли цзи», VI–V вв. до н. э.), в качестве
ши выступал один из его внуков, а в случае отсутствия таковых — племенники вплоть до пятого колена. В случае же смерти женщины в качестве ее ш
и выступала обычно жена одного из ее внуков. Здесь примечательны несколько вещей. Прежде всего, в случае погребального ритуала связь с духом умершего поддерживается также лишь до пятого, а в ряде случаев до четвертого поколения — это же свойство поддержания связи с миром мертвых проявляется и в наалтарных табличках. Передача духа умершего во всех случаях идет по мужской линии, и хотя непосредственным персонификатором женщины является женщина, родственная связь с ней устанавливается также по мужской линии (жена внука).
Примечательно также, что сын, чей отец еще жив, не имел права выступать в качестве
ши, то есть люди, чей непосредственный родственник еще принадлежит миру живых и не может оберегать своих потомков в загробном мире, не могут соприкасаться с царством мертвых.
Следует заметить, что
ши выступал отнюдь не как прямой имитатор умершего человека, но как образ его духа-шэнъ, переселившегося на время в ближайшего родственника, который принимает на этот момент обязанности медиума. «Записи о ритуале» («Ли цзи») прямо утверждают, что «
ши — это и есть образ его духа-шэмъ».
В ряде случаев
ши выступал как носитель деревянной таблички с именем умершего предка (мучжу), причем это не было еще одной его функцией, а лишь подчеркивало связь родственника, выполнявшего роль
ши, с умершим предком. Чаще всего в этой роли выступал сын или внук умершего, а если последний был еще слишком мал, для этой роли выбирался иной родственник.
11
 Илл. 131. Алтарь со стилизованным изображением предка
Илл. 131. Алтарь со стилизованным изображением предка
Традиция участия персонификатора умершего в погребальных обрядах стала постепенно исчезать уже в VII–VIII вв., хотя в некоторых деревнях юга Китая и на Тайване сохранилась до сих пор. Ее пытались искоренить административными мерами в династию Тан, когда светская культурная традиция всячески вытесняла архаический оккультизм и обычаи медиумизма. По сути, танские правители не столько запрещают участие
ши, сколько закрывают еще один из каналов общения между мирами. Известный ученый Ду Юй в VIII в., выражая общее мнение секуляризированной культуры, боящейся своего мистического наследия, утверждал: «Сегодня, когда восторжествовали новые нравы и обычаи, этот глупейший обряд уходит в прошлое, и не стоит возрождать его. А стремиться же восстановить участие ши в обряде — это просто глупость»
Благодаря участию
ши похоронный обряд приобретает парадоксальный смысл не столько похорон, сколько, наоборот, воскрешения из мертвых. Сам же статус
ши был статусом шамана, человека, путешествующего в загробный мир и возвращающегося оттуда. В известной мере противоположностью «трупу» было обозначение тела живого человека (гиэн), которое в древности изображалось в виде беременной женщины как символа продолжения жизни. Представитель «трупа» до сих пор участвует в некоторых деревенских обрядах. Он вступает в «игру» сразу после того, как человек испускает последний вздох, — тогда разыгрывается другая часть ритуала, связанная с представлением о том, что дух усопшего по-прежнему пребывает на земле. Однако он уже является посредником между миром земным, который только что покинул усопший, и миром предков. Поэтому, перед тем как обрядить тело в погребальные одежды, их надевает один из сыновей (обычно старший сын), таким образом как бы идентифицируя себя с усопшим, изображая «труп» (
ши) и тем самым беря на себя часть его энергии. Одновременно это означает, что старшему сыну отныне передается статус лидера клана. После этого одежды надеваются уже на самого усопшего, что означает установление связи между миром живых и царством мертвых.
Обычно количество одежд должно быть нечетным, что также связано с началом
ян.
Стать другим
Практически все действия, сопровождающие смерть и погребение в Китае, полностью соответствуют известным ритуалам перемены статуса или «ритуалами перехода» (от французского
rites de passage)
13.
По сути, под ними подразумеваются практически все ритуалы, связанные с изменением статуса человека: рождением, взрослой инициацией, женитьбой, смертью. Во всех этих ритуалах человек чаще всего проходит через три стадии: расставание с прежним статусом, процесс перехода и, наконец, «объединение» или обретение нового статуса.
Обычно прохождение через такого рода ритуал может быть очень болезненным для посвящаемого — болезненным как психологически, так нередко и физически. Оно сопровождается физическими испытаниями — иногда побоями, издевательствами, нанесением татуировок.
В первой фазе человек покидает свой прежний привычный статус и целиком отбрасывает его.
Нередко это сопровождается сменой имени или принятием нового, например, монашеского или послушнического имени, сменой одежд, остриганием волос, сжиганием каких-то старых вещей. В центральной или переходной стадии ритуала он обретает переходный или пограничный (лиминальный) статус, который нередко символизирует смерть старого человека и рождение нового. Например, в китайских тайных обществах, в том числе и в знаменитой Триаде, посвящаемый представлял, что вновь выходит из лона матери, переживает выход из темноты утробы на яркий свет, первую встречу с миром и т. д.
 Или. 132. Свадебный церемониал в современном Китиае по традиционному ритуалу
Или. 132. Свадебный церемониал в современном Китиае по традиционному ритуалу
Наконец, в последней фазе человек не только обретает новый статус, но как бы заново принимается в общество. Китайские ритуалы перемены статуса в основном были связаны с поклонением предкам и с похоронными ритуалами, порою даже в тех случаях, когда человек в реальности физически и не умирал. В архаическом, «дорелигиозном» мире, когда еще не складывается институционализированная религия, ритуалы перемены статуса играют основную роль в жизни человека. В этот момент само общение с духами или божествами по сути сводится к тому, чтобы облегчить переход из одной стадии в другую, сделать его менее болезненным, как, например, в случае с умиранием, или более удачным, как в случае со свадьбой. И здесь особую роль начинают играть те люди, которые способны «перевести» человека из одного статуса в другой, из одного мира в другой. В роли таких проводников во всех культурах обычно выступали шаманы или медиумы (на практике их функции нередко пересекались). В средневековом и современном Китае в качестве таких проводников выступают даосские или буддийские монахи, старейшины семей, а иногда и специально подготовленные руководители церемоний, как в современных религиозных сектах. Они знают все тонкости установления связи с духами предков, которые, в свою очередь, подхватывают посвящаемого в бестелесном мире. В принципе, вся современная религиозная практика Китая сведена не к «вере» и тем более не к вере в Бога, как мы наблюдаем в западной традиции, но к способности и умению установить связи с духовным миром.
Как только мир входит в стадию стройных, институционализированных религий, часть ритуалов перемены статуса отмирает, часть инкорпорируется в религию и обретает не столько сакрально-мистический, сколько нравственно-праздничный статус, как, например, свадьба или похороны.
Другие же становятся просто уважительным повторением старых традиций, «оформленных» под древние ритуалы, — именно так в большинстве стран сегодня воспринимаются похороны или обряд церковного венчания. Глубокие переживания, связанные с действительным переходом из одного состояния в другое, с переживанием смерти кого-то «старого» и нового выхода из утробы, уже оказываются утрачены навсегда.
Китай по многим причинам остался страной, где еще реально живут многие «ритуалы перехода», и при этом именно они являются ритуальным и мистическим центром духовной деятельности даже современных китайцев. Подобные ритуалы как в древности, так и в современности носят очень важный социально-регулирующий смысл. Они, благодаря сильному мистическому переживанию, ставят члена общества под контроль социума, привязывают его к конкретным учителям, наставникам и родителям. Для Китая с его огромным и крайне мистифицированным населением это было всегда крайне важно. Это же совместное переживание во время ритуала давало еще больший импульс к формированию так называемого коллективного или группоориентированного сознания, когда чаяния, мысли и даже поступки индивидуума оказывались целиком подчинены группе и целиком растворены в ней.
Китайское общество еще в очень ранний период оказалось объединено одним ритуалом, несмотря на то, что сам этот ритуал мог выглядеть по-разному в разных районах. В принципе о единой китайской культуре в древнем Китае до эпохи Хань можно говорить с большой натяжкой, поскольку страна благодаря ландшафтному сочетанию гор, рек и долин была разбита на многочисленные региональные субкультуры. Например, в ту пору, когда в центральных царствах Китая в VII–V вв. до н. э. активно развивались сложные философские системы, на юге Китая, в царстве Чу, еще царствовал шаманизм, основную роль играли женщины — медиумы и шаманы, при этом стройное государственное устройство практически отсутствовало.
Начиная с эпохи раннего Чжоу большинство мужского населения в своей жизни проходило через три основных вида ритуалов: ритуалы пубертатной инициации (рождение и взросление), женитьба и похоронный ритуал. Между этими тремя вехами и пролегала жизнь человека в древнем Китае.
В «ритуалах перехода» вплоть до настоящего времени даосские и буддийские монахи выступают в качестве медиумов, сопровождающих дух человека в самые критические моменты его жизни и уменьшающих травматический опыт переживаний. Обычно даосских монахов приглашают для совершения погребальных ритуалов (
цзан), буддистов — для совершения обряда свадьбы (
хунъ), хотя в общем они взаимозаменяемы. Впрочем, по народным поверьям считается, что даосы лучше знакомы с миром мертвых.
Примечательно, что для совершения таких обрядов приглашаются не вообще какие-то буддийские или даосские монахи, а люди, считающиеся «профессионалами» в общении с потусторонним миром. Таким образом, важен не столько статус монаха, сколько его способность установить связь, например, с миром мертвых и провести душу умершего человека через все этажи загробного (или небесного, что, в сущности, одно и то же) мира. Оказывается, что сам по себе даосский или буддийский статус автоматически не гарантирует способности ориентироваться в мире духов, но в данном случае священнослужитель продолжает выполнять функции архаического медиума, который в состоянии транса «открывается» потусторонним силам.
Уход человека и рождение духа
Иногда кажется, что смерть в Китае вообще воспринималась спокойно и даже философски — такое впечатление может сложиться после прочтения, в частности, пассажей «Чжуан-цзы» и «Ли-цзы». Там посвященные мудрецы спокойно, а порою и фривольно беседуют с духами и костями умерших, говорят о смерти как о «долгожданном возвращении». Думается, впечатление такого кажущегося спокойствия навеяно самим характером той среды, из которой происходили эти тексты. Это был круг посвященных, магов и шаманов, которые действительно «путешествовали» в чертоги мертвых, возвращались оттуда и смотрели на свою физическую оболочку как на временную, порою обременительную, хотя и обязательную часть существования.
Совсем иначе смерть воспринималась в среде обычной, мирской. Хотя, строго говоря, «обычной» эту среду не назовешь.
До нас дошли указания о проведении погребальных обрядов рубежа нашей эры, в частности из «Ли цзи» (Записи о ритуалах»), и в основном они относятся к среде правителей, высших чиновников, аристократов. Разумеется, они не представляли собой всего населения Китая, однако для нас важно, что обряды эти были мирскими, хотя, безусловно, обладали обязательными чертами сакральности и магическими элементами. Но здесь уже смерть вызывала горе и сожаление. Как описывают «Ли цзи», дом был наполнен плачем и воплями, причем чем ближе к покойному был родственник, тем сильнее должны были быть его крики.
Многочисленные братья и кузены плакали, женщины обнимали ноги покойного. И все же отметим, что стенания при проводах тела в древности не столько выражали сожаление об утрате, сколько вновь и вновь разрушали темные силы, которые могли проникнуть в мир через мертвое тело. Крики отпугивали духов, восстанавливали начало ян в этом мире, и это продолжалось, пока души умершего окончательно не распадались и дух-шэнь не отбывал в царство мертвых.
Важно, чтобы усопший в момент ритуала целиком походил на живого человека, дабы хотя бы временно поддержать превалирование начала ян и не дать началу инь, представленному в виде духов, повлиять через тело на окружающих. Наконец тело перемещают в гроб. Предварительно подготавливается специальный стол в передней комнате дома, на нем расстилается специальная белая материя хунъ-по («материя душ»), обычно из шелка. На алтарь ставятся благовония, кладется ритуальная пища (обычно фрукты) и смена белья, причем все это меняется дважды в день, поскольку может еще понадобиться душам-хунъ. Человек не просто переходит в другой мир, но совершенно меняет статус, и сам характер церемонии лучше всего иллюстрирует ритуал перемены статуса в Китае.
«Ли цзи» очень подробно описывает эту странную подготовку к проводам души. Характерно, что, судя по этому описанию, она практически не изменилась в последующие эпохи. В случае ухода из жизни правителя царства или крупного чиновника из покоев прежде всего удалялись стойки с вооружением, вероятно, чтобы не разозлить духов, которые приходят встречать вновь прибывающего. Умершего клали головой на восток, причем таким образом, чтобы окна приходились с северной стороны.
Лежанку из комнаты выносили, а тело клали прямо на пол. Вся старая одежда выбрасывалась, и тело обряжалось в новые одежды. В рот и нос помещались небольшие кусочки дорогого шелка, чтобы удостовериться, что «дыхание покинуло тело».
Собственно, весь погребальный ритуал направлен на оформление смены статуса, например, человеку присваивают посмертное имя, поскольку дух не может зваться так же, как человек. Как правило, этот обычай распространялся на тех, кто еще при жизни был связан с посредническими функциями, осуществляя связь между небесным и духовным миром, с одной стороны, и земным, физическим миром — с другой. Не случайно большинство китайских императоров, понимаемых в традиции как абсолютное воплощение небесно-земного медиумизма, вошли в историю именно под своими посмертными именами. Посмертные имена получали известные даосские и буддийские мастера, и в хрониках их именовали «получение новых одежд». Посмертное имя подчеркивает, что речь идет уже не о человеке, а о его очищенном духе-шэиь, воплощении его энергетических качеств, которые он проявлял при жизни, при этом грехи, связанные с плотскими желаниями и деятельностью душ-хунь, забываются или становятся несущественными. Перемена статуса подчеркивается и частыми омовениями и переодеваниями, которые выполняются над телом усопшего. Например, обряжание его в посмертные одежды именуется
сяолянъ — обретением «малого лица», а положение во гроб — далянь, то есть обретением «большого лица». И то и другое представляет единый процесс «одевания» физического тела человека в абсолютно новую форму одежд, причем как гроб, так и погребальные одежды никогда не используются для живых людей.
Более того, всю ритуальную утварь следует либо сжигать, либо хоронить вместе с телом. Так, ломается и сжигается расческа, которой расчесывали волосы покойного, а вся утварь для омовения также нередко помещается в гроб.
Вместе с этим, еще в чжоуском Китае погребальный ритуал был нацелен не только на изменение статуса человека на духа, но и на сохранение его прижизненных статусов в загробном мире. По сути, это понималось как сохранение баланса инь-ян даже после смерти, но особенно — в момент умирания. Так, по описанию «Записок о ритуале» (I в. до н. э.), мужчине нельзя было умирать на руках у женщины, и наоборот, женщину провожает в последний путь только женщина.
Особенно много внимания уделялось внутренней отделке гроба, причем социальная стратификация и распадение мира на правителей и подданных продолжали существовать и в загробном мире. Все делалось строго по ритуальному предписанию, дабы сохранить порядок в мире духов и не ввергнуть его в хаос, который может повредить и людям обычного мира. Каждая деталь отделки погребальной утвари, каждый элемент ритуала должны способствовать «переносу» статусов из мира земного в мир загробный и таким образом поддерживать «проницаемость» между мирами — основу всякой магии. Так, гроб правителя отделывался изнутри красным шелком или атласом красного цвета (красный — погребальный цвет правителя), который закреплялся гвоздями из дорогих металлов. Гроб высших придворных чиновников обивался темно-синим шелком, закрепленным гвоздями из костей вола. Наконец, гроб обычного чиновника изнутри был отполирован, но не имел никаких гвоздей. Точно таким же образом крышка гроба правителя тщательнейшим образом полировалась и скреплялась по краям тремя двойными клиньями, с тремя полосами на каждом. Крышка гроба высшего чиновника также лакировалась, но скреплялась уже двумя двойными клиньями, а крышка гроба обычного чиновника лаком не покрывалась, хотя также скреплялась двойными клиньями. Внешняя часть гроба правителя изготавливалась из сосны — символа долголетия и мудрости, высшего чиновника — из кипариса, более мелких чиновников — из различных пород древесины.
Цветовая гамма и орнаментированная символика вообще играли особую роль в сохранении загробного статуса умершего. Рисунки на гробе и погребальном катафалке, равно как и их раскраска, с очевидностью указывали на то, что из жизни уходит либо обычный человек, либо воплощенный в человеческий облик дух. В погребальном орнаменте всегда присутствовали именно те изображения, которые стабильно встречались на древних бронзовых сосудах. Таким образом, можно отметить, что в древности не существовало никаких иных изображений, кроме «рисунков из потустороннего мира». Именно эти изображения являлись итогом визуализации шаманских переживаний, и именно они в конечном счете воплощались на погребальных предметах. Так, катафалк с фобом правителя всегда украшался занавесками с драконами. Здесь же рисовались фазаны, топоры и языки пламени. И драконы, и фазаны были перевозчиками души в царство мертвых, топоры являлись неизменным атрибутом ранних ритуальных служений, огонь — важнейшим элементом шаманских видений и путешествий в царство мертвых, и таким образом гроб с телом правителя был не чем иным, как колесницей, доставляющей тело в потусторонний мир. Здесь же на изображениях присутствовали рыбы, будто бы выпрыгивающие из воды, — древний символ перевоплощений и мира смерти, известный еще из неолита. Значительно скромнее украшался гроб чиновников более низкого ранга, однако суть символики сохранялась.
Гроб нес и нумерологическую символику традиционной пентатоники (пятеричности), в частности, в его раскраске присутствовало пять цветов, обычно расположенных по пяти рядам.
Примечательно, что цифра «пять» как основа древнейшей схемы мироустройства широко встречалась в древних текстах, которые, по-видимому, и соотносились с описаниями приемов медиумной и шаманской практики. Характерный пример тому — пассаж из «Дао дэ цзина»: «
Пять цветов слепят глаза человека. Пять тонов музыки притупляют его слух. Пять вкусовых ощущений ранят его рот» (§ 12). Безусловно, это связано с изначальными представлениями о центре и четырех сторонах света, однако центре не столько географическом, сколько о «мировой оси», связывающей человека с небесными силами, вокруг которой строится весь мир.
Путешествие через мир мертвых
Ритуалом захоронения похоронные обряды не завершались — теперь следовало проводить душу через все препоны, «заставы» и этажи мира мертвых, дабы она заняла причитающееся ей место и уже не возвращалась на землю. Для этого к душе следует постоянно обращаться по имени, вспоминать о ней, чтобы она не затерялась в потустороннем мире и сохранила самоидентификацию. И поэтому практически с самого момента погребения начинается долгая, а порою и многолетняя череда поминовений и траура.
В частности, до сих пор в ряде районов Центрального Китая в течение каждого седьмого дня после смерти выполняются ритуалы жертвоприношений, поскольку именно в этот период душа расстается с материальным миром. Всего следует выполнить семь ритуалов, сопровождая душу на всех этапах ее путешествия, для чего обычно приглашаются буддийские монахи. Наконец, на 49-й день душа окончательно расстается с этим миром. Такие ритуалы именуются «делать семь» (
цзо ци).
После смерти объявлялся траур, который в традиционном Китае мог продолжаться несколько лет.
Траур, помимо ношения особых одежд, сопровождался еще и пищевыми предписаниями, основанными не столько на ограничениях, сколько на сочетаемости различных типов пищи. Суть такого поста соотносилась с древнейшими представлениями о совместном питании с духами: сохраняя в течение определенного времени связь с духом предка или повторно устанавливая ее через ритуал, родственник умершего, питая свое тело, одновременно кормил и духа.
Соответственно, обычно в течение трех лет продолжался акт совместного кормления человека и духа. «Ли цзи» описывает по крайней мере три таких пищевых предписания. При еде грубого риса, который запивался простой водой, нельзя есть овощи или плоды; в конце третьего месяца после похорон следовало есть мясо и пить вино; наконец, в конце года следовало отказаться от мяса и вина.
Особая миссия «проводников» души в средневековом и современном Китае возлагалась на буддийских или даосских монахов, игравших роль древних шаманов. Именно они должны провести душу через ряд препятствий и застав, дабы она обрела идентификацию в мире мертвых.
По сути человек, провожающий душу и принимающий на себя роль шамана-проводника, повторяет весь путь души умершего человека, а потому он для себя делает ряд указателей на этом пути. Помимо вознесения молитв и отправления обрядов, особую роль здесь играют специальные талисманы, амулеты и сакральные надписи, помогающие душе ориентироваться в загробном мире. Душе выдается целый ряд документов, которые сжигаются, то есть переводятся в «тонкое» состояние, в то же самое, в каком пребывает и душа. Например, душе выдается специальное «свидетельство» или «пропуск» (
лу инь), открывающий душе проход через все сферы и заставы.
По народным преданиям, это также освобождает от уплаты «дорожного налога», который должна платить душа на этом пути. На желтой бумаге душе выписывается отдельное разрешение отбыть из мира живых. Специальным документом, «открывающим помост» — доступ в мир духов (
кайтань), оформляется просьба к духам помочь потерянной душе (
гуа по), например, разбойника или бродяги, обрести покой и найти свое место в мире мертвых, дабы его душа более не вредила людям.
Когда в момент погребального ритуала человеку предоставляют на время новое физическое тело в виде его «заместителя» ши, это также связано с поэтапностью прохождения через мир мертвых, чтобы душа могла адаптироваться к своему внетелесному существованию, не испугаться и не потеряться в небесных сферах. Эту особенность обнаружения временного физического пристанища души в теле родственника в момент погребального ритуала отмечал, в частности, известный философ-неоконфуцианец Чэн И (1033–1107): «В момент совершения погребального ритуала древние использовали ши, поскольку дух и энергия умершего после того, как они отделились от тела, стремятся найти себе "одежды" того же [физического] свойства»
14.
Если ши выступал именно как заместитель умершего и одновременно как сам умерший, то тело, которое лежало в гробу, именовалось цзю, и таким образом с самого начала происходила абсолютная деидентификация собственно плоти (
цзю) и того существа, которому предстояло отправиться в загробный мир (
ши). Сам факт такого разделения, как считалось, был очень важен для души умершего, чтобы сразу разрушить ее представления о себе как о чем-то обладающем плотью и не прекратить сожаления об утрате физического бытия.
Ни человек в этом мире, ни его душа в мире потустороннем не должны быть одиноки. Китайская мистическая традиция все увязывает внутри «семьи», причем само понятие «семьи» в этом случае уже выходит за рамки собственно кровнородственных отношений, но описывает особый тип связи, внутри которого все ее члены скреплены мистическими узами «предки-потомки», «люди-духи». Семья существует не только и даже не столько в этом мире но продлевает свое существование в мире загробном. Более того, именно потому, что существует некая «семья» в мире духов, может существовать и семья в мире людей.
Самое страшное, что может произойти с душой человека, — это остаться после смерти не включенной ни в одну из «семей», пребывать одинокой и неприкаянной.
…???…
Илл. 134. Даос, медитирующий в храме, перед листками с посланиями в мир духов. Эти надписи следует сжигать в алтаре перед храмом
Дело в том, что существует ряд душ, над которыми по разным причинам не может быть проведен обычный обряд: бандиты, падшие женщины, жертвы разбойных нападений и др. Такая душа превращается в «одинокого духа» или «душу-сироту» (
гуа хунъ), которая, не будучи через погребальный ритуал связана с той или иной семьей и не став из-за этого душой предка, не может превратиться в духа-шэнъ и является вредоносным духом.
Именно из-за этого над могилами бандитов и жертв массовых убийств, например, свершались специальные ритуалы, чтобы души-шэнъ оказались приобщены к местному клану и опосредованно превратились бы в духов-предков В таких сложных ситуациях могли помочь только даосские или буддийские монахи как знатоки мира духов, причем если в средневековье особо могущественными считались в основном даосы, то в современный период деревни чаще всего приглашают буддистов, которые способны успокоить «сиротливую душу». Буддисты вообще брали на себя самые сложные функции по общению с тонким миром, в том числе и успокоение «сиротливых душ».
Концепция «сиротливой души», которая до сих пор нередко встречается в центральном и южном Китае, приоткрывает нам завесу над некоторыми древними высказываниями, встречающимися в «Дао дэ цзине» Лао-цзы. Составитель этого древнейшего посвятительного текста говорит, на первый взгляд, странную фразу: высшие рассматривают низших в качестве своей основы. Поэтому правитель и князья называют себя «сирыми», «покинутыми», «неудачниками» (§ 39).
Помимо «сиротливой души» особую проблему представляют молодые девушки, которые умерли до того, как вступили в брак. Поскольку в Китае род является патрилинейным, то есть определяется по мужской линии, девушка до замужества по сути находилась еще «вне семьи», и о ней некому было позаботится как о «предке». Душа девушки, умершей до замужества, могла чинить большие неприятности, скажем, в первые сто дней забирать детей в мир мертвых.
15
В этом случае буддийские монахи выполняют особый ритуал, например табличку с именем усопшей помещают в женский монастырь, и считается, что уже после смерти она приняла постриг и отныне является членом монашеской
сангхи. Теперь вся община, выполняя роль семьи, будет заботиться о ней как о монахине.
В других случаях табличку помещали в специальной комнате между кухней и трапезной, чтобы дух хорошо питался, а в честь духа выполняли соответствующие церемонии на празднике поминовения.
 Илл. 135. Земные духи дают отчет о деяниях человека на земле
Илл. 135. Земные духи дают отчет о деяниях человека на земле
Таким образом, успокоение «сиротливой души» вновь сводилось к ритуалу ее регулярного кормления, пускай даже запахами, идущими из кухни.
Впрочем, существовал еще один способ, связанный с тем, что до свершения ритуала поминовения умершего его душа по-прежнему пребывает в мире и может соотноситься с людьми. Поэтому для девушки игралась посмертная свадьба. Обычно для этой церемонии выбирался юноша из бедной семьи. Он брал табличку с именем девушки к себе домой, ставил на семейный алтарь, воскуривал благовония и совершал обряд, как для члена семьи. Затем проводилась церемония свадьбы, и «молодожен» должен был провести ночь, положив себе в постель табличку с именем девушки. Яркие эротические видения юноши в эту ночь свидетельствовали, что свадьба с духом состоялась, сам дух умиротворен, а юноша отныне имеет жену.
Для мира мистического не существует понятия времени, его течения, а следовательно, события могут быть переставлены местами: сначала смерть, а потом замужество.
Существовала и особая роль у буддийских монахинь — их обычно нанимали для того, чтобы найти и успокоить душу человека, которого убили на дороге. Самая важная причина, отчего может страдать душа, заключается в том, что над ней не был произведен ритуал очищения и проведения на небеса, который полагается выполнять для всех предков. Таким образом, она без соответствующего ритуала не обрела статус «души предка», а без «проводника», каковым является буддист-медиум, не может найти дорогу в полагающиеся ей сферы. Тогда прямо на дороге ставится специальный алтарь (
тань), который посвящен буддийскому божеству Дицзанвану — «Хранителю подземного мира» (санскр.
Ситтигхарба).
На стенах алтаря развешиваются свитки с изображениями наиболее мощных буддийских божеств, например богини Гуаньинь (
Ава-локитешвары), Будды Амидды, боддисатвы Манчжушри верхом на льве.
16
Нередко подобная церемония обнаружения души занимает практически весь день и часть ночи, однако душу обязательно надо «отловить» и провести сквозь все необходимые небесные или подземные этажи, чтобы она успокоилась и не могла вредить людям, особенно прохожим, на том месте, где был убит обладатель этой души. Поэтому сам ритуал завершается символическим разбиванием врат подземного царства, в результате чего душа освобождается.
Душа освобожденная есть душа, способная к возрождению и к возвращению в этот мир.
Прижизненные заслуги человека для посмертного существования шэнь, безусловно, учитываются в магических концепциях, однако не столь очевидным образом, как, например, в буддийской теории кармы, накопления заслуг и добродетельных поступков (кит.
гундэ, санскр.
пуньяя).
Ликование от смерти
В западной культуре смерть и сам мотив смерти на обыденном уровне не обладает практически никаким положительным содержанием. Если не принимать во внимание весьма небольшую категорию философов и мистиков, абстрактно и спокойно рассуждающих об «уходе в небытие», то куда большая часть человечества смерти страшится, а порою и избегает рассуждать о ней в позитивных тонах. Более того, настойчивые размышления и постоянные разговоры о смерти могут вызывать у представителя западной традиции подозрения в психической неадекватности человека, склонности его к самоубийству и душевной неуравновешенности.
Традиционное китайское сознание демонстрирует нам совсем иной подход к «оставлению» этого мира. Он не отличается ни жеманством западной философской проповеди о «неизбежности смерти», ни особым страхом перед загадочностью потустороннего мира. Мир но ту сторону бытия как раз хорошо известен благодаря мистическому опыту и многочисленным историям о запредельных путешествиях, этот мир населен вполне знакомыми существами, с которыми китаец общается на протяжении всей своей земной жизни. Западная религия отказалась от целенаправленного обслуживания мира смерти, ограничившись отпеваниями и поминовениями, но не допуская даже мысли о регулярном общении с душами умерших. В противоположность этому Китай на протяжении нескольких тысячелетий поддерживал и вскармливал особую категорию священнослужителей, которые ставили своей целью исключительно обслуживание потустороннего мира.
В китайской системе потустороннего бытия нет ни капли иррационализма или слепой веры.
Наоборот, все построено на строгой логике продолжения существования в иной форме и в ином пространстве, которое также нуждается в заботе и «обустройстве».
Древние люди, как кажется, вообще имели очень точные представления о мире смерти, что несложно проследить в египетских, месопотамских и древнекитайских культах.
Здесь следует сделать небольшое отступление от собственно китайской тематики — оно позволит нам пояснить мысль, что описанная выше форма погребального ритуала не является просто неким ритуальным «китайским изобретением», но в известной мере универсальна для древнего мира. И речь идет не о наличии погребального ритуала вообще — вряд ли можно встретить хотя бы один народ без него, — но именно о точном совпадении обрядовой стороны. И это позволит предположить, что погребальный ритуал суть действительно общение с набором запредельных сущностей и состояний, когда миру живому через смерть одного его члена открываются врата в мир заупокойный.
Примечательно, что все те люди, которых обычно именуют китайскими «философами», особенно периода Восточного Чжоу, были основными трактователями смысла смерти и перехода в инобытие, выступая в традиционной роли шаманов и «проводников душ» умерших. Делалось это по-разному, например Чжуан-цзы всегда подчеркивал свое незнание того, что происходит «там», но при этом отмечал, что нет смысла страшиться смерти. Конфуций избегал этого вообще, замечая: «Если мы не знаем, что такое жизнь, как можем мы рассуждать о смерти?» Вряд ли стоит полагать, что он не имел на этот счет никаких суждений, скорее Конфуций всегда намеренно уклонялся от бесед о «сокровенном», пытаясь обратить мистическое знание в пространство рационального служения государству, и в этом он заметно отличался от мистиков прежнего поколения.
Философские рассуждения о суетности жизни и возможности бессмертия, что приписывались ранним даосам, имеют свой исток не столько в философии, сколько в шаманских представлениях о возможности продолжить свое путешествие по царству мертвых, а в ряде случаев даже вернуться оттуда. Даосы, подобные Чжуан-цзы, Ле-цзы, Ян-чжу, Лао-цзы, как видно, не отражали некие философские идеи о бытии, не обменивались возвышенно-эстетическими концептами, но описывали опыт собственных (или подслушанных у кого-то) запредельных состояний и контактов с миром мертвых. По сути, в пассажах даосов Чжуан-цзы или Ле-цзы об их беседах с мертвыми или размышлениях о смерти не содержится ничего подобного описаниям практики шаманов, каковыми, собственно, и являлись те, кого обычно именуют ранними даосами.
Смерть расценивалась как возвращение к истинному лику человека, который уже значит существенно больше, чем просто физическое тело. Народные мифы о «бессмертных», которые бродят по земле, а порою веселятся и даже проказничают, частично обязаны своим происхождением концепции смерти как «возвращения». С этим же связана традиционная для оккультной практики древних обществ мысль о шамане как об «уже умершем» или «возвратившемся из царства смерти». «В древности предки прежних поколений именовали умерших „людьми, что возвратились". Говоря о том, что „умершие возвратились", они подразумевали, что жизнь наша — не более чем странствие».
17
В этом отрывке из древнего даосского трактата «Ле-цзы» вряд ли стоит усматривать созерцательность и философскую задумчивость над фактом временности земного существования.
Тема смерти вообще становится излюбленной темой бесед целого слоя даосских мистиков. Пожалуй, самым известным пассажем такого рода является история из «Чжуан-цзы» о его беседе с черепом.
Направляясь в царство Чу, Чжуан-цзы увидел на дороге выбеленный ветрами череп и обратился к нему с «мудрыми» речами. А затем Чжуан-цзы подсунул его под голову вместо подушки и заснул. В полночь же череп явился ему во сне и сказал:
— Все, что вы говорили, все эти ваши бойкие и многословные речи — это именно то, что можно ожидать от живого человека. Это лишь показывает, сколь много затруднений испытывает он постоянно, от которых мы, мертвые, абсолютно свободны. Так хотели бы вы услышать от меня пару слов о мире мертвых?
— Разумеется, я хочу, — ответил Чжуан-цзы.
— В мире мертвых, — сказал череп, — нет ни правителей, ни подданных. Нет смены сезонов, для нас весь мир — весна и весь мир — осень. И ни один правитель, что восседает на престоле, не обладает большей радостью, чем мы.
— Предположим, что я смог бы убедить Властителя судеб вернуть вам снова облик, одеть ваши кости плотью и кожей, чтобы вы смогли вернуться назад к своим родителям, к жене и детям. Я не думаю, что бы вы отказались.
— Как можете вы даже вообразить, чтобы я отбросил радость большую, чем испытывает правитель на престоле!
Примечательно, что история эта происходит с Чжуан-цзы, когда он направляется в царство Чу, — в этом содержится явное указание на связь самой истории с шаманской практикой. В беседе с черепом — несколько слоев. Самый очевидный — это мотив того, что мир мертвых является более благодатным, спокойным и могущественным, чем мир живых, а поэтому самой смерти страшиться не надо. Менее очевиден другой слой — путешествие самого Чжуан-цзы в мир мертвых во сне или забытьи, что говорит о нем как о шамане. Вряд ли стоит воспринимать эту историю лишь как притчу, скорее это типичный рассказ о видении мага, как и большинство других повествований из «Чжуан-цзы».
И в этих рассказах — поразительным и необъяснимым с точки зрения западной культуры образом — мы видим, что мир мертвых не является ни юдолью скорби, ни обителью мучений и переживаний, но царством какого-то ликующего торжества истины. Здесь правит радость свободы от мира (то, что потом ляжет в основу буддизма).
Значительно более поздние традиции, связанные с отношением к миру мертвых, тесно перекликаются с «беседой с черепом» у Чжуан-цзы. Следует заметить, что страх перед мертвым телом или хотя бы уважение к усопшим в традиционном Китае были весьма относительными, если не отсутствовали вообще. Где-то в сознании существовало четкое разделение между плотью, что помещается могилу, и духом-шэнь, который с момента смерти тела начинал играть роль единственного хозяина. Вопреки обиходным представлениям о пиетете перед прахом предков, китайцы трепетали перед их душами, но никак не перед телами. Первооткрыватель китайских древних культур И. Андерсон с большим удивлением описывал, что во время его пребывания в Китае в 30-е — начале 40-х гг. к его дому каждый день приходили группы по три-четыре человека с предложением продать ему урны с прахом умерших. Начинался долгий торг, и к концу дня у Андерсона прибавлялось порой по тридцать новых урн. Более того, увидев неподдельный интерес шведского ученого к такого рода вещам, торговцы образовали своего рода синдикат и старались держать цену. Окрестные кладбища разрушались самым варварским образом, причем власти не обращали на это ни малейшего внимания, пока торговцы-мародеры не устроили потасовку прямо у могил. Дело дошло до того, что сам Андерсон был вынужден обратиться к властям с просьбой защитить могилы от разграбления, поскольку погоня за небольшой, но стабильной прибылью целиком заслонила даже малейшее уважение к праху усопших и грозила оставить близлежащие окрестности без единой целой могилы.
18
Столь непочтительное отношение к смерти, поразившее Андерсона, во многом связано с позитивной оценкой самого акта умирания, что во многом имеет свои корни в древних культах смерти как «великого света», а также с возможностью возвращения души не только в этот мир, но даже и в прежнее тело.
Прикоснуться к свету
Сам процесс умирания поразительным образом рассматривается как момент окончательного просветления, схожего с тем состоянием, когда человек вдруг ощущает свое прямое соприкосновение с духовным миром.
И здесь самую главную роль начинают играть ощущения — легкости, внутреннего света, непривязанности к материальному миру и к проявлениям жизни вообще. И даос, и ранний шаман, и умирающий человек, оказывается, испытывают одно и то же состояние.
«Всякий раз, когда я закрываю глаза, я чувствую, что мое тело легко, словно свет, и подобно одинокой прогулке по облакам. Кажется, что мой дух уже отбыл, и здесь осталось лишь мое тело», — заявляет Чжуан-цзы. Это же состояние легкости и внетелесности характерно и для описаний состояния просветления у буддистов.
 Илл. 137. Цюй Ю (поэт и мистик)
Илл. 137. Цюй Ю (поэт и мистик)
Свет и поразительное ощущение легкости — так даосы характеризовали переживание Дао. Путь-Дао вообще связан с понятием либо слепящего света, либо абсолютной темноты как символа сокрытости, потаенности. В одном из наставлений «Дао дэ цзин» мы встречаем пассаж, говорящий о какой-то ныне утраченной технике «использования света Дао»: «Используй его сияние, возвращайся к его свету» (§ 52).
Яркий, слепящий свет — очень характерная особенность проникновения в потусторонний мир и избавления, хотя бы временного, от своей физической оболочки. И вместе с этим свет — признак обращения к царству мертвых. Не случайно в древнейших трактатах целый ряд существ, за которыми можно видеть воплощенных шаманов, ассоциировались именно со светом. Так, вход на Куньлунь — обитель бессмертных и одновременно царство мертвых — охраняет животное «Открывающее свет» (Каймин), «похожее на огромного тигра с девятью головами, у каждой из которых человеческое лицо»
19.
Сочетание символов слепящего света и мира мертвых проявляются еще в одном существе лун (драконе) — Чжулуне, чье имя дословно означает «Лун-светильник». У него также «человеческое лицо, туловище дракона, а ног нет»
20. Именно этот лун освещает великую тьму: «когда закрывает глаза, наступает тьма, открывает — появляется свет»
21.
Последний пассаж может быть связан с ритуалами инициации, при которых «открытие глаз» является признаком пробуждения и приобщения к свету. Подобная символика ритуалов встречается до сих пор в некоторых религиозных группах в КНР и на Тайване, в частности среди ответвлений секты Игуаньдао.
Имена некоторых древних правителей и магов также были связаны с символикой яркого света, и встреча с таким правителем означала, по сути, избавление от физической оболочки и возвращение в мир предков. По одной из трактовок, раннее значение имени первоправителя Хуан-ди было не «желтый император», оно записывалось несколько видоизмененными иероглифами, означающими «сияние» или «испускающий свет»
22.
«Избавление от тела», которым в даосских практиках обозначали физическую смерть, оказывается залогом чистоты внутреннего состояния, окончательного освобождения духа. В частности, такое отношение можно усмотреть в известном пассаже из «Дао дэ цзина»: «Ценить свое тело — то же самое, что ценить величайшие несчастья». Это, вероятно, очень древнее высказывание, почерпнутое составителем трактата в среде мистиков и либо являвшееся заклинательной формулой «избавления от тела», либо уже превратившееся в народную поговорку. Но дальше составитель «Дао дэ цзина» дает трактовку этому высказыванию: «Причина, по которой я сталкиваюсь с величайшими несчастьями, заключена в том, что я имею тело. Если бы я не имел тела, откуда же взяться несчастьям?» (§ 13).
Избежать воздействия этого мира можно лишь изолировав физическое тело человека от внешнего влияния. В этом, в частности, заключается и смысл медитации как прекращения всяких жизненных проявлений вообще, очищения сознания от образов и привычек, полученных в результате прижизненного опыта. Суть этой практики — в «умирании» находясь еще в физическом теле, не случайно буддийское понятие «нирвана» в своем изначальном смысле означает «угасание». Метод «отсечения» себя от мира как полного «угасания» еще в физической оболочке был известен и в добуддийской практике и использовался мистиками, по крайней мере, уже в VII–V вв. до н. э. В «Дао дэ цзина» приводится формула подобного самопогружения, когда все органы чувств отключаются от внешних воздействий: «Закрой отверстия, запри двери — и в твоем теле более не родятся болезни. Открой отверстия, предайся делам — и твое тело уже не спасти» (§ 52). И именно это, как следует из процитированной священной формулы, ведет человека к превращению в бессмертного, к воплощению его в виде истинного мага, в чьем теле «не родятся болезни».
Знаком «умирания» еще в физическом теле здесь выступает распространенное понятие «самозабытие» (
ванво), популярное в даосских сочинениях. Безусловно, его можно воспринимать как часть некой весьма точной философской концепции самоутраты, растворения в этом мире, уничтожения собственного «эго». Действительно, именно в таком варианте «самозабытие» можно встретить уже в рассуждениях представителей школы «Учения о сокровенном» (Сюаньсюэ) в III–IV вв. и в особенности в даосских сочинениях XIII–XV вв. Однако исток «самозабытия» лежит также в практике шаманских странствий в мир мертвых и особом типе переживания пост-смертного опыта.
Переход в мир мертвых воспринимается как абсолютное, полное и окончательное оставление своего прижизненного физического опыта, своих воспоминаний и навыков, которые вряд ли понадобятся в бестелесном мире. Более того — воспоминания будут лишь мучить душу, лишившуюся собственного тела, и не позволят ей окончательно расстаться с земной жизнью, обрекая ее на постоянное возвращение в виде «потерянной» или «одинокой души» (
гуа хунъ). Все прошлое должно быть забыто окончательно («окончательное освобождение» — у или цзе в буддизме). Но шаман, путешествующий в мир мертвых, также вынужден пересекать эту границу забвения и возвращаться вновь к своим прежним воспоминаниям. Живой человек не может находиться в мире духов, а потому на какое-то время он должен умереть своим сознанием, забыться, утратить не только ощущение своего тела (что столь характерно для сеансов медитации), но и «умереть» как физиологическое существо.
Поэтому термин «самозабытие» или дословно «забывание о самом себе» есть явное указание на путешествие в мир мертвых, на умирание, пускай и временное, китайского шамана или медиума.
Характерно, что даже в западной традиции переход в царство мертвых характеризуется именно «забвением» (Лета — «река забвения»). Так, орфизм, мистическое греческое учение, утверждал, что недавно умерший человек, испив из Леты, теряет память и все воспоминания о своем недавнем существовании. В противоположность этому посвященные-орфики должны были испить из реки памяти — Мнемозины, и это возвращало их к предшествующим воспоминаниям. В храме Трофония, где обитали оракулы, недалеко от древней Лебадии (ныне греческая Ливадия), по преданиям, располагается вход в подземный мир, откуда и вытекают два источника — Лета и Мнемозина. Таким образом, посвящённый в Учение мог безбоязненно странствовать в мире мертвых, забывая все и возвращаясь к своим воспоминаниям и к своему опыту вновь, отпивая из разных источников. Учение орфизма в своем мистическом компоненте в немалой степени совпадало с учением и даже практикой мистических даосских школ, например даосской школы «Высшей чистоты» в горах Маошань. В частности, так же как и в даосизме, орфики считали, что чистая душа заключена, словно в клетке, в физическом теле человека и необходимо использовать специальные мистические практики, чтобы освободить душу из тела. Для этого, в частности, следовало воздерживаться от мясной пищи, алкоголя и половых связей. А после смерти тела происходил суд над душой. В случае праведной жизни человека душа могла отправиться гулять по полям Элизиума, или рая, в случае ошибок она могла быть наказана или даже сослана в некое подобие ада. После отбытия наказания душа может вернуться в этот мир, переродиться в новом теле. И лишь после того, как душа проживет праведную жизнь трижды, она может быть освобождена из цикла перерождений.
23
И здесь сложно не вспомнить буддийскую концепцию возвращения душ и стремления выхода из «круга рождений и смертей» для достижения окончательного освобождения.
Такой китайско-греческий параллелизм странствия в мир мертвых, связанного с абсолютным забвением, вряд ли можно считать лишь совпадением, хотя он ничего нам не говорит и о прямом заимствовании. Скорее, речь следует вести о совпадении переживаний смерти и трансгрессии, характерной для шаманской и медиумной практики. Примечательно, что и по греческим преданиям, упоминаемым, в частности, в 10-й книге «Республики» Платона, душа умершего должна испить из «реки забвения» перед своим возрождением. В сущности, образ греческого оракула, предсказателя, говорящего от имени богов, вселившихся в него, и читающего разного рода знаки и предзнаменования, занимает ту же самую социальную и религиозную нишу, что и китайский медиум, а позже и мистик-даос. Не менее характерно, что в древних культах в качестве медиумов нередко выступали женщины — пифии в Греции и у в Китае.
Земное существование как таковое в этом пространстве кажется бессмысленным, поскольку с определенного момента уже не дает возможностей для дальнейшего самопознания. Более того, само стремление к жизни — лишь иллюзия, и даже мысль о том, что кто-то способен грустить, расставаясь с жизнью, для посвященного мага кажется абсурдной. Чжуан-цзы размышляет: «Госпожа Ли был дочерью хранителя заставы по имени Аи. Когда ее захватили в качестве военной добычи и преподнесли правителю царства Цин, сначала она плакала так, что слезы промочили воротник ее одежды. Но затем, когда она вступила во дворец правителя, стала там жить и разделять постель с господином, вкушала восхитительные кушанья с его стола, она много раз задавалась вопросом, почему же она раньше так сильно плакала. Откуда мне знать, не задаются ли мертвые вопросом, почему они раньше так хотели жить?».
Призвать душу обратно Мир смерти в китайской культуре был не столько пугающим, сколько «операциональным», и в этом смысле история всей китайской культуры — это история поисков методов использования этого потустороннего мира.
Китай в течение тысячелетий учился не только провожать души умерших, что выразилось в досконально разработанных погребальных ритуалах, но и призывать их обратно в случае необходимости.
Еще в древнем Китая сформировалось это магическое искусство призывания душ обратно, заключающееся в умении вернуть их в плотский мир (но не в плоть как таковую). Для этого использовались особые обряды и заклинания, и если сам вид обряда до нас не дошел, то некоторые священные формулы мы все же можем восстановить. «Ли цзи» («Записи о ритуалах») рассказывают, что «во время особого церемониала появлялись люди, которые в случае смерти кого-нибудь поднимались на крыши и кричали: „Возвращайтесь все, кто отбыл!"»
24. Для того чтобы душа вернулась обратно, следовало взять одежду, которую носил умерший, подняться на крышу дома, встать лицом на север (где располагались чертоги мертвых) и, держа одежды в руках, призывать его вернуться обратно.
Похожий ритуал «призывания» души обратно в тело использовался шаманами южной традиции Чу, когда они занимались врачеванием тяжело больных людей.
 Илл. 138. Скальные пещеры Драконьих врат (Лунмэнь) неподалеку от г. Лояна, провинция Хэнанъ. С V–VII вв. — место буддийского отшельничества и медитативной практики
Илл. 138. Скальные пещеры Драконьих врат (Лунмэнь) неподалеку от г. Лояна, провинция Хэнанъ. С V–VII вв. — место буддийского отшельничества и медитативной практики
Заклинания, связанные с этим типом ритуалов и относящиеся к южной традиции царства Чу, подробно описаны в поэме знаменитого Цюй Юаня (340–278) «Призывание души». «Призывание души» — поэма, весьма необычная по силе своих образов даже для столь яркого представителя южной традиции Чу, как Цюй Юань. В связи с этим ее авторство даже подвергалось сомнению, в частности, считалось, что ее написал Ван И, ученик Цюй Юаня, на смерть своего учителя, хотя большинство специалистов все же склонны считать это мистическое произведение творчеством самого Цюй Юаня.
25
В качестве основной фабулы Цюй Юань передает диалог, якобы состоявшийся между верховным духом и магом У Яном. Верховный дух просит помочь на земле одному человеку возвратиться к жизни и совершить магический обряд призывания его души. Скорее всего, речь идет о правителе царства Чу Хуай-ване, которого высокого почитал сам Цюй Юань. Заклинатель, выполняя ритуал, суть которого, как обычно, не описывается, произносит длинную сакральную формулу. Трудно точно сказать, сколько в этом тексте от действительного древнего заклинания и сколько от поэтического вдохновения самого Цюй Юаня; думается, что поэт весьма точно передает структуру самого ритуала. Она заключается, прежде всего, в прямом обращении к самой душе, к четырем сторонам света в строгом соответствии со следующей последовательностью: восток, юг, север, запад. Призывы также обращены к Небу и земле.
Метод призыва души заключался, прежде всего, в прямом и многократном обращении к ней.
Одновременно шаман запугивает душу теми трудностями и несчастьями, с которыми она столкнется в своих путешествиях в загробном мире. Последовательно перечисляя ужасы всех сторон света, шаман стремится не оставить душе места в потустороннем мире:
Вернись, душа!
Зачем оставила ты старую свою обитель
И устремилась в дальние чертоги?
Покинув край, где радостей столь много было,
Чтобы встретить все недобрые предначертанья?
Вернись, душа!
На востоке не жить тебе.
Там, где обитель лишь гигантов, что души мертвых страждут,
Где десять солнц всплывают в Небесах,
Металлы плавят, камни разрушают.
Народ, что испокон веков живет там, — он уже смирился,
Но ты, душа, вся сгинешьтам!
Да, на востоке не жить тебе!
Вернись, душа!
И на юге не остаться тебе,
Там, где татуируют лица и зубы чернят,
Приносят в жертву плоть людей,
А кости в глину обращают.
Там ядовитых змей несметно много,
Там мчатся стаи великанов-лис.
В чертогах тех — девятиглавый змей,
Который все пути там охраняет,
Глотает он людей забавы ради.
Да, и на юге не остаться тебе!
Вернись, душа!
И Запад множество опасностей таит.
Зыбучие пески на сотни ли там протянулись.
Разбита будешь ты на множество частей,
КАК ПРИЗВАТЬ ДУШУ ОБРА!
Разбросана по тысячам щелей.
Помочь себе не сможешь ты.
И даже если ты сумеешь выбраться из этого чертога,
Перед тобой — лишь бесплодная пустыня,
Где красный муравей слону подобен,
А пчелы велики, как тыквы.
Пять злаков там не прорастают,
Сухие лишь побеги служат пищей там,
Земля людей там обжигает,
И воду негде там найти!
И странствовать тебе придется вечно там,
И негде будет приютиться.
Душа, вернись!
Не обрекай себя на муки вечные!
Душа, вернись!
И на севере не обитать тебе!
Там скалы льда вздымаются высоко,
А снег метет на сотни ли.
Вернись, душа!
Надолго тебе там не оставаться!
Заклинание явно ритмизировано под песню или речитатив; скорее всего, его произнесение сопровождалось ударами в колокольца или гонги, подобные тем, что были обнаружены в чуских погребеньях, и тем, которые используют современные даосы.
Помимо запугивания несчастьями душе напоминают о радостях и наслаждениях, которые она испытывала в телесной форме:
Вернись, душа!
Стоит ли уходить столь далеко?
Орхидеевый ковер покрывает землю,
Вокруг — изгородь из цветущих гибискусов.
Легкая повозка ждет тебя, чтобы доставить наверх.
Стременные и возницы застыли в ожидании.
Слуги в роскошных шкурах пятнистых леопардов ждут на насыпи.
Лотосы едва раскрылись, средь них водяные каштаны растут.
Сидя в беседке и облокотившись на перила,
Смотришь ты на играющее озеро.
Гости стихи составляют, думы свои выражая,
Орхидей ароматы парят над ними,
И в страсти вдохновения рассказывают стихи друг другу,
За вином достигают высшего блаженства
И радость доставляют друзьям уходящим.
Помимо «мудрых наслаждений» душе напоминают о винах и яствах, прекрасных девушках, повозках и лошадях, стихах и музыке. В конце заклинания душу умершего призывают войти во «врата исцеления» — в свое покинутое тело. И, наконец, заключительный призыв: «О, душа, вернись! Войди в свою старую обитель!»
Примечательно, что здесь, в этой южной оккультной традиции, еще не существует четкого разделения человека на несколько душ. Душа здесь целостна и, самое главное, повторяет основные переживания человека в его физическом теле. Она может быть испугана драконами и «красными муравьями величиной со слона», она может замерзнуть в северных чертогах и страдать от жажды в южных чертогах. Более того, сам загробный мир поразительным образом сориентирован по сторонам света. Душу не просто не отпускают куда-то в абстрактный мир мертвых, но закрывают ей дорогу на восток, запад, юг и север. Все это соответствует ранним представлениям о магическом мире, отличавшимся удивительной целостностью восприятия сферы обитания. Мир живых людей и мир мертвых не отличаются ни по своим переживаниям, страданиям и радостям, ни даже но своему географическому положению и сторонам света. Эти два мира взаимоперетекаемые, взаимодополняющие и, по сути, составляют единый континуум существования.
Ребенок, что выходит из мира духов
Практически все становление человека с самого момента его рождения проходит под знаком «разграничения миров»: непосвященные люди не должны соприкасаться напрямую с миром мертвых и духов, а духи не должны без дополнительных просьб вмешиваться в дела живых людей.
В чисто психологическом плане тема страха смерти и безвременного перехода в мир духов превалирует во всех китайских посвятительных ритуалах и ритуалах «перемены статуса».
В китайской магической культуре ребенок, появившись на свет, еще не считается окончательно родившимся. Дело в том, что мир мертвых и мир еще не рожденных представляются единым пространством, а потому душа младенца после рождения остается связанной с потусторонним миром и может в любой момент туда вернуться. Ему даже пока не дают «взрослого» имени, называя его «детским именем» (
сяо мин) как еще «не до конца человека».
Духи считают ребенка своим и стремятся вернуть его в мир мертвых. Поэтому с самого момента рождения ребенка его семья предпринимает усилия для удержания его души в мире живых. В ход пускаются священные талисманы и обереги, которые привязывают его к жизни. Например, на шею ребенку вешается амулет в виде металлического или нефритового замочка (
гуа суо), который «приковывает» его к жизни и запирает его дух-гиэнъ внутри тела.
 Илл. 139. Даос у алтаря после церемонии изгнания вредоносных духов
Илл. 139. Даос у алтаря после церемонии изгнания вредоносных духов
Подобную же роль выполняют большие металлические кольца, надеваемые на шею ребенка на манер ошейника (
гуа цзюанъ). Особенно опасны первые сто Илл. 139 дней жизни ребенка, когда дух Юйшэнгуй забирает к себе детей. И здесь также используются методы «удержания» души ребенка, например вокруг его кровати вешают рыбацкую сеть, которую иногда пропитывают кровью собаки, чтобы придать ей еще большее сопротивление воздействию духов. Духов отгоняют и традиционным способом — едким дымом, поэтому особенно эффективным считается следующий способ: вся старая обувь, которую только можно найти, собирается в кучу и сжигается.
Считается также хорошим знаком, когда даосский монах, имеющий власть над миром мертвых и выполняющий обязанности шамана, приобнимает ребенка за плечи или кладет ему руку на голову, также «задерживая» его в этой жизни.
Еще в эпоху Чжоу во время самого первого серьезного ритуала инициации на голову юноше водружали специальную шапочку и давали ему взрослое имя. Так он переходил в разряд членов общества, на которых распространялись все права и обязанности взрослого населения. Детство прекращалось, а вместе с ним уходила и забота общества о ребенке. Он не просто взрослел — он совершал мистическую трансформацию, абсолютным образом меняясь, и именно об этом чудесном превращении (
гиэнъ хуа) в некоего «другого» и говорила смена его имени. До сих пор в Китае существуют отголоски этих чжоуских обрядов.
Сам того не зная, ребенок проходит через несколько десятков «преград» или посвятительных ступеней (
гогуань), пока не обретет статус взрослого человека и окончательно не расстанется с миром теней. По сути, он продвигается из мира теней в сторону мира живых. По одной из версий, на пути ребенка встречается до 30 этапов или застав, которые он должен преодолеть. Каждая из «преград» представляет собой переход на новый уровень мира живых, например дух Юйшэньгуй, забирающий детей в первые сто дней, уже не имеет власти после девятой преграды.
Существуют также преграды «пяти духов», «золотого замка», «железной змеи» и многие другие, связанные с символикой отделения от мира духов. Наконец, после преграды «воды и огня» наступал этап «невозвращения», и ребенок считался неуязвимым для духов.
Для облегчения этого пути поэтапной инициации и для того, чтобы возвращение в мир духов раньше срока оказалось невозможным, родители наносят на ребенка ряд «опознавательных знаков», дабы духи поняли, что речь идет именно о ребенке, а не о пожилом человеке, готовом вступить в лоно смерти. Еще в начале XX в., а в некоторых деревнях и сейчас ребенку выстригают макушку, оставляя волосы лишь по бокам на манер монашеской тонзуры, — это должно свидетельствовать именно о «детском» статусе человека. Детей нередко также обряжают в одежду буддийского монаха, обычно серого или темно-синего цвета, поскольку монах властвует и над миром живых, и над миром мертвых, одновременно уменьшая «проявления жизни», например ограничивает себя в питании и удовольствиях, соблюдает обет целибата и т. д. В провинции Хэнань по сей день девочкам наносят татуировку на запястья и предплечья в виде нескольких точек, расположенных по кругу или в виде пятиконечника. Сами китайцы не любят разъяснять суть подобных татуировок, поскольку это затрагивает очень интимную сферу взаимоотношений духов и людей, в которую не должны быть посвящены случайные люди.
Обратим внимание на то, что здесь также главенствует принцип постепенного отделения ребенка от хаотичной массы духов загробного мира, откуда он вышел, и идет уже известный нам процесс «янификации». Шаг за шагом ребенка приучают к социальным нормам, обычно его отдают на воспитание старейшим жителям деревни или родителям мужа, которые и прививают ему основные нормы общения и поведения. Вплоть до сегодняшнего дня в Китае сохранились школы, некогда крайне развитые, организующиеся вокруг местного «мастера» — обычно наставника боевых искусств или гадателя. Однако дети не столько учатся ушу или даосским гаданиям, сколько воспринимают от наставника основные нормы поведения, общения, учатся читать и писать.
…???…
Илл. 140. Дух-правитель созвездия Большой Медведицы в даосском храме, один из защитников детей. Перед ним — небольшие статуэтки Гуанъ-ди, военачальника, возведенного в ранг духа
В ряде деревень провинций Хэнань и Сычуань сегодня специально приглашают даосских или буддийских монахов, которы и обучают детей. Разумеется, по сравнению с обычными начальными школами такое обучение может показаться крайне примитивным и неэффективным; тем не менее, такие школы иногда считаются значительно более «нужными» для ребенка, чем официальные учебные заведения. Дело в том, что такой наставник может уберечь ребенка от влияния вредоносных духов и от возвращения его в хаотичную массу мира мертвых. Впрочем, сегодня это не мешает ребенку параллельно посещать начальную школу.
Одновременно ребенка рассматривают и как посланца этого мира. Гадатели нередко использовали промежуточное, пограничное состояние ребенка, делая его посредником между миром духов и миром людей или медиумом для гадания: через ребенка задают «вопросы духам», а они отвечают его устами. Для таких бесед с духами маги нередко использовали молодых мальчиков и юношей от 12 до 25 лет, которые именовались «детьми для гаданий», или «детьми для вопросов к духам» (
цзи дун), или просто «детьми» (
дунцзы), например в провинции Аньхой. Порою они состояли при храмах или семейных алтарях, в этом случае их называли «священными детьми» (
шэнь дун), предназначенными для связи с духами семьи. По особой методике, производя пасы над головой и читая молитвы, их вводили в глубокий гипноз. Нередко, отбирая «ритуальных детей», маги специально искали юношей, склонных к истерии и, следовательно, особо гипнотабельных.
После введения юноши в состояние измененного сознания ему задавали вопросы, а душа умершего человека, пользуясь его физической оболочкой, давала ответы. Так, в частности, китайцы узнавали массу вполне обиходных вещей или, например, чего душе не хватает в загробном мире и какие жертвы еще стоит принести.
Успокоение опасных духов
Важным объектом поклонения в Китае, как уже упоминалось, были и в ряде мест остаются массовые захоронения — порою безымянные, порою лишь предполагаемые. Иногда в них покоятся безвестные странники и бродяги, беглые солдаты, бандиты, жертвы народных восстаний, случайных разбойных нападений или стычек местных бандитов между собой. Несмотря на их асоциальный характер таким захоронениям не только поклоняются, но жители ближайших деревень нередко совершают там поминальные обряды едва ли не более пышные, чем по своим реальным родственникам.
По сути, здесь случайные жертвы оказываются представлены как объекты ритуального заклания.
Обыденная насильственная смерть (объект виктимизации) обращается в священное жертвоприношение (объект сакрификации). Чтобы уловить суть представлений о таком типе духов, оставшихся после, например, бандитов и падших женщин, важно понять, что свойства живущего человека никогда полностью не переходят на духа. Скорее, наоборот, происходит мистическая трансформация как образа, так и его свойств. Дух воплощал лишь какую-нибудь одну характерную черту некогда жившего человека. Например, женские черты умерших никогда прямолинейно не переходили на женские божества, а сами божества оказывались амбивалентны, обладали и женскими, и мужскими свойствами, а иногда дух умершей женщины в своем «тонком» обличье выступает как мужчина.
Парадокс таких поклонений заключается еще и в том, что людям, захороненным в подобных могилах, воздаются почести именно как духам предков, хотя, очевидно, они не являются предками жителей селения.
Не противоречит ли это утверждению, что всякие духи в Китае есть духи предков? Чтобы объяснить этот кажущийся парадокс, достаточно лишь бегло взглянуть на агиографию духов-защитников (т. е. шэнь) и обратить внимание на их прижизненные подвиги. Например, излюбленным народным героем, обратившимся в шэнь, является знаменитый вождь восставших XIV в. Сунь Цзянь, герой знаменитого романа «Речные заводи». Он отличался поведением, весьма далеким от имперских конфуцианских канонов: мог, например, прирезать пленного и съесть у него печень (по поверьям, это укрепляет мужество), убить десятки вполне мирных людей.
Народные предания рассказывают о подвигах мастера У Суна, который прославился не только тем, что голыми руками убил тигра, но и тем, что, пристрастившись к вину, в пьяном состоянии мог разрушить целый дом и убить прохожего. Люди, подробные Сунь Цзяну, У Суну и другим, оказались канонизированы не за удивительные благодетельные поступки (хотя сами по себе они не исключаются), а именно за огромную разрушительную энергию, превратившую их в народных героев. Такие поверья связаны с тем, что дух-шэнъ, остающийся после физической смерти человека, не является точной копией некогда жившего человека. Более того, он может быть вообще не похож на него и перенимает лишь исключительно энергетические свойства. Например, поклонение могилам бандитов связано не с эпатажем императорской доктрины «культурного» поклонения Конфуцию, как иногда считается, а с мистической инверсией ценностей в народной оккультной культуре. Предполагается, что бандит обладал большой энергией, и его дух-шэнъ по-прежнему может благодаря этому воздействовать на мир живых, причем его сила тем больше, чем больше людей он убил при жизни. Происходит перенос сакральных энергий и эзотерических представлений на дела земные. Если духи и правители на небесах на самом деле оказываются метафорой земных чиновников и императоров, то духи типа гуй — бандитами. И таким образом небесное начало приходит на землю, становится структурной частью жизни людей.
С этими же представлениями связана и «героизация» многих подобных персонажей после их смерти — по сути, «героем» здесь оказывается не сам человек, а мощь его духа-шэнъ или гуй.
Выполняя перед могилами таких асоциальных элементов ритуал поминовения предков, местные жители тем самым обращают духов-гг/м этих бандитов в своих защитников-шэнъ. В сущности, здесь выполняется посмертный ритуал «принятия в семью». Отныне «потерянные» и «одинокие души» бандитов, проституток, бродяг обретают свою идентификацию в мире мертвых и в благодарность защищают тех жителей деревни, которые приняли их в свою семью и регулярно возносят им молитвы и делают жертвоприношения.
Неуспокоенные духи людей, умерших не своей смертью и не погребенные по ритуалу, считаются наиболее опасной категорией обитателей загробного царства, поскольку, утратив физическое тело, они не обрели своего места в мире мертвых. В этом плане представления о «неотпетых душах» в Китае мало чем отличаются от русских представлений о кикиморах, русалках, леших как духах ИЛА. 142 утопленников или убитых людей. Китайские буддисты, в частности, считают, что вредоносные духи людей, умерших насильственной смертью, всячески ищут способ отомстить за себя и часто убивают людей, которые не способны защититься от их воздействия. Часто такое преследование со стороны духов диагностируется китайскими врачами в том случае, если пациентам не помогают никакие лекарственные средства, и тогда на помощь призываются даосы или буддисты. Те обычно используют три основных приема: заговоры, сжигание священных заклинаний, написанных на желтой бумаге, и специальные отвары, часть из которых представляют галлюциногены, а часть — сильные успокоительные средства.
Вообще, с духами людей, погибших насильственной смертью, следует поступать очень осторожно, причем на каждую категорию смерти следует совершать свой ритуал. Без соответствующего обряда дух остается «одинокой душой» и действует разрушительно на всю округу. Обычно для проведения обряда над такими духами приглашаются в основном даосы как люди, лучше всех знакомые с миром мертвых. Характерно, что даосы вообще за последние 200–300 лет превратились именно в служителей мира мертвых, причем одной из основных их обязанностей является помощь в «самопознании» души в загробном царстве. Способы общения с этими духами и сегодня представляют собой тайную практику даосов, реже — буддистов, причем далеко не все служители даосизма и буддизма наделены знаниями общения с неуспокоенными душами.
…???…
Илл. 141. Судия с книгой проступков человека
Существует ряд «тайных» (в реальности — опубликованных) предписаний, например «Юйли чаочжуань», которые рассказывают о конкретных методах обращения к небесным судьям и духам, дабы те либо приняли с миром душу убитого, либо отпустили ее обратно для перерождения. В основном используются хитро составленные надписи в виде петиции к небесным судиям, причем нередко они написаны не только обычными иероглифами, но содержат в себе и некие «тайные» знаки, понятные только духам и посвященным даосам. По ним обитатели загробного мира и опознают «своего» посланца из мира людей.
Более того, сам уход из жизни для разных категорий населения древнего Китая не был одинаковым! Лишь непосвященному могло показаться, что люди умирают одинаково, однако расставание плоти с душами, что ее населяют, происходит по-разному. Древний трактат «Записи о ритуалах» («Ли цзи», VI–V вв. до н. э.) очень четко классифицирует виды смерти. Так, смерть правителя именовалась
бэн, что напоминало звук рушащегося здания, смерть властительного князя именуется хун, «будто что-то ломается», смерть высшего чиновника при правителе —
цу, т. е. «конец», простого чиновника —
бу лу, «прекратил числиться в записях» или «снять с жалования», простые же люди просто
сы — «оканчивались», «умирали». Китайцы с удивительной методичностью классифицировали не просто разные типы ухода человека из жизни, но тем самым обозначали и разные способы сопровождения души в загробный мир. Особенно это важно для людей, умерших насильственной смертью. Так, существовало свое обозначение и для смерти утопшего (
ни — «не умел освободиться»), сгоревшего на пожаре (
шао — «поджарился»), казненного на людном месте в ярмарочный день (ци ши — «выставляться на ярмарке») и даже казненного путем колесования и отделения членов от тела (
хуань — «кольцо») и сваренного в котле (
пэн).
Существует множество категорий душ людей, для успокоения которых требуются специальные заклинания и особое мастерство. Часть душ прежде других должна быть поставлена под строгий контроль, т. е. они из мира хаоса и неупорядоченности должны быть возвращены в сферу порядка и строгого соответствия «каноническому поведению» духов. Прежде всего, к ним относятся души людей, которые были убиты или умерли от ран. Такая душа не находит себе успокоения, не имеет постоянного места пребывания и преследует своего убийцу, стремясь отомстить ему. Считается, что душа жертвы не успокоится, пока ее убийца не предстанет перед небесными судьями, не будет приговорен к строгому наказанию и не начнет страшно мучиться. После этого душа жертвы может вернуться в этот мир, возродившись в утробе своей матери.

Вообще именно даос своими заклинаниями в ряде случае насильственной смерти может открыть душе путь к перевоплощению в другом теле. Это в основном относится к людям, которые были изведены при жизни злыми духами, к утопленникам, к пострадавшим от неправильных судебных решений.
Это же касается и людей, которые умерли в тюрьме и были тайно захоронены без соответствующего ритуала. В отношении жертвы клеветы, чьи дни были сокращены злыми наветами, даос обращается к небесным судиям с просьбой реабилитировать его добрую память и в качестве компенсации даровать двойную удачу. Особое заклинание полагалось возносить в пользу духов тех людей, которые умерли от неправильных врачебных предписаний.
Если человек угодил в расставленную ему ловушку, то даос также пишет священное заклинание на желтой бумаге и сжигает его, что должно помочь душе погибшего избежать наказания на небесах и позволяет ей в удачном случае переродиться вновь.
Даосы используют и симпатическую магию, широко распространенную среди колдунов и ведьм в других странах мира. Например, для того чтобы успокоить душу убитого и дать ей возможность возродиться вновь, надо найти оружие убийства и совершить над ним специальный обряд проклятия или даже разломать его на части, что мистическим образом должно прекратить действие смерти.
Чаще всего наиболее сильные ритуалы успокоения духов и принятия их в местную деревенскую общину или семью выполняются именно над массовыми захоронениями, так как считается, что жертвы массовых репрессий и казней могут объединяться, чтобы вредить людям. И они же в случае проведения правильных обрядов чаще всего рассматриваются как наиболее мощные защитники деревни.
Демонизация героев китайской историй
Традиция мифологизации и демонизации героев, а также поклонения им как своим защитникам ярко проявилась по отношению ко многим деятелям китайской революции. Революционный культ героев, который приобрел в Китае чрезвычайный размах, также оказался во многом связан с особым восприятием культуры мертвых и предков. Так, с политической арены в мир сакрального сошли Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин. Здесь, говоря о китайской революции, мы имеем в виду не акт, но длительный процесс, распадающийся на разные фазы, нередко символизирующиеся разными лидерами. Революции, подобно китайской или российской, безусловно, происходят не только из-за структурной мифологизации сознания — социальные причины и политический кризис играют далеко не последнюю роль, — однако склонность миллионов людей переводить любой социальный процесс в рамки мистического действия придает характерные черты апокалиптического обновления мира: «придет новая Земля и новое Небо». Происходит внезапный вброс первобытно-магического импульса в современную жизнь, абсолютная сшибка современной секуляризированной культуры, лишь играющей символами, с реальным магическим импульсом, который на время целиком перекрывает чисто игровую культуру. Революция становится моментом, когда прекращается всякая игра и подражание, а на землю спускаются, как во время народных праздников, духи и «земля становится небом»
30.
Нам не сложно найти здесь множество параллелей с революционной Россией, с новой символикой советской России, ее новыми героями. Оговоримся лишь, что общность развития России и Китая в глобальном плане заключена в общности поиска «героя и правителя», поклонении асоциальным элементам и группам в общности, символизации и «лозунгизации» действительности. Характерно, что революционная мифологизация присутствует в африканских культурах (например, в Ливии, Алжире). Это не прямое копирования русской революции, хотя, безусловно, не исключен перенос некоторых методов и лозунгов — мифологизированное сознание невозможно сымитировать или скопировать. Его взрыв можно лишь стимулировать, после чего оно проявляется во всем своем архаическом неистовстве. Массовое сознание — чаще всего мифологическое сознание, живущие в рамках дихотомии инь-ян, воспринимающее мир как абсолютную бинарную оппозицию, например «мы — враги», «наши — не наши», «плохие — хорошие». В рамках такого размежевания происходит оценка происходящего, при которой враг обязательно должен быть уничтожен, а герой — награжден. Китай подходит к периоду новейшего времени с практически нерастраченным, хотя и несколько трансформировавшимся запасом мифо-магического восприятия мира, помноженного на могучий импульс коллективного сознания.
…???…
Илл. 143. Даосский алтарь для изгнания вредоносных духов. На алтаре — фигурки Гуан-ди, Лао-цзы и Гуаньинъ. Справа лежат благовония и стоит урна для пожертвований
Любая идея, нашедшая отклик хотя бы у группы людей, в дальнейшем многократно усиливается, стремительно обретает популярность у других групп и, вследствие этого, черты догмы. Говоря обобщенно, успех всякой подобной революции обусловлен, в конечном счете, именно тем, присутствует ли в сознании основной массы народа эта тенденция к абсолютной мифологизации происходящего и дихотомии восприятия. Герои китайской революции в прямом смысле слова оказались «демонизированы».
Например, в южной провинции Фуцзянь перед портретом Мао Цзэдуна, прикрепленным на стене алтаря предков, совершаются сегодня те же поклонения, что и перед табличками самих предков. При этом в разговорах местные старики признаются, что это («неправильно», «несправедливо»), поскольку Мао стал гуй, фактически — демоном, которому вряд ли стоит поклоняться. Подобную же реакцию на поклонение Мао Цзэдуну можно встретить и в провинции Хэнань, а вот в Хунани, родной провинции лидера китайской революции, Мао стал шэнъ, и вознесение ему посмертных почестей как духу-защитнику ни у кого не вызывает негативной реакции. Перед его портретом или табличкой совершается стандартный ритуал «девяти поклонов и трех коленопреклонений», возжигаются благовонные свечи, а, например, в одном из даосских монастырей Хунани он считается одним из бессмертных-сяней. Обратим внимание на интересную подробность: необходимость самих поклонений обуславливается не его моральными качествами или заслугами (никто не принимает в расчет, например, весьма фривольное поведение Мао или то, что его политика унесла десятки миллионов жизней), но исключительно традиционным превращением человека, обладающего большим Ээ, либо в гуя, либо в духа-защитника.
Строительство богатых усыпальниц героям революции также продолжает традицию священных захоронений героев-мучеников. В мавзолеях покоится прах Сунь Ятсена, его преемника лидера Гоминьдана и Китая 30-40-х гг. Чан Кайши, коммунистических лидеров Мао Цзэдуна, Лю Шаоци, Чжу Дэ. Хотя прах Сунь Ятсена захоронен в мавзолее в Нанкине, в столице Тайваня Тайбэе возведен роскошный алтарь Сунь Ятсена, который по своей архитектуре напоминает храмы Конфуция, также играющие роль алтарей. Внутри даже располагается ритуальная табличка — важнейший атрибут всех алтарей предков, на которой написано, чьи духи прибывают внутри этой постройки: «Наалтарная табличка героев крестьянской революционной войны». Вдоль стены перечислены имена героев революции, часть из которых причислена к мученикам, часть просто к героям, причем сакральный статус первых значительно выше. Кто мог получить статус такого «мученика»?
…???…
Илл. 144. Могила одного из высших чиновников, которая, как и многие другие места подобного рода, превращена в место поклонения духам. Надпись гласит: «Будто бы по-прежнему пребывает среди нас». На переднем плане — котел, когда-то служивший насельникам храма для приготовления пищи
Дело в том, что, как и в любой магической традиции, сакрализуется не столько человек, сколько идея, воплощенная в нем, причем этот принцип канонизации присутствует сегодня и в христианстве.
Однако понятие «мученичества» в Китае оказалось связано с кровавой жертвой, нередко носящей массовый характер, — здесь достаточно вновь вспомнить поклонение жертвам массовых захоронений и асоциальным элементам. Например, один из гоминьдановских генералов, будучи окруженным коммунистическими войсками, не только сам отказался сдаваться в плен и решил покончить жизнь самоубийством, но и потребовал, чтобы прежде почти пять сотен его подчиненных сделали то же самое.
В центре площади Тяньаньмэнь в Пекине возвышается колонна «Героям китайской революции», причем в официальном переводе на английский язык она именуется «Монументом мученикам (
martyr) революции». Она не представляет собой непосредственно захоронения и не поставлена кому-то конкретно, это типично алтарный символ поклонения духам героев, типологически сходный с массовыми захоронениями. После смерти премьера КНР Чжоу Эньлая, пользовавшегося огромной популярностью в народе и считавшегося защитником простых людей, в сентябре 1976 г. тысячи людей пришли именно к этому монументу, рассматривая его как символическую могилу Чжоу. По сути, это была демонстрация против самого Мао Цзэдуна, одним из ее лозунгов было «Нам не надо нового Цинь Шихуана». Это был явный намек на Мао Цзэдуна, который ассоциировал себя с первым императором Китая Цинь Шихуаном (II в. до н. э.), прославившимся своей жестокостью и подозрительностью, но объединившего и заметно усилившего Китай. Демонстрация была жестоко разогнана, хотя через несколько лет этот факт был осужден новыми лидерами Китая. Однако характерно, что центральной точкой схождения самых разных сил стала символическая могила именно «мучеников» и «безвестных» героев, по своей символике целиком повторяющая поклонение захоронениям жертвам массовой резни, восстаний, бандитам, дабы те не превратились в «покинутых духов» гуй и не стали вредить живым людям. Наоборот, как в древности, так и в наши дни эти символические захоронения в результате массового ритуала ставятся на службу вполне конкретным нуждам, выполняя защитные функции.
Глава 6. Жизнь в мире духов
Разные лики единого духа
Было бы бессмысленным пытаться даже приблизительно определить количество духов китайского пантеона или хотя бы духов конкретной местности. На первый взгляд, может показаться, что их — многие сотни, но в действительности, их не так уже и много. Более того, в мистическом пространстве на самом деле, существует лишь вечное развоплощение некого центрального божества в массу локальных, бесконечные аватары, перерождения, перевоплощения. Указание на число («Девять богинь», «восемь архатов», «семь звезд») является не уточнением количества, а указанием на развоплощение единого и порою анонимного божества. Если в даосизме оно (т. е. путь-Дао или Единое) представляется абсолютно анонимным и дается лишь через свои мирские репрезентанты, то в народных представлениях фигурируют абсолютизированные по своему содержанию духи и божества, например Лао-цзюнь, Юй Ван (Нефритовый правитель), Тянь My (Небесная матушка) и т. д. Таким образом, указывается не на количество и массовость пантеона божеств, а, наоборот, на существование абсолютного Единого, стоящего за этой множественностью.
Например, божество «Северного ковша», то есть Большой Медведицы, культ которого можно было встретить даже в императорском дворце и в пекинском Храме неба, могло представляться и как один человек — обычно могучий старец, и как восемь (по китайским представлениям, в этом созвездии восемь звезд) «звездных» духов. В небольшой даосской обители Тяньдаомяо (Монастырь Небесного Дао) в Сычуани есть по этому поводу примечательная надпись: «Разделяясь, образуют восемь; собираясь, являются одним».
Точно такая же неразделенность множества и единичного присутствует и в концепции Небесной Матушки (Тянь My), которая была канонизирована в династию Сун. Культ Тянь My активно поддерживался двором для того, чтобы уменьшить влияние культа буддийской богини милосердия Гуаньинь во время гонений на буддизм. На юге Китая, например в провинциях Фуцзянь и Гуандун, а также на Тайване Небесная Матушка представлена в виде девяти «сокровенных дев» (
цзю сюань ню), причем подразумевается, что это одна богиня, представленная в нескольких ипостасях. По сути, это разделение функций единой богини, например женский дух Яньгуань няннян (Взгляд) врачует заболевания глаз, Саоцин няннян (Разгоняющая и очищающая) разгоняет облака во время ненастий, Цзысунь няннян (Детей и внуков) дарует хорошее потомство и приносит много сыновей, которые в Китае ценились в семье выше, чем дочери. В сущности, культ Тянь My к династии Сун оказался слит с культами подобных ей женских божеств Гуаньинь, Юй-му (Нефритовой матушки) и многих других, образы которых тяготели к архаической богине Ушэн лаому (Нерожденной праматери).
Более того, нередко бывает, что истинный дух как бы скрыт за обликом другого, «видимого» духа.
Вообще, сокрытие духов под маской других представителей тонкого мира соотносится с ритуалом «запрятывания» самого ценного или самого могучего.
Это можно наблюдать в мистических ритуалах спасения душ. Их современное название пришло из средневекового буддизма, поэтому они именуются
гун пуду — «совместное всеобщее переправление [через море грехов и страданий]» или «совместное спасение». Такие ритуалы проводятся сегодня в полном виде на юге Китая, например в провинциях Фуцзянь и Гуандун, а также на Тайване, можно их встретить и в такой «буддийской» провинции, как Хэ-нань. Однако следует учитывать, что несмотря на буддийское название ритуал пуду несет в себе не окультуренно-буддийский, но оккультно-мистический и шаманский характер.
Основным «спасителем» выступает Дашиъе — дословно «Великий старый дед», некий обобщенный предок. Его символический портрет, нарисованный на рисовой бумаге, висит перед алтарем в центре ритуальной площадки. Однако при этом подразумевается, что на самом деле это отнюдь не некий «Великий старый дед», а буддийская богиня милосердия боддисатва Гуаньинь, которая имеет власть над миром духов и может контролировать их поведение. Но и это — не конечный лик посредника в мире духов! Это также и Нерожденная праматерь (Ушэн лаому), и «Матушка-правительница Запада» (Сиванму). Как видно, в духовном мире отсутствует разделение на женские-мужские божества, это не более чем метафоры, характерные для народного сознания.
…???…
Илл. 145. Ушэн цзунъ, буддийский архатп, дарующий множество детей, хотя буддизм и предусматривает целибат
Отсутствуют и реальные различия между функциями божеств, что также показывает, что мы имеем дело не с божествами, наделенными конкретными функциями, что характерно для западного рационализма, а с неким воплощенным медиумом, выступающим всегда как андрогин.
И здесь, как в древних медиативных ритуалах, от духов не бегут, но, наоборот, «приглашают» их принять участие в церемонии. Дашиъе-Гуаньинь выступает посредником, страхующим участников от нападок вредоносных гуй. Характерно, что на церемонию приглашаются именно вредоносные гуй, и прежде всего «одинокие души» — эти люди еще при жизни потеряли все родственные связи, и их прямые родственники уже ушли из этого мира.
Дашиъе представлен всегда в максимально устрашающем виде: у него голубое лицо, рога на голове, красные глаза навыкате. Он должен напугать духов, заставить их действовать в соответствии с правилами и устранить любой беспорядок и хаос, которые гуй могут привнести в мир людей. Вспомним, что и древние шаманы-медиумы периода Чжоу также раскрашивали себе лица, перевоплощаясь в рогатого таоте, и пытались напугать духов. С другой стороны, здесь ощущается и влияние тибетского буддизма, ставшего популярным в Китае особенно в эпоху Цин.
Изображения тибетских божеств загробного мира, в частности бога Ямы, в большом количестве привозились в центральный Китай и стали популярны в том числе и в народных культах, сильно трансформировавшись. Их свирепый и устрашающий вид как нельзя лучше подходил к роли медиума, посредника между людьми и царством мертвых. Однако и они были как бы опущены на ступеньку ниже, превратившись в деревенских родственников-предков, типа «Великого старого деда».
На алтарь помещается также молитвенная лампада. Напротив главной двери на специальной табличке ставится жертвенная пища, обычно фрукты, для духов. Между ними помещается портрет голуболицего монстра Дашиъе. Таким образом, и здесь он выполняет свою посредническую роль, находясь между абсолютным порядком, спасением и началом ян (светильник) и миром духов, темным миром инь, представленным жертвенной пищей. Даже само понятие «светильник» (дэн) в китайской традиции понималось как «истинное учение», передача тайной традиции именовалась «передачей светильника» (чуань дэн), поэтому символически разыгрывается ритуал установления связи между истинным жизнеутверждающим учением и загробным миром.
…???..
Илл. 146. В облике этого божества, боддисатвы Гуаньинь, сочитаются как даосские, так и буддийские черты. Храм Гуанцзисы
Ничто так емко и ярко не выражает суть устремлений китайцев и их молений, как характер духов, изображения которых помещают на домашних алтарях или вешают при входе в дом. Большинство изображений земных духов несут на себе три или, по крайней мере, один из трех иероглифов: «фг/» — счастье, «лг/» — знатность, «шог/» — долголетие. В общем, это очень точно и, кажется, полно отражает устремления рядовых китайцев, начиная с глубокой древности и заканчивая нашим временем. Именно богатство, успешная карьера и доброе здравие являются идеалом для традиционного китайского сознания, а отнюдь не «долг», «ритуал», «почтительность», «гармония» и другие конфуцианские нормативы, являвшиеся тончайшей игровой ширмой. Утилитарное мышление выдвигало столь же прагматичные идеалы. И все это является отнюдь не нарушением ритма сакрального пространства, а, скорее, наоборот, его продолжением и материальным воплощением. Ведь и богатство, и знатность, и долголетие оказываются лишь вещным воздаянием за правильное поведение в мире духов и в случае удачи доказывают абсолютную безошибочность поведения человека в мире мистического.
Напугать и… договориться В средневековье стало принято разделять всех духов на небесных и земных. К небесным принадлежали те, кто управляет ветром, облаками, дождем и громом, к земным — духи пяти священных гор, четырех морей и т. д. Они были повсеместно, «проникали кругом как дым и пар», а потому вечное ощущение жизни в тесном соприкосновении с духами не оставляло китайца на протяжении всей его жизни. Жизнь сама превращалась в тончайший ритуал прохода по дороге таким образом, чтобы не разгневать духовные силы и одновременно умело воспользоваться их могуществом. Чрезвычайный страх перемешивался с огромным желанием получить максимум выгоды от мира духовного.
Некоторые месяцы года считаются особо опасными, в частности пятый месяц по лунному календарю, когда активизируются все силы мира духов, а духи-демоны становятся особенно вредоносными. Именно в пятый месяц сила ян достигает своего апогея, не случайно весна в ряде провинций севера Китая, например в Хэбэе, Хэнани, Шаньдуне, считается сезоном домашних несчастий, стихийных бедствий, наводнений, болезней. В пятый месяц из своих обителей приходят самые различные духи, среди них божества рек, гор, в озерах и реках можно встретить драконов, а людям являются их предки до третьего-четвертого колена. В какой-то момент духи пересекают границу своего мира, вторгаясь в жизнь людей, в их мысли, дела и даже в государственное правление.
 Илл. 147. Площадь, усыпанная кусками петард после ритуала очище от вредоносных духов у храма Мацзу. Провинция Фуиз
Илл. 147. Площадь, усыпанная кусками петард после ритуала очище от вредоносных духов у храма Мацзу. Провинция Фуиз
Постоянное духообщение требовало и своих защитников от «некорректно» ведущих себя духов.
Обычно в этой роли выступал Чжун Куй — особого вида экзорсист, сам являющийся одним из типов духов. Примечательно, что в западной традиции духов изгоняют из тела человека «словом Божьим», посредством мистической помощи Божьей, то есть прибегают к более высшему существу, дабы победить низших. Но в китайской традиции иерархия духовных сил, как было уже видно, совсем иная, она базируется на принципе тонких договоренностей и взаимодействий, здесь нет однозначно более сильного или более слабого божества. Чжун Куй явился одним из таких умельцев-защитников.
Чжун Куй претерпел стандартную для китайской традиции трансформацию из некогда жившего человека в духа: когда-то он был врачевателем, что жил в провинции Шэньси в VIII в.
Возможность воздействовать на духовные сферы открылась ему после сильнейшего шока, который он пережил, долго готовясь к уездным экзаменам, но дважды так и не сдав их. Свой провал он отнес на счет коррумпированных экзаменаторов, ожидавших от него, как ему представлялось, богатых подношений. Отчаявшись, он решил покончить жизнь самоубийством, избрав для этого весьма символичное место — ступени при входе в императорский дворец, по которым ему так и не суждено было подняться в качестве полноправного обладателя ученого звания. Сам акт самоубийства не смутил правившего тогда императора Сюань-цзуна (712–756), однако ступени дворца оказались осквернены и тем самым открыты для прохода злых духов внутрь покоев. Вскоре после этого случая император занемог, и в лихорадке ему привиделся странный сон, в котором он погибает от руки некоего красного духа, называвшего себя «Пустота и Опустошение». Император уже ожидал неминуемой гибели, но внезапно появился дух Чжун Куя и изгнал красного демона, а правитель тотчас почувствовал себя лучше и вскоре окончательно выздоровел. Явившись к императору в виде духа, Чжун Куй сумел поведать ему о своих горестях.
Выздоровевший император приказал, как гласит предание, эксгумировать труп,
похороненный весьма скромно, обрядить его в торжественные красные одежды со знаками императорский семьи и на этот раз провести погребение со всеми почестями. Ему был присвоен посмертный титул «Великий победитель демонов всей Поднебесной», как его и стали именовать в официальных хрониках.
С той поры изображения Чжун Куя можно встретить практически в каждом деревенском, а порою и городском доме, при входе в небольшие ресторанчики и роскошные увеселительные заведения — он оберегает вход от проникновения злых духов. Особенно большое количество изображений Чжун Куя, обычно на тонкой рисовой бумаге, вывешивают в самый «опасный» пятый месяц по лунному календарю.
Такова, как считается, историческая сторона, и все ее «демонические приключения» на первый взгляд можно отнести на счет традиционного мифологического приукрашательства и продления реальности (жизнь неудачника Чжун Куя) в сторону ареального и символического (ночные видения и битва со злым духом). На первый взгляд представляется, что некий реальный человек оказался в силу обстоятельств и потребностей в «защитнике от злых духов» сакрализован, мифологизирован и почти утратил свою связь с реально жившим прообразом. Кажется, это подтверждает и общую концепцию бесконечной мифологизации любого реального явления.
Однако в той истории значительно более существенна ее символическая сторона — все предание наполнено знаками, связанными с традиционной китайской демонологией. И, вероятно, произошел процесс, обратный мифологизации, — эвгемеризация, то есть превращение абсолютного мифа в некогда реально жившего человека.
По одному из самых необычных, но, тем не менее, вполне разумных предположений, Чжун Куй явился персонификацией травянистого растения просвирника (мальва), которое по-китайски называется «чжун куй» и обладает магической силой отгонять злых духов.
Листья просвирника широко используются в китайском врачевании и особенно рекомендуются больным с высокой температурой — здесь явная связь с императором, пребывавшем в лихорадке. Багрянистый цвет растения также связан с императорской символикой — самого Чжун Куя в момент перезахоронения обряжают в красные одежды. Красный цвет также всегда связывался с «вредоносным» пятым месяцем, когда людям требуется защитник от духов.
Само имя Чжун Куя в его обычном, «очеловеченном» написании состоит из иероглифов «чжг/н», в котором используется графема металла (золота), связанного с понятием «срединнос-ти», и «кг/м» — одна из гексаграмм, означающая «ослабление», «трансформация в сторону уменьшения». Все это вместе расширенно может толковаться как «ослабление влияния центрального элемента».
Кстати, в реальной жизни подобные фамильные иероглифы не встречаются, поэтому неудачливый ученый Чжун Куй, борец со злыми силами, действительно является абсолютным мифом.
Борьба с демонами понималась на каждом уровне общества по своему, осознание «вредоносности» духа заметно различалось, например, на уровне крестьянина и на уровне ученого. Тем не менее, мотив необходимости защиты от напастей воспроизводился на любом уровне общества. Так, имперско-государственный уровень культуры также высоко почитал Чжун Куя, даже сегодня при входе в местные общества литераторов на севере Китая висят изображения Чжун Куя, он же парадоксальным образом являлся и покровителем чиновников и ученых.
 Илл. 148. Дух Чжун Куй, изгоняющий других, вредоносных духов. Цветная ксилография. Сучжоу
Илл. 148. Дух Чжун Куй, изгоняющий других, вредоносных духов. Цветная ксилография. Сучжоу
Частично это связано с тем, что Чжун Куй сам провалился на экзаменах и поэтому оберегает ученых, чиновников, а сегодня и студентов, — тех, кто вынужден проходить через эти испытания.
Однако само создание литературы понималось в Китае как игра с некими природными сущностями (
цзыжань), которые фиксируются в историческом пространстве культуры (
вэнъ), переводятся из области сакрального и трансцендентного в область профанного. Дух либо умерщвляется в этом процессе, либо, наоборот, активизируется и может нанести вред людям: не случайно традиционный облик поэта и писателя в Китае — безумец с неожиданными поступками, внезапно меняющий свое состояние углубленных раздумий на вспышку ярости, равную просветлению сознания. Разве это не соответствует классическому облику того, кто «охвачен духами»? Естественно, лишь Чжун Куй может в полной мере быть покровителем творческих людей.
Духов можно было также напугать, например шумом, запахами, священными иероглифами и т. д. Пугать также следовало и некоторых священных животных, представлявших перевоплотившихся духов. Примером такого животного может служить единорог — одно из производных и «дальних родственников» существа лун (дракона), символически связанного с благодатной потенцией императора. В древности появление единорога в момент окончания зимы и наступления весны было плохим знаком и предвещало великий хаос, возможно даже смену династии, а поэтому единорога следовало напугать, дабы он скрылся. Для этого еще до изобретения пороха с грохотом ломали бамбук (баочжу).
32
Этот обычай несколько трансформировался после изобретения пороха — теперь взрывали петарды (
бяньпао). Поскольку одно из названий единорога совпадало с понятием «год» (нянь), то обычай пугать духов взрывами и шумом был приурочен к Новому году, который по китайскому календарю обычно наступает в конце февраля и именуется «Праздником весны» (
чунъцзе).
Немаловажным аспектом являлось правильное «ранжирование» духов по различным категориям и их влиянию на жизнь людей. В древности поклонение тиянъ-Небу как верховному и единственному духу занимало главенствующее место, однако со временем тянъ приобретало все более и более множественные проявления, которые обосабливались и превращались как бы в отдельных духов, например духов очага, местности, богатства, знатности. Этот процесс начался еще во времена Конфуция, однако сам Учитель считал, что лишь тянъ реально влияет на жизнь людей.
 Илл. 150. Монахи в Тибете готовятся к очищению двора от духов
Илл. 150. Монахи в Тибете готовятся к очищению двора от духов
Как-то один чиновник из царства Вэй Вансунь Цзя спросил у Конфуция:
— Пословица гласит: «Лучше моление духу очага Цзяо, чем моление в юго-западном углу, что зовется ао». Так ли это?
— Нет, не так, — ответил Конфуций. — Если провинился перед тянъ (Небом), то и всякое моление бесполезно.
33
Моление в юго-западном углу ао обычно являлось молением духам предков, то есть речь идет о том, кто из духов является более могущественным: духи очага или духи предков. Традиционно в Китае считалось, что моление духам умерших значительно важнее, чем моление локальным божествам, например очага, горы, вод и т. д. Собственно, именно на это и указывает поговорка, что приводит Вансунь Цзя.
34
В этом диалоге есть и скрытый подтекст: Конфуций как человек, посвященный в мистическое знание, говорит о бесцельности обращения к духам в случае какой-то «провинности» перед шянь-Небом как верховным началом. Причем суть этой «провинности» нигде не обсуждается, хотя сам этот тезис «провинности» или «ошибки» неоднократно звучит в высказываниях Учителя. В данном же случае, вероятно, предполагается, что Ваньсунь Цзя должен понимать, о какой «провинности» идет речь.
Духов не надо бояться, и взаимоотношения с ними бессмысленно ограничивать лишь поклонениями и просьбами к ним — утилитарность китайской цивилизации проявилась уже в самой концепции того, что духов надо уметь использовать. Их можно обманывать, задабривать, договариваться с ними. Характерно, что современный иероглиф «юн», сегодня означающий «использовать, пользоваться», в древности изображался в виде большого ритуального бронзового колокола с рисунком таоте посредине.
35
Такой колокол был важнейшей частью церемонии духообщения, и именно его «использовали» для ритуала связи с миром духов. Аналогия здесь очевидна: как в колокол можно бить, вызывая звуки, так можно оперировать и с духами, получая необходимый результат. Все зависело от мастерства и состояния медиума, а позже — и самого правителя.
Общение с духовным миром в Китае вообще чаще всего было связано не с медитативным погружением или умиротворенностью духа, но, скорее, наоборот, с яркой, безумной вспышкой сознания, экстазом и состоянием, близким к сумасшествию, если не равным ему. Вообще, такое состояние не редкость в древних культурах, именно в таком состоянии шаманы и медиумы общались с тонким миром. Однако в Китае такие формы прямых «вопросов к духам» (
цзи) активно практиковались до XIX в., а в некоторых регионах существуют и по сей день в рамках религиозных тайных обществ. В одной из известных историй о честном и хитроумном судье Ди, широко распространенных в Китае в XIX в., рассказывается случай, когда судья вводит в экстатическое состояние одного из свидетелей, чтобы допросить… духа убитого человека о личности его убийцы.
36
И в этом случае кажущееся «безумие» оказалось равносильно духовному откровению.
Здоровье и духи
Китайская культура по своей природе оказалась «энергетична» — она осмысляла мир в терминах сакральной энергетики. Жизнь, рождение и смерть, политическая власть, творчество, философия и многое другое измерялось энергетической полнотой и зависело от получения и сохранения этой энергетической составляющей.
В разных системах координат эта энергия обозначалась по-разному. Например, когда говорится о жизненных свойствах человека, обычно речь идет о квазиматериальной субстанции ци — неком субстрате, экстракте, энергии или эссенции, содержащей внутри себя как в зародышевом состоянии весь мир. Ци наполняет собой весь мир и имеет множество воплощений, например, от смешения «изначального цы» (
юань ци) матери и отца и появляется зародыш. Внешнее ци (
вай ци) поступает в организм человека с пищей и дыханием, переходя во внутреннее состояние (
мэм ци), циркулирует по каналам-цзмнло. Ци не сводимо к каким-то жизненным свойствам человека, эта энергия составляет ткань всего мира, и трансформации ци есть трансформации самой вселенной. Например, «переливы ци» или «созвучие ци» (
юнь ци) можно увидеть на картинах художников, почувствовать в поэзии эстетов древности или в движениях мастеров боевых искусств.
Если ци представляется энергией универсальной и, как следствие этого, «бескачественной», то сам человек обладает помимо ци субстратом цзин, обычно переводимым как «семя». Ци, поступая в организм и смешиваясь с цзин в нижнем «киноварном поле» даньтянъ, расположенном на уровне живота, образует основные ингредиенты внутренней пилюли бессмертия, которая, по даосским представлениям, продлевает жизнь человека.
Сила и могущество правителя или влияние духовного наставника измерялись другой энергетической субстанцией —
дэ (благодатью, благостью), которая имела «небесное происхождение» и в некоторых древних текстах представляется как проявление пути-Дао. Примечательно, что любой вид подобной энергии имел и вполне земное воплощение: он мог утрачиваться или приобретаться благодаря сексуальным связям, сама же «энергетическая» концепция существования человека во многом представляется привнесением из древнейших архаических представлений, где сакральное и мистическое ассоциировалось с детородной функцией и страхом утратить ее по столь же мистическим причинам. Не случайно вплоть до начала XX в. благодать-Ээ китайского императора «измерялась» количеством его детей. И если в начале каждой династии императоры имели весьма большое количество отпрысков, то к концу правления многие из них оказывались бездетны. Династия теряла свой «мандат на правление» (
мин), происходила «смена мандатов» (
гэмин, т. е. «революция»), к власти приходили обладатели более мощного дэ. Парадоксальным образом императором должен был явиться человек, обладающий в максимальном количестве сексуально-сакральной энергией, который, будучи прообразом небесных духов или пути-Дао, осеменял всех своих подданных.
Неудержимый страх перед неконтролируемой потерей энергии, которая лишала человека всей полноты его жизненных свойств, благодати и вела в конце концов к смерти, привел к созданию многочисленных систем постоянной подпитки человека энергией. И хотя обобщенно эти техники получили название
нэйгун (достижение мастерства во внутреннем) или цигун (достижение мастерства в управлении
ци), в реальности никаких единых систем не сложилось. Каждая провинция или даже уезд имели свои способы «восполнения энергии» или «вскармливания жизненности человека» (
яншэн шу), а потому очень многое зависело от конкретного мастера-наставника, передающего эти способы изустно.
Разработка техник и методик продления жизни занимала важное место в культуре всего традиционного Китая, сохранившись до наших дней. Методики продления жизни и сохранения здоровья стали в определенный момент, вероятно к эпохам Тан-Сун, интегральной и неотъемлемой частью всего китайского общества, проникли во все поры, ими занимались все, начиная от императора и аристократов вплоть до простолюдинов и бродячих разбойников. В основе лежал патологический страх потери жизненной силы (
гиэн), которая могла, например, овеществляться в большом количестве детей. Не случайно до сих пор в китайских деревнях большое количество детей, особенно мальчиков, несмотря на все официальные меры по ограничению рождаемости, в глазах односельчан свидетельствует о большой жизненной силе главы семейства.
Первоначально смысл ассимиляции энергии извне для восполнения своей жизненности посредством дыхательных упражнений (
нэйгун) или выполнения определенных движений (системы даоинь или более поздняя ушу) был связан с магическими представлениями о целительных свойствах энергий солнца и луны, с реализацией своей общности с силами природы.
В сознании, живущем по мифологическим законам, не существовало четкого разделения между собственно воздухом, дыханием и сексуальной энергией, не случайно в Китае все объединено внутри единого термина ци. Так, одна из историй рассказывает о мальчике, который с детства был слаб и болезнен, и никакие врачеватели не могли помочь ему. Но вот однажды его родителям одновременно во сне привиделся седовласый старик, который сказал им, что в момент рождения ребенок не получил достаточного количества ци от своих родителей. Единственный способ излечить его заключается в том, чтобы в течение трех следующих дней каждое утро вдувать ему в рот свое дыхание и таким образом заставлять его проглатывать то ци, которое он не получил при рождении. Родители так и поступили, и вскоре мальчик стал здоров.
37
Абсолютная идентификация дыхания, воздуха и детородной энергии здесь очевидна. Очевидно здесь и другое — в основе многих подобных представлений и рожденных ими историй лежат подавленные страхи, невротические комплексы, на преодоление которых (точнее, на абсолютное сокрытие) и была направлена вся традиционная китайская культура.
Так, многочисленные методики самовосполнения ци, воплощенные сегодня в цигун, тайцзицюань и других системах, в основе своей имеют страх потери энергии ци, в основном понимаемой здесь как энергия сексуального свойства. Точно так же сегодня полки китайских аптек наполнены лекарствами, каждое из которых в той или иной мере «восполняет ян-ци» или «восполняет энергию селезенки», «подпитывает мужскую драгоценность», то есть укрепляет мужскую потенцию. Примечательно, что это относится даже к тем лекарствам, которые напрямую никак не связаны собственно с сексуальными расстройствами, например с сердечными средствами, лекарствами против бессонницы, улучшающими работку желудка и т. д. Китайская система врачевания замыкает практически все явления и болезни именно на энергетически-сексуальную сферу, хотя трудно не согласиться с тем, что хороший сон или здоровый желудок действительно позитивно влияют на потенцию.
Часть традиционных методик «восполнения жизненности» соотносилась с симпатической магией древности и в основном была монополизирована даосами и народными врачевателями. В эпоху Сун в X–XIII вв. многие методы становятся достоянием различных народных мистических школ и групп боевых искусств (угуань). Самой известной методикой стало изготовление различного типа «пилюль бессмертия», которые готовились из самых порою необычных ингредиентов. Некоторые пилюли изготавливались годами, сплавлялись из мышьяка, ртути, золота, амальгам, их приготовление требовало особого места, например священных гор, пещер, а точная рецептура хранилась в строжайшем секрете. В основном такого рода методы «внешней алхимии» (
вай-дань) расцвели во II в. до н. э. — III в. н. э. Вторую категорию составляли дыхательные и медитативные упражнения, которые стали известны под названиями туна — «изгонять [старое] и вбирать [новое]», даоинь — «вводить [вовнутрь] и проводить [по каналам]», нэйгун — «внутреннее искусство», а позже появилось и цигун — «[достижение] мастерства в работе с ци*. Суть упражнений отнюдь не сводилась лишь к особому типу дыхания или правильным позициям — все подобные методики требовали прежде всего высокого уровня веры в духовную силу упражнений.
Особую категорию составляла сексуальная техника восполнения внутренней энергии, которая также могла продлить жизнь и даже сделать знатока этих методов бессмертным.
Два основных начала, по китайским представлениям, определяют «жизненность» (
гиэн), то есть все жизненно важные функции человеческого организма: для мужчин это семя (
цзин), для женщин это внутренний секрет (
юэ) или кровь (
сюэ). Именно они путем сложных превращений, нередко связанных с даосской алхимией и изготовлением «пилюль бессмертия», и образуют вместе с ци необходимый жизненный субстрат. И семя-цзин, и секрет-юэ следует понимать не только в прямом смысле, но и как некую витальную эссенцию организма — здесь, как и во многих других случаях, китайское сознание ставит знак равенства между физиологически-конкретным и сакрально-возвышенным. Эти субстанции следует всячески сберегать внутри себя и концентрировать до максимально возможных пределов, дабы и семя, и кровь начали напитывать самого человека. Именно на этом базируется даосское искусство «неизлияния семени вовне» или «удержания семени», когда мастер-даос во время полового акта удерживает семя-цзин внутри себя, дабы оно начинало осеменять его организм изнутри, пока он не породит внутри бессмертного зародыша. Посвященным же женщинам советовалось так развить свое искусство, чтобы прекратить месячные, поскольку это считалось неоправданной растратой половой энергии.
Местом особой энергетической концентрации, а также областью, через которую духи проникали в организм и выходили из него, считалась минь-мэнь — дословно «врата жизненности» или «врата судьбы». По древним представлениям, область миньмэнь у мужчины располагается в его правой почке, у женщины — в левой почке
38, современная же китайская акупунктура локализует ее между 2-м и 3-м поясничными позвонками. До сих пор в деревнях провинций Хунань и Хэнань распространено поверье, что люмбаго или радикулит, то есть боль именно в области минмэнъ, есть проявление «неправильного» движения духов сквозь организм. В минмэнъ горит некий «сокровенный огонь» (
сюань хо), который как раз и смешивается во время полового акта. Сам сексуальный контакт должен отличаться особым мастерством, поскольку сначала должны пересечься языки огня, что происходят из «сердца» или центрального энергетического поля будущих родителей.
Ци выступала как витальная энергия, не только дающая жизнь, но и способная оживить мертвых.
Существует множество историй о том, как маги буквально «вдували» жизнь через рот, передавая свою ци недавно умершему человеку. В китайской медицине существует даже связанный с этим способ возвращать жизнь только что повесившемуся человеку: освободив его от петли, ему затыкают уши (чтобы не выходило ци), вставляют бамбуковую трубку ему в рот, и обычно два человека поочередно делают ему такого рода искусственное дыхание.
И все же обладание такой энергией в переизбытке могло быть небезопасно для ее носителя, требовалось немалое мастерство, чтобы управлять циркуляцией ци в организме, например вовремя «опустошать себя, для того чтобы наполниться заново». Вообще, всякие энергетические начала в китайской традиции носили амбивалентный характер и не были в чистом виде врачующими или вредоносными. К тому же, сама энергия никогда не ассоциировалась собственно с врачующей силой, и ее избыток наносил вред не меньший, чем ее недостаток, например переизбыток ян-ци приводит к тому, что человек перестает контролировать свои поступки, становится несдержанным и гневливым.
Весь секрет заключается в четком следовании правилам и предписаниям в использовании методик — соблюдении точного времени суток для занятий, питания, общения с другими людьми, вступления в половые связи и многого другого, в то время как сами упражнения секретом могут и не являться. Так, древний трактат «Мэн ци питань» («Беседы с мастером Мэн Ци, что записаны кистью») рассказывает о случаях, когда вбирание ци по-разному влияло на разных людей. Великие мастера, умея управлять ци и своим семенем-гзын, вместе с ци вбирали в себя различные иные субстанции, в том числе и духов-линъ, которые лишь усиливали их могущество. А вот обычные люди, не зная истинных секретов самовосполнения, погибали от «вбирания в себя» линь.
39
Ци не случайно ассоциировалась с дыханием — одной из самых важных жизненных функций.
Существовали поверья о «вредоносном цм» (
се ци); некоторые места, например площадки вдоль рек, как считается иногда и сегодня, наполнены подобной энергией. Например, в провинции Хэнань автору пришлось видеть деревню, которая стоит на почтительном отдалении от берега Хуанхэ, хотя ее жители и занимаются рыбной ловлей. Прекрасные плодородные места в русле реки остаются незасеянными и даже незаселенными — люди уже в течение многих столетий опасаются «вредоносного ци», которое присутствует в этом месте. Все попытки местных властей как-то переубедить людей были тщетны — страх перед се ци оказался большим, нежели перед властями.
Вредоносным ци обладают и некоторые существа — змеи, лисицы и разного рода оборотни и демоны, способные нанести вред и принести болезни человеку. С другой стороны, свиньи своим ци могли возвращать жизнь людям: известна история о том, как свинья оживила и вскормила младенца, которого бросили в выгребную яму, служившую одновременно и свинарником.
40
Жизнь человека оказывалась, таким образом, «энергетична» в своей основе, причем эта энергетическая составляющая никак не зависела от духовно-нравственных императивов жизни. Магия вообще не предусматривает связи между способами управления духами, собственным здоровьем, с одной стороны, и каким-то «нравственным» поведением, с другой, — все это появляется лишь в западных религиозных системах. Китай же свел и нравственное, и духовное, и физическое здоровье исключительно к магическому управлению ци, причем эта концепция остается актуальной и в современной жизни. Именно это лежит в основе и многочисленных форм дыхательной гимнастики, тайцзицюань, цигун и китайской медицины как таковой.
Сакральная эротика
О традиционной китайской сексуальной практике написано много и в самом Китае, и на Западе.
Однако весьма редко подмечается, что, в сущности, возвышенного эротизма, томления чувств, утонченных переживаний и многого того, что в западной культуре связывалось с отношениями полов, в Китае не существовало.
Сексуальный акт был сведен к двум вещам: во-первых, к совокуплению как особому методу трансформации внутренней энергии ци и, во-вторых, к воспроизведению древней концепции совокупления между человеком и неким священным существом, от которого человек и напитывался энергией. И нередко в основе сексуальной практики лежало не только и не столько стремление к чувственному наслаждению, сколько страх утраты внутреннего ци и необходимость постоянной «самоподпитки».
Странным эротизмом было пронизано в Китае все, от сакральных символов до предметов, которые заменяли деньги. Знаменитые раковины каури, которые служили расчетным средством для многих народов восточной и юго-восточной Азии, благодаря своей причудливой форме, напоминающей женский половой орган, одновременно выступали и знаком обладания чем-то ценным. Древнее сознание забавным образом интерпретировало эти символы, где самое ценное вдруг оказывалось знаком «самого женского»: китайский иероглиф «обладать» или «получать» (
дэ) зарисовывался в виде руки, держащей раковину каури.
Различные трансформации ци в традиционных представлениях были связаны с необходимостью постоянного самовосполнения для продления жизни, лечения болезней, для повышения потенции и рождения большого количества детей. Однако, прежде всего, через различные упражнения человек постоянно возобновляет свою связь с энергетикой всего мира. Не зная Бога-создателя или духа-творца и, как следствие, форм общения с ним, китайское сознание ставило на его место вещь вполне физиологичную и конкретную — «циркуляцию ци» (
юнъ ци), что во многом соответствовало предельному физиологизму и конкретике китайского сознания.
Поскольку сам акт рождения ребенка представлялся проявлением благодатного «смешения энергий», то все сексуальные отношения в Китае приобретали «энергетически-восполняющий» характер. Формы китайской сексуальной практики сегодня широко описаны, однако далеко не всегда из описаний многочисленных позиций и рецептов понятно, что речь идет именно об особой практике «самовосполнения», которая в сущности ничем не отличается от требований правильного питания или занятий дыхательными упражнениями, столь распространенными в китайской культуре.
…???…
Илл. 151. Неолитический кувшин типа <ш/» культуры Мачан изображает странное антропоморфное существо — получеловека-полудуха, гермафродита — и, предположительно, передает перерождение шамана в момент слияния с духами. Люванъ, провинция Цинъхай
Большинство сексуальных рецептур построены по принципу симпатической магии — восполнения подобного подобным. Так, до сих пор в основе многих китайских средств для повышения потенции лежат древние магические рецептуры, например используются толченые пенисы оленя или морской собаки, тестикулы быка, то есть тех животных, которые ассоциируются с могучей потенцией, хотя их благотворный эффект в ряде случаев крайне сомнителен.
Существовали и определенные дни, когда считалось особо благоприятным «восполнять мужское начало». Самым распространенным «мужским днем» — днем предельной концентрации стихии ян — считается девятый день девятой луны, «двойная девятка», причем символика «двойной девятки» означает пожелание долгой жизни («девять-девять» по-китайски звучит также как «долго-долго», цзюцзю). В эти дни мужчины должны были уходить в горы и «пить вино из цветков хризантем». По народным преданиям считается, что в этот день можно совокупиться с горными женскими духами, которые являются в виде прекрасных девушек и даруют могучую потенцию на год вперед.
Другой формой практики является «восполнение ян через мнь» (
инь бу ян), которое на обычном уровне понималось как подбор «правильных» партнерш для мужчины. Однако в магической практике использовались более сложные способы. Чаще всего речь шла не только о совокуплении, в том числе и ритуальном, характерном для народной культуры, но об особых «женских» средствах, которые изготавливались для мужчин из женских выделений и менструальной крови.
Очевидно также, что часть их обладала наркотическим или психоделическим характером. Обычно такие средства были важной частью даосской практики, сами же даосы приобретали немалое влияние при дворе, поставляя такие средства, представляясь носителями секретов их применения, обещая долголетие, излечение от «сотни болезней» и — самое главное — увеличение мужской силы.
Впрочем, такие средства были далеко не безопасны, и известно немало случаев смертельного исхода после их неправильного применения. Так, при дворе в эпоху Мин особую популярность приобретают «желтые пилюли» — обобщающее название для многих средств, чье действие было основано на использовании методики «дополнения ян через инь».
Символика «желтых пилюль» связана с преданиями о «желтых водах», которые в чистом виде встречаются в горах Куньлунь, где обитают бессмертные. В них пребывают духи умерших, которые могут даровать бессмертие. В даосской практике это средство было известно под названием сяньтянъ дань — «Пилюли прежденебесного», а поскольку понятие «прежденебесного» указывает на доформенное состояние мира (то есть когда еще не существовало даже Неба), то это средство должно было возвращать человека к абсолютной изначальной и нерасчлененной мощи Вселенной.
Основным ингредиентом являлась менструальная кровь красивых три-надцати-четырнадцатилетних девушек. Девушек отбирали особым образом, в частности сразу отвергали слабых здоровьем, особ с жесткими волосами, грубым мужеподобным голосом — они не обладали в достаточной мере началом инь. Кровь собиралась в золотые и серебряные сосуды, а затем в ступе перемешивалась с отваром из копченых полусозревших слив (
умэй шуй). Плоды и цветки сливы считались священными продуктами, нередко ассоциировались с долголетием, здоровьем и успехом в карьере. Полученную смесь высушивали семь раз, добавляли сухое молоко, киноварь — традиционный ингредиент всех пилюль бессмертия, смолу хвойных деревьев и даже человеческие экскременты. В результате смешивание и выслушивания получалась небольшая пилюля, которая, как считалось, могла избавить от пяти видов усталости, лечить семь видов ран и помогать от общей недостаточности.
В династию Мин в XVI в. даос Вэньчун поведал секрет эффективности желтых пилюль двум видным придворным чиновникам, которые не преминули воспользоваться чудесным средством. В результате оба скончались. Это не испугало императора Ши-цзуна, свято верившего в силу «желтых пилюль» и благоволившего даосизму. В 1553 г. император издает специальный указ, по которому из Пекина и его окрестностей для сбора важнейшего ингредиента чудесного средства было набрано 300 молодых особ в возрасте от 8 до 14 лет, на следующий год — еще 106 человек. Преемник Ши-цзуна, император Ма-цзун (прав. 1567–1573) стал, по совету своих евнухов, активным сторонником пилюль и, как считается, этим окончательно подорвал себе здоровье.
Другой император, Гуан-цзун, умер в ту же ночь, как принял это чудесное средство, процарствовав меньше года, и этот случай 1621 г. стал известен как «инцидент желтых пилюль»
41.
Нарушение принципа «восполнения ян через мнь» вызывало очевидный протест в китайской культуре, что, в частности, выразилось в отношении к женскому монашеству. Утрата очевидного женского начала, например уход в монахи, оценивался китайским обществом негативно. Частично это можно объяснить тем, что буддизм махаяны формально уравнивал возможности мужчины и женщины на пути к спасению и вводил для обоих полов равные формы монашеского послушания.
Следует учитывать, что начало инь все же не соотносится непосредственно с женским началом и имеет значительно более глубокую символику противоположных процессов, а не статичных состояний. Поэтому равноправие женщины и мужчины в сфере общения с духовным миром было невозможно, если, конечно, женщина не утрачивала окончательно черты человеческого существа и не переходила полностью в разряд духов или медиумов, как это случалось в Китае в эпохи Чжоу и Хань. Буддийское же монашество не предусматривает такого процесса, и, хотя женское монашество стало весьма популярным в XI–XIII вв., явление это в терминах сакральной культуры Китая считалось чем-то неестественным.
В частности, в устных преданиях утверждается, что женский монашеский орден был учрежден против желания Будды по распоряжению одного из его учеников Ананды. Однако не это в реальности оказалось основной причиной недовольства монахинями. Исходя из концепций буддизма, монах не имеет ни пола, ни сексуальных пристрастий, поскольку в момент посвящения он должен оставить мир желаний и мир «разделения» на мужское и женское. В частности, как следствие этого, Будда изображается нередко как существо амбивалентное, в равной степени обладающее и мужскими, и женскими чертами. Однако на практике в Китае весьма дурно относились к женщинам, которые отказывались вступать в брак, рожать детей и уходили в монастырь. Их поступок не встречал понимания в обществе, где количество детей и послушание жены было одним из столпов процветания семьи. С монахинями связывалось немало плохих предзнаменований, например считалось дурным знаком увидеть монахиню в период между Новым годом и 3-м днем года по лунному календарю.
42
И здесь в китайской культуре был найден интересный выход — женское монашество по ряду сакральных символов оказалось как бы отделено от мужского. Например, в отличие от монахов-мужчин, которых называют
хэшан, женщины-монахини именуются совсем иначе —
нигу.
Первоначально монахи обоих полов жили вместе, что формально полностью соответствует концепции буддизма, однако постепенно нигу были «отселены» в отдельные обители. Первый женский буддийский монастырь был создан лишь в 972 г., и уже через столетие совместное проживание окончательно исчезло, и женщины, нарушившие принцип гармонии инь-ян, были как бы «отселены» за рамки традиционной культуры.
В сущности, энергетическая концепция «смешения ци» отнюдь не предусматривает контакта именно между мужчиной и женщиной — в магических представлениях благодатная детородная энергия не обязательно должна ассоциироваться с конкретным полом или даже с актом совокупления. Необходимый жизненный субстрат содержался помимо семени также и в слюне, при этом сама слюна рассматривалась как часть все той же детородной силы. Не случайно по многим китайским поверьям после помазания слюной или даже плевка мог появиться ребенок.
Сюжетом для многих историй стали идея о том, что энергия-^м человека лишь усиливается через ци животного. Традиционные китайские рассказы изобилуют повествованиями о совокуплении женщин с животными, чаще всего со змеями как носителями наиболее мощного заряда «внутреннего ци».
Например, по одной из легенд, в провинции Гуанси жили огромные змеи, которые отличались неизмеримым долголетием. Однако прославились они другим: змеи насиловали всех женщин в округе, более того, одна из них сумела пробраться в женщину так, что тело змеи оказалось в ее вульве, а язык — во рту женщины.
43
Истории рассказывают о сношении с обезьянами, оленями и собаками, причем после всех этих приключений нередко на свет появлялось потомство необычного вида. Более того, некий правитель Цянь из Цянту даже ставил эксперименты в духе европейских натуралистов: он обряжал наложниц своего гарема в шкуры или ставил их в позы, напоминающие позы животных, а затем заставлял их совокупляться с собаками или козлами, интересуясь, появится ли после этого совместное потомство.
44
Вообще, рождение ребенка не обязательно должно быть связано с союзом полов, но прежде всего — с союзом двух противоположных энергий, например мужской-женской, человеческой-животной или даже живой-неживой.
Мы уже упоминали, что, по легенде, предки династии Шан появились на свет от того, что некая «темная птица» (
сюанъ няо) отложила свое каменное яйцо в рот женщины. Безусловно, в этом можно усмотреть символику совокупления медиума как существа потустороннего, «темного» с земной женщиной, однако мотив рождения из камня или из каменного яйца стал излюбленным сюжетом многих китайских преданий. Уже в средние века его можно было встретить в легенде о царе обезьян — Сунь Укуне, знаменитом герое народных сказаний и обширного романа «Путешествие на Запад» («Си ю цзи»). Сунь Укун также рождается из огромного камня в виде яйца, который «задрожал, завертелся, раскололся, и на свет появилась обезьяна». В магическом мире образ камня представляет собой нерасчлененную изначальность, некое доформенное состояние мира, где нет ни культуры, ни ее проявлений.
Другая история из одного из даосских сборников рассказывает о том, как у старика в 64 года и старухи в 60 лет не было детей, от чего оба очень страдали и считали, что у них уже никогда не может быть детей, ибо их срок давным-давно миновал. Однако они все же решили воспользоваться магическими приемами для рождения ребенка: сделав надрезы у себя на руках, они позволили крови стечь в углубление в камне, а затем накрыли его другим камнем. Потом они обратились с молитвой к небу, прося даровать им ребенка и объясняя свой поступок тем, что в их возрасте у них уже недостаточно энергии-г<м и крови (т. е. мужского и женского начал) для нормального зачатия. На следующий день они обнаружили в углублении в камне небольшую Илл. 153. Реклама средства для усиления мужской силы (20-е гг. XX в.), где использован образ буддийского монаха золотистую змейку. Через год на голове у этого существа вырос рог, а под животом появились четыре конечности, само же существо (явная аллюзия с золотистым драконом-лг/н) могло свободно менять свой облик.
45
Магическая медицина
Другим способом самовосполнения явилось особое магическое искусство, которое сегодня обычно именуется китайской традиционной медициной и которое изначально представляло собой одну из частей магического искусства «вскармливания» (
ян) человека. Уже в середине I тыс. до н. э. широко распространились самые различные методы «вскармливания жизненности» или «жизненных свойств» (
яншэн) человека, которые сегодня стали частью традиционной медицины и оздоровления, дыхательно-оздоровительных упражнений системы цигун.
Что же представляло собой в первоначальном виде то явление, которое мы сегодня именуем китайской медициной? В общем, она мало соотносилась с собственно лечением людей, поскольку прежде всего сама концепция здоровья была совсем иная. Здоровье — это равновесие всех функций человеческого организма, баланс между инь и ян. Однако сам баланс еще не приносит комфортного состояния, он лишь обеспечивает взаимовыгодный союз человека с духовными силами, которые либо способствуют человеческому долголетию и процветанию, либо, наоборот, быстро приводят к его гибели. Вглядимся внимательно в иероглиф «и», который обозначает сегодня китайскую медицину. В верхней его части изображен предположительно больной человек, возможно с переломами костей. А в нижней части мы видим графему «вино» (
ирю) или, точнее, некий «соматический напиток». Именно так его трактует один из древнейших толковых словарей китайского языка «Шовэнь цзецзы» (I в.). Соматические отвары и напитки были важнейшей частью шаманского ритуала общения с духами и путешествия в мир мертвых и ключевым элементом сакральной жизни древнего Китая. Вся знаменитая бронзовая культура I тыс. до н. э. была, по сути, нацелена на изготовление соматических средств и их прием.
Очевидно, что под словом «м» (ныне «медицина») подразумевалось не собственно «магическое врачевание», а категория людей, которые ею занимались. Еще в эпоху Чжоу и представляли собой медиумов и магов, то ли тесно связанных, то ли синонимичных медиумам.
46
В основном они занимались врачеванием через использование своего тела, делая из него проводник для призвания или, наоборот, изгнания духов из больных людей. Таким образом, искусство по сути представляло собой лишь раздел практики медиумов и магов и в таком виде дошло практически до XVII в.
В глубокой древности сложились представления, которые строились вокруг мысли о том, что мироздание базируется на трех основных, равноправных и взаимосвязанных элементах — «трех драгоценностях» (санъ цай) или «трех гармоничных сочетаниях» (
санъ хэ): Небе, Земле и человеке. Там, где западный взгляд подмечал лишь подчиненность человека божественным силам космоса, китайское сознание осмысляло это как установление «договоренностей», «взаимодоверия» или «искреннего отношения» (
синь) между этими тремя началами. И смысл человека заключается не только в том, что он опосредует собой связь между Небом и Землей, выступая как вечный медиум, но и является вместилищем для постоянного воспроизведения духов — важнейшей структурирующей частью мироздания. А поэтому физическое тело человека (
ти), равно как и его духовную составляющую душу-сердце (синь), следует содержать в здоровом состоянии, оптимально настроенным на ритуальную связь с Небом и выполнение посреднических функций общения с духами предков. Для традиционного сознания человек есть схождение всех священных сил, именно в нем эти силы получают материальное воплощение, например «Ли цзи» («Записки о ритуале», VI–V вв. до н. э.) называют человека «сердцем Неба и Земли», помещая его тем самым в центр кипения всех священных сил.
В связи с этим оказывалось крайне важным постоянно возобновлять канал связи человека с этими силами и готовить физическое тело к этому священному совокуплению. Поэтому, строго говоря, китайская медицина не была настроена на лечение болезни именно в том аспекте, как это понимается на Западе или даже в современной китайской медицине. Система, называемая и, предполагала особую работу с физическим телом человека, дабы подготовить это тело к различным испытаниям и духовным встречам, освободить от воздействия вредоносных факторов, «излишних желаний», открыть каналы внутри тела, расширить внутреннее чувствование и во многом сделать психику более сенситивной, восприимчивой к ритуальным воздействиям. Таким образом, целью магической медицины-м было не здоровье ради собственно здоровья как отсутствия болезней и повышения работоспособности, но ради обретения такого состояния души и тела, которое позволяло бы человеку максимально эффективно выполнять свои обязанности перед духами предков. Само же излечение от недугов было скорее побочным эффектом, нежели основной целью. Здоровье человека, точнее то, что в китайской традиции подразумевалось под понятием «цзянъ кан», оказывалось вплетено в сложный процесс установления договоренностей с духами, очищения человека от
присутствия в нем различных вредоносных факторов, также представленных духами, восстановления энергетического баланса инь-ян и его утраченной связи с Небом и Землей. Не случайно один из синдромов болезни звучит как «потеря своего укоренения в земле» (
дигэн), когда человек больше не способен напитываться энергетическими соками земли.
Физиологизм и натурализм ранней магии проявлялся в особой концепции здоровья, которая понималась как обеспечение духам максимально комфортного, то есть здорового, тела. Даже современное понятие «физическая культура» (
тпиюй) в реальности понималось как «воспитание физической оболочки», включающее любые физические движения, в том числе и цирк, выездку на лошади, боевые искусства, гимнастические упражнения, дыхательно-медитативные системы типа даоинь (даосского искусства продления жизни, дословно «вводить энергию ци и проводить ее по каналам»), цигун («искусства управления энергией ци»), нэйгун («внутреннего искусства»). Таким образом, в Китае возник целый комплекс воспитания физического начала для того, чтобы сделать физическое тело максимально «приемлемым» для выполнения функции посредника между небом и землей. Не случайно все эти системы возникали в основном в оккультных даосских школах, где маги тренировали себя, чтобы быть, говоря словами Чжуан-цзы, «флейтой Неба», то есть проводить через себя энергию Неба на землю. То, что императору или правителю давалось изначально как небесная благодать-Ээ (собственно, именно поэтому он и может являться правителем и медиатором между людьми и духами), то обычные люди, получая посвящение, должны были тренировать себя через системы типа даоинь и нэйгун. И хотя первоначально такие методы считались «непередаваемыми вовне» (бу вай чуань), в V–VIII вв., в период массовой десакрализации культуры, внешне воспринимаемой как расцвет китайской цивилизации, все эти системы стали частью сначала придворной традиции поддержания здоровья, а затем и вообще массовой гимнастики. Мистическое содержание во многом утратилось, хотя форма осталась прежней и до сих пор выполняется китайцами по утрам в парках и на набережных порою в массовом порядке. Весь мир знает сегодня об этой некогда тайной традиции — из нее вышла дыхательно-медитативная система тайцзицюань, много стилей боевых искусств ушу и собственно сама традиционная (в сущности, уже абсолютно модернизированная) китайская медицина.
Всякая болезнь, по сути, представляет собой не только дисбаланс энергии-ци в организме и «закупорки ци», как гласит осовремененная концепция китайской медицины, но некую несогласованность действий духов и различного типа «душ» внутри человеческого тела. Древние даосские тексты различали три типа недугов: те, которые приходят после рождения, те, которые зарождаются во время развития эмбриона, и те, которые возникают еще до зачатия ребенка.
47
Именно в магическом искусстве медицины как нигде ярко проступает предельная конкретность и физиологизм мышления традиционного Китая. Например, все болезни также имели некую воплощенную форму — обычно они представлялись в виде червей.
 Илл. 154. Аптекарь XIX в., смешивающий лекарства. Позади него — ящик с исходными компонентами снадобий, рядом висят коробочки с уже готовыми лекарствами. Восковая фигура. Музей истории Шанхае
Илл. 154. Аптекарь XIX в., смешивающий лекарства. Позади него — ящик с исходными компонентами снадобий, рядом висят коробочки с уже готовыми лекарствами. Восковая фигура. Музей истории Шанхае
Соответственно, лечение болезни заключалось в изгнании червей из организма. Вряд ли следует под этими «червями» понимать лишь каких-то паразитов, от которых, безусловно, могли страдать китайские вельможи и правители. Все же из даосских текстов и народной традиции очевидно, что речь идет о некой генерализации вредоносных духов, разъедающих внутренности организма, подобно червям, к тому же нередко в историях черви заменяются змеями. Великий врач древности Хуа То прославился первоначально именно тем, что умел изгонять огромных червей из правителей областей, а однажды сумел проделать такую операцию даже над драконом, обитавшим в одном из прудов и из-за своих мучений сильно беспокоившим окружающий люд.
48
Более того, нередко черви в организме воплощали прегрешения прошлых поколений, что еще больше подтверждает предположение о том, что символ внутренних червей или змей относится не собственно к кишечным червям или глистам, но к самой китайской идее болезни (
вин) как общего дисбаланса психофизиологического свойства, к тому же корнями своими уходящего в предыдущие поколения. Житие известного медика Сюань Су (ок. I в. до н. э.) рассказывает, что как-то из организма правителя царства он извлек при помощи особого снадобья с десяток змей, при этом дав такое объяснение: «Черви, что обнаружились в теле правителя, передались ему через шесть прошлых поколений в скрытом виде, сам же правитель не виноват в них»
49.
Но чем мы можем подтвердить, что вообще существовали какие-то секреты древних «медицинских» практик? И если так, куда же они исчезли? Они как раз не исчезли, но, рационализировавшие проявились в ряде «тайных» (на самом деле широко известных) трактатов, которые традиционно относятся к канонам медицины. Среди них, например, знаменитый «Канон Желтого правителя о внутреннем» («Хуан-ди нэйцзин»). «Хуан-ди нэйцзин» записывается именно в тот период, когда шла десакрализация и «огосударствление» многих оккультных течений, проступавших в виде так называемых философских учений. Трактат появляется в эпоху Чжоу, где-то на рубеже периодов Весен и Осеней и Сражающихся царств (770–221 гг. до н. э.), когда жили практически все лидеры духовых школ, в том числе Конфуций и Лао-цзы. Примечательно, что в течение многих веков Канон подправлялся, делался все более приемлемым для светской культуры; самую большую правку он претерпел в периоды Цинь и Хань (221 г. до н. э. — 220 г. н. э.), именно тогда, когда правились, перерабатывались и добавлялись многие трактаты, вышедшие из старых оккультных школ. Авторство Канона приписывается самому Желтому императору Хуан-ди. В нем излагается видение человеческой анатомии как совокупности каналов цзиньло, по которым циркулирует энергетическая субстанция ци. Все функционирование человека понимается как установление баланса начал инь и ян, пяти первостихий (металл, дерево, вода, огонь, земля).
Примечательно, что болезнь понимается не просто как нарушение баланса, но как внесение хаоса в гармонию взаимодействия различных сил, и, соответственно, лечение есть восстановление гармонии.
Канон основан на очень тщательном, очевидно, многолетнем изучении особенностей человеческого организма и психики. Изучался цвет кожи, выражение глаз, воздействие пищи и сезона на самочувствие человека. Все это вписывалось в магические схемы, основанные на нумерологии и магии чисел. В частности, циклы жизни женщины оказывались кратны семи, а мужчины — восьми. Так, девушка начинает расцветать в возрасте семи лет, когда выпадают молочные зубы и развивается волосяной покров. В 14 лет (т. е. 7x2) она взрослеет, у нее начинаются менструации. В 21 год (7x3) ее расцвет достигает высшей точки, прорезаются зубы мудрости. В 28 лет (4x7) она становится очень крепкой, с сильными мышцами и животом. В 35 лет (7x5) начинается ее постепенное угасание, а в 42 года (7x6) краски на ее лице постепенно начинают увядать, в волосах появляется седина. Наконец, в 49 лет (7x7) наступает климакс и детородная функция угасает. У мужчины в 16 лет (8x2) наступает созревание, в 24 года проявляется мудрость, в 32 года он превращается в мощного и крепкого человека, в 40 лет меркнут краски его лица, в 48 лет он седеет и начинает стареть, в 56 лет угасают функции внутренних органов, а в 64 года наступает старость, выпадают зубы и волосы.
Сакрально-магические записи подготовки тела к общению с духами, обычно принимаемые за «медицинские книги» типа «Канона Желтого правителя о внутреннем», составляли основной объем магической литературы вместе с многочисленными предписаниями сексуального характера и советами о тонкостях общения с духами. Само же появление такой литературы говорит отнюдь не о расцвете анатомических и медицинских знаний, а, наоборот, о постепенной утрате сакрального отношения к этим знаниям, в результате чего стало возможным записать некогда абсолютно закрытые знания и даже изготовить сотни копий с этих трактатов. Впрочем, несложно предположить, что многое из этого комплекса эзотерических знаний так и осталось в устном виде, к тому же то, что записывалось, далеко не всегда составляло суть традиции, а, скорее, было одной из ее частей. Поэтому, например, изучение китайской медицины по этим книгам равносильно попытке осознать неизмеримо большое по весьма малой и далеко не полной части этого целого.
А вот медицина в современном смысле этого слова — как метод лечения болезней — появляется достаточно поздно и вырастает из оккультно-магического искусства и. Процесс вычленения из всего комплекса и исключительно лечебных методик, базирующихся на принципе «болезнь — способ лечения», идет очень долго, протекая параллельно с постепенной секуляризацией всего магического искусства вообще. Наконец, к III–IV вв. складывается набор лечебных методов, который начинает, как и все в Китае, активно записываться. Одни из первых записей делаются на каменных стелах, в частности в районе Лояна, бывшей столицы Китая с периода династии Северная Вэй (V в.), в знаменитых скальных пещерах Лунмэньку (Драконьих врат) можно обнаружить целую коллекцию таких записей. Пещеры и гроты Лунмэньку частично образовались естественных образом, частично были выдолблены в песчаных скалах вдоль берега реки. Там в пещерах, которые тянутся на несколько километров, находится более сотни тысяч изображений будд от многометровых гигантов до миниатюрных скульптур высотой лишь в пару сантиметров. Создание пещер, которое заняло почти пять столетий, было данью уважения китайских правителей той эпохи к буддизму, который стал приобретать все большую и большую популярность, а центр его располагался именно в районе Лояна. Там же в одном из гротов можно найти несколько стел, на которых выбито около ста различных медицинских предписаний, сделанных в VI–VIII вв. Все они — довольно простые, хотя и эффективные методы лечения малярии, простуды, нарушения пищеварения, тошноты, головной боли и т. д. В глаза сразу бросается примитивизм всех этих рецептов, особенно предписаний из «тайных книг» прошлых столетий. Для лечения болезни использовался в основном отвар или настой из одной травы, крайне редко из двух. И никаких гигиенических предписаний, способов диагностики болезни, поддержания здоровья! Все базировалось на крайней простоте определения недуга и столь же простом его лечении. На первый взгляд, это можно расценивать как заметный шаг назад по сравнению, например, с «Каноном Желтого правителя о внутреннем», однако следует понимать, что эти надписи на стелах — литература совсем иного рода. Это и есть экзотерическое проявление некогда магического искусства, упрощенного до простейших приемов врачевания болезни. Например, при воспалении кожных покровов, вероятно как при проявлении аллергии, рекомендовалось погрузить воспаленную конечность в отвар ивовых веток, при дизентерии — выпить настой почек акации.
Эзотерические разделы медицины всегда оперировали понятиями баланса ее циркулирования по каналам (
цзиньло) и очищения этих каналов от закупорок или «застав» (
гуань). Закупорки приводят к воспалениям, дисбалансу и переполнению организма сонмом духов.
В конечном счете человек начинает терять свою жизненную энергию. Потеря энергии представлялась одним из самых страшных явлений в человеческой жизни — именно из-за этого возникают многочисленные недуги, слабость и даже смерть. Вредоносность духов (
сё) происходит, по традиционным представлениям, не собственно от духов, которые, в общем, являются существами нейтральными, а от самого человека, его желаний, склонностей и настроения. Болезнь в организме зарождается либо как следствие неумения договориться с духами, либо как последствие неуемных желаний самого человека. Один из древнейших трактатов по практике самосовершенствования, записанный в III–II вв. до н. э., «Сунъюй цзин» («Канон безыскусной девушки») вообще напрямую связывает всякий вред с неупорядоченной половой жизнью. Безыскусная девушка интересуется у великого старца Пэн-цзу, прожившего не одну сотню лет: «Откуда же происходят вредоносные духи?» На что Пэн-цзу отвечает: «Если у человека нет гармонии в сексуальной жизни, его сексуальные желания лишь увеличиваются. Вредоносные духи просто пользуются этим.
…???…
Илл. 155. Буддийский монах, делающий массаж активных точек и одновременно передающий мирянину врачующую энергию. Провинция Хэнанъ, монастырь Шаолинъсы
Они принимают человеческий облик и вступают в совокупления с такими людьми. А поскольку духи значительно более умелы в искусстве [любви], нежели человеческие существа, человек становится полностью привязанным к такому любовнику-духу. Обычно подобные люди хранят это в секрете и никому не рассказывают о своих наслаждениях. В конце концов, они в одиночку угасают, не будучи способны посоветоваться с по-настоящему мудрым человеком»
50.
Из этих древних представлений родились многочисленные средневековые легенды о людях-оборотнях, отбирающих у своих партнеров сексуальную энергию, от чего те умирают в страшных мучениях. В частности, мужчинам следовало опасаться женщин-лис, которые были чрезвычайно умелы в любовных утехах. Обычно лисица первоначально воплощалась на земле в виде старухи, которая постепенно молодела в зависимости от числа соблазненных ею мужчин, пока не превращалась в поразительную красавицу, способную возродиться на небесах. Сексуальный страх, равно как и сексуальное влечение к таким женщинам, был очень велик, рассказы об их чудесном искусстве распространялись по всему Китаю, мужчины советовались с даосскими монахами и местными знахарями, как испытать высшее наслаждения с такой женщиной-лисицей, но при этом избежать растраты энергии, а то и смерти. Сексуальные страхи и их связь с концепцией здоровья в традиционном Китае вообще были чрезвычайно велики и так или иначе оказывались связанными с утратой энергии. Например, наряду с рассказами о женщинах-лисах существовали истории о vagina dentalis, в результате чего у юношей вырабатывался стойких страх перед определенным типом женщин, которые по некоторым внешним признакам якобы могли обладать таким пугающим лоном.
Вполне физиологично в концепции магической медицины-м и понятие физической смерти.
Смерть — лишь момент трансформации физической оболочки, которая выполнила свою роль. Она не является ни трагедией, ни неожиданностью. В частности, «Записки о ритуале («Ли цзи») философски констатируют, что все рождаются лишь для того, чтобы умереть, и вся жизнь с самого своего начала направлена именно к смерти. Многие болезни и даже сама смерть объяснялись наличием некой особой негативной субстанции, яда, именуемого тайту. Уже подробно разработанная и вполне рациональная концепция тайту встречается в «Записках о ритуале» («Ли цзи»).
Тайту понимается как некая энергетическая субстанция, которая изначально присутствует в родителях при акте зачатия ребенка. Тайту проникает в плод вместе с мужским цзин и женским секретом-тоэ. Более того, само рождение концентрированного количества тайту нередко объяснялось именно сексуальным возбуждением мужчины и женщины. Тайту сгущается в организме женщины в области между почками, именно там, где залегает плод, напоминая небольшую вишенку.
51
Постепенно тайту переходит в этот плод, и ребенок появляется на свет уже «потенциально больным» — это и объясняет тот факт, почему с самого рождения человек развивается в направлении смерти и никак не может достичь вечной жизни кроме как чудесными способами. Жизнь, доведенная до предела воплощения в акте зачатия ребенка, давала флюид смерти. В течение жизни тайту проступает в виде различных болезней; примечательно, что до сих пор многие кожные заболевания или болезни, проявляющиеся на коже, например оспу, китайцы объясняют тем, что тайту проступает из организма наружу.
Жизненная субстанция ци, что напитывает и порождает людей, имеет несколько воплощений, в том числе и в неорганическом мире. По сути, на этом построена вся даосская медицина, стоящая, скорее, ближе к магии, нежели к медикаментозному врачеванию. По древним представлениям, она связана с шаманскими культами. Ряд предметов, например некоторые виды камней, жемчуг, нефрит, в концентрированном виде содержат в себе жизненную субстанцию, которую и следует принимать вовнутрь. До сих пор в китайских аптеках активно продаются лекарства, содержащие мелко толченый жемчуг «для улучшения цвета лица и придания красоты женщине».
По сути, в традиционных культах внутрь принималась не собственно жемчужина или толченый нефрит, но энергия, заключенная в них, например энергия солнца. Чудесные свойства средству придает и постоянно встречающийся мотив сна, сопровождающий прием таких средств — сна как вечной грезы реальной жизни и трансформации обыденности в чудесное. Например, во сне глотают звезду, золотую цикаду, плоды китайской софоры, кусочки золота или другого металла и многое другое.
52
 Илл. 156. Пять первостихий, влияющих на здоровье человека, представленные в виде даосских мистических символов: тигр, феникс, дракон, черепаха; в центре (земля) — курильница для выплавления пилюли бессмертия
Илл. 156. Пять первостихий, влияющих на здоровье человека, представленные в виде даосских мистических символов: тигр, феникс, дракон, черепаха; в центре (земля) — курильница для выплавления пилюли бессмертия
Все это дает невиданные силы, а женщинам нередко приносит и ребенка, что лишь подчеркивает «животворящий» акт такого глотания. Мы уже рассказывали о том, как женщины рожали от «слюны дракона», однако в китайских историях встречается беременность даже от некоторых растений. Например, супруга правителя Гуня (того, кто пытался в древности еще до Юя усмирить потоп) Нюй Си, гуляя как-то по горам, обнаружила там чудесное растение и-и, проглотила его и почувствовала, как внутри нее возник ребенок. Через некоторые время она родила сына.
53
Китайские философы начиная с XIII–XV вв. любили рассуждать о высшем мастерстве — гунфу, также связанном с абсолютным и практически магическим здоровьем человека. Гунфу может проявиться в любом деле: в колке дров, приготовлении пищи, акробатике, ораторском искусстве и т. д., а возгласом «чжэнь гунфу!» — «истинное мастерство!» отмечается нечто удивительное, поразительное и недостижимое для многих. Сегодня им часто называют боевое искусство ушу (искаженное «кунфу»), но не как способ боя или самозащиты, но как абсолютный метод открытия внутренних духовных потенций через внешние методики. Гунфу может наступать внезапно и как бы независимо от вида деятельности, например, многие легенды о мастерах ушу говорят, что один стал мастером во сне (не тренируясь вообще), другой — наблюдая за резкими изменениями полета мухи. Поразительна и связь собственно боевого искусства, то есть методов нанесения ударов и самозащиты, с духовным саморазвитием человека — здесь оказывается, что через нечто обратное, абсолютно физическое, телесное мы достигаем высшей духовной, внутренней цели. Считается, что гунфу это то, что остается после смерти человека в его учениках и последователях. И здесь проступает удивительная цель, которая скрывается за многими рассуждениями о достижении гунфу: совершенствование человека направлено, прежде всего, против разрушительных сил природы, заставляющих его умирать. Наверное, ни в какой культуре страх смерти не был столь всеобъемлющ, как в Китае.
Танатос властвовал во всем, и прежде всего в мистических культах, императорских церемониях, образе жизни китайцев, в формах поклонения предкам. Япония сумела перевести танатос на уровень эстетического переживания, легкой грусти о вечно «ускользающем мире».
Именно на этом строилась самурайская культура XVII–XIX вв., рассуждения о бренности жизни, увлечение «ускользающими» вещами, например облетающей сакурой, таянием снегов, улетающей стаей журавлей. Китай же вырабатывал методы, как не дать этому миру «ускользнуть» окончательно, как не дать ему исчезнуть вместе с собой. На место религиозного поклонения Богу или другому высшему существу здесь ставится стремление к долголетию и бессмертию, стремление, зачастую близкое к параноидальному. Любая философская система в Китае обыгрывала не сюжет единства человека в Боге, что характерно для западных культов, но безотносительное долголетие человека (даосизм), его вечное повторение на земле (буддизм).
Посредством определенных техник, например занятий цигун, нэйгун, ушу, медитации, приема отваров и т. д., последователи таких систем получали ряд особых способностей, высшей из которых считается достижение бессмертия как абсолютного воплощения здоровья. Достаточно сегодня войти в любую китайскую аптеку, будь то в сельской местности или в городе, и бегло проглядеть аннотации к лекарствам, чтобы понять, что все эти средства служат практически одному и тому же: продлению жизни, увеличению жизненных сил, «восполнению» потенции и т. д. То есть они связаны с идеальными представлениями о здоровом человеке, сложившимися еще в древнем Китае и своими корнями уходящими даже не в знахарство и даосизм, а в практику медиумов и шаманов.
Заключение
Священное как обыденное
Чувства и ощущения человека — всегда источник вечных загадок. Именно вокруг этого абсолютно субъективного восприятия мира любым человеком и построены все системы философии и магической культуры. Поэтому китайская действительность всегда интересна не только в узкокультурном аспекте, но как живой слепок тех традиций и форм осознания сакрального пространства, которые в других странах мира уже давно канули в прошлое.
Само мистическое знание было представлено не философией, не рационалистической мыслью неоконфуцианцев и даже не даосскими рассуждениями о бессмертии, но являлось итогом личного переживания от соприкосновения с запредельными сферами тех, кого мы именовали в этой работе медиумами и магами. Несмотря на столь «архаическое» название, медиумизм мог быть представлен не только собственно медиумами, но в более поздние эпохи и учеными-интеллектуалами, эстетами, «людьми культуры» и, естественно, знахарями, гадателями, мастерами боевых искусств.
С глубокой древности в Китае сложился очень сложный и абсолютно закрытый комплекс мистических и магических представлений. Безусловно, Китай в этом плане был не оригинален, подобные комплексы можно встретить в Египте, Месопотамии, Индии, доантичной Греции. С одной лишь разницей — он не исчез и не растворился с течением истории, как случалось во многих других странах, и дошел до наших дней, прочно укоренившись в сознании китайцев на уровне особых, но при этом вполне обыденных, каждодневных форм мировосприятия. Он лишь трансформировался и от эпохи к эпохе выбирал новые, наиболее адекватные формы своего проявления в мире светском. При этом время от времени происходил как бы «вброс» мистического в его новой форме в жизнь общества. Общество подхватывало его, облекало в слова, трактаты, философские и духовные учения, живопись, поэзию, архитектуру и даже политические учения.
Шаманско-медиумный комплекс далеко не уникален для Китая. Мы показали, что можно найти прямые параллели между культурами Шан и Чжоу с шаманской космогонией народов Приморья, севера Дальнего Востока. Здесь также царствовала культура шаманских путешествий в царство мертвых, а также птиц и рыб, которые были пристанищем души либо уже умерших, либо еще не рожденных людей. Здесь также использовалось шаманское обряжение в маски и одежды из шкур животных для временного перевоплощения и «опознавания» мире мертвых. Для Китая примечательно другое: хотя многие формы шаманской и медиумной практики либо исчезли, либо трансформировались, символика и переживания соприкосновения с царством предков и миром духов зафиксировались на многие тысячелетия. В современной поэзии, живописи, методах духовного совершенствования проступают образы магической культуры трех-четырех тысячелетней давности.
Практически все представления древних китайцев были связаны исключительно с культом мертвых. Таоте, драконы, птицы, змеи, рыбы представляли собой единого духа, посланца в царство мертвых и одновременно его представителя на земле, в роли которого выступал шаман или медиум. В своих путешествиях и «полетах», совершаемых, прежде всего, с помощью галлюциногенов, он получал уникальный опыт мистического переживания, который затем стремился передать людям в виде символов и образов. Это и было истоком представлений о мире духовного.
Принято считать, что развитие представлений о священном двигается от многобожия к единобожию. Древние люди поклонялись множеству духов, которые были разделены по функциям и внешнему виду, например божество дождя, божество очага, дух огня и т. д.
Постепенно их функции сужались, ужимались, пока не воплотились в осознании единого Бога.
Такое представление о пути от политеизма к монотеизму, возможно, справедливо для иудео-христианской культуры, однако для Китая мы видим совсем иную картину. На древних бронзовых сосудах, на изображениях эпох Шан-Инь и Чжоу очевидно проступает лик единого духа, которого и именовали ди. Он мог разво-площаться во множестве функций, людей и проявлений, например проявлялся в шаманах и медиумах, правителях царств и императорах, в мифологических животных, подобных драконам и фениксам, в странных изображениях рогатого таоте. Тем не менее, это был единый дух, всегда представленный в виде мага-посредника, который был не только представителем ди, но сам являлся полноценным
ди, человеко-духом.
Что же по-настоящему скрывалось в этой традиции постоянной «сокрытости»? Что вообще было достойно сокрытия? Как представляется, бережно скрывался истинный канал установления связи с источником эзотерического знания, который в китайском лексиконе выступал как «духи предков» или «учение предков».
Самый ранний мотив, который присутствовал в китайском сознании, — это стремление установить контакты с миром предков и миром мертвых, которые представляли собой одно и то же. Причем сделать этот контакт перманентным, постоянно ощутимым в любой момент жизни.
Люди, которые могли свободно переходить из этого мира в мир потусторонний, являлись медиумами и магами и воплощали особый характер сокрытого лидерства в Китае: правит не тот, у кого сконцентрирована военная власть, но тот, кто способен общаться с Небом.
Само Небо (
тянъ) первоначально представляло собой не совокупность неких высших духовных сил, как подразумевается сегодня, но некоего магического лидера и представителя духов, именуемого тянъ, который в момент ритуального совокупления с духовными силами надевал на себя маску (обычно с рогами) и выполнял танцевальные движения, как это делают многие шаманы.
Магическая культура породила массу посредников между миром живых и миром мертвых.
Одними из первых являлись странные духи-предки таоте, чуть позже — различные виды птиц и, наконец, существо лун, трансформировавшееся со временем в знаменитого китайского дракона.
Сам символ дракона, которым сопровождалось все, что связано с китайским императором, от одежд до отделки помещений, как бы указывал на то, что император продолжает выполнять роль мага и медиума, опосредуя мирские и небесные дела.
Со временем значение традиции медиумизма как посредничества между миром духов и людей в китайской культуре уменьшается, значительно большую роль начинают играть индивидуальные мистики, которые встречались среди самых разных категорий общества, например служивых мужей-шм или «людей культуры» (
вэнъжэнъ). Образ такого мистика прописан в конфуцианском так называемом «благородном муже» (
цзюньцзы), хотя позже, особенно под воздействием неоконфуцианской коррекции древних мистических культов, он действительно превращается во вполне светского. В даосизме он выступает как «человек Пути» —
даоши.
И в этом смысле никакакой мифологии именно как фантазийной действительности в Китае не существовало. За многочисленными рассказами о героях, эликсирах бессмертия, путешествиях в загадочные чертоги стоит реальная практика шаманов и медиумов.
 Илл. 157. Даосский наставник с корзиной зелени, скромно бредущий по монастырской аллее, — живое воплощение «наставника, неприметного для мира»
Илл. 157. Даосский наставник с корзиной зелени, скромно бредущий по монастырской аллее, — живое воплощение «наставника, неприметного для мира»
Китай перерастает архаические формы шаманизма, которые, тем не менее, в «снятом» виде присутствовали во всех частях его культуры вплоть до новейшего времени. Но сами эти формы, основанные на прямой связи с Небом и духами предков, оказываются слишком тесными для развивающейся цивилизации, которая постоянно вбирала в себя части культур сопредельных народов и несмотря на свою имперскую заносчивость была всегда открыта для внешних влияний.
Впрочем, тотчас появляется определенный тупик развития: большинство культур мира в этот момент переходят к культуре владычества Церкви с ее жесточайшей дисциплиной и пирамидальной структурой, культом единого Бога, Китай же по настоящий день пребывает в состоянии структурно аморфного, но духовно чрезвычайно сильного мистицизма, где центральной фигурой является не патриарх, не глава церкви, но местный деревенский наставник, порой вообще не идентифицирующий себя ни с какой религией и школой. Этот человек, «подобный дракону», человек, который есть и дух, и духовный наставник одновременно, вечно возвращается в каждом новом поколении тех, кто «идет по Пути».
Карты Китая

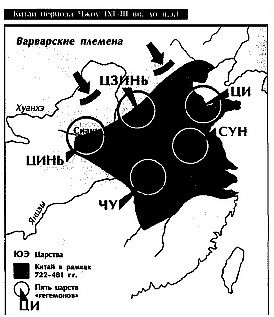
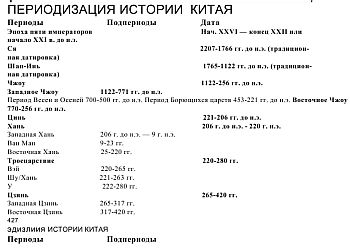
Период Южных и Северных династий
Южные династии
Сун
Цзи Ляо Чэнь
Северная Вэй
Восточная Вэй
Северная Пи
Северная Чжоу
Северные династии
Суй Тан
Период Пяти династий
Северная Сун
Ляо (на северо-востоке)
Ся (на северо-западе)
Ции
Южная Сун
Юань (монголы)
Мин
Цин (маньчжуры)
Республика Китай
Восстание Ань Лушаня
Восстание тайпинов
Нанкинское десятилетие
Антияпонская война Народно-освободительная война
Китайская Народная Республика
Дата
420-589
или 386–589 гг.
420-479 гг. 479–502 гг. 502–557 гг. 557–589 гг.
386-534 гг. 534–550 гг. 550–577 гг. 557–581 гг.
581-618 гг.
618-907 гг.
755-764 гг.
900-960 гг. 960-1127 гг. 916-1127 гг. 1115–1234 гг. 1115–1234 гг. 1127–1279 гг. 1271–1367 гг. 1368–1644 гг.
1644–1911 гг.
1850-64 гг.
1912-49 гг. (на Тайване по наст. время)
1927-37 гг. 1937-45 гг. 1945-49 гг.
с 1949 г. по наст. время
Примечания
Введение. Обыденное как священное
1 Merkur D. Becoming Half Hidden: Shamanism and Initiation among Inuit. Stockholm: Almqvist & Wiskell 1985;
Hultkranyz A. An Ecological approach to Religion // Ethnos, 1966, N31, pp. 131–150.
2 Guenon R. Fundamental Symbols. The Universal Language of Sacral Science. Cambridge: Quinta Essentia, 1995, p. 29.
3 Из наиболее интересных работ отечественных авторов можно указать: Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. — М.: Восточная литература, 1994; Кравцова М.Е. Культура Китая. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2000; Малявин В.В. Китайская цивилизация. — Москва: Астрель, 2000.
Глава 1. Сеть Неба
1 Подробнее эту концепцию см.: Eliade M. The Sacred and Profane. San Diego, 1987, p. 100.
2 Ранк О. Миф о рождении героя. — М.: Рефл-бук, 1997. — С. 90.
3 Mungello M. Curious Land, Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology. Honolulu: University of Hawaii Press, 1989, p. 17.
4 Gernet J. China and the Christian Impact. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 25.
5 Needham J. Time and Eastern Man (Royal Anthropological Institute Occasional Paper, N21), London, 1965, p. 20.
6 Маслов А.А. Непостоянство вечности. Лао-цзы: миф, человек и его книга. — Нью-Йорк: Эдвин Медлен пресс, 1999. — С. 139–140.
7 Подробнее см.:
Маслов А.А. Письмена на воде. Ранние наставники чань в Китае. — М.: Сфера, 2000.
8 Mertz H. Pale Ink. Two Ancient Records of Chinese Exploration in America. Chicago: Swallow Press, 1972 (1st ed. 1953).
9 См.:
Needham R. The Right and the Left: Essays on Dual Symbolic Classification. Chicago, 1973, p. xi-xxxix;
Dumont L. Homo Hierarchicus: the Caste System and its implications. Chicago, 1980, p. 191–194.
10 Forke A. The World Conception of the Chinese. Their Astronomical, Cosmological and Physicophilosophical Speculations. London, 1925, p. 171–173.
11 Granet M. Le Depot de PEnfant sur le Sol // Revue Archeologique, 1921, p. 359.
12 Гуань-цзы // Сер. Сы бу цзункань. — 14/39. — С. 26. — Шанхай, 1929.
13 Seaman G. The Sexual politics of Karmic retribution // The Anthropology of Taiwanese society (E.M. Ahern and H. Gates, eds.). Stanford: Stanford University press, 1981, pp. 381–396.
14 Feuchtwang S. Domestic and Communal worship in Taiwan // Religion and Ritual in Chinese Society (ed. Arthur P. Wolf). Stanford, Calif., 1974, p. 128.
15 Лин нань цзун шу (Описание историй из Линьнани). — Б. м„1890. — Цз. 56. — С. 216.
16 Там же. — С. 23а.
17 Oehler W. Popular Religion in China, p. 167.
18 Шуцзин, раздел Шугао.
19 Meyer J. The Dragons of Tiananmen; Beijing as a sacral City. Columbia: University of South Carolina Press, 1991.
20 Shen Fuwei Cultural Flow between China and Outside World Throughout History. Beijing: Foreign Languages Press, 1997, p. 5.
21 Ibid.
22 Шаньхай цзин (Канон гор и морей). — Шанхай: Шанхай гусянь чубанынэ, 1991. — С. 54.
23 Цит. по:
Eberhard W. A Dictionary of Chinese Symbols — Hidden Symbols in Chinese Life and Thought. London & New York: Routledge & Kegan Paul, 1986, p. 207.
Глава 2. У истоков древней магии
1 Elliot-Smith. The Ancient Egyptian. London, pp. 196–198.
2 Guignes, de Joseph. Memoire dans lequel on prouve, que les Chinois sont une Colonie de Egyptienne. Paris, 1760.
3 Lacouperie, de Terrien. Western origines of the Early Chinese Civilization. London, 1894.
4 Ball C.J. Chinese and Shumerian. Oxford, 1913.
5 Andersson J.G. An Early Chinese Culture. Stockholm, 1923, p. 1–68.
6 Andersson J.G. Researches into the Prehistory of the Chinese // BMFEA, 1943, N 15, p. 286–288.
7 Rostovtzeff M. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922, p. 181–209.
8 Rydh H. Seasonable Fertility Rites and the Death Cult in Scandinavia and China // BMFEA, 1931, N 3.
9 China daily, 12.03.2003, p. 9.
10 Jiang Zhenmimg. Timeless History. The Rock Art of China. Beijing: New World Press, 1991, p. 20–21.
11 Wittfogel K.
12 Пэй Вэньчжун. Чжунго шици шидай ды вэньхуа (Культура каменного века в Китае). — Пекин, 1954. — С. 43;
Andersson J. Researches into the Prehistory of the Chinese. Stockholm, 1943, p. 295.
13 Debaine-Francfort C. The Search for Ancient China. London: Thames & Hudson, 1999, p. 47.
14 Ibid., p. 40.
15 Andersson J.G. An Early Chinese Culture.
16 Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. — Новосибирск: Наука, 1988.
17 Le Chemin de la Nation Chinoise: des origines a 1'epoque des Printemps et Automnes. Tome 1. Beijing: Aurore, 1997, pi. 95.
18 Rydh H. On Symbolism in Mortuary Ceramics // BMFEA, 1929, N 1, p. 71–120.
19 Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. — С. 59–65.
20 Debaine-Francfort С. The Search for Ancient China, p. 45.
21 Le Chemin de la Nation Chinoise: des origines a 1'epoque des Printemps et Automnes, pi. 51 et 158.
22 Le Chemin de la Nation Chinoise: des origines a 1'epoque des Printemps et Automnes, pi. 100, p. 94.
23 Мэн-цзы, гл. Ли Лоу, 8/1.
24 Li Leyi. Tracing the roots of Chinese characters: 50 °Cases. Beijing: Beijing Languages and Culture University Press, 1997, p. 137.
25 Цит. по:
Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. — С. 223. — Прим. 67.
26 Eberhard W. A Dictionary of Chinese Symbols, pp. 209–210.
27 Li Leyi. Tracing the roots of Chinese characters, p. 350.
28 Мэн-цзы, гл. Ван Чжан, ч. 1, 9/1; 9/2.
29 Там же, 9/5.
30 Там же, 9/1-9/3.
31 Юань Кэ. Мифы древнего Китая. — М., 1965. — С. 209–215.
32 Шаньхай цзин. Хайнэй наньцзин («Канон гор и морей». «Южный канон тех, кто обитает внутри морей»).
33 Дахуан сицзин («Канон великих пустошей, что лежат к западу»). Также см.: Юань Кэ. Чжунго шэньхуа чжуаныно цыдянь. — С. 127.
34 Chang Kwang-chih. The Archeology of Ancient China. New Haven and London, 1977, p. 110.
35 Цит. по:
Чжо Цзоцы, Чэнь Чжэнь. Чжунго мяньцзюй ишу (Искусство маски в Китае). — Пекин: Мэйшу шэъин чубанынэ, 1997. — С. 7.
36 Чэнь Мэнцзя. Иньсюй буци цзуншу (Собрание гадательных надписей из развалин столицы Инь). — Пекин, 1956. — С. 311; Chen Te-k'un. Archeology in China. Volume one: Prehistoric China. Cambridge, 1966, c. 326–328.
37 Кучера С. Китайская археология. — Москва: Наука, ГРВЛ, 1977. — С. 106–109.
38 Li Chi. Anyang. A Chronicle of the Discovery, Excavation and Reconstruction of the Ancient Capital of Shang Dynasty, 1977.
39 Ho P'ing-ti. The Cradle of the East. Chicago: University of Chicago Press, 1975, c. 32.
40 Debaine-Francfort C. The Search for Ancient China, pp. 61–63.
41 Погребенные царства Китая. — Москва: Терра — Книжный клуб, 1998. — С. 28.
42 Le Chemin de la Nation Chinoise: des origines a l'epoque des Printemps et Automnes, p. 262.
43 Debaine-Francfort C. The Search for Ancient China, p. 72.
44 Ibid., p. 115.
Глава 3. Медиумы и их видения
1 Siikala A.-L. Siberian and Inner Asian Shamanism. In: Studies of Shamanism. Budapest: Academiai Kiado, 1991.
2 Ши Синбан. Югуань мацзя вэньхуа ды исе вэньти (О некоторых вопросах культуры Мацзя) // Каогу (Археология). - 1972. - N 6. — С. 321.
3 Chen Те k'un. Archeology in China. Volume one: Prehistoric China. Cambridge, 1966, p. 87–95.
4 Го Можо. Бронзовый век. — М., 1959. — С. 91.
5 Чжунго мэйшу тудянь (Иллюстрированный словарь китайского искусства). Сост.
Вэй Хай. — Чанша: Хунань мэйшу чубаныпэ, 1998. С. 18, 23; Debaine-Francfort C. The Search for Ancient China. London: Thames & Hudson, 1999, p. 41.
6 Чжунго мэйшу тудянь. — С. 5.
7 Watson W. Styles in the Arts of China. Harmondsworth, England: Penguin books, 1974, p. 27–28.
8 Waterbury F. Early Chinese Symbols and Literature. New York: E. Weyhe, 1942, p. 3. 431
9 White W. Bone Culture of Ancient China Toronto: University of Toronto press, 1945, pi. 59.
10 Yetts W. The Cull Chinese Bronzes. London: University of London press, 1939.
11 Le Chemin de la Nation Chinoise: des origines a Pepoque des Printemps et Automnes. Tome 1. Beijing: Aurore, 1997, pi. 158.
12 Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. — М.: Наука, 1976. — С. 261–296.
13 Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. — Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978. — С. 204.
14 Rostovzeff M. The Animal style in South Russia and China. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1929, p. 27.
15 Watson W. Handbook to the Collections of Early Chinese Antiquities. London: British Museum, 1962, pi. 15.
16 Bodde D. Festivals in Classical China, p. 129.
17 Чжунго мэйшу тудянь. — С. 38.
18 Tresors d'art Chinois. Paris: Petit Palais, 1973, pis. 82.
19 Paper J. The spirits are drank, p. 80.
20 Wittfogel K. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven & London: Yale University Press, 1963.
21 Чэнь Чжуньюй. Иньдай гу ци цзюн дэ лун син ту ань чжи фэнси (Анализ изображений драконов на костях периода Инь) // Bulletin of the Institute of Philology, Academia Sinica. - Nankang, 1969. - N 41 (3). - C. 455–496.
22 Чжунго мэйшу тудянь. — С. 60.
23 Watson W. Handbook to the Collections of Early Chinese Antiquities, pi. 15.
24 Крюков М.В. и др. Древние китайцы.
25 Чжао Цзоэнь. Чжунго мяньцзюй ишу (Искусство маски в Китае). — С. 6–7.
26 Подробнее см.:
Маслов А.А. Энциклопедия боевых искусств. Традиции и тайны китайского ушу. — Москва: Гала пресс, 2000;
Синь Цзишэн. Чжунго удаоши (История китайского танца). — Пекин, 1983. — С. 32.
27 Антонова Е.В. Антропоморфный персонаж на печатях Ирана и Месопотамии // ВДИ. - 1991. - N 2.
28 Li Leiyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 415.
29 Ibid., p. 346.
30 Le Chemin de la Nation Chinoise. Des origines a 1'epoque des Printemps et Automnes, tome 1, p. 145.
31 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 447.
32 Debaine-Francfort C. The Search for Ancient China, p. 81.
33 Cammann S. Types of Symbols in Chinese Art // Studies in Chinese Thought. Chicago: University of Chicago Press, 1953, pp. 198–199.
34 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 328; Го Можо. Бронзовый век. — С. 16.
35 Дао Баннань. Инь сюйпу цы цзунлэй (Общая категоризация понятий, встречающихся на гадательных костях эпохи Инь). — Токио, 1971. — С. 538.
36 Шовэнь цзецзы (Толкование слов). Сост.
Сюй Шэнью. — Шанхай: Шанхай кэцзи чубаньшэ, 1986. — С. 145.
37 Bodde D. Festivals in Classical China, p. 83.
38 Eliade M. Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy. New York: Bollingen Foundation, 1964, p. 167.
39 Чжо Цзоцы, Чэнь Чжэнь. Чжунго мяньцзюй ишу (Искусство маски в Китае). — Пекин: Мэйшу шэъин чубаньшэ, 1997. — С. 7.
40 Kelley C. and Ch'en Meng-chia. Chinese Bronzes from the Buckingham collection. Chicago, Art Institute Press, 1946, pi. 1; Loehr M. Chinese Bronze Age Weapons, Ann Arbor: University of Michigan press, 1956, p. 117.
41 Тайпин юйлань. Илибу («Высочайше одобренный канон о Великом покое», раздел «Церемонии и ритуалы»). — Шанхай, 1956. — Цз. 4, 97.
42 Чжо Цзоцы, Чэнь Чжэнь. Чжунго мяньцзюй ишу. — С. 274.
43 Debaine-Francfort C.The Search for Ancient China, p. 73.
44 Шовэнь цзецзы (Толкование слов). — С. 246.
45 Лицзи цзишо (Записи о ритуалах с толкованиями) // Сер. Сушу уцзин. — Т. 2. — Шанхай, 1936. — С. 142.
46 Bodde D. Festivals in Classical China. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975, p. 83.
47 Eberhard W. The Local Cultures of South and East Asia. Leiden: EJ. Brill, 1968, p. 329.
48 Ibid., p. 329.
49 Creel H.G. The Birth of China. New York: Frederic Ungar, 1937, p. 180.
50 Вэнь Идо. Шэньхуа юй ши (Мифы и песнопения). — Пекин, 1957. — С. 33.
51 Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. — М., 1990. — С. 42.
52 Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. — С. 57.
53 Ван Чун. Лунь хэн (Критические суждения) // Сер. Чжу цзы цзичэн. — Т. 7. — Пекин, 1954. — С. 61.
54 Каталог гор и морей. — С. 114.
55 Шу цзин цзи чжуань (Канон преданий с собранием комментариев) // Сер. Сышу уцзин. — Т. 1. — Шанхай, 1936. — С. 9–10; см. также: Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. — С. 65.
56 Чуньцю сань чжуань. Цзочжуань (Три хроники периода Весен и Осеней. Летопись [господина] Цзо) // Сер. Сышу уцзин. — Т. 3. — Шанхай, 1936. — С. 481.
57 Критический обзор трансформации понятия лук-дракон см: Visser M. The Dragon in China and Japan. Amsterdam: Johannes Muller, 1913. О смысле дракона в разных культурах мира: Goulds C. Mythical Monsters. London: Senate, 1995.
58 Zimmer H. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. Princeton, N.J.: Pantheon Press, 1946; Consten E. A Terminology of Chinese Bronze Decoration II // Monumenta Serica, 1958, N 17, p. 225.
59 Гоюй (Нравы царств), Нравы Лу, 9:5/7а.
60 Li Leyi. Tracing the roots of Chinese Characters, p. 110.
61 Eberhard W. A Dictionary of Chinese Symbols, pp. 209–210.
62 Го Юй (Нравы царств) // Сер. Сы бу цзункань (Собрание сочинений по четырем углам). — Шанхай, 1929. — Цз. 16. — С. 166. Комментарий к легенде см.: Granet M. Danses et legendes de la Chine ancienne, Paris, 1926, p. 558.
63 Чи я (Красные вирши) // Сер. Цзун шу ци чэн. — Шанхай, 1935-37. — Цз. 1. — С. 5.
64 Allan S. Sons of Suns: Myth and Totemism in Early China // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1981, N 44, pp. 291–311.
65 Сыма Цянь. Ши цзи. Иньбэнь цзи («Исторические записки». Глава «Записи о корнях Инь»).
66 Чжушу цзинянь (Бамубуковые анналы) // Сер. Хань Вэй цуньшу. — Пекин, б.г. — С. 8.
67 Allan S. Sons of Suns: Myth and Totemism in Early China, N 44, p. 311.
68 Люйши чуньцю. Иньчу («Весны и осени господина Люя». Глава «Звуков начала»).
69 Кирьяк (Дикова) М.А. Древнее искусство севера Дальнего Востока как исторический источник (каменный век) / Автореферат докт. дис. — Владивосток, 2002. — С. 28–29.
70 Needham J. Science and Civilization in China 3, p. 242–244.
71 Ma Cheng-Yuan. The Splendor of Chinese Bronzes // The great Bronze Age of China (ed. by Wen Fong). New York: Metropolitan Museum of Art, 1980, p.
8.
72 Eberhard W. A Dictionary of Chinese Symbols, p. 248.
73 Кирьяк (Дикова) М.А. Древнее искусство севера Дальнего Востока как исторический источник (каменный век). — С. 34.
74 Le Chemin de la Nation Chinoise: des origines a 1'epoque des Printemps et Automnes, pi. 40,43.
75 Каталог гор и морей. — С. 58.
76 Armstrong D. Alcohol and Altered States in Ancestor veneration Rituals of Zhou Dynasty China and Iron Age Palestine. A New Approach to Ancestor Rituals. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen press, 1998.
77 Шицзин. Книга песен и гимнов / Пер. А. Штукина. — М.: Художественная литература, 1987. — С. 293.
78 Там же. — С. 190–191.
79 Каталог гор и морей. — С. 77.
80 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 244.
81 Armstrong D. Alcohol and Altered States, p. 82.
82 Steel J. The Mi: Book of Etiquette and Ceremonial. London: Probsthain & Co 1917
83 Ibid., pp. 25-232.
84 Debaine-Francfort C.The Search for Ancient China, p. 72.
85 Шицзин (Канон песнопений).
86 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 139, 383.
87 Кучера С. Китайская археология. — Москва: Наука, ГРВЛ, 1977. — С. 119.
88 Gernet J. A History of Chinese Civilization. Cambridge, London, New York: Cambridge University Press, 1996, p. 49.
89 Крюков М.В. и др. Древние китайцы. — С. 199.
90 Чэнь Мэньцзя. Иньсюй буцы цзуншу (Собрание гадательных надписей из развалин столицы Инь). - 1956. — С. 577.
91 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 248, 261, 455, 458.
92 Ibid., p. 153.
93 Бродянский Д.Л. Илоу и воцзюй: новый взгляд на старую загадку // Известия Восточного института ДВГУ. — Владивосток, 1996. — С. 136.
94 Чжоу ли чжэнши чжу. Чуньгуань да цзунбо (Чжоуские ритуалы с комментариями). -Шанхай, 1937. — Цз. 6.
95 Цит. по:
Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. — С. 104.
96 Комментарии к «Книге о реках», цз. 6, с. 3. См. также:
Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской филологии. — М.: ГРВЛ, 1984. — С. 213–214.
97 Dacosta Y. Initiations et societes secretes dans 1'antiquite greco-romaine. Paris: Berg International, 1991, pp. 24–31.
98 Ши цзин (Канон песнопений). — С. 163.
99 Русско-китайский словарь. Сост. Палл
адий и Попов П.С. — Пекин, 1888. — Т. 2. — С. 172.
100 Ши цзин (Канон песнопений). — С. 155.
101 Ши цзин. Книга песен и гимнов. Пер.
А. Штукина. — М.: Художественная литература, 1987. — С. 305.
102 Рычило В., Солнцев М. Пекин. Новый русский путеводитель. — М: Муравей-гайд, 2000. — С. 119.
Глава 4. Посвященные в знание
1 Li Leiyi. Tracing the Roots of Chinese Characters: 50 °Cases. Beijing: Beijing Languages and Culture University Press, 1997, p. 88.
2 Чжан Ячу, 1982.
3 Schonberger M. The I Ching and the Genetic Code. The Hidden Key to life. Santa Fe: Aurora Press, 1992.
4 Needham J. Science and Civilization in China 2, Cambridge: Cambridge University press, 1956, c. 336.
5 Whincup G. Rediscovering the I Ching. Wellingborough, Northamptoshire: The Aquarian Press, 1986, p. 15.
6 Whincup G. Rediscovering the I Ching, p. 16.
7 Major J. Research Priorities in the Study of Ch'u Religion // History of Religions, 1978, N 17; Hayashi M. The twelve Gods of the Chan-Kuo Period Silk Manuscript Excavated at Ch'an-Sha // Early Chinese Art and its Possible Influence in the Pacific Basin, New York: Intercultural Arts Press, 1972; Кравцова M.E. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. — СПб.: Петербургское востоковедение, 1994.
8 Hawkes D. Ch'u Tzu: The Songs of the South. London: Oxford University Press, 1959.
9 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Пер. с кит. и комментарии Р.В. Вяткина и В.С. Таскина. — М., 1973. — Гл. 4, 31, 41.
10 Маслов А.А. Непостоянство вечности. Лао-цзы: миф, человек и его книга. — Нью-Йорк: Эдвин Медлен пресс, 2000.
11 Paper J. The spirits are drunk. New York: State University of New York press, 1995, p. 55.
12 Вэнь Идо. Чуаньцзи (Избранные произведения). — Шанхай, 1948. — Т. 1. — С. 154–165.
13 Kaltemark M. Le Lie-sien Tchuan. Peking: Publication du Centre des Etudes Sinologique de Pekin, 1953, p. 10.
14 Вэнь Идо. Чуаньцзи. — С. 153–180.
15 Paper J. The spirits are drunk, p. 54–55.
16 Шовэнь цзецзы. — С. 8–9.
17 Karlgren В. Grammata serica Recensa // Bulletin of the Museum of Far Eastern antiquities (Stockholm), 1957, N 29, p. 72; Needham J. Science and Civilization in China 2, Cambridge: Cambridge University press, 1956, p. 13.
18 Го Юй (Нравы царств). Чиюйся // Сер. Сы бу цзункань. — Шанхай, 1929, 1934-36 (репринт 1958). — С. 203.Также см.: De Groot J. The Religious System of China. Taipei: Ch'eng-wen publishing Co, 1969, p. 1211.
19 Despeuex C. Gymnastics: The Ancient Tradition // Taoist Meditation and Longevity Techniques. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, Univ. Michigan, 1989, p. 238–239.
20 Ван Чун. Луньхэн (О противоположностях). Гл. 20. Цит. по: Paper J. The spirits are drunk, p. 117.
21 Шовэнь цзецзы. — С. 212.
22 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 353.
23 Mair V. Old Smite nfag, Old Persian MaguS, and English Magician // Early China, 1990, N 15.
24 Chang K.C. Shang Civilization. New Haven: Yale University press, 1980, p. 28.
25 De Groot J. The Religious System of China. Taipei: Ch'eng-wen publishing Co, 1969, p. 1191.
26 Чжоу Цзэцзун. Гу у и юй люши као (Исследование медиумов у и и). — Тайбэй: Лянь Цин, 1986.
27 Чэнь Мэньцзя. Иньсюй буцы цзуншу. — 1956. — С. 576–578.
28 Подробнее см.:
Малявин В.В. Гибель древней империи — М.: Главная редакция восточной литературы, 1983. — С. 64–105.
29 Kaltenmark M. The Ideology of T'ai-p'ing ching // Facets of Taoism (ed. by H. Welch and A. Seidel). New Haven, Conn.: Yale University press, 1979, p. 24.
30 Подробнее об этом см.:
Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. — Новосибирск: Наука, 1986.
31 Каталог гор и морей. — С. 104.
32 Хуайнань-цзы (Мудрецы с гор Хуайнань). — Шанхай: Шанхай гусянь чубанынэ, 1990. — С. 18.
33 Каталог гор и морей (Шань хай цзин). Предисл. и пер. Э.М. Яншиной. — М., 1977. — С. 194.
34 Шаньхай цзин (Канон гор и морей) // Чжу цзы цзичэн. — Пекин, 1954. — С. 36;
Granet М. La pensee Chinoise. Paris, 1924, p. 35.
35 Lessing F. Uber die Symbolsprache in der chinesischen Kunst // Sinica, Frankfurt, vol. 9, 1934, p. 121.
36 Shen Fuwei. Cultural Flow between China and Outside World Throughout History. Beijing: Foreign Languages Press, 1997, p. 5–7.
37 Канетти Э. Избранные произведения.
38 Каталог гор и морей (Шань хай цзин). — С. 44.
39 Там же. — С. 120.
40 Лецзы, 1954, с. 27.
41 Каталог гор и морей. — С. 58.
42 Reik T. Ritual: Psycho-analytical Studies. New York: International University press, 1946, pp. 91-166.
43 Мэн-цзы, гл. Цзинь синь («Всем сердцем…»), 14.25.
44 См. подробнее:
Маслов А.А. Встретить дракона. Реконструкция изначального смысла «Лао-цзы». — М: Логос, 2003. — С. 43.
45 Священник Георгий Чистяков, комментируя тему «младенца» в Новом Завете, пишет, очень точно подмечая мотив нерасчлененной простоты ребенка: «Надо почувствовать, что сердце, которое бьется в моей груди, похоже на сердце ребенка, что в нем живет простодушие ребенка» (Над строками Нового Завета, с. 78).
46 Вэнь-цзы (с комментариями Ду Даосяна) // Сер. Чжу цзы бай цзя и шу (Истинные книги ста школ). — Шанхай, 1989. — С. 14.
47 Ши цзи (Исторические записки). Сост.
Сыма Цянь. — Раздел «Лао цзы ханьфэй чжуань» («Описание Лао-цзы и Ханьфэй-цзы»). — Яньбянь: Яньбянь жэньминь, чубанынэ, 1995. — С. 89.
48 Чжуан-цзы. Ле-цзы. Пер. В.В. Малявина. — С. 71.
49 Там же. — С. 73.
50 Там же. — С. 97.
51 Ши цзи. Раздел «Лао-цзы чжуань» («Исторические записки», раздел «Жизнеописание Лао-цзы»).
52 Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сукун Ту. — СПб., 1916.
53 Чжуан-цзы. Ле-цзы. — С. 65.
54 Li Leyi. Tracing the roots of Chinese characters, p. 299.
Глава 5. Странствия в чертогах мертвых
1 Ahern, Emily Martin. The Cult of the Dead in a Chinese Village. Stanford: Stanford University Press, 1973, pp. 91-116.
2 Loewe M. Ways to Paradise: The Chinese Quest for Immortality. London, 1979.
3 Chamberlain J. Chinese Gods. Selangor: Pelandul Publications, 1987, p. 41.
4 Мэн-цзы. Глава «Ли Coy», 8.22.
5 Saso M. Blue Dragon, White Tiger. Taoist Rites of Passage, p. 154, 160.
6 Мэн-цзы. Глава «'Ли Coy», 8.13.
7 Sangren S. History and the Magical Power in a Chinese Community. Stanford: Stanford University press, 1987, p. 136-137.
8 Линь Ботун. Гуань хунь сан ци. Цзяли дачэн (Ритуалы рождения, женитьбы и погребения. Полная книга домашних ритуалов). — Гуандун, 1844. — Т. 2. — С. 23.
9 Armstrong D. Alcohol and Altered States in Ancestor veneration Rituals of Zhou Dynasty China and Iron Age Palestine. A New Approach to Ancestor Rituals. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 1998, p. 70–81.
10 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 300.
11 Dore. Chinese customs. Singapore: Graham Brash, 1995, p. 146–150.
12 Ду Юй. Тунцзянь (Общие каноны), 1717. Цит. по: Dore H. Chinese customs, p. 147.
13 van Gennep A. Les Rites de passage. Paris, 1909.
14 Цит. по:
Dore H. Chinese customs, p. 149–150.
15 Dore H. Chinese customs, p. 38.
16 Лев — символ буддийского учения и самого Будды. Понятие «оседлать льва» означает целиком постичь буддийское учение — дхарму.
17 Ле-цзы, цз. 2.
18 Andersson J. Prehistory of the Chinese // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 1944, N 15.
19 Каталог гор и морей. — С. 105.
20 Хуайнаньцзы (Мудрецы с горы Хуайнань) // Сер. Чжуцзы цзичэн. — Т. 7. — Пекин, 1954. — С. 6.
21 Каталог гор и морей. — С. 126.
22 Юань Кэ. Мифы древнего Китая. — М., 1965. — С. 100–101.
23 Rohde E. Psyche: The Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks. London: Senat, 1987 (reprint of 1925).
24 Ли цзи. — Цз. 18.
25 Федоренко Н.Т. Цюй Юань. Истоки и проблемы творчества. — М.: Наука, ГРВЛ. — 1986, с. 130–131.
26 Dore H. Chinese customs. Singapore: Graham Brash, 1995, p. 45–46.
27 Groot, De J.J.M. The Religious System of China, it Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith. Taipei: Ch'eng-wen publishing Co., 1969, vol. VI, p. 1269.
28 Ahren E. The Power and Pollution of Chinese Women // Women in Chinese Society (ed. by Margery Wolf and Roxan Witkee). Stanford, 1975, p. 208.
29 Lai T.C. To the Yellow Springs. The Chinese View of Death. Hong Kong: Joint Publishing Cj. (HK) & Kelly & Walsh, 1983, p. 18.
30 Об инверсии Неба и земли в момент праздников и схождения духов в мир людей см., например: Бахтин, Тейлор. Символ и ритуал.
Глава 6. Жизнь в мире духов
1 Эту версию, в частности, высказал Chamberlain J. Chinese gods, p. 149.
2 Du Feibao, Hong Su. Things Chinese and their Stories, p. 208–209.
3 Лунь юй (Беседы и суждения), 3/13.
4 См. подробнее:
Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. — М.: Восточная литература, 1998. — С. 321.
5 Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters, p. 428.
6 Наказанный порок / Предисл. и коммент.
А.А. Маслова. — М.: Манускрипт, 1992.
7 Мао тин кэхуа (Речения гостя Мо Тина). — Цз. 4. — С. 1а-б.
8 Хожэнь шу (Искусство жизни человека) // Сер. Циндин гуцзинь тушуцзичэн. — Шанхай, 1884. — Т. XVII. - Цз. 360. — С. 49а.
9 Мэнци битань (Беседы Мэн Ци, записанные кистью) // Сер. Сыбу цзункань. — Шанхай, 1936. — Цз. 9. — С. 2а.
10 Forke A. Lun Heng. Part 1. Philosophical Essays of Wang Ch'ung. Leipzig, 1907, p. 175.
11 Taisuke Mitamura. Chinese Eunuchs, p. 121–122.
12 Eberhard W. A Dictionary of Chinese Symbols, p. 211.
13 Eberhard W. Volksmarchen aus Sudost-China. Helsinki: Axademia Scientiarum Fennica, 1941, p. 56–57.
14 Хань Шу (Книга династии Хань) // Сер. Бо на бэнь эрши сы ши. — Шанхай, 1936. — Цз. 53, 56.
15 Цзы Тун ди цзюнь хуашу (Книга о трансформациях Цзы Тун дицзюня) // Дао цзан (Хранилище Дао). - Шанхай, 1926. — Цз. 4. — С. 5а-б.
16 Groot de, JJ. М. The Religious System of China, p. 1203.
17 Бин та у янь (Речения о недугах Та У) // Сер. Цзун шу цзичэн. — Шанхай, 1935–1937. — Цз. 4.
18 Саньго чжи сюань чжу (Хроники Троецарствия с избранными комментариями). — Пекин, 1986. — Т. 2. — С. 579-580.
19 Ле сянь чжуань (Жития бессмертных-сяней). Сост.
Лю Сян // Сер. Цзун шу цзичэн. — Шанхай, 1935–1937. - Цз. 2. — С. 62–63.
20 Цит. по:
van Gulik R. Sexual Life in Ancient China, p. 152.
21 Хуанди дуньцзя юаныпэнь цзин (Канон изначального тела Желтого императра) // Сер. Даоцзан (Хранилище Дао), 26.
22 Хунань тун чжи (Хроники Хунани). - 1885. — Цз. 211, Юа: Ли ши чжэньсянь ти дао тун цзянь (Всепроницающее зерцало о теле Пути поколений истинных бессмертных) // Сер. Дао цзан. — Шанхай. — Цз. 39 1а.
23 У юэ чунь цю (Весны и осени царств У и Юэ) // Сер. Сы бу цзункань. — Шанхай. 1929. — Цз. 6. — С. 1а-б.
Библиография
Источники на китайском языке
1.
Би Юань. Сюй «Цзы чжи тун цзянь» (Продолжение «Всепроницающего зерцала, способствующего управлению»). — Пекин, 1957.
2. Бин та у янь (Речения о недугах Та У) // Сер. Цзун шу цзичэн. — Шанхай, 1935–1937.
3.
Ван Бо. Ван Цзыань цзи (Собрание сочинение Ван Цзыаня) // Сер. Сыбу цзункань (Сочинения, составленные по четырем углам).
4.
Ван Вэй. Ван Ючэн цзичжу (Собрание сочинений Ван Ючэна) // Сер. Сыбу бэйяо (Собрание важнейших сочинений по четырем углам).
5. Ван Чуаньшань ишу (Литературное наследие Ван Чуаныпаня) // Сер. Сыбу бэйяо (Собрание важнейших сочинений по четырем углам).
6.
Ван Чун. Лунь хэн (Критические суждения) // Сер. Чжуцзы цзичэн. — Т. 7. — Пекин, 1954.
7. Вэнь-цзы (с комментариями Ду Даосяна) // Сер. Чжу цзы бай цзя и шу (Истинные книги ста школ). — Шанхай, 1989.
8. Го Юй (Нравы царств) // Сер. Сы бу цзункань (Собрание сочинений по четырем углам). — Шанхай, 1929, 1934-36 (репринт 1958).
9. Гуань-цзы // Сер. Сы бу цзункань. — Шанхай, 1929, 1934-36.
10. Дао дэ цзин (Канон пути и благодати) с комм.
Ван Би // Сер. Сы бу бэйяо.
11. Ле сянь чжуань (Жития бессмертных-сяней). Сост. Лю Сян // Сер. Цзун шу цзичэн. — Шанхай, 1935–1937.
12. Лицзи цзишо (Записи о ритуалах с толкованиями) // Сер. Сышу уцзин. — Т. 2. — Шанхай, 1936.
13. Ли ши чжэньсянь ти дао тун цзянь (Всепроницающее зерцало о теле Пути поколений истинных бессмертных) // Сер. Дао цзан. — Шанхай, 1926.
14. Лин нань цзун шу (Описание историй из Линьнани). — Б.м., 1890 (репринт).
15. Люйцзу Таньцзин чжуши (Сутра помоста шестого патриарха с комментариями). — Путянь: мои. Гуанхуасы, 1970.
16. Мао ши (Стихи, что писаны кистью) // Сер. Сыбу цзункань (Сочинения, составленные по четырем углам).
17. Мэн-цзы. — Пекин: Хуаюй цзяосюэ чубапьшэ, 1999.
18. Саньго чжи сюань чжу (Хроники Троецарствия с избранными комментариями). — Пекин, 1986.
19. Синь тан шу (Новая история династии Тан) // Сер. Эршиу ши (Двадцать пять историй). — Т. 5. — Шанхай, 1935.
20. Сюньцзы цзицзе (Комментированное собрание Сюнь-цзы) // Сер. Чжуцзы цзичэн. — Т. 2. — Пекин, 1954.
21. Тайпин юйлань (Высочайше одобренный канон о Великом покое). Сост.
Ли Фан — Шанхай, 1956.
22. У юэ чунь цю (Весны и осени царств У и Юэ) // Сер. Сы бу цзункань. — Шанхай, 1929.
23.
Фань Е. Хоу ханьшу (История поздней Хань) // Сер. Сы ши. — Т. 3. — Шанхай, 1935.
24. Хань шу (Книга династии Хань) // Сер. Бо на бэнь эрши сы ши. — Шанхай, 1936.
25. Ханьфэй-цзы цзицзе (Комментированное собрание сочинений Ханьфэй-цзы) // Сер. Чжуцзы цзичэн. — Пекин, 1954.
26. Хожэнь шу (Искусство жизни человека) // Сер. Циндип гуцзинь тушуцзичэн — Т. XVII. — Шанхай, 1884.
27. Хуайнань-цзы (Мудрец с гор Хуайнань). - Шанхай: Шанхай гусянь чубаньшэ, 1990.
28. Хуайнань-цзы (Мудрецы с гор Хуайнань) // Сер. Чжуцзы цзичэн. — Т. 7. — Пекин, 1954. .
29. Хунань тун чжи (Хроники провинции Хунань). - Чанша, 1885.
30. Цзы Тун ди цзюнь хуашу (Книга о трансформациях Цзы Тун дицзюня) // Сер. Дао цзан (Хранилище Дао). - Шанхай, 1926.
31.
Цюй Юань. Чуцы бучжу (Чуские строфы с комментариями). — Пекин, 1958.
32. Чжоу ли чжэнши чжу (Чжоуские ритуалы с комментариями). — Шанхай, 1937.
33. Чжупго мэйшу тудянь (Иллюстрированный словарь китайского искусства). Сост. Вэй Хай. — Чанша: Хунань мэйшу чубаньшэ, 1998.
34. Шаньхай цзин (Канон гор и морей). - Шанхай: Шанхай гусянь чубаньшэ, 1991.
35. Ши цзи (Исторические записки). Сост.
Сыма Цянь. — Япьбянь: Яньбянь жэнь-минь, чубаньшэ, 1995.
36. Ши цзин (Канон песнопений) // Сер. Сышу уцзин (Четыре книги и пять канонов). - Пекин, 1984.
37. Шицзи хуэйчжоу каочжэн («Исторические записки» с комментарием и исследованиями текста). Сост. Такигава Камэтаро. — Т. 1-10. — Пекин, 1955.
38. Шовэиь цзецзы (Толкование слов). Сост.
Сюй Шэныо. — Шанхай: Шанхай кэцзи чубаньшэ, 1986.
39. Шу цзин (Канон преданий). — Шанхай, 1935.
40. Шу цзин цзи чжуань (Канон преданий с собранием комментариев) // Сер. Сышу уцзин. - Т. 1. - Шанхай, 1936. Источники на русском и западных языках
41. Каталог гор и морей (Шань хай цзин). Предисл. и пер.
Э.М. Яншиной. — М., 1977.
42. Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу). Пер., вступит, статья и комментарии
Л.С. Переломова. - М., 1968.
43.
Маслов А.А. Непостоянство вечности. Лао-цзы: миф, человек и его книга. — Нью-Йорк: Эдвин Медлен пресс, 1999.
44.
Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. — М.: Восточная литература, 2000.
45.
Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Пер. с кит. и комментарии
Р.В. Вяткипа и B.C. Таскина. — М., 1973.
46. Цюй Юань. Стихи. Пер. с китайского. — М., 1954.
47.
Kalgren В. The Book of Documents // Bulletin of Museum of Far Eastern Antiquities. Stockholm, 1950, N. 22.
Литература на русском языке
48.
Бродянский Д.Л. Илоу и воцзюй: новый взгляд па старую загадку // Известия Восточного института ДВГУ. — Владивосток, 1996.
49.
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. — М.: Наука.
50.
Го Можо. Бронзовый век. — М., 1959.
51.
Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. — Новосибирск: Наука, 1986.
52.
Кирьяк (Дикова) М.А. Древнее искусство севера Дальнего Востока как исторический источник (каменный век) / Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора исторических наук. — Владивосток, 2002.
53.
Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. — М., Восточная литература , 1994.
54.
Котляр Е.С. Мифы и сказки бушменов. — М., 1983.
55.
Кравцова М.Е. Культура Китая. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2000.
56.
Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. — СПб.: Петербургское востоковедение, 1994.
57.
Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978.
58.
Кучера С. Китайская археология. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1977.
59.
Малявин В.В. Гибель древней империи. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1983.
60.
Малявин В.В. Китайская цивилизация. — Москва: Астрель, 2000.
61.
Маслов А.А. Письмена на воде. Ранние наставники Чань в Китае. — Москва: Сфера, 2000.
62.
Маслов А.А. Энциклопедия боевых искусств. Традиции и тайны китайского ушу. — Москва: Гала пресс, 2000.
63.
Маслов А.А. Царство Лоулань и представления о «Западных землях» в Китае // Древности Московской земли. Проблемы современной археологии (К 70-летию научной деятельности и 50-летию научной деятельности А.Г. Векслера). — М., 2001.
64. Мифы народов мира. Энциклопедия. Гл. ред. С.А. Токарев. — Т. 1-2. — М.: Российская энциклопедия, 1994.
65. Наказанный порок. Ред. и коммент. А.А. Маслова. — М.: Манускрипт, 1992.
66. Погребенные царства Китая. — М.: Тсрра — Книжный клуб, 1998.
67.
Ранк О. Миф о рождении героя. - М.: Рефл-бук, 1997.
68.
Рифтин Б.Л. От мифа к роману. Эволюция изображения персонажа в китайской литературе. — М., 1979.
69.
Рычило Б.П., Солнцев М.В. Пекин. Новый русский путеводитель. — Москва: Му-равей-гайд, 2000.
70. Русско-китайский словарь. Сост. Палладий и Попов П.С. — Пекин, 1888.
71.
Торчинов Е.А. Даосизм. — СПб.: Петербургское востоковедение, 1997.
72.
Торчинов Е.А. Даосская алхимия. Чжан Бодуань. Гэ Хун. — СПб.: Азбука, Петербургское востоковедение, 2001.
73.
Чистяков Г.П. (о. Георгий). Над строками Нового Завета. — М.: Истина и жизнь, 2000.
74.
Шицзин. Книга песен и гимнов. Пер. А. Штукина. — М.: Художественная литература, 1987.
75.
Юань Кэ. Мифы древнего Китая. — М, 1965.
76.
Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984.
Литература на китайском и японском языках
77.
Amasali А. Чжунго гудай вэньминь. Цун шанчао цзягу кэци кань чжунгоши цянь-ши (Цивилизация древнего Китая. Взгляд на предысторию Китая с точки зрения надписей на костях династии Шан). — Пекин: Шэхуэй кэсюэ вэньсунь чуюаньшэ, 1990.
78.
Вэнь Идо. Шэньхуа юй ши (Мифы и песнопения). — Пекин, 1957.
79.
Вэнь Идо. Чуаньцзи (Избранные произведения). — Шанхай, 1948.
80.
Дао Баннань. Инь сюйпу цы цзунлэй (Общие категории понятий, встречающиеся на гадательных костях эпохи Инь). — Токио, 1971.
81.
Линь Ботун. Гуань хунь сан ци. В 2 т. — Гуандун, 1844.
82.
Ма Шутянь. Чаофань шицзе. Чжунго сымяо 200 шэнь (Мир сверхъестественного. 200 духов китайских монастырей и кумирен). — Пекин: Чжунго вэньши чубаньшэ, 1990.
83.
Пэй Вэньчжун. Чжунго шици шидай ды вэньхуа (Культура каменного века в Китае). — Пекин, 1954.
84.
Синь Цзишэн. Чжунго удаоши (История китайского танца). — Пекин, 1983.
85.
Фань Ли (сост.). Эрши шицзи чжунго минсу сюэдянь. Шэньхуа цзюань (Изучение канонов китайских народных традиций в XX в. Предания). — Пекин: Шэхуэй кэсюэ вэнь-сянь чубаньшэ, 2002.
86.
Фу Вэйкан. Чжунго ияо лиши маньхуа (Краткий обзор истории китайской медицины и фармакологии). — Пекин, 1985.
87. Хуася чжилу (Путь китайской нации). — Т. 1-4. - Пекин: Чаохуа чубаньшэ, 1997.
88.
Цзинь Юйфу, Тянь Юйцин. Тайпин тяньго шиляо (Материалы по восстанию тай-пинов). — Пекин, 1955.
89.
Чжо Цзоцы, Чэнь Чжэнь. Чжунго мяньцзюй ишу (Искусство маски в Китае). — Пекин: Мэйшу шэъин чубаньшэ, 1997.
90.
Чжоу Имоу. Чжунго гудай фаншу шиянь шэньсюэ (Древнекитайское искусство внутренних покоев и пестование жизненности). — Пекин: Чжунвай вэньхуа чуюаньшэ, 1989.
91. Чжунго лиши няньдай цзянь бяо (Краткие хронологические таблицы по истории Китая). — Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1998.
92. Чэнь Мэнцзя. Иньсюй буци цзуншу (Собрание гадательных надписей из развалин столицы Инь). — Пекин, 1956.
93.
Чэнь Инькэ. Тянынидао юй Биньхай дичэн чжи гуаньси (Связь между «Путем Небесных наставников» и Биньхаем) // Bulletin of the National Research Institute of History and Philosophy, Academia Sinica (Beijing), N 3.
94.
Чэнь Чжуньюй. Иньдай гу ци цзюн дэ лун син ту ань чжи фэнси (Анализ изображений драконов на костях периода Инь) // Bulletin of the Institute of Phylology, Academia Sinica, Nankang, 1969, N 41 (3).
95.
Ши Синбан. Югуань мацзя вэньхуа ды исе вэньти (О некоторых вопросах культуры Мацзя) // Каогу (Археология), 1972, N 6.
96.
Юань Кэ. Чжунго шэньхуа чжуаныио цыдянь (Словарь китайских мифов и преданий). — Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 1985.
Литература на западных языке
97.
Ahern E. The Cult of the Dead in a Chinese Village. Stanford: Stanford University Press, 1973.
98.
Ahern E. The Power and Pollution of Chinese Women // Women in Chinese Society (ed. by Margery Wolf and Roxan Witkee). Stanford: Stanford University Press, 1975.
99.
Allan S. Sons of Suns: Myth and Totemism in Early China // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1981, N 44.
100.
Andersson J.G. An Early Chinese Culture. Stockholm, 1923.
101.
Andersson J.G. Researches into the Prehistory of the Chinese // Bulletin of Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 1943, N 15.
102.
Andersson J.G. Prehistory of the Chinese // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 1944, N 15.
103.
Armstrong D. Alcohol and Altered States in Ancestor Veneration Rituals of Zhou Dynasty China and Iron Age Palestine. A New Approach to Ancestor Rituals. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen press, 1998.
104.
Ball C.J. Chinese and Shumerian. Oxford, 1913.
105.
Bergeron I. Wang Pi. Philosophy du non-avoir. Taipei-Paris-Hongkong: Institute Ricci, 1986.
106.
Bodde D. China's First Unifier. Hong Kong: Hong Kong University press, 1967.
107.
Bodde D. Festivals in Classical China (New Year and Other Annual Observances during the Han Dynasty 206 b.c. - a.d. 220). Princeton, N.J.: Princeton University press, 1975.
108.
Chamberlain J. Chinese Gods. Selangor: Pelanduk Publications, 1987.
109. Chang Ch'ung-ho and Hans H. Frankel (Introduced, translated, and annotated by). Two Chinese Treatises on Calligraphy. Treatise on Calligraphy (Shu pu) Sun Qianli. Sequel to the "Treatise on Calligraphy" (Xu shu pu) Jiang Kui. Yale University press, 1995.
110.
Chang K.C. Shang Civilization. New Haven: Yale University press, 1980.
111.
Chang Kwang-chih. The Archeology of Ancient China. New Haven and London, 1977.
112.
Chen Jinpan. Confucius as a Teacher — Philosophy of Confucius with Special Reference to Its Educational Implication. Beijing: Foreign Language press, 1990.
113.
Chen Te-k'un. Archeology in China. Volume one: Prehistoric China. Cambridge, 1966.
114.
Chen Te-k'un. Archeology in China. Volume two: Shang China. Cambridge, 1966.
115.
Ch'en Kenneth. Buddhism in China. A Historical Survey. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973 (1st ed. 1964).
116.
Cheng J.C. Chinese sources for the Taiping Rebellion, 1850-1864. Hong Kong: Chinese University press, 1963.
117. Chinese Gods and Myths. London: Grange books, Quantum book, 1998.
118. Chow Tse-tsung. The Children Myth and Ancient Chinese Medicine. A Study of Aspects of the Wu Tradition // Ancient China (ed. by D. Row and Tsuen-hsuin Tsien). Hong Kong: Chinese University of Hong Kong press, 1978.
119.
Consten E. A Terminology of Chinese Bronze Decoration II // Monumenta Serica, 1958, N17.
120.
Creel H. Chinese Thought from Confucius to Mao Tse-tung. New York: New American Library, 1960.
121.
Creel H.G. The Birth of China. New York: Frederic Ungar, 1937.
122.
Dacosta Y. Initiations et societes secretes dans Pantiquite greco-romaine. Paris: Berg International, 1991.
123.
Debaine-Francfort C. The Search for Ancient China. London: Thames & Hudson, 1999.
124.
Despeuex C. Gymnastics: The Ancient Tradition // Taoist Meditation and Longevity Techniques (ed. by Livia Kohn). Ann Arbor: Center for Chinese Studies, Univ. Michigan, 1989.
125.
Dore H. Chinese customs. Singapore: Graham Brash, 1995 (1st ed. 1914).
126.
Du Feibao, Hong Su. Things Chinese and their Stories. Beijing: China travel & Tourism press, 1994.
127.
Dumont L. Homo Hierarchicus: the Caste System and its implications. Chicago, 1980.
128.
Eberhard W. A Dictionary of Chinese Symbols - Hidden Symbols in Chinese Life and Thought. London & New York: Routledge & Kegan Paul, 1986.
129.
Eberhard W. Settlements and Social Changes in Asia. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1967.
130.
Eberhard W. The Formation of Chinese Civilization According to Socio-Anthropological Analysis // Sociologos, vol. 7, 1957, N 2.
131.
Eberhard W. The Local Cultures of South and East Asia (tr. by Alice Eberhard). Leiden: E.J. Brill, 1968.
132.
Eberhard W. Volksmarchen aus Sudost-China. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 1941.
133.
Eliade M. The Sacred and Profane. The Nature of Religion. San Diego, New York, London: A Harvest/ HBJ Book, 1987.
134.
Eliade M. Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy. New York: Bollingen Foundation, 1964.
135.
Elliot-Smith. The Ancient Egyptian. London, 1939.
136.
Feuchtwang S. Domestic and Communal worship in Taiwan // Religion and Ritual in Chinese Society (ed. Arthur P. Wolf). Stanford, Calif., 1974.
137.
Feuchtwang S. The Imperial Metaphor. Popular Religion in China. London and New York: Routledge, 1992.
138.
Fingarette H. Confucius - The Secular as Sacred. New York: Harper and Row, 1972.
139.
Forke A. The World Conception of the Chinese. Their Astronomical, Cosmological and Physicophilosophical Speculations. London, 1925.
140.
Fung Yu-lan. A History of Chinese Philosophy, vol. II. Princeton: Princeton University Press, 1953.
141. Gennep A., van. Les Rites de passage. Paris, 1909.
142.
Gernet J. A History of Chinese Civilization. Cambridge, London, New York: Cambridge University Press, 1996.
143.
Gernet J. China and the Christian Impact (tr. J. Lloyd). Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
144.
Goulds C. Mythical Monsters. London: Senate, 1995.
145.
Granet M. Danses et legendes de la Chine ancienne. Paris, 1926.
146.
Granet M. La pensee Chinoise. Paris, 1924.
147.
Granet M. Le Depot de 1'Enfant sur le Sol // Revue Archeologique, 1921.
148.
Granet M. The Religion of the Chinese People. Southampton: The Camelot Press, 1975.
149.
Groot de, J J. M. The Religious System of China, it Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith. Taipei: Ch'eng-wen publishing Co., 1969 (reprint of 1910).
150.
Guenon R. Fundamental Symbols. The Universal Language of Sacral Science. Cambridge: Quinta Essentia, 1995.
151.
Guignes de, J. Memoire dans lequel on prouve, que les Chinois sont une Colonie de Egyptienne. Paris, 1760.
152.
Hall D. and Ames R. Thinking Through Confucius. Albany: SUNY press, 1987.
153.
Hawkes D. Ch'u Tzu: The Songs of the South. London: Oxford University Press, 1959.
154.
Hayashi Minao. The twelve Gods of the Chan-Kuo Period Silk Manuscript Excavated at Ch'an-Sha // Early Chinese Art and its Possible Influence in the Pacific Basin (ed. by Noel Barnard and Douglas Fraeser). New York: Intercultural Arts Press, 1972.
155.
Hisayaki Miyakawa. Local cults and Mount Lu at the Time of Sun En's Rebellion // Facets of Taoism (ed. by Holmes Welch and Anna Seidel). New Haven, Conn.: Yale University Press, 1979.
156. Ho Ping-ti. The Cradle of the East (An Inquiry into the Indigenous Origins of Techniques and Ideas of Neolithic and Early
Historic China 5000-1000 b.c.). Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, The University of Chicago Press, 1975.
157. Ho Ting-jui. A Comparative Study of Myths and Legends of Formosian Aborigenes (Asian Folklore and Social Life Monographs), Vol. XVW (ed. Lou Tsu-K'uang, in collab. W. Eberhard). Taibei: The Orient Cultural Service, 1967.
158.
Hultkranyz A. An Ecological approach to Religion // Ethnos, 1966, N 31.
159.
Jiang Zhenmimg. Timeless History. The Rock Art of China. Beijing: New World Press, 1991.
160. Journey into Chinese Antiquity. Beijing: Morning State Publisher. Vol. 1-4, 1997.
161.
Kaltenmark M. The Ideology of T'ai-p'ing ching // Facets of Taoism (ed. by H. Welch and A. Seidel). New Haven, Conn.: Yale University press, 1979.
162.
Karlgren B. Grammata serica Recensa // Bulletin of the Museum of Far Eastern antiquities Stockholm, 1957, N 29.
163.
Kelley C. and Ch'en Meng-chia. Chinese Bronzes from the Buckingham collection. Chicago, Art Institute Press, 1946.
164.
Lacouperie de, Terrien. Western origins of the Early Chinese Civilization. London, 1894.
165.
Lai T.C. To the Yellow Springs. The Chinese View of Death. Hong Kong: Joint Publishing Cj. (HK) & Kelly & Walsh, 1983.
166. Le Chemin de la Nation Chinoise: des origines a Pepoque des Printemps et Automnes. Tome 1. Beijing: Aurore, 1997.
167.
Lessing F. Uber die Symbolsprache in der chinesischen Kunst // Sinica, Frankfurt, vol. 9,1934.
168.
Li Chi. Anyang. A Chronicle of the Discovery, Excavation and Reconstruction of the Ancient Capital of Shang Dynasty, 1977.
169.
Li Leyi. Tracing the Roots of Chinese Characters: 500 Cases. Beijing: Beijing Languages and Culture University Press, 1997.
170.
Liu J. The Art of Chinese Poetry. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1962.
171.
Loehr M. Chinese Bronze Age Weapons. Ann Arbor: University of Michigan press, 1956.
172.
Loewe M. Ways to Paradise: The Chinese Quest for Immortality. London, 1979.
173.
Lucie-Smith E. Sexuality in Western Art. London: Thames and Hudson, 1991.
174.
Ma Cheng-Yuan. The Splendor of Chinese Bronzes // The great Bronze Age of China (ed. By Wen Fong). New York: Metropolitan Museum of Art, 1980.
175.
Mair V. Old Sinitc myag, Old Persian Magus, and English Magician // Early China, 1990, N 15.
176.
Major J. Research Priorities in the Study of Ch'u Religion // History of Religions, 1978, N17.
177.
Merkur D. Becoming Half Hidden: Shamanism and Initiation among Iniut. Stockholm: Almqvist & Wiskell, 1985.
178.
Mertz H. Pale Ink. Two Ancient Records of Chinese Exploration in America. Chicago: Swallow Press, 1972 (1st ed. 1953). 179. Meyer J. The Dragons of Tiananmen; Beijing as a sacral City. Columbia: University of South Carolina press, 1991.
180.
Michael F. The Taiping Rebellion: History. Seattle: University of Washington Press, 1966.
181.
Minick S. and Jiao Ping. Arts and Crafts of China. London: Thames and Hudson, 1996.
182.
Mungello M. Curious Land, Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology. Honolulu: University of Hawaii Press, 1989.
183.
Needham J. Science and Civilization in China 2. Cambridge: Cambridge University press, 1956.
184.
Needham J. Science and Civilization in China 3. Cambridge: Cambridge University press, 1959.
185.
Needham J. Time and Eastern Man (Royal Anthropological Institute Occasional Paper, N21). London, 1965.
186.
Needham R. The Right and the Left: Essays on Dual Symbolic Classification, Chicago, 1973.
187.
Paper J. The Spirits are Drunk. Comparative Approaches to Chinese Religion. New York: State University of New York Press, 1995.
188.
Reik T. Ritual: Psycho-analytical Studies. New York: International University press, 1946.
189.
Rohde E. Psyche: The Cult of Souls and Belief in Immortality Among the Greeks. London: Senat, 1987 (reprint of 1925).
190.
Rostovtzeff M. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922.
191.
Rostovzeff M. The Animal style in South Russia and China. Princeton, N.J.: Princeton University press, 1929.
192.
Rydh H. On Symbolism in Mortuary Ceramics // BMFEA, 1929, N 1.
193.
Rydh H. Seasonable Fertility Rites and the Death Cult in Scandinavia and China // BMFEA, 1931, N 3.
194.
Sangren S. History and the Magical Power in a Chinese Community. Stanford: Stanford University press, 1987.
195.
Schonberger M. The I Ching and the Genetic Code. The Hidden Key to life. Santa Fe: Aurora Press, 1992.
196.
Seaman G. The Sexual politics of Karmic retribution // The Anthropology of Taiwanese society (E.M. Ahern and H. Gates, eds.). Stanford: Stanford University press, 1981.
197.
Shaughnessy E. Before Confucius. Studies in the Creation of the Chinese Classics. New York: State University of New York press, 1997.
198.
Shryock J.K. The Study of Human Habilities, the Jen wu chih of Liu Shao. New Haven, Connecticut: American Oriental society, 1937.
199.
Shen Fuwei. Cultural Flow between China and Outside World Throughout History. Beijing: Foreign Languages Press, 1997.
200.
Siikala A. L Siberian and Inner Asian Shamanism // Studies of Shamanism (ed. by Anna-Leen Siikala and Mihaly Hoppak). Budapest: Acadamiai Kiado, 1991.
201.
Steele J. The I-li: Book of Etiquette and Ceremonial. London: Probsthain & Co, 1917.
202.
Sailey J. The Master Who Embraces Simplicity. A Study of the Philosopher Ко Hung A.D. 283-343. San-Francisco: Chinese Materials Center, 1978.
203.
Taisuke Mitamura. Chinese Eunuchs. The Structure of Intimate Politics. Boston, Rutland, Vermont, Tokyo: Tuttle Publishing, 1970.
204.
T'ang Yung-t'ung. Wang Pi's New Interpretation of the I Ching and Lun-yu // Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 10.
205.
Theodore H. The Visions of Hung-Siu-Tshuen and the Origin of the Kwang-si Insurrection 1854, reprinted 1935.
206.
T'ien Ju-K'ang. Male Anxiety and Female Chastity (A Comparative Study of Chinese Ethical Values in Ming-Q'ing Times) // T'ong Pao. Revue International de Sinologie (dirigee par Jacgues Gernet et E. Zurcher), 1988.
207.
Tresors d'art Chinois. Paris: Petit Palais, 1973.
208. Van-dier-Nicolas N. Art et sagesse en Chine: Mi-Fou (1051-1107), peintre et connaisseur d'art dans la perspective de l'esthetique des lettres, 1963.
209.
Van-dier-Nicolas N. Le Houa-che de Mi Fou (1051-1107), ou Le Garnet d'un connaisseur a 1'epoque des Song du Nord, 1964.
210.
Visser de M. The Dragon in China and Japan. Amsterdam: Johannes Muller, 1913.
211.
Wang Yao-t'ing. Looking at Chinese Painting. A Comprehensive Guide to The Philosophy, Technique and History of Chinese Painting. Tokyo: Nigensha Publishing, 1995.
212.
Waterbury F. Early Chinese Symbols and Literature. New York: E. Weyhe, 1942.
213.
Watson W. Styles in the Arts of China. Harmondsworth, England: Penguin books, 1974.
214.
Watson W. Handbook to the Collections of Early Chinese Antiquities. London: British Museum, 1962.
215.
Welch H. The Parting of the Way. Boston, 1957.
216.
Whincup G. Rediscovering the I Ching. Wellingborough, Northamptonshire: The Aquarian Press, 1986.
217.
White W. Bone Culture of Ancient China. Toronto: University of Toronto press, 1945.
218.
White W. Bronze Culture of Ancient China. Toronto: University of Toronto press, 1956.
219.
Wittfogel K. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven & London: Yale University Press, 1963.
220.
Yetts W. The Cull Chinese Bronzes. London: University of London press, 1939.
221.
Zimmer H. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization (ed. by Joseph Campbell). Princeton, N.J.: Pantheon Press, 1946.
Примечания
1
Merkur D. Becoming Half Hidden: Shamanism and Initiation among Inuit. Stockholm: Almqvist & Wiskell 1985;
Hultkranyz A. An Ecological approach to Religion // Ethnos, 1966, N31, pp. 131–150.
Merkur D. Becoming Half Hidden: Shamanism and Initiation among Inuit. Stockholm: Almqvist & Wiskell 1985;
Hultkranyz A. An Ecological approach to Religion // Ethnos, 1966, N31, pp. 131–150.
(обратно)
Оглавление
Введение
Глава 1. Сеть неба
Глава 2. У истоков древней магии
Глава 3. Медиумы и их видения
Глава 4. Посвященные в знание
Глава 5. Странствия в чертогах мертвых
Глава 6. Жизнь в мире духов
Заключение
Карты Китая
Период Южных и Северных династий
Примечания
Библиография
*** Примечания ***