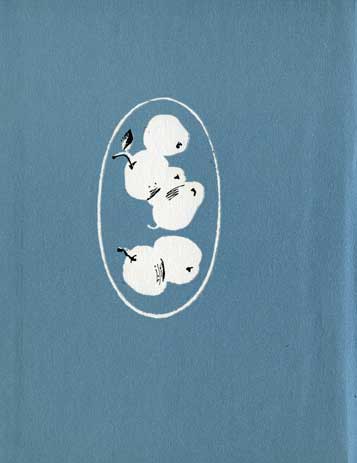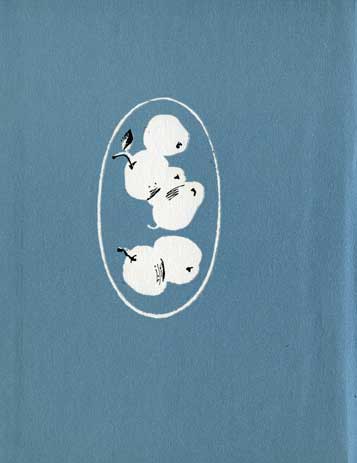


Глава 1
ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ

Наш станционный поселок окружают светлые перелески и ржаные поля. Клинья пашен подходят к самой околице, и от этого поселок похож на деревню. Он похож на нее бревенчатыми домами, лужайками и всегда спокойной, без конца, без края, тишиной.
Паровозные гудки не в счет.
Паровозные гудки для нас почти то же самое, что петушиная перекличка по утрам. Гудки для нас то же самое, что шум ветра в огромных станционных тополях или скрип коростелей в сыром вечернем поле. К шуму тополиных листьев, к голосам птиц, к неторопливым гудкам паровозов мы привыкли и, можно сказать, совсем их не замечаем.
Но такое спокойствие, такая тишина были на станции раньше. Так было у нас до двадцать второго июня, до войны, а теперь многое переменилось. Нынче поезда на станцию не входят, не въезжают, а прямо-таки врываются.
И сначала врывается не сам поезд, а свободный, без вагонов, паровоз-разведчик.
Он — черный, длинный — гонит впереди себя одну-единственную платформу с песчаным балластом. Он проверяет своими колесами, исправен ли путь. И вот, не успеет паровоз пролететь мимо белокаменного вокзала, не успеет сладковатый угольный дым умчаться в осеннюю даль, а на станцию влетает уже второй паровоз, теперь с тяжелым воинским эшелоном.
Эшелон останавливается. Но лишь на одну минуту. Он стоит всего столько мгновений, сколько требуется, чтобы отцепить усталый паровик и взамен его подогнать новый, готовно пыхтящий, заправленный углем и водой.
А потом эшелон трогается вновь. Он идет все быстрей и быстрей. А над его платформами горбатятся укрытые брезентом танки. В небо глядят спаренные для зенитной стрельбы пулеметы. В дверях вагонов молча теснятся хмурые красноармейцы. И все это проносится с каждой секундой стремительней и стремительней.
Последний вагон пролетает так быстро, что сорванные вихрем желтые тополиные листья еще долго кружатся над пустым перроном, над светлыми и чуть звенящими рельсами.
Воинские эшелоны спешили всегда, каждый день. Они спешили изо всех сил. Они торопились потому, что там, в западной стороне, война тоже не стояла на месте. Она двигалась навстречу. Совсем еще недавно репродуктор на вокзале говорил о тяжелых боях под Смоленском, а теперь фронт придвинулся ближе к Москве.
Вражеские самолеты прорывались к Ярославлю, К Волге. Бомбовые глухие удары доносились по осеннему прозрачному воздуху уже и до нас.
Чуть подольше задерживались на станции только те поезда, которым путь на восток. Но задерживались они лишь для того, чтобы дать дорогу военным. Им-то и самим было некогда. Ведь и на этих поездах ехали не просто уходящие от войны люди, а двигались чуть не целые фабрики и заводы. Мы, станционные мальчишки и девчонки, сроду не видывали столько всяких разных машин и станков. Станки ехали в крытых и некрытых вагонах; они были то аккуратно составлены рядами, а то и громоздились навалом, почти друг на друге, — лишь бы приткнуться, лишь бы нашлось местечко.
Людей тут ехало тоже видимо-невидимо. Старые и молодые, горластые и молчаливые, кто в праздничном, испятнанном машинным маслом костюме, кто в рабочей спецовке, кто в зимней шубе, а кто чуть не в одной майке, — все разные, все непохожие, они в то же время были и очень одинаковыми. Как только поезд приходил на станцию, они первым делом кидались на перрон к репродуктору и молча, угрюмо стояли там, если передавалась сводка Информбюро. А если не передавалась, то так вот, всею толпой, бежали к привокзальному рынку.
Но на рынке было пусто. Торговать стало у нас некому и нечем, и толпа опять хмуро и медленно растекалась по вагонам.
На станции из этих людей не задерживался никто. Они не хотели, да, наверное, и не имели права, отставать от своих заводов, поставленных на колеса. Каждый станок, каждая машина были только что выхвачены из-под самого огня войны, но они должны были опять, и как можно скорее, работать на войну.
Для франта работал теперь и наш поселок. Взрослые, те, что состояли в колхозе и не ушли в армию, торопились с полевой уборкой, а все железнодорожники работали день и ночь, как наша мама-стрелочница, на путях и в депо.
Мы, школьники, работали тоже. Мы рыли в школьном саду, прямо в молодом смородиннике, глубокие траншеи. От Волги до нас напрямую километров сто, я, если фашистские самолеты сюда прорвутся, то траншеи прикроют поселковый люд от бомбежки, от пуль и осколков.
Рыть траншеи было трудно. Учителя и все те, кто постарше — десятые, девятые и наш восьмой класс, — работали внизу, долбили грунт, выкидывали его на бровку, а младшие бровку чистили, помогали нам.
Кирки и лопаты рубили, рвали крепкие корни кустов, и совсем еще зеленые листья смородины падали на дно траншеи. Листья осыпались вместе с черными перезрелыми ягодами. Ягод было много. Они хрустели под ногами, они свисали крупными кистями прямо над головой, и мы набирали их в горсти, пачкались кисловатым соком, ели, пока не сводило скулы.
Погибающий ягодник все жалели, говорили:
— Надо бы сначала обобрать, да разве теперь до того? Разве до смородины, когда, то и жди, на голову посыплются свинцовые ягоды…
И мы спешили. На ладонях набухали и лопались мокрые мозоли, да все равно никто не ныл. Ребята говорили:
— Ничего! Небось на фронте солдатам не так приходится. А мы вот выроем одну эту траншею и — конец!
Я думал точно так же, но вдруг и сам, и мой приятель Женька Буслай попали совсем на другую работу и в другую компанию.
В тот день мы вышли с Женькой, как всегда, на работу в сад, спрыгнули на дно траншеи и взялись за лопаты. Мы старательно выворачивали на бровку липкие пласты глины, а когда траншея углубилась, глину стали накладывать в железные ведра и вытаскивать веревкой наверх. Но скоро Женька такой простой работы не стерпел и стал изобретать.
Изобретал Буслай недолго. Он, беловолосый, долговязый, постоял на краю траншеи, заглянул, как журавль, вниз, поддернул брюки, сказал: «Я мигом!» — и припустил домой.
Через десяток минут Буслай примчался назад, а на его плече громоздился ржавый велосипед. Этот велосипед был без переднего колеса, без камеры на заднем, с одной-единственной педалью. В руках Женька держал два коротких кола и кусок проволоки. Он поставил велосипед вверх тормашками, вверх единственным колесом; лопатой забил оба кола в землю и крепко прикрутил к ним раму.
Я уставился на Буслая: что это он такое опять затеял? А он крикнул мне в траншею:
— Подай веревку от ведра, да от того, что полное!
Буслай поймал конец веревки, набросил его на желоб колеса, привязал и принялся крутить педаль. Колесо завертелось, веревка стала тугой — ведро медленно поползло вверх.
— Ура! Подъемный кран! — обрадовались ребята, все повыскакивали из траншеи, обступили «кран», но первому покрутить Буслай разрешил мне. Остальным приказал занять очередь.
И тут произршло то, чего Буслай не предвидел.
Фима Сиротина, самая приметная у нас девчонка, приметная не чем-нибудь, а крепкими кулаками и большим ростом, вдруг пробасила:
— Подумаешь, изобретенье! Одно-то ведро я и так свободнехонько наверх выкидываю. А ты вот сразу два попробуй. Не вытянешь.
— Вытяну! — ответил Буслай. — Лезь обратно, цепляй.
Фима спрыгнула в траншею, выбрала два самых объемистых ведра, набила в них глины столько, что сама крякнула, когда подтаскивала к веревке, а потом прицепила и скомандовала:
— Давай!
Буслай налег на педаль, натужился, ведра приподнялись и остановились. Вытягивать такой большой груз коротенькой педалью было нелегко. Но Буслай сдаваться не хотел, да тут и я ухватился за колесо, стал помогать.
И вдруг, когда ведра почти уже поднялись, под ногами у нас что-то ухнуло, вздохнуло, и я куда-то сначала поехал, потом полетел.
Земляная бровка не выдержала и вместе с ведрами, вместе со мной, Буслаем, велосипедом рухнула вниз. Ладно, эта самая Фима-Серафима отскочила — мы чуть-чуть не грохнулись ей на голову. А надо бы! Теперь вот она стояла да посмеивалась, а я и Женька сидели по шею в земле, не могли шевельнуться и смотрели с ужасом на то место, откуда свалились.
Со дна хорошо было видно, какой здоровенный пласт отвалили мы от ровной стенки траншеи.
И вот мы сидим, не дышим, а Фима говорит!
— Ага! Что наделали? Теперь вам попадет.
И тут она хватает меня нахально за воротник и легко, как репку, выдергивает из рыхлой земли.
Я хотел Фимку стукнуть, да где уж мне!
А Женька выбрался сам. Он подхватил велосипед, полез на бровку, следом покарабкался я, за мной Фима. И только мы вылезли, как видим: опять у нас неудача.
С «краном» своим мы затеяли возню как раз напротив школьных окон, как раз напротив директорского кабинета. И не успели выбраться наверх, окно распахнулось, и стоит за ним — ну вылитый портрет командира Котовского в раме! — наш директор Валерьян Петрович.
Правда, на командира он больше похож бритой головой, а так-то он слишком толстый и неуклюжий, но все равно смотрит по-командирски и поманивает нас всех троих полусогнутым пальчиком. Да мало того, что он поманивает, а уже и все учителя, которые были в саду, побросали лопаты и торопятся к нам.
— Сматывайся, Женька! — испуганно сказал кто-то из ребят, но Фима и тут влезла:
— Нечего бегать. Все равно скажу.
Она охлопала с ладошек землю и, важно задрав голову, пошагала к школьному крыльцу. Нам делать нечего, мы взяли велосипед и потопали за ней. Уж если отвечать, так отвечать сразу, да еще и неизвестно, что там без нас Фима может наговорить. Но мы дрожали не очень: кто-кто, а наш директор во всем разберется по справедливости. Валерьян Петрович знает меня и Женьку давным-давно. Еще в то время, когда мы бегали в первый класс, с Женькой из-за Валерьяна Петровича произошло вот что.
Валерьян Петрович очень любил рассказывать сказки, а мы, конечно, любили их слушать. Иногда в большую перемену он выносил из кабинета стул, садился, проводил по бритой голове толстой ладонью, гулко прокашливался, и суета в зале сразу стихала.
Рассказывал он весело. Мы все хохотали. Мы все развеселились и в тот раз и вслед за директором тоже что-то начинали рассказывать. Не утерпел и я. Но рассказал я не сказку, а выпалил:
— У меня есть друг! Он придумал, как зимой лето сделать.
Все обернулись, а Валерьян Петрович даже ладонями по коленям хлопнул:
— Правда?
— Правда!
— Где он, твой друг?
— Вот он.
Я показал на Женьку, тот смутился, прикрыл глаза локтем, а Валерьян Петрович спросил:
— Это ты придумал, как зимой лето сделать?
— Я.
— А ну, открывай секрет.
И Женька тихо, потом все громче, принялся рассказывать:
— Когда наступит зима, надо врыть посреди белого поля большой-пребольшой крепкий столб. К макушке столба привязать канат, тоже крепкий, лучше стальной. А потом канат прицепить к хвосту самолета, самолет запустить, он взлетит, потянет канат, и земля повернется к солнышку! И у нас опять начнется лето. Ясное-преясное, теплое-претеплое. Какое захочешь!
Женька говорил торопливо, радостно, а под конец погрустнел:
— Только самолет надо сильный… Может, в сто тысяч моторов, но таких пока нет.
Женька печально развел руками и глянул на Валерьяна Петровича. А тот встал, тронул Женькино плечо и очень серьезно произнес:
— Да ты, брат, совсем как богатырь Буслай. Он тоже мечтал: «Эхма, кабы силы да поболе мне! Жарко бы дохнул я — снега бы растопил». Что ж, придет время — и самолет в сто тысяч моторов будет. Сам построишь.
Я думал, сейчас все засмеются, да никто не засмеялся, но с того дня к Женьке прилипло прозвище Буслай…
Мы вошли в директорский кабинет и не успели сдернуть кепчонки, сказать: «Здрасьте!», не успела Фима рот раскрыть, как Валерьян Петрович все понял.
— Новая идея? — показал он на велосипед.
— Новая. Сегодняшняя, — с достоинством ответил Буслай.
— Они этой идеей траншею обвалили, — ехидным голосом добавила Фима-Серафима.
Директор улыбаться перестал, негромко произнес:
— Перпетуум-мобиле прислоните к стене, сами подождите за дверью, Сиротина, останься.
Мы вышли в коридор. Сиротина осталась. О чем они там толковали, через дверь было не слыхать. Я нацелился на замочную скважину, хотел подслушать, да тут дверь отворилась, и Фима, красная, сердитая, бегом проскочила мимо нас.
— Ну, теперь наша очередь, — сказал я.
— Входите! — донеслось из кабинета, и мы вошли. Валерьян Петрович стоял теперь спиною к нам, лицом к окну. Он смотрел, как школьники роют землю, вырубают сад. Там ярко светило сентябрьское солнце, работали все дружно, да только Валерьяну Петровичу как будто бы что-то не нравилось. Очень уж грустный у него был вид.
А может быть, он смотрел совсем и не на школьников, а смотрел на станционные пути, которые протянулись невдалеке от школьной ограды. Там стоял санитарный поезд. Поезд прибыл с фронта. Он с тяжелоранеными, тамбуры и окна его наглухо закрыты, из вагонов таких поездов на перрон выходит редко кто. Разве что выскочит медсестричка и, бухая солдатскими сапогами, промчится вдоль вагонов от тамбура к тамбуру.
Зато на перроне полно женщин. Откуда они узнают о приходе санитарного — неизвестно, да только поезд еще на подходе, а они уже давно здесь. Они тянутся к высоким, залепленным дорожной пылью окнам; они как завидят сестричку, так бросаются к ней и бегут, бегут рядом с нею — все заглядывают в лицо, все что-то выспрашивают.
Я знаю, о чем они спрашивают: «А бойца Корнилова среди раненых нет? А Смирнова нет? А Гусева нет? Девушка, девушка, а может, у вас Витя Фролов находится? Русенький такой, молоденький… Скажи, родная, а?»
Но знаю я и то, что девушка никогда ничего толком ответить не может. Уже и паровоз к отправлению гудит, да столько по тесным вагонам израненных солдат, что вряд ли девушка помнит каждого в лицо. Она сама-то измотанная, усталая, едва держится на ногах…
Валерьян Петрович, глядя на этот поезд, на бегущую толпу, даже голову опустил. А потом, как с мороза, передернул плечами, обернулся к нам и долго смотрел, будто позабыл, откуда мы и зачем.
Наконец все вспомнил, даже немножко усмехнулся:
— Ну и как ваша машина действует?
Буслай кинулся к «машине», стал объяснять. Валерьян Петрович не перебивал, слушал, сам разок повернул педаль и сказал:
— Производительность мала…
— Кто мала? — не понял Буслай.
— Производительность. Пока вашим краном вытянешь одно ведро, вручную сделаешь во много раз больше.
Буслай задумался. Выходило, что директор школы не на нашей стороне, а на стороне Фимы-Серафимы. И я обиделся:
— Так ведь крутить можно!
Валерьян Петрович улыбнулся:
— Еще бы. Крутить куда как интересно, да только время не ждет. Пойдемте-ка вместе да поработаем старым, проверенным способом.
Он достал из-за книжного шкафа железную лопату, и мы бы отправились опять в сад, да тут-то как раз и появился печник Бабашкин.
Невысокий росточком, очень худой, очень старый, похожий небритым лицом на седого ежа, он осторожно заглянул в кабинет, вошел, приподнял испачканный в глине фартук, порылся в кармане полосатых штанов и вынул какую-то бумагу.
— Вот, Петрович, — сказал он директору, — у нас народу не хватает, дак мое начальство просит командировать двух парней. Со мной, значит, работать. На чердаках. Стропила глиной обмазывать. От зажигательных бомб. Чтоб если огонь сквозь железную крышу на чердак попадет, дак сразу не загорелось.
И тут я глянул на Буслая, он глянул на меня, и мы вмиг поняли: надо не зевать!
Лазать по станционным чердакам разрешается не каждый день. Чердаки — это совсем не то, что скучная сырая траншея. На чердаках живут птицы, на чердаках отдыхает ветер, там всегда интересно. А на одном чердаке, говорят, один мальчишка в позапрошлом году нашел настоящий австрийский штык. Я как подумал об этом, так тут же взмолился:
— На чердаки надо нам! На чердак надо нас!
Я так закричал, что печник вздрогнул, сказал: «Эк тебя!» А Валерьян Петрович усмехнулся:
— А механизация как же?
— Так ведь производительность мала, — быстро ответил Буслай.
Печник нахмурил ежиные брови, оглядел нас маленькими серыми глазками, будто снял с обоих мерку, и сказал:
— Ничего, сойдут. Правда, этот горластый мелковат, но сойдут. К тому же мои соседи.
Глава 2
ДАВНЫМ-ДАВНО И В ЭТОТ ВЕЧЕР
Щуплый на вид печник работал быстро, и мы едва успевали за ним. Он обмазывал стропила, а я и Женька таскали снизу из бочек жидкую глину.
Чердачные лестницы у наших домов крутые. Они по-старинному навешены снаружи, взбегают сразу от земли до крыши, и пока по ним вскарабкаешься с полным ведром наверх, остановишься не раз.
Печник нас жалел. Когда начинался перекур, он как можно медленнее свертывал «козью ножку», аккуратно зачерпывал в нее из кисета зеленоватый, сдобренный лепестками желтых, неведомых нам цветов самосад и, покашляв да прохрипев непременное присловье: «Табак Дюбек, от которого сам черт убег», — советовал:
— Не таскайте по полному ведру. Не таскайте! А то грыжу схватите.
Но мы все равно таскали по полному. Нам с Буслаем не хотелось отставать от печника. И мы понимали: вражеские самолеты ждать не станут, пока мы тут чикаемся с полуведерочками. Торопились еще и потому, что хотелось быстрее побывать на всех чердаках. Мы ведь в самом деле надеялись, что нам повезет, что какое-нибудь чердачное сокровище достанется и на нашу долю.
На чердаках было интересно. Как только туда поднимешься, как только вдохнешь запах пересохшего дерева и теплой железной кровли, так сразу кажется: ты попал в иной, таинственный мир.
Здесь всегда полусумрачно. Здесь всегда странная тишина. Странная потому, что слышишь все, что происходит на улице: и паровозный свисток, и звон цинковых ведер у ближайшей водяной колонки, и женские голоса там; и даже слышишь, как постукивает над тобой по кровле тонкими коготками какая-то пичуга, — но все равно здесь тихо, звуки словно в стороне от тебя, как бывает, когда проснешься, но еще не раскрыл глаза.
И от этой странной тишины, от полусумрака все, что внизу и вокруг — старый палисадник, голая береза, мальчик с котенком под ней, золотые листья на синей лужице, — все-все кажется таким новым, таким невиданно ярким, словно ты по этой земле никогда не хаживал, словно разглядел ее в первый раз.
А еще с чердака видно железнодорожные пути, станцию. Туда только что примчался из-за Волги новый эшелон. Паровоз уже отошел на запасный путь, стоит, отдуваясь белым паром, а машинист и помощник спускаются по отвесной лесенке на желто-бурый гравий междупутья.
Они долго ходят вокруг вздыхающей машины. Они оглядывают ее, даже оглаживают ладонями, и все покачивают головами, словно чему-то не верят, чем-то сильно удивлены.
И только потом, когда убеждаются, что теплое железное тело паровоза нигде не пробито, не прострелено, медленными, усталыми шагами уходят по направлению к вокзалу, к диспетчерской…
Работа с печником нам понравилась. Мы получили чистые холщовые фартуки и в первый же час постарались их заляпать. У фартуков сразу стал рабочий вид. Мы вечером и домой пошли, не снимая фартуков, и нарочно завернули к школе. Шли и думали: пускай посмотрят ребята, а главное, пусть посмотрит Фима, пускай покается, что хотела наябедничать на таких тружеников.
Но сад опустел. Ребята и учителя разошлись. Вечерняя заря пылала на окнах запертой школы. От зари все стало красным, беспокойным, и длинный зигзаг траншеи в саду был как огромная рана.
Мы с Женькой кивнули друг другу и пошли по домам. И вот, как только я остался один среди широкой улицы, среди этого тревожного красного света, исходящего не только от заката, но и от осенних, склоненных над палисадниками рябин, — мне тоже стало тревожно и холодно. Со мною так бывает теперь часто, особенно в минуты, когда рядом никого нет. В такие минуты я думаю об одном — я думаю об отце.
Наш отец до войны работал не на транспорте, а в МТС трактористом. Он и в армию уезжал не с вокзала, как другие солдаты, а прибежал с поля домой, собрался и ушел туда, где был назначен сбор механизаторам. Он ушел словно на работу, ушел к себе в МТС.
А было это в самый разгар лета, когда рябиновые гроздья еще только-только наливались, я это помню хорошо. Отец, когда уходил, вдруг остановился под рябиной, что растет у нас во дворе. Он легко подпрыгнул и сломил ветку с крупными зеленоватыми ягодами. Я вижу как теперь: он встал, обернулся к нам в последний раз, а сам такой плечистый, такой сильный, а за плечами у него самодельная котомка, а из-под кепки светлые волосы, а глаза улыбаются и в правой руке — высоко вскинутая, влажная от росы ветка с тяжелыми гроздьями…
Но теперь и наша рябина успела созреть, и рябину давным-давно оклевали дрозды и сами улетели на юг, а от отца все нет писем.
Недавно в газете я нашел заметку: «Группа партизан под руководством товарища Н. вчера ночью взорвала железнодорожный мост и полностью уничтожила эшелон с живой силой противника». Я показал газету маме и братишке с сестренкой, Шурке с Наташкой:
— А вдруг «товарищ Н.» — это наш папа? А что? Ведь он партийный, и его могли забросить к партизанам! Имя, отчество и фамилия у него на букву «Н». Николай Николаевич Никитин.
Мама сказала: «Может быть…» Но сказала так, что я сразу понял: она не верит. Зато Шурка с Наташкой мне поверили. Правда, верили они всегда всему, потому что были маленькими: Наташка нынче пошла в первый класс, а Шурке исполнилось пять лет.
Когда я прочитал им газету, они схватились за руки, начали прыгать и, как стишок, приговаривать:
— Товарищ Эн! Товарищ Эн!
Тут мама вдруг вскочила, закрыла лицо ладонями и выбежала на кухню, Я кинулся за ней, но дверь оказалась на крючке. Я постучал, крикнул:
— Мама, ты что?
А она из-за двери отвечает:
— Ничего. Я сейчас.
Потом дверь открыла и опять сказала:
— Ничего, пустяки. В горло что-то попало. — И держится за горло, а у самой глаза мокрые, сразу видно, что плакала.
Такой маму я видел всего лишь в тот единственный раз, но все равно она очень изменилась. Раньше мама всегда шутила и все ей было нипочем.
Еще в мирное время наши станционные гуляли в сосновом бору за рекой. Прямо под соснами торговал буфет, играл духовой оркестр, все танцевали. Вдруг откуда ни возьмись накатила туча, хлынул дождь. Весь народ бросился под кусты, под сосны — кто куда. Отец распахнул над головой пиджак, накрыл Шурку, Наташку, меня. А мама постояла, постояла под сосной да как выскочит на лужайку под самый ливень, да как запоет и — давай отплясывать:
Гром, не бухай! Гром, не грохай!
Все равно не убегу.
Мне мой Коленька свиданьице
Назначил на лугу.
Все хохочут, ахают, жмутся к соснам, а она — пляшет! Лицо запрокинуто кверху, в приподнятых руках туфли, и вся она в мокром платье — стройная, тонкая, словно девчонка. А косынка на плечах пусть от ливня и потемнела, а все равно — будто осколок радуги? Раньше мама любила носить все цветастое — оно очень шло к ее карим глазам.
Теперь мама смеется нечасто, а яркие платья убрала в комод. Носит она теперь одну и ту же синюю путейскую блузу с железными пуговицами и никуда не ходит, а все больше, как говорит сама, пропадает на работе.
Прибавилось работы у мамы — добавилось дел и у меня. Раньше, бывало, слетаешь на колонку за водой — и все, и гуляй себе на здоровье, а теперь — нет. Теперь и картошку для супа надо почистить, и дров наколоть, и помочь палочки писать Наташке, и, если мама задержится долго, подоить Лизку, нашу белую, с обломанным рогом козу.
Доить козу я научился быстро, но ее каждый вечер надо было встречать далеко за станцией, иначе Лизка умчится шнырить по чужим огородам.
Я как подумал про Лизку, так сразу прибавил шагу и поглядел на заходящее солнышко. Оно опускалось за кровли, и поперек широкой улицы теперь легли синие тени. А под старыми тополями в проулке, который вел к нашему дому, стало совсем сумеречно.
Я вбежал в проулок. За ним, как за темным туннелем, виднеется наш невысокий дом, а дальше уже никаких построек нет. Дальше только поля, жнивье, а на нем редкие стога соломы.
Я поднялся на крыльцо и сразу увидел: сегодня почта была тоже без письма. Почтальонка всунула за дверную скобу одну газету, а вот если бы письмо пришло, то она обязательно бы постучала в дверь и почту отдала Наташке. Наташка-то с Шуркой дома почти весь день, вон и сейчас там шум, гам и полное столпотворение. Шурка с Наташкой насовывали к себе приятелей со всей станции: гости сидят и за столом, и под столом, а галдеж такой, что ничего не понять.
Я сразу спросил Наташку:
— Козу встретили?
Наташка глянула на меня, всплеснула руками, ойкнула:
— Ой, Леня! Я сейчас.
— Сидя уж! — сказал я и принялся наводить в доме порядок. Гостей друг за дружкой спровадил на улицу, Шурку посадил к чугунку чистить вареную картошку, Наташку заставил подмести пол, а сам побежал в сарайчик. Может быть, Лизка уже там, может быть, на этот раз пожаловала домой сама.
Но сарайчик пуст, и скрип его струганой дверцы наводит меня опять на думы об отце. Я опять иду через темный проулок, а потом через всю станцию туда, где встречают стадо, а сам все думаю и думаю…
У отца были удивительно ловкие руки, и когда он затеял строить сарайчик, то сначала рядом с крыльцом сколотил верстак и все доски для сарайчика выстругал фуганком. Стружка из-под фуганка выходила у него длинная, легкая, как пена. Я все время стоял рядом с верстаком, ждал, когда отец остановится, протянет мне инструмент и скажет:
— На, разомнись!
Но у меня выходило хуже. Фуганок в моих руках начинал запинаться, дорожка после него оставалась где гладкая, где в заусеницах.
— Ничего! Было бы терпенье, придет и уменье, — утешал отец.
Зато, когда стали собирать стены и крышу, я здорово наловчился забивать гвозди. Поставишь гвоздь отвесно к доске, прищуришь глаз, нацелишься молотком и — бац! — гвоздя уже нет, а светится на доске одна шляпка.
Мама подходила к нам, смотрела, как подвигается работа, одобряла:
— Прямо не сарай, а настоящие хоромы. Хоть самим живи!
Отец, довольный маминой похвалой, улыбался:
— Это что! Это времянка. Вот погоди, Катя, к Новому году получу заработок, съездим с тобой на базар и купим вместо Лизки холмогорскую корову. Для нее я поставлю рубленый двор.
— Черную, корову-то? — в который раз переспрашивали ребятишки.
— Черную. С белой звездочкой на лбу, — охотно отвечала мама.
Но сарайчик для Лизки отец все равно строил на совесть. Бросовой, спустя рукава, работы он не терпел, и дощатая постройка вставала возле дома, как теремок.
Вставала она быстро, помогал отцу не только я. К нам часто приходил дядя Сережа, Женькин отец. Дядя Сережа работал машинистом, был очень высок ростом, на ходу сильно сутулился и в шутку сам о себе говорил:
— Это я от бережливости сгорбился. Все думаю, как бы не испортить казенное имущество. Как бы не прошибить головой потолок в паровозной будке. Думаю и вот — пригибаюсь.
Захаживал к нам дядя Сережа всегда после дальней поездки, по своим выходным дням. А поэтому его длинное рябоватое лицо было празднично выбрито, из-под пиджака синел ворот вышитой васильками рубахи-косоворотки, а в руках он приносил картонную шашечную доску. Ящичек с шашками погромыхивал у него в кармане брюк.
Сказав нам всем: «Здорово бывали!», дядя Сережа выкладывал шашки на крыльцо, пиджак пристраивал на сучок рябины, закатывал рукава и брался за работу. Особенно ловко у него выходило, когда мы с отцом стояли наверху, на высоте, а он подавал нам доски.
Мне кажется, высота огромная, земля далеко, а дядя Сережа только подхватит охапку досок, подойдет, распрямится с ней — и сразу никакой высоты нет! Дяди Сережина голова и руки достают до самой крыши.
А когда отец говорит: «Шабаш!» — дядя Сережа подкатывает под рябину толстенный чурбан, рассыпает на его торце шашки, спрашивает: «Сыграем? — и сам же отвечает: — Сыграем!»
Отец выносит из дома две голубые табуретки, тоже ставит их под рябиной, начинает шашки расстанавливать, а дядя Сережа вынимает пачку новомодных папирос «Караван» и, постукивая длинным мундштуком по коробке с пальмами и верблюдами, говорит:
— Так надумал к нам на дорогу-то переходить или не надумал?
Отец усмехается, крутит головой:
— А какая корысть? Думаешь, руки чище станут? Да у вашего брата, паровозника, они еще чернее, чем у трактористов. А ну, выкладывай пятерню!
Дядя Сережа кладет на шашечную доску руку ладонью вверх, отец — раскрывает свою. Обе ладони так широки, что закрывают шашечную доску почти полностью, обе они темны от ежедневной работы с железом и смазкой.
И вдруг ладони уже не лежат, а обхватывают друг дружку; локти уперлись в торец чурбана, и вот пошла борьба — кто сильнее.
Дядя Сережа выше отца, но отец шире в плечах. Пальцы их сплелись цепко, руки от усилия дрожат, клонятся то в одну, то в другую сторону, чурбан качается, падает, шашки рассыпаются. Отец с дядей Сережей хохочут, шарят по земле, собирают шашки. А мы с Шуркой да Наташкой ползаем вокруг на четвереньках, помогаем собирать.
Наконец взрослые склоняются над доской, и во двор приходит тишина. Вокруг так тихо, что слышно, как далеко-далеко, на станционных путях, перекликаются рабочие ночной смены. Они ударяют по колесам вагонов молоточками, молоточки вызванивают: динь-дон! динь-дон!
Шурку с Наташкой мама уводит спать, а я все сижу на крыльце. Я жду, когда в чуткой теплой полутьме раздастся дяди Сережин победный возглас:
— Ага! Эту я срубил, эту я взял за фук, а это у меня дамка. Проиграл?
— Проиграл! — поднимает руки отец.
Он проигрывает каждый раз, но не сердится. Расстаются они весело. Дядя Сережа опять говорит нам: «Бывайте!» — и уходит по серой тропе в сторону станции. Там ярко и разноцветно прокалывают синеву ночи огоньки семафоров.
Отец подсаживается ко мне на ступеньку крыльца. Теперь, пока мама не кликнет ужинать, отец будет только со мной.
Я уютно пристраиваюсь к его теплому боку. Мне слышно его спокойное дыхание. От рубахи отца пахнет сосновой стружкой, пахнет чуть-чуть сладковатым тракторным дымом — мне дремотно и хорошо.
— Поговорим? — спрашиваю я.
— Поговорим, — тихо отвечает отец.
— О горностаях?
— Давай о горностаях…
Горностаи — наша с ним тайна, наша мечта.
Отец — охотник, он и меня приучил к лесу. Правда, хаживали мы с ним больше на тетеревов да на рябчиков, однажды заполевали глухаря — темноперую, весом в полпуда птицу, а добывать пушного зверя нам никогда не приходилось. Пушной зверь хитер, для охоты на него нужно время, а времени у отца всегда в обрез. Мы бы с ним никогда и не думали ни о каких горностаях, если бы не случай, если бы не Печник Бабашкин, тоже заядлый лесовик.
В конце прошлой зимы, уже по ростепели, отец собрался в районный городок. Печник об этом узнал и явился к нам с небольшим, мягким, как подушка, мешком.
— В охотничий магазин не зайдешь? — спросил он отца.
Отец сидел у порога на скамейке, обувался и, не поднимая головы, ответил:
— Зайду. Купить что-нибудь?
— Не купить, а сдать.
— Беличьи шкурки?
— Хватай выше! Королевских зверьков.
— Каких королевских? — удивился отец.
Мы тоже все удивились, а мама сказала:
— Что это за чудо такое?
— А вот какое! — весело похвастался печник.
Он запустил руку в мешок и выхватил оттуда связку белых, ослепительной чистоты шкурок. Они переливались мягким светом, и лишь, пушистые кончики хвостов были черные, словно обмакнуты в тушь.
Отец, как успел надеть один сапог, так в одном сапоге и остался. Он вскочил, прихрамывая, подбежал к Бабашкину, приподнял широкими ладонями невесомую связку:
— Ух ты! В самом деле красота. Но ведь это же горностаи! При чем тут королевские зверьки?
— При том, — сказал печник. — Они в заграницу идут. Их вся заграница только для королей и покупает.
Бабашкин обернулся к маме и вдруг всю эту белоснежную груду накинул ей на плечи:
— Смотри, чем не королева!
И тут ахнул не только отец, ахнули и мы.
Мама и взаправду стояла в горностаевых мехах как королева. А может, еще и лучше! Карие глаза ее заблестели еще ярче, темные волосы стали еще темней. Да только мама тут же смутилась, горностаев сняла. Она спрятала их обратно в мешок и сделала вид, будто сердится:
— Тоже мне, нашли королеву. Королеву из стрелочной будки!
Но отцу и мне белые горностаи крепко запали в память. Втайне от мамы мы решили сделать ей «королевский» подарок и стали с нетерпением дожидаться новой зимы. И вот, в теплых июньских сумерках, под скрип сверчка во дворе, мы шептались о первом снеге, шептались о голубых звериных следах на нем. Да только было все это давным-давно…
А теперь я шагаю в сторону реки, в сторону леса один, и шагаю не на охоту, а всего-навсего за козой.
Стадо встречали у переезда, за полосатым шлагбаумом. Как только солнышко начнет спускаться за тонкие шпили заречных елей, так почти все хозяева* рогатых Маек, Мусек, Розок и Зорек тут как тут. Мальчишки, пока стадо не пришло, играют в ножички; девчонки сидят вдоль поросшей мать-и-мачехой насыпи, поглядывают то на мальчишек, то на старух; а те не спеша, с подробностями обсуждают все, что произошло на станции за день.
А как солнце совсем западет за елки и синяя тень от них достигнет шлагбаума, так сначала со стороны реки долетит легкое басовитое покрикивание: «Домой… До-мой… До-мой…», — а потом словно бы где-то совсем близко начнут ударяться друг о друга камушки: это застучат по сухим тропам острые козьи копытца. И вот стадо в облаке пыли, с шумом и толкотней выкатывается из оврага, а за ним шествует Минька-пастух.
Минька мужик не старый, он тяжел, крепок и румян. Пиджак и штаны на нем в обтяжку. На голове хоть в жару, хоть в стужу лихо заломлена потасканная шапка-ушанка, на ногах березовые лапти. А через плечи, крест-накрест, висит с одной стороны сумка, из которой торчит горлышко молочной бутылки, а с другой — обрезок тонкой, гладко выструганной доски. К доске подвешены две короткие палки. Эта доска не просто доска, это пастушеский музыкальный инструмент.
У нас испокон веку пастухи наигрывают на сосновой доске, и называется она барабанкой. А из всех окрестных пастухов лучшим игроком на бара банке был Минька. Барабанка у него не стучала, а прямо-таки выговаривала какой хочешь мотив, хоть «барыню», хоть «семеновну». И все считали, что, если бы Минька пожелал, он мог бы выступать в нашем клубе на концертах, а может быть, даже и в самом областном городе.
Ведь Минька как возьмет в руки палочки, да как ударит, так сразу хочется подпевать:
Барыня заболела,
Много сахару поела.
Ох ты, барыня!
Вот так барыня!
Но все же стать настоящим музыкантом Минька не мог.
«Миньке бог-то дает, да Минька сам не берет!» — говорила о нем его квартирная хозяйка Федоровна. А станционные старухи рассказывали про Минькину лень друг дружке: «Ведь он, мать моя, каков? Он лапти, пока не сносит, ни разу не сымет. Так и спит в лаптях. Зачем, говорит, их сымать, если утром опять обуваться? А спать он до того здоров, до того, дева, здоров — ну чистый медведь! Как, значит, по первому снегу пастьбу закончит, так заработок весь до копейки вываливает на стол Федоровне и говорит: „Вот тебе, Федоровна, капитал, питай меня в сутки два раза. В обед — раз, вечером — раз, а чаще не беспокой! Я от трудов своих отдыхать должен“. И лезет, милая, на печку; и дрыхнет всю зимушку; и хоть ты из пушки над ним стреляй — не разбудишь. Только и слезает с печи в обед да в ужин. Для питания, стало быть. Ну, за зиму-то проспит, проест все денежки, а весной опять в пастухи. Верно, верно. Чего смеешься? Федоровна сама рассказывала».
Когда я пришел к переезду, все мальчишки, девчонки и старухи жались к заветренной стороне низенькой стрелочной будки. Багровая заря уже отполыхала, ее закрыла черная, тяжелая туча, Ельник над оврагом нахмурился, и у переезда было неуютно, ветрено. Все озябли, все только и смотрели на овраг, откуда должно было появиться стадо.
Оно не показывалось. Туча закрыла полнеба. Стало почти темно. Старухи, потеряв терпение, принялись поругивать Миньку. И вдруг за рекой, в той стороне, где туча и глухие ельники сомкнулись в одну мрачную полосу, негромко, но явственно всплыл заунывный вой. Он ширился, он нарастал. Он звучал все громче, все тоскливее, все надрывнее. Он заполнил собой всю округу и вдруг так же разом оборвался.
— Бабы… А ведь это волки… — произнес рядом со мной кто-то очень тихим, очень ровным, словно неживым голосом. Я обернулся и увидел седую, высокую, всю в темном, старуху Бабашкину. Лицо у нее побелело, губы дрожали, но она все так же ровно выговаривала: — Бабы! А ведь они к стаду идут. Они коз порвут. Берите каменья, бабы. Берите колья, надо к стаду бежать.
И тут сразу тишина кончилась. Мы все как стояли возле будки толпой, так толпой с криком и свистом ринулись в овраг.
Бежали мы недолго. Овраг выходил к реке на широкую луговину, и козы там сбились в плотный круг. Они не двигались, а как завидели нас, так сразу шарахнулись. Волчий вой, наверное, очень сильно их напугал.
Тут каждый ринулся разыскивать в стаде свою козу. Кто кричал; «Муся-Муся!», кто приговаривал: «Зоря-Зоря!» и оглядывал, ощупывал Зорю: не покусана ли волками. И только минут через двадцать, когда все успокоились, когда засобирались домой, вдруг спохватились: пастуха Миньки нет.
Попробовали Миньку покричать. Сначала кричали врозь, потом хором, но в ответ не прилетало ни звука.
— Неужто волки задрали?
Эти слова напугали нас еще больше. Все говорили, что надо скорее гнать стадо по домам, надо собирать мужиков, какие остались на станции, брать фонари и, пока не поздно, прочесывать лес.
— Может, он, Минька-то, и живой еще.
На розыски пастуха я не попал. Мама перехватила меня по дороге домой, Лизку загнала в сарай, меня с Шуркой и Наташкой заперла на ключ и к переезду, откуда должны были начаться поиски, пошла сама.
Вернулась мама на удивление скоро. Она молча села на табуретку, развязала платок, сердито бросила на стол, принялась расшнуровывать башмаки.
Я сразу почувствовал недоброе.
— Нашли его? Что с ним? Волки… да?
Мама ответила, не поднимая головы:
— Лучше бы волки.
Потом вздохнула и сказала таким злым голосом, какого я от нее и не слыхивал:
— Сбежал он. Совсем сбежал. От армии, от фронта скрылся.
— Неправда! — закричал я.
— Нет, правда.
Сегодня утром пастух должен был явиться на сборный пункт для отправки в армию. Об этом его известили накануне повесткой. Но Минька повестку спрятал, не показал даже Федоровне и с утра, как ни в чем не бывало, ушел со стадом на пастбище. А там стадо бросил и скрылся. Стадо бродило без пастуха, наверное, весь день и уцелело только потому, что волки, собираясь на охоту, сами известили о себе всю округу.

Глава 3
НА СТАРОМ ЧЕРДАКЕ
Погода как сломалась в тот волчий вечер, так больше и не налаживалась.
На улице стало сыро, глухо. Деревянные дома потемнели. На мокрые, осклизлые дорожки падали с голых тополей крупные холодные капли. Грязь везде по колено, и хорошо, что ребята в школьном саду успели до этой мокряди выбраться со дна траншей, а то бы хватили горюшка. Они теперь помогали плотникам, делали толстые бревенчатые накаты.
Наша работа на чердаках тоже подходила к концу. И если говорить по правде, то мы уже давно перестали радоваться ей. Для того чтобы целый день лазать по лестницам с тяжелыми ведрами, силенок у нас все-таки не хватало; да и, как говорил Бабашкин, «не тот пошел харч».
Широкие полки в нашем продмаге теперь опустели. Магазин сразу же потерял всю свою многоцветную сытую праздничность, он стал похож на пустой, разоренный склад. Продавали в нем теперь только хлеб, и то по строгой норме.
Не так-то велика была эта норма. Выручала нас пока что картошка. Утром картошка, в обед картошка и вечером картошка. Оглядывая заметно опустевший картофельный участок под окном, мама говорила:
— Вот докопаем, доедим, и — зубы на полку.
Маленький Шурка удивленно таращился на маму, пробовал покачать пальцами свои крепкие, как орехи, зубы, но над этим уже не смеялись ни мама, ни я.
Желание работать на чердаке убыло еще и потому, что я стал бояться. Побаивался я беглого пастуха. Мне все казалось, что скрывается он не в мокрых осенних чащобах, а где-нибудь здесь, на чердаках, и мы вот-вот на него наткнемся. Я понимал: страх этот — нелепый, дезертир вряд ли станет жить под станционными крышами, — но все равно боялся.
Женьке пустынные чердаки тоже надоели. Мы оба ждали теперь, как ясного солнышка, того дня, когда снова начнутся занятия в школе. Настроение нам поднимал только дед Бабашкин: он все нахваливал нас, даже посулил написать о нашем старании письмо моему отцу.
— А то, что писать пока некуда, так это беда временная. Не такой он мужик, чтобы пропасть. От меня в гражданскую войну старуха тоже целый год вестей ждала, а вот, гляди, я тут и вместе с вами в глине пахтаюсь!
А когда к нам заглянул Валерьян Петрович и спросил, как дела, то и нас с Женькой старик назвал мужиками:
— И тот и другой — мужики что надо! Характер есть.
Слушать про себя такие хорошие слова было приятно, и пускай работа надоела — мы опять старались изо всех сил. Тем более что осталось-то нам побывать на чердаке дома, в котором находилась квартира самого Валерьяна Петровича.
На первый взгляд, этот дом был таким же, как все станционные дома. Деревянные, обшитые стены его покрашены охрой, железная кровля темна от старости, а над ней покачивают голыми ветками древние дуплистые тополя. Но в доме, на удивление всем остальным поселковым жителям, был действующий водопроводный кран, и поэтому о доме, о его прошлом ходили среди мальчишек самые невероятные, почти сказочные слухи.
Одни говорили, что здесь в старые годы ночевал проездом царь и водопровод ему во временную квартиру провели за один вечер.
Другие над такой легендой смеялись и говорили, что если царь и проезжал, то носа наверняка из своего салона-вагона не показывал. Больно ему, царю, надо на нашу станцию смотреть! А жил-то в доме и долго в нем работал знаменитый инженер-путеец. Тот самый инженер, который построил самую длинную в России дорогу от Москвы до Тихого океана.
Но
так говорили мальчишки, а взрослые утверждали совсем другое.
Отец, когда услышал от меня обе легенды, тоже рассмеялся и сказал:
— Дело было вовсе не в старые годы, а после революции, в одна тысяча девятьсот двадцатом году. В день Первого мая. Собрались в тот день у вокзала деповские и путейские рабочие, а Сережка, то есть дядя Сережа, первый по всей станции комсомолец, никого не спрашиваясь, влез на трибуну и говорит: «Ну что? Чем светлый праздник рабочей весны отметим? Постоим, поговорим да, может, как в святую пасху, к домашним закускам разбежимся? Нет, давайте-ка придумаем что-нибудь новенькое! Что-нибудь наше, рабочее». Вот тогда всем миром и придумали устроить небывалое: провести домашний водопровод. И не для кого-нибудь провести, а для ребятишек и для их учителя. В доме этом тогда только что открылся интернат для школьников из дальних деревень, а при нем и Валерьяна Петровича поселили.
— Неужели прямо так вот, в праздник, и работали? — не поверил я.
— Прямо так вот, в праздник, и работали. Насобирали в депо по кладовым кое-каких труб и — сделали. От нашей старой колонки до интерната.
— Ты тоже делал?
— Нет. Мне чести такой рабочие не оказали. У меня тогда на губах молоко еще не обсохло. Но зато я жил в этом интернате и все видел. Вышли деповские под музыку, под гармонь, жены и те набежали. А когда из кранов пошла вода, веселья было — хоть отбавляй! Облили первомайской водичкой всех нас, интернатовских ребят; окатили, не постеснялись, и Валерьяна Петровича. А потом поймали Сережку и давай качать. Качают и горланят вовсю: «Ну и комсомол! Ну и башковитый!» Отличный Первомай у нас тогда на станции получился…
Вот в этом-то доме и осталось нам обмазать чердачные стропила, а потом — всё, а потом, глядишь, и начнутся занятия в школе. Если, конечно, к нам не прилетят фашисты, если война не повернет все по-своему.
В тот вечер, когда мы собрались переходить на интернат, печник нам сказал:
— Нынче уж поздно, темно. Вы, ребята, снесите туда инструмент, ведра и ступайте по домам. А я тоже на печку. Что-то ломает меня. Должно быть, к непогоде.
Взяли мы с Женькой ведра и побежали к директорскому дому. Лестница там такая же крутая, как везде, но мы взлетели по ней в один миг. На чердаке уже совсем залегли потемки, только в слуховых окнах чуть брезжил свет. Мы бросили ведра и, низко наклоняясь под стропилами, полезли к ближнему окну.
Я смахнул со стекла паутину и увидел внизу директорский огород. Картошки там было меньше нашего, почти все грядки заняли цветы. Многие из них от первых осенних заморозков увяли, но астры еще пылали вовсю.
А чуть дальше виднелся наш домишко. Со стороны он выглядел ничего себе, симпатично, только соседский с ним дом Бабашкиных был красивее. Над его белой трубой возвышался жестяной петух, окна в резьбе, крытое крыльцо и веранда сверкают даже сейчас, в сумерках, красными, желтыми, синими стеклами. А вокруг дома — яблони. Плоды с них старуха Бабашкина уже собрала и, наверное, рассыпала по всему полу прохладной веранды. Так у нас делают все: прихваченные первым холодком кисловатые здешние яблоки становятся духовитее, слаще.
Пока я заглядывал в окно, Буслай нашел за стропилами удочки Валерьяна Петровича. Мы потрогали гусинковые поплавки, шелковые лески, вздохнули, позавидовали, стали пробираться через весь чердак к другому окну, и в темноте я стукнулся.
Я охнул и зажмурился, а Буслай вдруг как дернет меня за рукав и шепчет:
— Тихо! Смотри…
Я глянул и вижу: рядом с печной трубой ветхое тряпье, горка морковной ботвы и жестянка с водой.
— Ясно, — говорю. — Интернатские пацаны тут краденую морковку хрупали.
А Буслай опять зашипел — тише, мол! — и шепчет мне прямо в ухо:
— Ничего себе, пацаны! Глянь-ка на следы-то. Тут взрослый человек спал.
В самом деле, тряпье было разложено как постель, даже с изголовьем. Там еще и теперь оставалась неглубокая вмятина — кто-то лежал недавно. А рядом, на толстом слое пыли, — огромные отпечатки сапог. Я как глянул на них, так даже попятился и тоже шепотом говорю:
— Слушай… А вдруг это знаешь кто?
— Кто?
— Вдруг это пастух Минька?
Сказал я это и чувствую: надо нам отсюда сматываться. Поворачиваю назад, а Буслай ухватил меня за руку и не пускает.
— Нет, — говорит, — это не Минька. Если бы Минька, то следы были бы от лаптей, а тут в кожаных обутках наслежено. Видишь, на каблуках как бы подковки привинчены, а на подошвах какие-то кругляши. Вроде шипов.
— Точно, кругляши. У нас такой обуви никто и не нашивал. Кто бы это мог быть?
Буслай пожимает плечами, оглядывается. Я тоже оглядываюсь.
Вокруг стало еще мрачнее и темней. В углах чердака тьма кажется косматой, она словно шевелится и тянется к нам.
— А вдруг он здесь? — шепчу я.
— Нет. Следы уходят обратно к лестнице.
— А если вернется?
— Ну, если… — собрался ответить Буслай, да тут на чердаке кто-то вздохнул. Потом вздохнул еще раз, потом в третий раз, и мы вылетели с чердака на лестницу, почти не задевая ступенек, скатились вниз.
Отбежали мы от лестницы, глядим на чердак. А с чердака за нами никто не гонится, все вокруг спокойно. По тропе от колонки идет старуха Бабашкина с ведрами на коромысле; невдалеке двое маленьких мальчишек — Шуркины приятели, Тоська да Васька, оба в красных шапках, — загоняют на ночь в сарай сердитого гусака; за сараем кто-то колет дрова, слышны удары топора.
А над нами стоит старый дуплистый тополь. Одна длинная ветвь чуть покачивается над карнизом дома. Когда она задевает карниз, раздается шорох, похожий на короткий вздох: «Ох-х…» Потом опять: «Ох-х…» — и так без конца, потому что ветку раскачивает ветер.
Мы так и повалились со смеху. Страх у меня пропал, мне стало легко.
А Женька вдруг смеяться перестал, ткнул меня пальцем в грудь и говорит:
— Что это мы хохочем? Дело-то серьезное.
— Какое дело? — не понял я.
— Какое, какое… Сам не понимаешь, какое? На чердаке-то шпион!
Я так и замер. И стоял с открытым ртом, наверное, целую минуту. И лишь потом сказал:
— Да ты что?
— Вот тебе и что. Сапоги у него нездешние — это раз. От людей скрывается — два. И самое главное: ты заметил, куда завертывают на чердаке следы? К окну! А из этого окна что видно? Железную дорогу. Наверное, он сидит и считает воинские эшелоны. Диверсанты всегда так действуют. Нет, надо нам этого шпиона поймать.
У меня пошли по телу мурашки, и я сказал:
— Так ведь его уже нет.
— Нет, так будет. Может, ему есть нечего? Может, он пошел опять морковки наворовать, а ночью вернется?
Я подумал: «Буслай прав. Все, что он говорит, сходится». Но ловить диверсанта на пару с Буслаем у меня что-то не было желания. Не такие они разини, эти самые диверсанты, чтобы поддаваться мальчишкам! А вот если бы сбегать на станцию да позвать стрелка с винтовкой, тогда бы я, конечно, согласился ловить хоть трех диверсантов сразу.
Я сказал об этом Женьке, а он мне в ответ:
— Зачем стрелок! Со стрелком-то и дурак поймает. А мы давай сами поглядим, вернется сюда кто или не вернется. А если вернется, мы чердачную дверь — хлоп! — на замочную накладку, и диверсант у нас в руках! Тогда уж и стрелка можно звать. На готовенькое. Представляешь?
— Точно! — сразу согласился я. — Мы его на замочную накладку, а сами ноги в руки и — за стрелком! Только, знаешь, надо бы нам ружье взять. Нашу берданку. Она у нас в чулане висит.
— Висит?
— Висит.
— Лети за ней! А я тут, в кустах, в сирени, посижу, покараулю.
Глава 4
ВЫСТРЕЛ
Ружье висело в холодном чулане, в сенях. Было оно системы Бердана, одноствольное, легкое, с винтовочным затвором.
Я тихонько, чтобы не слышали Шурка с Наташкой, снял ружье со стены, клацнул затвором — он действовал.
Я прислонил ружье к двери, стал искать патроны. Нашел бычий рог с капсюлями, нашел одну позеленевшую гильзу, а готовых патронов нигде не было. Не нашел я и коробки с порохом. Наверное, отец истратил порох весь или поопасался оставить дома и отдал кому-нибудь из охотников. Может, деду Николаю.
Я выскочил из чулана, спрятал ружье под козий сарай и припустил к печникову дому.
Стучаться в дверь, когда входишь к соседям, у нас не принято, и я пулей влетел в дом Бабашкиных.
Тетка Евстолия, печникова старуха, стояла у стола, снимала кухонной тряпкой с горячего чугуна крышку, а печник сидел за столом. Перед ним в глубокой тарелке лежали грузди, печник втыкал в них вилку и резал ножом. Он увидел меня, ничуть не удивился:
— Садись, гостем будешь. Принеси-ка, мать, и ему вилку.
Я вдохнул аппетитный груздевый дух, медленно выдохнул, покачал головой:
— Не надо. Мне некогда.
— А если некогда, сказывай, зачем пришел, куда торопишься.
Я чуть не выпалил, что тороплюсь ловить шпиона, да вовремя спохватился. «Нет, — думаю, — этак испорчу всю затею, да пороху печник не даст». Я сказал:
— Женька Буслай ногу напорол. На гвоздь. На ржавый!
Старуха выпустила крышку из рук, изумленно глянула на меня:
— Когда это? Я ведь только что вас обоих видела.
— Он только что и напорол. Кровищи натек целый ботинок.
Тетка Евстолия как услышала про ботинок, так сразу поверила, кинулась к шкафу со стеклянными дверцами и давай там передвигать чашки, рюмки, стаканы.
А печник покрикивает, торопит:
— Да не тут ищешь, мать, не тут. Йод сверху, на маленькой полочке стоит.
Она шарит по полкам, звенит посудой, а я смотрю и думаю: «Ну, брат, и влип ты с этим враньем!»
А старуха сует мне в руки пузырек с йодом, толкает меня сухим кулачком в спину, кричит:
— Что встал-то? Что встал как пень? Беги скорей! Нет, обожди. Я сама с тобой пойду.
Старуха начала торопливо повязывать платок, а я совсем растерялся, подскочил к двери, ухватил покрепче скобу и говорю:
— Не надо ходить. Ему теперь лучше. И кровь у него не бежит. Это раньше бежала, а теперь не бежит. И просит Женька не йоду, а пороху.
— Что? — встал на ноги и сам Бабашкин. — Какого пороху?
— Любого. Хоть дымного, хоть бездымного. Для раны годится любой. Это известно каждому: порохом лечились запорожцы, — зачастил я, а сам чувствую: лицо и уши горят у меня жарким пламенем.
Тут печник вылез из-за стола, взялся за борт моей кацавейки, легонько потянул к себе:
— Врешь ведь, паршивец?
Я опустил голову, согласился:
— Вру.
— А зачем врешь? Куда вам порох?
Стараясь не глядеть печнику в глаза, я ответил:
— На рябчиков мы с Женькой собрались. Вон их сколько вокруг станции насвистывает. Утром и на охоту сбегаем, и на работу поспеем.
Печник отпустил мою кацавейку и вдруг утвердительно кивнул:
— Похоже на правду. Пороху дам. На два выстрела. Каждому по одному. Так лучше — зря пулять не станете. Но, чур, больше не врать!
— Не буду, — сказал я, а сам переступаю с ноги на ногу. Ведь Буслай-то в кустах, наверное, уже ругательски меня ругает; наверное, думает, что я сдрейфил и сижу дома.
А печник словно нарочно не торопится. Он медленно подходит к тому же старинному шкафу, вытаскивает и переносит на стол к лампе выдвижной ящик. Он аккуратно, по очереди вынимает и раскладывает на крышке стола яркие, будто позолоченные гильзы, коробки с мягкими пыжами, склянки с пистонами и покачивает головой, с усмешкой наговаривает:
— Надо же, что придумали? Порох — запорожское лекарство. Нашли старого дурака! Нет, уж если на охоту собрались, так прямо бы и сказали: дай, мол, дядя Коля, пороху. Я сам охотник. Я это дело понимаю. На баловство не дам, а для охоты дам! У вас, поди, и дроби-то нет? Поди, какой-нибудь дрянью заряжать станете?
— Угу… Дрянью! — поспешно соглашаюсь я. — Железками всякими.
— Железками нельзя. Железками ружье испортите. Я лучше знаешь что? Я лучше вам два патрона сам заряжу, — совсем раздобрился дед Николаи, а Евстолия развязывает платок, сердито вторит ему:
— Вот, вот… Заряжай! Потакай им! А они в самом деле чего натворят. Смотреть нынче за ними некому. Вот уже и врать научились.
Она замахивается на меня платком:
— У, бессовестный! — Но не шлепает, а берет за руку, подтаскивает к столу: — Садись, враль несчастный, ешь! Небось мать-то на работе.
И сидеть бы мне за столом как миленькому, да печник зарядил наконец патроны, туго забил их войлочными пыжами и протянул мне:
— На! Да не промажьте и пустые гильзы верните.
Я стиснул в кулаке тяжеленькие патроны, крикнул: «Не промажем!» — выкрутнулся из-под рук старухи и мигом выскочил за дверь.
А на улице уже стемнело так, что хоть глаза выколи. Я завернул к сараю, ощупью отыскал холодное, влажное от ночной сырости ружье, взял его наперевес и побежал к директорскому дому.
Там, под ветвями тополей, было еще темнее. Нынче все окна везде плотно занавешивали, на улицу из дома Валерьяна Петровича не проникал ни один лучик. В этой черноте кусты сирени казались темными копнами, в них шелестел ветер. Я свистнул, Буслай отозвался:
— Тебя за смертью посылать.
— Так патронов не было.
— Нашел?
— Нашел.
Буслай даже не спросил, где я раздобыл патроны, да на его месте и я бы не занимался лишними разговорами. Какие тут разговоры, когда кругом ночь, тьма и где-то рядом бродит шпион.
— Он еще не вернулся? — прошептал я.
— Кажется, не вернулся. Да в таких потемках и лестницы не видать. Но я бы услышал. Только это хорошо, что не вернулся. На чердаке успеем спрятаться. Ружье зарядил?
— Нет.
— Растяпа! — опять заругался шепотом Буслай.
Он отнял у меня один патрон, ружье и щелкнул затвором:
— Пошли?
— Пошли, — отозвался я, а у самого ноги совсем ватные, а в животе такой холод, словно там ледышка. Но я понимаю, что это не ледышка, что это — страх. Я стискиваю кулаки и дрожащей ногой нащупываю ступеньку лестницы.
Буслаю, наверное, было тоже страшно. На лестницу он ступил только тогда, когда я поравнялся с ним. Перешагивали мы на цыпочках. Но под ногами все равно поскрипывало. Как только скрипнет, так я тут же и замру, а Женька привскинет ружье, и оба стоим, трясемся.
Наконец добрались до чердачной двери. Стекла в ней хотя и слабо, но поблескивают. Я поглядел на нее и сразу ухватил Буслая за пиджак:
— Дверь-то…
— Что дверь?
— Она ПРИКРЫТА!
— Ну и что?
— Так раньше она была ОТКРЫТА.
— Когда раньше?
— Когда мы сбегали с чердака. Я хорошо помню. Я оглянулся и увидел: дверь настежь.
Я даже повел в темноте рукой, показал, как была распахнута дверь. Но Буслай помолчал, подумал и медленным, упрямым голосом прошептал:
— Все равно… мы должны… туда… войти. Все равно должны проверить.
И, вижу, он тянется стволом ружья к двери, собирается ее толкнуть.
— Не толкай, — прошу я, — открывай помаленьку.
— Нет, — отвечает Буслай. — Я открою сразу, а ты, если кто выскочит, катись кубарем вниз. Я — за тобой.
И вот он толкнул дверь, она распахнулась, ударила скобой о стенку, отскочила, покачалась на петлях и — замерла.
Из непроглядной тьмы никто не выскакивал, оттуда лишь потянуло сухим, пахнущим пылью воздухом.
Мы постояли, перевели дух и плечом к плечу полезли через порог. В темноте я задел дверь, она опять стукнула, и тут…
И тут на нас рухнуло что-то огромное, свистящее, галдящее. В лицо мне ударил вихрь, сшиб с ног, я заорал:
— Женька, стреляй!
Грохнул выстрел. Он резко высветил чердак, но я ничего не увидел. Кто-то хлестнул меня по щеке, я упал, накрыл голову рукой, а другой рукой стал шарить вокруг себя, искать Женьку. Он лежал рядом, наши руки встретились. Оглушительный ор и свист начали утихать, перешли в отрывистые странные вскрики, словно кто пронзительным, тонким голосом жаловался: «Ай! Ай! Ай!» И я вспомнил, что так вот, сначала заполошно, а потом все тише и реже галдит вспугнутая галочья стая. Таких стай у нас развелось видимо-невидимо. Днем их излюбленным местом была тополиная роща у вокзала, а на ночь галки рассовывались по всем чердакам.
— Черт! — забранился Буслай. — Теперь все. Теперь надо смазывать пятки.
А я и сам понимал: с чердака надо бежать. Выстрел наверняка поднял весь поселок. Но Буслай с перепугу обронил ружье, и в этой кромешной тьме мы не могли его разыскать.
Наконец я наступил на ружье, поднял, и только мы собрались задать стрекача, как навстречу нам блеснул свет. Он ослепил меня. В голове пронеслось: «Шпион!» — я замахнулся ружьем, чтобы треснуть врага со всех сил, но тот перехватил ружье и говорит:
— Своих не узнаешь?
Я моргаю ослепленными глазами и вижу высоко поднятый фонарь с желтым языком пламени, и, смотрю, держит фонарь не кто иной, как наш директор Валерьян Петрович. Только на нем не костюм, а нижняя рубаха с тесемками, на ногах почему-то валенки.
Стоит он без шапки, бритая голова рядом с фонарем светится, брови поднялись. Он спрашивает:
— Что за ночное побоище? В кого стреляли?
А Женька встал на цыпочки, прикрыл дрожащие губы ладонью, как ковшиком, да и говорит ему на ухо:
— Ш-шпион.
— Что-о? — еще больше рассердился директор, и, вижу, Буслая он не понял, и, чувствую, вот-вот забудет про всякие там педагогические правила, спустит нас обоих с чердака с треском. Тогда уже не шепотом, а почти криком я говорю:
— Верно, верно. Честное слово! Вы гляньте, что там за трубой.
— А что там за трубой? За которой трубой? — недоверчиво и даже с насмешкой говорит Валерьян Петрович и направляет свет фонаря в глубь чердака.
— За той… — показываю я на кирпичную с обломанной штукатуркой трубу у окна. Валерьян Петрович пожимает плечами, сгибается так, чтобы не зашибить голову, и лезет сквозь переплетения стропил. Мы тоже торопимся за ним, но все равно он добирается до таинственного закоулка раньше нас.
И только он скрылся за темной громадой трубы, как там раздался истошный вопль:
— Пусти! Я не шпион! Пусти!
Мы ринулись на голос и видим: фонарь стоит на земле, а в руках Валерьяна Петровича кто-то барахтается. Кто — разглядеть нельзя, но все-таки видно, что маленький, даже меньше меня.
Тут мы раздумывать не стали, схватили этого неизвестного за руки, держим, а он вырывается, пыхтит:
— Отстаньте! Не лезьте! — И все норовит нас царапнуть ногтями. И вдруг извернулся, выскользнул из наших рук, прижался к широкой трубе спиной и говорит:
— Взяли, да? Взяли? Втроем одного! Эх вы, разведчики!
Мы собрались опять в атаку, да Валерьян Петрович придержал:
— Постойте-ка.
Он поднял фонарь, наклонился к человечку и вдруг даже присвистнул:
— Девочка! Ребята, да это же девочка.
А мы тоже видим, что это девчонка. Глазищи у нее злые, черные-пречерные, густые космы налезли на лоб — их едва сдерживает шапка.
Только шапка эта была не шапка, а солдатская пилотка с опущенными отворотами, и башмаки на ногах девчонки тоже армейские, сорок последнего размера. Те самые кованые башмаки, отпечатки которых сбили с панталыку меня и Буслая.
Лишь пальто и чулки на девчонке были свои собственные — девчоночьи. Пальто мятое, а чулки на коленях перемазаны глиной: ну совсем как у нашей Наташки…
Я как сравнил девочку с Наташкой, как вспомнил про выстрел, так у меня и дух захватило, и весь я заледенел от ужаса: ведь убить могли! Насмерть!
А Валерьян Петрович опустил на девчонкину голову ладонь, погладил и тихо говорит:
— Исхолодалась, изголодалась, наверное. Давно тут сидишь?
— Третью ночь, — ответила девочка, шмыгнула носом, заплакала и уткнулась головой в живот Валерьяну Петровичу.
Она обхватила Валерьяна Петровича руками, а он гладит ее по голове, приговаривает:
— Ничего, ничего. Все хорошо, все ладно. Успокойся. Теперь ко мне пойдем. Печку затопим. Чайник вскипятим. Чай будем пить? Идем?
— Идем, — вздохнула девочка, утерла кулаком мокрые щеки, и мы направились к выходу.
На лестничной площадке Валерьян Петрович фонарь задул, мы стали спускаться в потемках и слышим: во дворе шум, говор. Народу там собралась целая ватага, и все тревожно переговариваются, смотрят наверх, а как услышали, что мы слезаем, так бросились к лестнице.
По голосам я узнал старика Бабашкина, его старуху; даже Пастухова хозяйка Федоровна тут; но что хуже всего — я услышал, а потом и увидел маму. «Ну, — думаю, — всыплет она мне по первое число», — и стараюсь укрыть ружье за спину. А Валерьян Петрович говорит:
— Спокойно, товарищи, спокойно. Ничего страшного не произошло. Выстрел был случайный. Просто мальчики напугались.
Я подумал: «Хорошо, что не сказал — струсили! И на том спасибо». А из толпы кричат:
— Чего напугались-то? Чего? — И все обступают нас. И не миновать бы нам объяснения, да тут старуха Бабашкина увидела девочку и спрашивает:
— Это кто?
— Это наша гостья, — говорит Валерьян Петрович.
— Го-остья? Это на чердаке-то — гостья? Говори толком, Валерьян Петрович, откуда она. — И старуха тут же посунулась к девочке: — Откуда ты, милая? Чья ты?
А Валерьян Петрович взял девочку за руку, говорит:
— Не теперь, не теперь. Дайте человеку прийти в себя.
Он повел девочку в дом, ну а мы, конечно, всей толпой повалили следом.

Глава 5
ТОНЯ
Квартира у Валерьяна Петровича меньше нашей. Комната да кухня. Дверь в комнату распахнута, и там, в глубине, светится зеленая лампа с абажуром. Лампа ярко высвечивает стол с грудой школьных тетрадей, а в зеленом полусумраке от пола до потолка тускло мерцают корешки книг. Книг столько, что со стороны кажется: в комнате нет стен, вся она построена из книг, и даже белый потолок опирается на книги.
И вот все как вошли, так сразу примолкли, сгрудились посреди кухни. Не удивились только мы с Женькой. В гостях у Валерьяна Петровича мы бывали не раз.
Когда-то, давным-давно, еще первышатами, Валерьян Петрович привел нас в эту комнату, поставил перед полками, сказал: «Выбирайте!» — а сам ушел на кухню, потому что жил один и сам себе все готовил. Целый час мы с Женькой метались от полки к полке, хватали то одну, то другую книгу, и ничего не могли выбрать. Хотелось унести все книги сразу, а если не все, то хотя бы охапку.
Наконец в мои руки попал увесистый том в изрядно потертом, но дорогом переплете. Я как увидел, что переплет потертый, так сразу сообразил: «В этой книжечке что-то есть! В этой книжечке что-то интересное напечатано!» А когда я книгу вытащил с полки и повернул к себе разрисованным переплетом, то на меня оттуда глянула такая веселая, такая плутовская физиономия в надвинутой на глаза нерусской шапке, что я и сам расплылся, хихикнул.
И вот пришел Валерьян Петрович, спрашивает:
— Выбрали?
— Выбрали, — отвечаю я и показываю эту самую книгу. Он взял ее, отставил от себя, откинул назад голову и звучно прочитал:
— «Ярослав Гашек! Похождения бравого солдата Швейка!»
Прочитал, помедлил, потом поглядел на меня, потом опять на книгу, наконец пожал плечами и сказал:
— Бери. Хорошую книгу прочитать никогда не рано.
Книга оказалась какой-то чудной. Я в ней то не понимал ни единой строки, то вдруг находил такие веселые места, что от хохота сползал со стула. Хохотал, хохотал да и дохохотался! Я задел книгой самодельную чернильницу, пузырек опрокинулся, и фиолетовый поток хлынул на белые страницы. Он затопил не только середину книги, он безобразно испортил светлый переплет.
Это было так ужасно, что сначала я окаменел. А потом схватил резинку и давай тереть. Тер, тер, но чернила только размазались, вид у книги стал еще страшнее. Я бережно завернул ее в газету и поплелся к Валерьяну Петровичу. «Ну, — думаю, — все! Не видать мне больше ни одной книжечки…»
А Валерьян Петрович как развернул газету, так сразу лицо его стало длинным, глаза огромными, и он произнес всего лишь навсего: «М-м-да!»
А я и одного слова сказать не мог. А я и смотреть на Валерьяна Петровича не мог, до того мне горестно. Стою, молчу, и Валерьян Петрович молчит.
Потом он вздохнул, покачал головой, опять произнес: «М-да!» — и поставил книгу на полку.
Я тоже вздохнул и поплелся к двери. Но только подошел к ней, как слышу:
— Ты куда?
— Домой, — отвечаю.
— Знаю, что домой, — говорит Валерьян Петрович. — А почему без книги? Иди, выбирай новую.
И опять я выбирал книги, какие хотел. Да мало того что выбирал, а порой Валерьяну Петровичу некогда, он задержится в школе, так забежишь к нему прямо в кабинет, скажешь: «Валерьян Петрович! Мне бы книжку сменить». И он тут же открывает письменный стол, вынимает из ящика ключ, говорит: «На! Меняй. Только ключ обратно занеси».
Ключ старинный, кованый, с медной пайкой на дужке; он так длинен, что торчит в обе стороны из моего кулака, и я его держу крепко. Я не прячу его в карман и тогда, когда бегу от школы к дому директора, и тогда, когда роюсь там в книгах, и когда несусь с книгой обратно. Этот ключ дороже для меня всего на свете! А может, и не сам ключ дорог, а что-то другое, чего я объяснить не могу…
Стою я на директорской кухне, припоминаю историю со Швейком, а все тоже стоят посреди кухни и тоже заглядывают в книжную комнату. Валерьян Петрович забежал туда, схватил венский стул, поставил его рядом с кухонным столом и говорит девочке:
— Садись!
Для нас для всех он вынес еще пару стульев, смущенно развел руками — больше, мол, нет! — но мы садиться не стали. Мы стали глядеть, что будет дальше.
А дальше Валерьян Петрович открыл дверцу стола и начал выкладывать припасы. Он вынул тонкий ломоть хлеба, початую бутылку молока, белую чайную чашку и принялся в глубине стола выискивать еще что-то, да ничего больше не нашел.
Тогда он загромыхал чайником, подставил его под струю знаменитого крана и на широком шестке печки, которая занимала половину кухни, стал накачивать примус. В кухне запахло керосином, копотью, примус загудел.
Мы молча смотрели, как Валерьян Петрович возится с примусом, и лишь юркая, с блестящими, как у мышки, глазами Федоровна подошла, потрогала запотелый от холодной воды кран, сказала:
— Господи, какая благодать!
Все улыбнулись, и тут, глядим, девочка постояла, постояла и, как была, прямо в пальто, прямо в солдатской шапке, села за стол, Валерьян Петрович быстро перелил молоко из бутылки в чашку, подвинул девочке, и она обеими ладонями охватила чашку, поднесла к губам.
Глотала она торопливо. Держала белую чашку в темных ладонях крепко, словно боялась, как бы кто не отобрал. Когда чашка опустела, девочка смахнула рукавом с губ молочные усы, схватила хлеб, стиснула в кулаке и пальцами другой руки принялась отщипывать кусочки, быстро совать в рот. Пальцы у нее были грязные, но я подумал: «До мытья ли тут…»
А женщины — Федоровна, мама — пригорюнились, глядя на девочку, старуха Бабашкина отвернулась и начала утирать глаза концами своего черного толстого платка.
Когда девочка хлеб съела и, сложив на столе руки, опустила на них голову, старуха подошла, спросила:
— Как хоть тебя зовут-то? Скажи, дитятко.
Девочка, не подымая головы, обернулась лицом к старухе, разлепила губы:
— Тоня.
— Откуда ты, Тонюшка? Говори, не бойся. Говори.
— Из эшелона… — отозвалась девочка.
Старуха удивленно повела глазами в нашу сторону, будто это не девочка, а мы озадачили ее непонятным ответом.
— Как же с эшелона, когда тебя нашли на чердаке?
А девочка, все так же припав щекой к столу, говорит:
— Я вам, бабушка, правду сказала. Из эшелона я, из ленинградского.
— Отстала, выходит?
Девочка пожала плечами, ничего на этот вопрос не ответила. А дотошная старуха все выпытывает:
— Папа-то с мамой у тебя где? В эшелоне, что ли, остались?
— Нет, они остались в Ленинграде. Папа в ополчении, а мама в госпитале. Как только папа ушел на фронт, так мама сразу поступила в госпиталь санитаркой, а меня с детским эшелоном отправила в тыл.
— Одну-то? — всплеснула руками Федоровна. — Одну-то? Господи владыко, да как у нее, у твоей мамы, сердце не лопнуло? Да разве так можно?
Девочку словно кто подтолкнул. Она вскочила, стукнула кулаком по столу, закричала:
— Можно, можно, можно! Вы ничего не знаете, вы ничего не видели, не смейте так говорить про мою маму! Она лучше всех! Она смелая. Она Ленинград защищает, а вы…
Девочка заплакала, уткнулась лицом в ладони, а Федоровна испуганно замахала:
— Что ты, что ты? Господь с тобой. Я ведь так. Я ведь жалеючи.
Евстолия широким движением руки отодвинула Федоровну от стола, пробасила:
— Ну ты и бестолочь, Федоровна! Уж коли так, то стой и молчи.
Она взяла девочку за плечи, тихонько усадила на стул.
— Не слушай ее, дитятко. Она у нас всю жизнь такая: не в строку лыко. Сказывай, к нам-то как попала.
Наша мама тоже сердито посмотрела на Федоровну, а Валерьян Петрович стал утешать девочку. Говорил он совсем не так, как Евстолия, безо всяких там «дитятко», «Тонюшка», «милая», и по головке больше не наглаживал.
— Успокойся, Тоня. У нас тут, понятно, не фронт, не Ленинград, но мы понимаем, какая у тебя отважная мама. Это ясно каждому и, конечно, Анне Федоровне. Она просто поторопилась.
Федоровна, услышав, как ее навеличивают по имени-отчеству, поджала тонкие губы, победно глянула на Бабашкину: «Вот, мол, тебе! Слушай, как ученый-то человек меня называет». А Тоня опять было всхлипнула, да Валерьян Петрович успокоил ее, и вот потихоньку да помаленьку мы узнали, как девочка попала к нам.
Таинственного тут ничего не было. Просто-напросто Тоня в пути решила сбежать. Она думала, что как-нибудь сумеет вернуться в родной город, что найдет там госпиталь своей мамы и тоже поступит в него санитаркой.
— Думаете, не взяли бы? — хмуро из-под густых бровей глянула Тоня. — Конечно, взяли бы! Ведь я же ленинградка, в пионерском лагере в санитарном звене была.
«Молодец, — подумал я про Тоню. — Я на ее месте тоже бы сбежал. Только убегал бы я поумнее».
Тоня, по-моему, все сделала не так, как надо.
Во-первых, к побегу она не подготовилась, а как была ночью в одних легоньких туфлях и даже без платка, так прямо из вагона и выскочила под дождь, под ветер. И это в нашу-то непролазную грязь, это в самый канун зимы! Нет, пускай Тоня говорит, что на ее чемодане прикорнула начальница, я бы все равно чемодан из-под начальницы выхватил, и пока бы она спросонья поняла, в чем дело, — меня уж и след простыл!
А во-вторых, Тоня и дальше поступала бестолково. Уехать от нас можно лишь на санитарных поездах или на воинских эшелонах; и вот, как только эшелон остановится, Тоня бегает вдоль теплушек, вся измокшая, простоволосая, и просится к бойцам. Те спрашивают: «Куда тебе надо?» А она, простофиля, отвечает: «В Ленинград!» Но ведь Ленинград — это фронт, а кто возьмет на фронт девчонку? Никто! Не положено.
А вот если бы Тоня говорила, что ей надо всего лишь до следующей остановки — у меня, мол, там бабушка живет, — то бойцы Тоню, может быть, и подвезли бы. А на другой остановке опять про бабушку-старушку рассказать можно. Глядишь, так бы с поезда на поезд и пересаживалась, так бы до самого места и доехала.
Эта ценная мысль мне так понравилась, что я взял да и высказался вслух.
— Вот, — говорю, — как надо делать-то! А не так, как ты, наобум лазаря.
Женька тоже кивает головой.
— Конечно, — говорит, — конечно! Таким манером хоть куда доедешь.
Но только я высказался, как — трах! — мама отвесила мне подзатыльник: не учи людей чему не надо. Не лезь, куда не просят.
А Валерьян Петрович говорит:
— Учи, не учи, — дело теперь не в этом. В Ленинград теперь вообще не попасть. Он в кольце, в блокаде.
— Я знаю, — вздохнула Тоня. — Теперь знаю. Мне об этом солдат с эшелона сказал. Дядя Хаким.
— Не Хаким. Аким, наверное, — строгим басом поправила Евстолия.
— Нет, Хаким.
— Нерусский, что ли?
Тоня кивнула головой, а старуха осторожно потрогала ее напяленную колпаком пилотку, спросила:
— Шапкой-то экой несуразной уж не он ли тебя одарил?
— Почему несуразной? Велика она мне, вот и все. Так ведь дядя Хаким вон какой огромный! Из теплушки на землю прямо без лесенки вышагнул.
— Ну да! — не поверил Женька, который считал, что выше его отца никого и на свете нет.
— А вот и вышагнул, — настояла Тоня. — А усищи у него, знаете, какие? Вот такие, — приставила Тоня пальцы обеих рук к своему чумазому лицу. — Он говорит, а они шевелятся!
— Матушки, страх какой, — перекрестилась Федоровна. — Поди, отругал тебя?
— Нет, не ругал. Он добрый. Он отдал мне почти все, что у него в мешке было. Вот эти башмаки, подобувки да банку тушеного мяса. А еще он мне свой адрес дал.
Все сразу загомонили:
— Адрес-то зачем? Ведь солдат не домой, на войну поехал.
— Ну и что. Дома у него семья осталась. Он говорит: «Поезжай лучше не в Ленинград, поезжай в Казань, передашь от меня салям, в моей семье дочкой будешь». И вот прямо у вагона, под дождем, адрес написал.
Тоня потрогала карман пальто, как бы подтверждая, что адрес тут, в сохранном месте, а в это время Анна Федоровна опять не вытерпела, опять сказанула:
— Ну и ну! Гли-ко, что деется: нехристь, а русское дитя пожалел.
И только она так сказала, как все, даже Валерьян Петрович, нахмурились. А моя мама говорит:
— Дались тебе, Федоровна, христи да нехристи. При чем тут это? Вон, слышь, у немцев даже на пряжках написано: «С нами бог!» — а что они вытворяют? А Минька, жилец твой бывший? Ведь он тоже веровал, он тоже на пару с тобой господу свечки ставил, а что толку? Кем теперь Минька стал? Предателем, дезертиром! Так это он, что ли, дитя пожалеет, а?
— Что жилец? Что Минька? — взвилась Федоровна. — Минька сам по себе, я сама по себе. Я за Минькины грехи не ответчица.
— Вот, вот, — поддакнула старуха Бабашкина. — У вас, у богомольцев, завсегда так. Как молиться, так стадом; как до дела, так врозь. Моя изба с краю, я ничего не знаю.
— Типун тебе, тетка Евстолия, на язык! — сказала Федоровна. — Ну почто ты меня не любишь? Почто встаешь поперек каждого моего слова? Вот если Катерина шумит, так ясно, отчего. У нее мужик на войне, на руках трое. А ты? Ребятишков тебе бог не дал, заботиться, выходит, не о ком, да и старик твой дома. Сидишь ты за ним как у Христа за пазухой.
Анна Федоровна ткнула вгорячах рукой в сторону деда Николая, я глянул на него, на тетку Евстолию и чуть не засмеялся. Малорослый, сморщенный печник был своей старухе едва ли не по пояс, и поместиться у него за пазухой тетка Евстолия никак не могла.
Я усмехнулся, прикрыл рот ладонью, да все равно Анна Федоровна заметила:
— Нечего сказать, хорошенькое дельце! Ведь это он, лешак, надо мной надсмеивается. Сначала, значит, меня тут осрамили по-всякому, а теперь надсмешки строят. Нет, Валерьян Петрович, не про вас будь сказано, вы-то умный человек, а только здесь я не компания. Пошла я!
Она решительно растолкала всех и хлопнула дверью. В это время закипел позабытый чайник, крышка забренчала, кипяток плеснул на огонь, примус фыркнул, зашипел. Валерьян Петрович схватился за ручку чайника, обжег пальцы. Он помахал ими, подул на них и сердито сказал мне:
— Вышло не очень красиво. Нехорошо вышло. Над чем тут было смеяться?
Веселье у меня сразу пропало, я говорю:
— Да ведь не над ней же… Я просто так. Нечаянно.
— Нечаянно? Все у тебя нечаянно, — совсем рассердилась мама и, вижу, опять прицеливается к моему затылку.
Но тут вступилась тетка Евстолия!
— Отвяжитесь от парня. Сами все с ума посходили, сами все запутали. Вот ведь о ком разговор-то идет, вот ведь, — указала она обеими руками на Тоню.
А Тоня, глядя на нашу бестолковую компанию, тоже чуть-чуть усмехнулась, потом опять насупилась:
— Что про меня говорить, я все рассказала.
— Как все? — удивился Женька. — А на чердаке зачем пряталась?
— Где же мне прятаться? На улице тьма, холод. А в Казань так вот сразу тоже не уедешь.
— Неужто и в самом деле в Казань собралась? — воскликнула старуха.
— Куда же мне теперь?
— Лучше бы в детский дом, — нерешительно подсказала мама.
— Где он, детский дом? — сказал Женька. — У нас его нет.
— Есть, — медленно и почти грустно проговорил Валерьян Петрович. — Детский дом есть в районе. Пойдешь туда, Тоня?
Тоня пожала плечами, задумалась. А Валерьян Петрович снял с примуса чайник, принялся выставлять на стол чашки, блюдца и, не дожидаясь Тониного ответа, вдруг заговорил бодрым голосом:
— Вот и славно! Поживешь у меня денек-два, а там я выберу время, найду лошадь, и мы махнем с тобой на новоселье. А теперь давайте все вместе пить чай. На стулья доску положим. У меня доска есть.
Говорит он так и даже вроде бы чуточку посмеивается, но я-то вижу, глаза у него не очень веселые и от девочки он все время отворачивается.
«Жаль ему Тоню. В детский дом отправлять жаль», — догадался я.
А Тоня все смотрит на Валерьяна Петровича, все следит за ним. Куда он направится, туда и она голову повернет. И вот, как только он подвинул к ней чашку с чаем, Тоня этак тихонько дотронулась до его руки:
— А можно я с вами останусь? Можно? Я буду помогать. Я все вам буду делать. Я дома и полы мыла… и белье… и на кухне. Можно, а?
Валерьян Петрович даже головой в сторону повел, словно ему стало больно. Он осторожно высвободил руку, подвинул к себе свободный стул и сел напротив Тони.
— Слушай, — сказал он и медленно положил свою толстую ладонь на Тонино плечо. — Слушай! Не могу я… Честное слово, не могу. Хотел бы, но не могу… Невозможно мне это сделать.
— Почему? — прошептала Тоня.
— Я, девочка, тоже на фронт ухожу. Когда, не знаю, но — ухожу. В райкоме заявление мое лежит.
— Заявление? Да ты что? — громко и удивленно вдруг заговорил совсем было примолкший печник. — Да ты же из возраста вышел! Твой год не берут.
— Добровольцем возьмут. Не станут брать — добьюсь, — спокойно ответил Валерьян Петрович.
— А школа? А ребят учить?
— Поучат пока другие. Те, кто и в самом деле не могут воевать.
— Ишь ты! Они, значит, не могут, а ты сможешь. Ты у нас вояка, без малого Суворов… — горько усмехнулся Бабашкин.
— Что же, что не Суворов? Если надо, смогу, — все так же спокойно сказал Валерьян Петрович. А я представил себе, как он, толстый, лысый, с одышкой, будет выглядеть в солдатской пилотке, в зеленой стеганке с ремнем. Мне стало грустно.
Сразу увиделось и другое: школа без нашего директора. Вернее, я попытался представить это, да не смог. Ну не смог — и все! Ведь всю свою жизнь я знал: если школа, то это значит и Валерьян Петрович. Если Валерьян Петрович, то это значит и школа. Одно без другого никогда не существовало и существовать не может, по крайней мере для меня…
Я так задумался, что перестал слушать, о чем говорят дальше; только вижу, старики Бабашкины делают друг другу какие-то знаки, перемигиваются и все поглядывают на Тоню. Потом тетка Евстолия наклонилась к печнику и давай что-то нашептывать ему на ухо. Она шепчет, а печник слушает, потряхивает головой. Видно, что со старухой он в чем-то согласен.
И вот она выпрямилась и велит старику:
— Сказывай. Не тяни, сказывай!
Старик еще раз кивнул, расправил ершистые усы, переложил шапку из одной руки в другую и говорит:
— Петрович, послушай-ка… Вот мы со старухой пошептались и надумали: не взять ли нам Тонюшку-то к себе? Ну что ей, в самом деле, в приют идти? У нас ей будет не хуже. Сам знаешь, нам не впервой.
Печник прижал шапку к груди, заглянул директору в лицо и, не дожидаясь ответа, обернулся к девочке:
— Пойдешь, Тоня, к нам?
Тоня вспыхнула, потупилась:
— Не знаю…
А Валерьян Петрович подумал и говорит:
— Соглашайся, Тоня. Это добрые люди. С ними и вправду не пропадешь. — Потом улыбнулся и добавил: — У них будет тебе не хуже, чем в самой Казани. А ко мне, пока я здесь, будешь приходить в гости. Хорошо?
Тоня тихо опустила и подняла голову: хорошо, мол, что же мне другое-то остается делать? По всему ее виду было понятно, что ей больше хочется остаться у Валерьяна Петровича.
Но тут уж командовать принялась тетка Евстолия. Тоне она обрадованно сказала:
— Вот и ладно, милая. Вот и ладно! — А нам всем, будто хозяйка, отдала приказ: — Не пора ли, гости добрые, по домам?
Она застегнула Тоне, как маленькой, пуговицы на пальто, взяла ее за руку, повела к двери. Валерьян Петрович спохватился, крикнул:
— Подождите! А чай-то?
Но старуха махнула рукой, мы поневоле пошли за ней следом. Так директорского чая никто и не попробовал.
Глава 6
ОСЕННИЕ КОСТРЫ
На другой день утром мы не работали. Печник ушел вместе с директором по начальству выхлопатывать для Тони документы и нас с Женькой отпустил по домам.
Но и дома у меня были дела. Мы все еще не выкопали картошку, а время наступало такое, что вот-вот полетят белые мухи. Мама тоже сегодня работала не в день, а в ночь, утро у нее было свободное. Мы собрали Наташку в школу — у нее-то занятия не отменялись, — а Шурку взяли с собой и отправились в огород.
Про вчерашний выстрел мама даже и не вспомнила. Только когда брала из чулана корзину, глянула на ружье, разыскала на полке замок и чулан заперла, У нас мама всегда так: ежели что натворишь, выдаст тебе сгоряча, а дальше — все! Дальше сам помни. Мама сто раз напоминать не будет.
На картошку мы каждую осень брали спички. И хотя огород наш был рядом с домом, мы все равно затевали костер. На костре жгли сухую ботву, а главное, пекли картошку. Это веселое правило завел отец, и огонь разводил он всегда сам. Нынче я тоже решил зажечь огонь, только не спичками. Спички стали выдавать в магазине по норме, и мы старались их попусту не палить.
Я набрал совком из горячей печи жарких углей и вынес их в борозду подальше от дома. Шурка насобирал щепок, и костер у нас быстро разгорелся. Сверху мы навалили вялой ботвы. Сначала от нее повалил душный дым, но ботва на огне высохла, занялась пламенем и вскоре осыпалась в костер легким пеплом. Когда сизого, с быстрыми искрами пепла накопился слой, я выдернул из влажной земли картофельный куст, выбрал несколько небольших, гладких и розовых, как махонькие поросята, клубней и зарыл в пепел. Большие картофелины сажать в костер не годится: сверху они обгорят, а сердцевина останется сырой и будет горькой.
Шурка подкладывал щепки в костер, а мы с мамой принялись за работу. Сначала я взялся за лопату, а мама пошла с корзиной по раскопанной, пахнущей осенней свежестью борозде. Она собирала картошку, но вдруг охнула, с трудом выпрямилась и говорит:
— Не могу я, Леня, в наклон. Спина разламывается. Видно, надсадилась вчера, когда меняли рельс.
— Какой рельс?
— Какой, какой! Знамо, не костяной — железный. Будто сам не понимаешь, какой. Вчера на стрелке мы старый рельс выкинули, поставили новый. А движение теперь на дороге тоже известно какое. Эшелон за эшелоном жмет впритык, времени на ремонт — в обрез.
Бегом хватай, бегом неси, без оглядки укладывай! А в рельсине десятки пудов… А работников не лишек, да и всё женщины. Рельсину-то новую мы стали, сынок, на бровку поднимать, а она у нас нечурахом обратно вниз пошла. Ну, я и поддержала, да, видать, через силу. Так ведь тому, кто внизу был, могло ноги отдавить, а то и похуже.
— Может, ничего? Может, пройдет?
— Может, и пройдет. Ты дай мне лопату, не в наклон мне лучше.
Мы поменялись местами. Теперь собирать картошку стал я. А как наберу полную корзину, так несу поближе к Шуркиному костру, высыпаю на землю. Пускай картошка пообветреет, пообсохнет.
За работой наш с мамой разговор я постепенно забыл. Да и денек нынче устоялся очень славный, спокойный. Только в московской стороне, там, где война, все погремливало да погремливало.
Темные тучи за ночь ушли на север. Небо, хотя и без солнца, в беловатой пелене, стало высоким, легким. По всем дворам, радуясь погоде, кричали петухи. Далеко-далеко, где-то за краем осенних полей, заливисто и трубно лаял гончий пес. Наверное, поднял с лежбища и гнал зайца. Наверное, его хозяин-охотник на войне, и пес мчит по кругу, по полям, по звонким березовым перелескам теперь в одиночку.
Почти со всех огородов поднимались невесомые столбики дыма. Там тоже взрослые копали, а малыши пекли картошку. С уборкой припоздали нынче не только мы.
Работалось хорошо, споро, да и некопаных рядков оставалось не так много. Мама все чаще поглядывала на них:
— Кабы знато было, посадили бы больше. В поле посадили бы, целины прикопали бы. На тот год прикопаем обязательно.
— Неужто, мама, и на тот год не кончится война?
— Кто знает, сынок. Похоже, не кончится. Немец-то все прет и прет, и нет ему укороту.
— Укорот будет. Сама говоришь, день и ночь идут эшелоны к фронту. А ведь это всё бойцы, пушки, танки. Остановят они фашиста. Еще как остановят!
— Когда остановят-то? Не пришлось бы нам до той поры самим складывать чемоданы.
И тут я впервые в жизни заорал на маму. Так заорал, что сам чуть не оглох от собственного крика:
— Когда, когда! Когда надо, тогда и остановят! Нас не спросят. Ты что, маленькая? Ты что, не понимаешь? Может, их специально заманивают! Может, им кутузовскую ловушку готовят. А потом ка-ак врежут! Ка-ак врежут! — И я пнул землю, и еще раз пнул, показывая, как врежут фашистам.
Шурка увидал это и давай тоже пинать комья, и тоже закричал тоненьким голоском: «Ка-ак врежут, ка-ак врежут!» А мама стоит, лицо у нее растерянное, не понимает: чего это я так разошелся?
Я и сам взглянул на нее, на Шурку и подумал: «Чего это я ору? Она-то при чем?» И мне стало до того неловко, хоть провались.
— Ладно, — говорю, — это я так. А картошки весной посадим столько, что хватит на весь будущий год. Я сам вскопаю новый участок, а устану — позову Шурку, Будешь помогать, Щурка? — понарошку обращаюсь я к малышу.
— Буду! Я как начну копать, как начну — шибче трактора, — отвечает с готовностью Шурка и солидно дважды утирает черноватым кулаком подтаявший у костра нос. Под носом, почти от уха до уха, сразу появляются блестящие, словно сапожным кремом наведенные, усы.
— Ну, ну… помощничек. Иди-ко сюда, пахарь, — говорит мама и чистой изнанкой фартука легонько захватывает Шуркин нос:
— Выколачивай копилку-то!
Шурка надувается, с великим шумом и старанием исполняет приказ. Мама переменяет конец фартука, стирает с круглых щек братишки лакированные усы. Глаза у мамы добрые. Я вижу: она не сердится, но все равно мне хочется сделать для нее что-нибудь хорошее. Сделать немедленно, сейчас же.
Я бегу к костру, разгребаю угли, вытаскиваю одну картофелину. Она очень горячая, жжется, но подгорела только чуть-чуть, с одного бока. Вся кожица на ней румяная, слегка припудренная золой. Я перекидываю картофелину с ладошки на ладошку, сдуваю золу, бегу к маме.
— Попробуй! Наверное, испеклась.
Мама берет картофелину, дует на нее и разламывает пополам. Осторожно, только кончиками белых зубов надкусывает горячую мякоть, вбирает в себя воздух, зажмуривается, говорит:
— Вкусно-то как! По-моему, готова.
— Ура! — кричит Шурка и начинает разгребать золу.
Я тоже копошусь у костра, и вдруг кто-то совсем рядом говорит:
— Доброе утро!
Я оглядываюсь и вижу: стоит у самого нашего картофельника Тоня. Стоит, держится одной рукой за изгородь, другой помахивает нам. И если бы не короткое коричневое пальто, которое мне запомнилось, я бы Тоню сразу и не узнал. Ее словно кто подменил со вчерашнего вечера. Щеки разрумянились, черные глазищи смеются, а волосы у нее, как у цыганенка, так и рассыпаются крупными веселыми кольцами из-под шапки.
Шапка на Тоне серая, беличья. Эту шапку я видел на печнике по зимним праздникам. Видимо, не пожалел старик для Тони своей лучшей шапки, не пожалел он для нее и праздничной обуви. Взамен солдатских мокроступов на Тоне теперь хромовые сапоги, да и затертое пальто сильно посвежело. Должно быть, отчищала да отпаривала его тетка Евстолия всю ночь, и вот стоит теперь Тоня перед нами такая, будто на нее плеснули ясным солнышком, и говорит нам: «Доброе утро!»
Я растерялся. Я и раньше-то не очень умел разговаривать с девчонками, а тут смешался вконец. Очень уж красивой и даже необыкновенной показалась мне Тоня. Она и поздоровалась совсем не так, как принято в наших краях. У нас говорят: «Здрасьте!» да «Здорово бывали!», а Тоня звонко и раскатисто приветствует нас: «Доброе утро!». Приветствует, машет нам, а я сижу на корточках над рассыпанной картошкой и молчу, как дурачок. А мама говорит:
— Иди, Тоня, сюда. Калитка вон в том углу.
— Я напрямик! — отвечает Тоня, опирается рукой на прясло и по-мальчишечьи, в один прием перемахивает изгородь.
— Ух ты! — одобряет Шурка, а мама отступает от Тони, с удовольствием оглядывает ее:
— Смотри-ка! До чего нарядная. Прямо невеста. А сапоги-то, сапоги — ну как на заказ!
Тоня тоже смотрит на сапоги, радостно объясняет:
— Это дедушка Николай перешил свои старые. За одну ночь! Я просыпаюсь утром, смотрю, рядом с кроватью стоят сапоги, а бабушка Таля говорит: «Вставай, меряй!» И подает мне шерстяные носки. Теплые, мягкие — словно сейчас на меня связаны.
— Кто-кто подает? Кто сапоги шил? — весело переспрашивает мама.
— Дедушка Николай. Бабушка Таля.
— Правильно, девочка! Так вот их всегда и зови. Старики они очень хорошие. И Николай хороший, и Евстолия добрая. Евстолия, правда, бывает и резковата, но это лишь с маху, на минуту, а так она душевная. И ребят она любит. Что у нее послаще да повкусней заведется, все соседским ребятишкам раздаст. А как лето настанет, так соберет всю мелкоту со станции — и в лес. Если ягоды какие поспеют, так по ягоды; если грибы — так по грибы. Другие-то старухи все стороной, все в одиночку бегают по лесу, а эта — нет. Эта всегда — целым полком! И ведь слушают ее ребятишки. Не ревут, не озорничают, а, как выводок за тетеркой, так и шныряют, так и шныряют по перелескам. А к вечеру, глядишь, несут кто грибов, кто малины. Нет, что уж тут говорить, хорошая она старуха.
— А я тоже ходил и целых две кружки малины принес. Со стогом, — похвастался Шурка.
— Верно! — засмеялась мама. — Одну кружку — в кружке, другую в подоле. Пузо на рубахе до сих пор малиновое, не отстирать. Ну, ягод теперь нет. Осень. Теперь только картошкой можем угостить. Что сидишь, молчишь? Угощай, — сказала мне мама и шутливо добавила: — Теперь Тоня, считай, родня тебе. Найденичка твоя, ты и угощай.
Тут я стал прямо голой рукой выхватывать из костра картошку. «Пусть, — думаю, — считают, что это я от жары такой красный». А Тоня подсела ко мне, складывает горячую картошку горкой, говорит:
— Какая поджаристая, душистая. К ней бы соли немного.
— Сейчас! — вскакиваю я и лечу к дому.
На крыльцо я вбежал одним духом, дверь отпахнул одним махом, схватил на кухне корчагу с солью, кинулся назад к порогу, да тут опомнился: что это я всю корчагу тащу? Ума-разума лишился?
Я посовался с корчагой по кухне, заглянул в комнату, увидел на этажерке свою единственную чистую тетрадь и, нисколько не раздумывая, выпластал из нее всю середину. Потом отсыпал чуть не горсть соли, взял бумагу за углы, осторожно понес в огород.
Там все пристроились у костра, ждали меня. Я опустил бумагу с солью к ногам Тони.
— Куда столько? — удивилась мама.
— Ничего, ешьте!
Пир у нас получился знатный. Тоня, как только разломила да отведала первую картофелину, так сразу сказала:
— В жизни не едала такой вкусной. Нынче в пионерском лагере мы тоже пекли, но у нас получилось хуже. Почти вся подгорела, угли так и хрустели на зубах.
Застенчивость с меня как ветром сдуло. Я сразу принялся рассказывать, в чем тут секрет, и так разговорился, что не остановить. Мама сидела рядом, слушала, как я разливаюсь перед Тоней соловьем, одобрительно кивала:
— Вот и разговор наладился. В школу, наверное, вместе пойдете, в один класс. Ты, Ленька, дружись там с Тоней. Заступайся за нее.
— Заступаться? Перед кем? — удивилась Тоня и даже забыла поднять от соли картошку.
— Мало ли перед кем. У них в классе вон какие отлёты есть.
— Ну-у… — засмеялась Тоня. — С этими я сама справлюсь. Думаете, у нас в Ленинграде «отлётов» нет? Есть! Да только мне редко попадало. Я сама любому наподдаю.
— И то верно, — усмехается мама. — Через ограду давеча вон как сиганула.
А мне тоже весело. Мне тоже хорошо. Мне так хорошо, что сидел бы и сидел у нашего костра хоть до ночи, и все слушал бы этот шутливый разговор, и все поглядывал бы исподтишка на Тоню.
Простофиля я, простофиля! Ну как это не догадался вчера опередить тетку Евстолию и не подсказал маме, чтобы она взяла Тоню к нам? Ведь мама бы согласилась. Ведь она тоже добрая. А прожить — прожили бы! Живем вчетвером, прожили бы и впятером… Правда, таких ладных сапог у нас для Тони нет, но я бы отдал свои, их и перешивать не надо, а вот шапку… Эх, какую бы шапку я подарил Тоне!
Я сразу припомнил белоснежных горностаев, на миг увидел Тоню в горностаевой шапке, даже в горностаевом воротнике, и сердце у меня совсем зашлось.
«Это ничего, — подумал я, — что шапка и воротник бегают пока что по лесу. Придет зима, я надену лыжи и горностаев добуду». Но тут вспомнилось, что горностаев-то отец хотел добыть для мамы, и я призадумался. А потом сказал себе: «Не беда! Мама сердиться не станет. Немного погодя я и для нее настреляй хоть целый ворох!»
Глава 7
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Наконец-то Валерьян Петрович объявил о начале занятий.
А накануне утром я проснулся, открыл глаза, я вдруг наша всегда темноватая спальня показалась мне просторней и выше. Ее словно кто за ночь вымыл и выбелил, как перед большим праздником.
Я осторожно, так, чтобы не задеть спящего Шурку, соскользнул с кровати на прохладный пол, подошел к окну, сдвинул занавеску, и в лицо мне хлынул голубой тихий свет. Он заполнил весь наш тополиный переулок, он пал белым пухом на покатые кровли поселка, окутал, наверное, весь наш район, а может, и весь мир. Иначе как бы держалась такая хрупкая, светлая тишина?
Снег выпал, должно быть, час или два назад. На белой тропе под белыми тополями не было видно ни следа. Только там, где тропа подходила к дому, под самым окном, четко виднелись крестики — отпечатки вороньих лап. Сквозь прозрачное стекло было заметно и то место, где ворона взлетела. Ее маховые перья оставили росчерк на снежном пуху.
И мне очень захотелось выскочить из дому, набрать холодного снега в теплую горсть, а потом смотреть, как медленно он подтаивает на ладони, становится прозрачной водой, а еще мне захотелось вдохнуть его запах.
Это лишь считается, что чистый снег не имеет запаха. Вернее, не считается, а так говорит печник Бабашкин. Но печник — завзятый табакур, нос его, кроме махорки, ничего не чует, а я вот знаю: снег пахнет. И пахнет он в разное время по-разному.
Первый предзимний снег для меня пахнет всегда расколотым арбузом. Не разрезанным, а расколотым.
Колючий декабрьский снег, когда его начинают стряхивать в прихожей с пальто и шапки, пахнет праздничной новогодней елкой.
А мартовский снег пахнет березовым соком, это уж точно!
Я отвернулся от светлого окна, оглядел спальню. В ней у нас две кровати: одна — наша с Шуркой, другая — мамина с Наташкой. Мамы сегодня нет, она на дежурстве, и Наташке раздолье. Сестренка разлеглась почти поперек постели, голова и спина под лоскутным одеялом, розовые пятки торчат наружу.
Шурка устроился еще лучше. Коленки и руки — под себя, попка в синих трусах — кверху, голова правым ухом в подушку. Таким вот манером, полусидя, полулежа, он спит всю ночь и причмокивает от удовольствия губами.
Я пощекотал Наташкину пятку, легонько пошлепал Щурку, сказал:
— Вставайте, сони! Зиму проспите.
Шурка выпрямил ноги, лег на бок и ясным голосом, будто и не спал, спросил:
— Как медведи, да?
— Как медвежата.
А Наташка дрыгнула ногой, захныкала:
— Отстань! Я спать хочу.
А я опять ее тормошу:
— Вставай, вставай! Посмотри, что на улице-то!
Наташка смахнула с головы одеяло, села, глянула в окно:
— Ой, мамоньки! Снегу навалило. Зима пришла. Пойдем, посмотрим?
— Пойдем! Заодно дров наколем, печку затопим, супу сварим. Мама вернется, а у нас все готово.
Малыши, толкаясь и хохоча, кинулись в угол к рукомойнику, быстренько позвякали его железным соском, в один миг оделись и уже кричат:
— Айда, Леня! Да скорей же!
На крыльце снег показался еще белее. Он был такой яркий, что у меня сами собой прижмурились глаза. Холодный воздух приятно щекотал в носу, после тесной спальни было не надышаться.
Я сделал вдох-выдох, побежал к поленнице, потянул на себя сосновый чурбан. С чурбана хлынула снеговая охапка, прохладные комья попали мне за воротник. Я поежился, поставил чурбан торчком, вынул из-за поленницы тяжелый колун, размахнулся, ударил. Звонкий удар так и раскатился по всей станции эхом. Чурбан крякнул, распался надвое.
Шурка с Наташкой, печатая на снегу следы, бегали вдоль изгороди. На всех кольях держались пушистые снеговые береты, малыши стукали по кольям — береты рассыпались, исчезали. Ребята радовались:
— Шапка-невидимка! Шапка-невидимка!
А я принялся колоть второй или третий чурбан, и вдруг вижу: бежит по тропе наша станционная медичка Манечка.
Одета Манечка наспех. Пальто накинуто на халат и не застегнуто, шаль не завязана. За концы шали она держится руками и бежит прямо к нам. «Что это? — думаю. — Мы ведь ее не вызывали». А Манечка увидела нас и пошла шагом. Но все равно никуда не сворачивает, идет ко мне. И вот подходит и тихо говорит:
— Леня, тебя зовет мама.
А у самой дрожат губы и какое-то странное лицо.
Тут, чувствую, и у меня похолодели губы:
— Почему зовет? Куда?
— К нам в амбулаторию. Да ты не пугайся. Просто заболела твоя мама, и ей надо полежать. Ребятам пока не говори, не расстраивай их, — кивает медичка в сторону малышей.
А те уже тут как тут, смотрят во все глаза, спрашивают:
— Леня, ты что? Ты куда, Леня?
Ну, а я лишь бормочу что-то невнятное, чуть не силой заталкиваю их в дом и, не разбирая дороги, не оглядываясь на Манечку, бегу, бегу в амбулаторию.
И теперь первый снег для меня уже не белый, не пушистый, а какой-то весь ноздреватый, серый и пахнет паровозной гарью. И думается мне страшное: Манечка говорит не всю правду, с мамой случилось несчастье, работа на стрелке у поездов — очень опасная.
Я не помню, как влетел в амбулаторию. Я очнулся лишь тогда, когда увидел в распахнутой двери кабинета сутулую, склоненную фигуру фельдшера; очнулся и вижу: на полу, на носилках, лежит мама. Она лежит ногами к двери, укрытая до подбородка серым казенным одеялом, в головах — телогрейка. Лицо у мамы бледное, щеки ввалились, нос — тонкий, острый, губы почти бесцветные. Но мама, обернув лицо к фельдшеру, что-то негромко говорит и даже приподымает лежащие поверх одеяла руки.
Я как встал в двери, так тут и прижался к светлому косяку. И всхлипнул, и вздохнул: жива! Мама жива… Она здесь, она рядом, она тоже увидела меня и манит к себе рукой.
Я шагнул от косяка, встал коленками на гладкий линолеум, на пол. Глаза мои очутились вровень с мамиными глазами. Они, карие, в окружения чуть вздрагивающих ресниц, даже сейчас показались мне веселыми. Только в уголку каждого из них медленно копилась прозрачная слеза.
Мама подняла руку, глаза утерла. Потом потянула с меня шапку, потрогала мои волосы.
— Вот, Ленюшка, заболела я. Совсем заболела. Абрам Васильевич отправляет меня в больницу.
— И немедленно! — сказал фельдшер таким голосом, будто с кем спорил. — И немедленно! Первым же поездом. А не посадят на поезд, повезу на автодрезине.
— Что с тобой, мама? — спросил я.
Мама повела головой, глаза ее опять влажно блеснули. Абрам Васильевич все тем же резким голосом произнес:
— Нужна срочная операция. Твою маму принесли сюда на руках. Я сделал все, что мог, но этого мало!
— Это все из-за той рельсины, Ленюшка, — едва проговорила мама. — Думала, перемогусь, пройдет, а оно все хуже да хуже… Под утро на смене совсем свалилась.
— В больнице резать будут? — испугался я.
— Что значит «резать»? Почему резать? — рявкнул на меня фельдшер. — Это курицу режут. Гуся режут. А человека о-пе-ри-руют! Возвращают ему здоровье, ставят на ноги, если хотите знать!
Он даже поднялся со стула, тряхнул перед собою растопыренными руками и даже притопнул, показывая, как ставят больного человека на ноги. И, странное дело, чем грознее он смотрел на меня, чем громче кричал, тем легче мне становилось. Я сразу поверил, что все так и будет, как предсказывает Абрам Васильевич.
Но тут в амбулаторию вбежала медсестра с узелком в руках. Следом за ней вошла тетка Евстолия. С грубых мужских сапог ее на гладкий линолеум падали мокрые ошметки снега; зимний теплый платок на ней замотан тоже кое-как.
Бабашкина загородила дверной проем; она кого-то отпихивала, не пускала. Но вот не справилась, и в кабинет заглянула востроглазая Анна Федоровна. Она увидела носилки, увидела маму и запричитала на всю амбулаторию:
— Ой, да ты ангел наш, Катюшенька! Ой, да ты что это над собой исделала! Да на кого ты нас покидаешь, сиротинушка?
— Молчать! — крикнул Абрам Васильевич, и старуха смолкла и опять исчезла за спиной Евстолии.
Манечка опустила мягкий узелок на стул, сказала маме:
— Вот мы с Наташей собрали все, что наказывала. Прости, пришлось порыться в комоде.
Мама заплакала:
— Как теперь Наташка-то с Шуркой будут? Леня. Ты теперь старший в доме. Покрепись, милый. Постарайся. Может, недолго. Может, меня и верно на ноги скоро поставят.
А тетка Евстолия басит:
— Ну, ну, ну… Что ты, Катерина! Маленькие останутся не с одним твоим Леней. Мы разве нелюди? Езжай, лечись, все будет в порядке.
Я стою, тоже киваю головой: «Да, мол, конечно. Все будет в порядке. Я все сделаю, только возвращайся скорей». А вслух сказать ни единого слова уже не могу.
Абрам Васильевич надевает пальто, надевает каракулевую шапку пирожком, сам берется за носилки и командует женщинам:
— Подхватывайте!
Я тоже хватаюсь, но тетка Евстолия отпихивает меня:
— На вокзал не ходи, не надо. Посадим без тебя, не бойся. С ней Абрам Васильевич поедет. А ты беги к ребятишкам — небось изревелись там. С вокзала я зайду.
Мама ничего не говорит, не может. Она лишь тихонько ладонью отмахивает мне: «До свиданья, мол… Иди, иди».
Я долго стою на ступеньках амбулатории, смотрю, как по скользкой дороге к вокзалу несут маму: впереди, сутулый, в длинном пальто, шагает Абрам Васильевич; сзади, неудобно ухватив по одной ручке носилок, семенят не в ногу высокая старуха Бабашкина и худенькая Манечка. Анна Федоровна суетится, хочет пристроиться то к одной, то к другой женщине, но дорога узкая, места не хватает, и Анна Федоровна все время остается сзади, не при деле.
Глава 8
СВОЙ ДОМ
К дому я шел тихо. Все думал: как-то там, на вокзале, посадят маму? Я не раз видывал нынешнюю посадку, Пассажирские поезда — редкость, возле вагонов — толчея, бой. Проводники орут, страшно ругаются, на документы и на билеты не смотрят. Да и где тут смотреть, когда толпа вот-вот и проводника стопчет, и сама себя передавит, и, того гляди, вагон перевернет. А ведь маму в такой толчее надо внести на носилках.
Когда я пришел домой, там тоже все было вверх дном. Комод раскрыт, из ящиков торчит белье, ребячья обувь валяется на полу, в комнате холодина, печь не топлена. Малыши сидят в спальне на маминой постели и молчат.
Я прямо в пальто сел напротив них на свою кровать, снял шапку. С чего, думаю, начинать теперь?
Наташка спрашивает:
— Правда, маму увезли в больницу?
— Правда.
— А когда она вернется?
— Ну вот, не успела уехать, а тебе сразу вернется. Как поправится, так и вернется.
— Мы одни теперь будем жить?
— С кем же еще? Одни.
Наташка помолчала, подумала, поводила пальцем по одеялу:
— Знаешь, что…
— Что?
— Давай, ты будешь теперь как будто наш папа, а мы как будто твои дети. Ладно?
— Ладно, — говорю я, а самому так тошнехонько, что если бы не ребятишки, то уткнулся бы в постель, закрылся сглуха одеялом и ничего бы не слышал, ничего бы не видел.
Тут Шурка молчал, молчал и спрашивает:
— А завтракать-то мы теперь будем?
Я сразу спохватился, говорю:
— Будем! — И оттого, что надо было куда-то бежать, что-то делать, мне стало немного легче.
Потом, слышу, на крыльце кто-то затопал, зашаркал веником, обметая с обуви снег, и глухо постучал в толстую дверь. Стучаться в незапертую дверь у нас мог один-разъединственный человек. Ребята с радостным визгом: «Тоня!» — спрыгнули с кровати, побежали к порогу. Открывать дверь они не стали, а по недавнему, очень приятному для них правилу, прокричали:
— Можно!
Тоня вошла, протянула малышам руки в ярких варежках.
— А у нас мама в больнице, — опять хором закричали ребята и начали стаскивать с Тониных рук варежки. — Раздевайся!
— Я знаю, — сказала Тоня. — Я знаю, что у вас мама в больнице.
Она оглядела комнату.
— Беспорядок какой… — Повесила на вешалку свое пальто, прошла в комнату и начала носком сапога поправлять сбитые половики. Потом поправила скатерть на столе, потом подошла к раскрытому комоду, задвинула ящики, и делала все это, никого из нас не спрашиваясь.
И тут меня отпустило совсем. Я сбегал на улицу, принес охапку колотых дров, с грохотом свалил возле печи — в доме запахло сосновым бором.
А когда я собрался чистить картошку, Тоня отняла у меня нож:
— Давай, это сделаю я с Наташей, а ты затапливай печь. Картошку чистить я умею, а печь затапливать — нет.
— Ну да? — удивился Шурка. — Я и то умею. Только вот спички от меня прячут.
— Так у нас в Ленинграде печки нет. У нас примус вместо печки, такой, как у Валерьяна Петровича.
Шурка лукаво прищурился:
— Врушенька! Примус-то и у нас есть. В чулане. А вот зимой как? На примус греться залезаете, что ли? А валенки где сушить?
— Мы валенки не сушим. Мы валенки над примусом подвешиваем и коптим. Знаешь, как в копченых валенках бегать хорошо? Они горячие, пятки жгут — в два счета долетишь, куда надо.
Шурка с Наташкой хохочут, а она и сама довольна, что развеселила ребят. Она улыбается, а сама в это время срезает с картошки узкую ленту кожуры. Руки ее, чтобы не замочить рукавов, открыты до локтей, и на ее тонком запястье мне видна голубая жилка, а рядом с жилкой светлое пятнышко шрамика. Я смущенно отвожу глаза, принимаюсь растапливать печь.
Я укладываю в темную глубину поленья клеткой, подсовываю сухую лучину, чиркаю спичкой. Растопка загорается быстро. Багровое пламя начинает охватывать нижние поленья. Из полукруглого устья, словно из пасти дракона, тянутся длинные языки дыма. Но спустя пару минут дым исчезает, и печное нутро полно ровного, сильного огня. Там теперь не дракон. Там теперь скачут, взмахивая красными и желтыми крыльями, золотые птицы. От их перьев идет ослепительный жар. Они весело попискивают, трещат — чугуны теперь ставить в самый раз.
Чугуны закипают скоро, вода в них начинает бурлить ключом. В кухне становится тепло, уютно, и даже не верится, что день этот для нас печальный. Но когда я вынул из печи и поставил на стол горячую картошку, Тоня вдруг засобиралась домой. Только Тоню мы домой не отпустили. Я закинул ее пальтишко подальше на печку, а Шурка с Наташкой вцепились в Тоню и давай усаживать к столу.
— Вот, — сказал Шурка, — будьшто ты у нас в гостях.
Он подкатил к Тоне по столешнице самую вкусную, прихваченную жаром картофелину, а я стал раздавать хлеб.
Хлеб мы выкупали накануне. Он хранился в кухонном шкафу, в чистом полотенце. Мама заранее делила его на три части — на утро, на обед и на ужин. А каждая часть разрезалась на четыре куска: один для Шурки, один для Наташки, и нам с мамой — по одному. Все куски совершенно одинаковые, бери себе за столом любой, но помни; сыт ты или не сыт, а на твою долю причитается один-единственный ломтик. И мы помнили. Помнили, хотя хлеба досыта уже давным-давно не едали.
Ну, а если попадалась горбушка, мы тоже не спорили. На горбушки была очередь. В очереди не состояла только мама, она почему-то заявила, что горбушки теперь не любит.
А ведь раньше она их любила. Бывало, вернется отец ночь-заполночь с поля, мама соберет ему ужин и сядет напротив, и смотрит, как он хлебает суп. Отец скажет: «Что сидишь? Давай бери ложку, вступай в коллектив». А мама ответит: «Нет. Я поужинала с ребятишками. Но ты отрежь мне горбушку — я посолю да и съем. Очень я уважаю горбушки…»
Попалась горбушка и на этот раз. Очередь была Наташкина, только я все равно выкрикнул:
— Чья?
— Моя! — подняла руку Наташка, да тут же спрятала за спину. — Ой, нет. Пускай она будет Тонина, а мне середку.
Я положил горбушку перед Тоней, но она отодвинула ее:
— Зачем? Это хлеб вашей мамы. У меня теперь свой паек.
— Ну и что? Мама все равно уехала. Бери, ешь.
— Не буду. Пусть этот хлеб лучше ребятишки съедят.
Тоня разломила горбушку, подложила ребятам. Те свои ломтики уже съели и нежданную добавку сразу накрыли ладонями. Правда, сестренка сначала посмотрела на меня, словно спрашивая, можно ли, а Шурка отправил добавку в рот безо всяких, мигом. Только наклонился пониже, к самой столешнице да спрятал от меня глаза.
— Эх вы! Силы воли у вас нету, — сказал я ребятам и разрезал совой ломоть вдоль. Но и от моего хлеба Тоня отказалась.
За столом я все время поглядывал в окно, все ждал, когда придет тетка Евстолия. Мы уже поели и стол прибрали, а ее все не было и не было. Я потерял терпение и сам собрался на вокзал.
Мы столкнулись на крыльце. Тетка Евстолия поднималась по ступенькам вместе с Анной Федоровной, Она схватила меня за рукав и сразу принялась командовать:
— Марш назад! Кому сказано, сидеть, ждать?
— Маму отправили?
— Отправили, отправили. Проходи, все скажу.
Обе старухи вошли в дом, раздеваться не стали, только распустили концы теплых платков и сели рядом на скамейку. Анна Федоровна сидит — маленькая, сутулая, ноги до пола не достают, а Бабашкина большая и высокая, как каланча. Она обвела взглядом кухню, каждого из нас и вот заключила:
— Молодцы. Печь истопили. А ты, Тонюшка, тоже здесь?
Тоня кивнула, старуха похвалила и ее:
— Умница. Помогай ребятам.
Анна Федоровна подтвердила:
— Господь увидит, зачтет.
— Погоди. С господом — погоди. Придет и ему очередь. А теперь, значит, так…
Бабашкина вынула из кармана длинной юбки носовой платок, трубно высморкалась, убрала платок обратно, повторила:
— А теперь, значит, так. Катю мы отправили на санитарном поезде. Только мы к перрону, а тут и он, санитарный. Идет он к фронту, стало быть, пустой, и наших взяли без разговору. Теперь, считай, Катя уже на месте.
Я спросил, кто понесет маму на чужой станции от поезда до больницы, ведь Абрам-то Васильевич с ней один, но Бабашкина потребовала:
— Не перебивай! Кто-кто, а наш Абрам Васильевич все сделает, как надо. Не перебивай, слушай, что дальше скажу. Одному тебе, парень, не управиться, нужна домовница.
— Какая домовница? Зачем?
— Накормить вас, обиходить, за домом приглядеть. Я сама хотела, да принимаю Катеринин пост. Начальник попросил. Увидел меня у поезда и попросил. Я ведь на пенсию со стрелки ушла, Я ведь, чай, Ленька, сам знаешь, тоже стрелочница. Видишь, как выходит?
— Вижу, — говорю, — только вы не беспокойтесь.
— Почему это не беспокойтесь? — мотнула в мою сторону и осудительно возвела рукой Федоровна. — Человек тебя жалеет!
— Жалею. Верно, — повторила Евстолия и вдруг всей своей нескладной фигурой обернулась к Федоровне: — Я жалею, и ты пожалей. Глядишь, господь-то и тебе зачтет.
— Как это? — не поняла Анна Федоровна, удивленно глянула на соседку и даже рот забыла прикрыть.
— Так это. Возьми да и помоги ребятам. Служба у тебя невелика. Ходишь в ночных сторожах, день-то девать некуда.
Анна Федоровна крепко задумалась, а я смотрю на нее и тоже думаю: «Вот новости! Зачем нам она? Только и будет, что причитать. С ума сведет». Я даже испугался, что она согласится, а я отказать не смогу, но тут произошло вот что.
Анна Федоровна стрельнула юркими глазами туда-сюда, тяжко вздохнула и этак осторожно спрашивает Бабашкину:
— А платить кто будет? Ты или Катерина потом?
— Что? — опешила Бабашкина.
— Я говорю, платить кто будет? Ты? Или Катерину ждать велишь? Ежели Катерину, так сама знаешь, дождемся ли…
— Что-о! — уже не спрашивая, а просто не зная, что и сказать, поднялась Бабашкина. И, задыхаясь от гнева, пошла горой на Анну Федоровну. Она так побледнела, что я испугался, а Федоровна соскользнула со скамьи, попятилась к порогу, зашарила за собою дверь. На лице у нее не страх, а недоумение: чего это Бабашкина так вскинулась?
Разгневанная старуха наконец продохнула, сама ударила длинной рукой в дверь, топнула:
— Вон, мерзавка притворенная! И на пути моем больше не попадайся.
Вытолкав Федоровну, старуха долго не могла опомниться. Мы тоже притихли. Потом она подошла к ведру, зачерпнула кружку холодной воды, выпила, отдышалась и сказала мне уже совсем спокойным голосом:
— Собирай ребят, собирайся и сам. Поживете у нас. Козу тоже к нам переведем.
Она шагнула к комоду, велела Наташке:
— Поди, Наталья, принеси какую-нибудь корзину — белье сложить.
Наташка покорно пошла в сени, а я как представил наш дом пустым, без людей, с висячим замком на двери, так мне сразу стало не по себе. Я представил, как наша комната и кухня мало-помалу наполняются холодом, а в стылой трубе одиноко посвистывает ветер, а на крыльцо падает и падает снег, и никто по утрам этот снег не сметает, крыльцо превращается в сугроб, на нем ни следа.
А еще мне привиделось: идет по тополиному нашему переулку к заброшенному дому почтальонка. В руке у нее треугольное солдатское письмо, но перед заметенным крыльцом она останавливается, смотрит на замок, на холодные окна и не знает, что с письмом делать…
Я бросаюсь навстречу Наташке, отбираю у нее корзину, выкидываю опять за дверь.
— Нет, тетя Таля. Из своего дома мы никуда не пойдем.

Глаза 9
«ПОЗИЦИЯ»
На первых порах к нам в дом заглядывали не только соседи, но и все мамины подруги. Забегали они после смены, впопыхах, усталые, иззябшие. Они торопливо расспрашивали меня, не надо ли чего. Полы помыть или постирать бельишко? Но полы я мыл сам, белье выстирали Бабашкина с Тоней, и я каждый раз отвечал: «Нет, ничего не надо».
Такой ответ женщин не обижал. Даже наоборот. Услышав отказ, они принимались неведомо за что хвалить меня, а похвалив, тотчас уходили: ведь у каждой по домам сидела такая же орава ребят, как наша, а то и побольше.
Да я и рад был, что эти посещения коротки. Я терпеть не могу, когда меня жалеют. А женщины только и делали, что наговаривали жалостные слова то мне, то ребятишкам. Пользы от этой жалости никакой — одно горе. Малыши потом долго сидят грустные. Вот даже старуха Бабашкина — и та порой рассиропится, начнет вздыхать да приговаривать: «Ленюшка, Наташенька, Шуронька…» А зачем?
Старуха заглядывала к нам теперь часто, да тоже ненадолго. Теперь она замещала маму на стрелке. Она раскопала в своих сундуках потертую железнодорожную фуражку и стала надевать ее поверх платка. Она прямо так и приходила к нам — в этой фуражке. Войдет, не торопясь накинет фуражку на отдельный гвоздь; рядом на вешалку повесит все остальное: платок, телогрейку, чехол с сигнальными флажками; а потом сядет за стол, выложит на клеенку горсть сушеных, тонко нарезанных яблок и обязательно заставит нас кипятить самовар.
Яблочные дольки мы клали в рот вместо сахара, прихлебывали кипятком, и, хотя яблоки были кисловатые, получалось вкусно.
За яблочным чаем тетка Евстолия сообщала нам известия про нашу маму. Эти известия она узнавала от Абрама Васильевича: тот нет-нет да и дозванивался по телефону до больницы; дозвониться удавалось редко, и мы знали про нашу маму лишь то, что ей сделали операцию и теперь она в палате для тяжелобольных. Здоровье у нее то получше, то похуже, то опять немного получше.
— Борется! — говорила старуха. — Борется наша Катя с хворью, и нужен ей теперь спокой да спокой.
Она сурово смотрела на каждого из нас, давая понять этим взглядом, что за мамин покой отвечаем и мы, тут вот сидящие.
А под конец вечера, то ли ее так разогревал кипяток с яблоками, то ли на нее действовал Шуркин беспомощный вид, когда он, сонный, начинал ей соваться в колени, а только вся суровость со старухи слетала, и она принималась наговаривать эти самые жалостные слова: «Шуронька, Наташенька, Ленюшка…» Единственный, кто никогда никакой напрасной жалости не выказывал мне, так это Валерьян Петрович.
Директор пришел к нам в тот же вечер, когда я отказался переселяться к Бабашкиным. Старуха нажаловалась, и он сразу спросил, чего это я заупрямился.
— Нет, не заупрямился, но уйти из дома не могу.
— То есть? — потребовал ясного ответа Валерьян Петрович, и я рассказал обо всем, что передумал в те недавние минуты.
Я не раз видывал в окрестных деревнях заброшенные дома. Они стояли с гнилыми крыльцами, с рыжими мертвыми замками на дверях. В эти избы, покинутые однажды, обратно уж редко кто возвращался. А я не хочу свой дом видеть таким. А я хочу: пусть в нашем доме всегда шумят Шурка с Наташкой; пусть всегда сквозь талое окно смотрит на улицу мамин цветок — ванька мокрый; пусть каждое утро над нашей трубой поднимается теплый дым. Ведь от всего этого нам с ребятами кажется, что папа и мама рядом с нами. А если и не с нами, то все равно скоро возвратятся — дом-то жив!
Директор ни разу не перебил меня, слушал внимательно, а потом потер свою круглую бритую голову, сказал:
— Ну и ну! Мистика-фантастика какая-то. А впрочем, ты прав. Когда я уеду на фронт, мне бы тоже хотелось там думать, что мой дом без меня не опустел.
В голосе Валерьяна Петровича послышалась грусть. Я подумал о его безлюдной, населенной лишь книгами квартире, о его нетопленой кухне с примусом на холодном печном шестке и сразу сказал:
— Ваш дом тоже не опустеет. Ваш-то дом, если считать по-настоящему, всегда в школе. А разве школа опустеет? Ни за что!
Валерьян Петрович задумчиво посмотрел на меня, ничего не сказал, а потом встал и произнес уже совсем другим, бодрым голосом:
— Что ж, быть по-твоему! Оставайся, держи оборону здесь.
— Какую оборону? — насторожился я.
— А такую, брат, что дела твои теперь вроде солдатских. Занял позицию, держи до конца.
— Сдержу!
— Ну-ну, — усмехнулся он. — Только и от товарищеской помощи не отказывайся. У вас дрова-то хоть есть?
Дров у нас оставалось недели на две. Валерьян Петрович сам осмотрел невысокую поленницу:
— Небогато. Но в лесу, на школьной делянке, дрова есть. Разрешаю взять из моего пая. Насчет лошади договорюсь. Управишься?
— Управлюсь! Держать позицию, так держать!
Вот так вот просто, как мужчина с мужчиной, мы и поговорили с Валерьяном Петровичем. Разговор крепко запал мне в память, особенно по душе пришлось сравнение моих нынешних дел с боевой позицией. Это сравнение мне так понравилось, что я сразу стал считать себя сильной, самостоятельной личностью, которой есть чем гордиться.
А что в самом деле? Разве гордиться нечем? Разве без мамы и безо всякой там домовницы дом-то я хуже веду? Нет, не хуже! Разве малыши у меня голодные или неумытые ходят? Нет, не ходят! Я вообще могу обойтись безо всякой подмоги, любую работу могу делать сам, силы и воли у меня теперь на все хватит. Пусть потом все удивляются, пусть говорят: «Аи да Ленька! Такую заботу один своротил!»
Как только я начал о себе так думать, то сразу и дела домашние стало делать куда интересней.
Раньше, к примеру, стоят вечером на кухне пустые ведра, в них даже донышки высохли, а я все равно за водой в потемках не пойду. Я все равно стану ждать утра. А теперь — нет. Теперь я говорю: «Сильный, самостоятельный человек темноты не боится!» И бегу хоть в ночь-располночь на колонку, и шагаю оттуда с полными ведрами, и чувствую, как под моими ногами позванивает мерзлая земля. Позванивает и вроде бы даже прогибается!
Ну, может, она и не прогибается, но зато я сам о себе думаю: «Вон я какой!»
Я так разошелся, что когда у Наташки на платье прохудился локоть, так даже и за это немужское дело взялся сам.
Дырка была крохотная, но промаялся я с ней целый вечер. Когда управился, повесил платье на спинку Наташкиной кровати и очень довольный завалился спать. А наутро услышал рев.
Я вскочил, думаю: что такое? Наташка сидит, держит платье в руках и заливается. Я говорю:
— Ты что? Приснилось что-нибудь? Брось, не думай! Лучше посмотри, как локоток-то я тебе залатал.
А у Наташки слезы ручьем, она едва выговаривает:
— За-ла-тал! Уж лучше бы не брался… В чем я в школу теперь пойду? Все платье мне испортил.
— Почему испортил? — удивился я, потянул к себе платье и ничего плохого не вижу. Заплата как заплата. Обыкновенная, кругленькая. Ну, правда, платье черное, заплата темно-зеленая, так вечером при лампочке разницу было трудно различить. И нитки, конечно, надо было взять черные, так ведь черных-то я не нашел. А во всем остальном хорошая заплатка! Новенькая такая и, главное, крепкая.
А Наташка все равно ревет, одеваться не хочет, насилу я ее уговорил. В школу она отправилась только тогда, когда мы с ней закрасили чернилами белый шов и самоё заплатку.
— Пусть лучше клякса, чем такая стыдобушка, — оценила мои труды Наташка.
Зато валенки подшивать я научился сразу, безо всяких промашек. Видно, на какое дело у человека талант есть, так это дело пойдет тут же, а если таланта нет, так, сколько ни старайся, ничего из себя не выжмешь.
У меня вот обнаружился талант на подшивку валенок. И делал я это быстро, даже с некоторой лихостью. Дратву сквозь подошву продергивал со свистом, сам в это время тоже насвистывал, шило у меня в руках так и мелькало. Это умение открылось во мне как раз вовремя. Наташкины, Шуркины да и мои собственные валенки еще с прошлой зимы были разношены вдребезги.
Стельки на подошвы я выкраивал ножом из дырявых обносков, а дратву приспособился смолить свечным огарком.
Однажды за этой работой застала меня Тоня. Она вошла, посмотрела, потренькала по натянутой, как струна, дратве и сказала:
— Дедушка Николай делает не такую. У него черная.
— Значит, настоящая. Смоленная варом. У меня вара нет.
— Сбегать, попросить?
— Незачем просить! По каждому пустяку людям не накланяешься.
— Ты что? — говорит Тоня. — При чем тут поклоны? Дедушка Николай не такой.
А я и сам вижу: хватил через край. Да не станешь ведь рассказывать Тоне, какой я теперь ужасно самостоятельный человек.
— Ладно, — говорю. — Это я так…
А Тоня не отступается:
— Не хочешь у дедушки Николая просить — можно к Женьке сбегать. Он сразу даст и сам придет. Втроем веселей будет.
Тут меня опять занесло. Мне бы надо оказать: «И у Женьки не проси», — а вырвалось:
— Женьку не надо, не зови!
Тоня удивилась еще больше:
— Неужели поругались?
— Нет, не поругались. Я потом объясню.
Но когда и что я про Женьку объясню, я и сам не знал. Не знал, потому что дело тут было не в моих гордых мыслях о самом себе, независимом человеке, а вот в чем.
С того самого денька, когда мы вместе с Тоней палили осенний костер, со мною стало происходить небывалое и непонятное. Тот звонкий денек с высоким небом, и тепло костра, и наша с Тоней встреча не выходили у меня из головы, и я многое дал бы, чтобы таких деньков было побольше, чтобы они не кончались никогда.
Теперь все мои прежние дружки словно бы отодвинулись куда-то далеко-далеко, и хотелось мне видеть рядом только Тоню, быть только с ней. Если Тоня к нам долго не приходит, я места себе не нахожу. Мало того, что на крыльцо каждую минуту выскакиваю, я и на изгородь-то во дворе влезу, и все гляжу на дом Бабашкиных, все высматриваю: не мелькнет ли где Тоня?
Забегать к Бабашкиным просто так, без приглашения, я почему-то стал стесняться, а вот окна их дома для меня теперь — словно полюс для магнитной стрелки.
Что бы я ни поделывал, куда бы ни шагал, меня к этим окнам так и тянет, так и поворачивает. Ну, а когда рядом Тоня, я и про Бабашкиных забываю, и даже моего закадычного друга Женьку мне не надо, никого мне не надо: лишь бы Тоня да я…
Вот что со мной происходило, вот что во мне еще было, кроме моей внезапной гордости. А разве все это объяснишь? Конечно, не объяснишь. Рот не раскроется, и язык не повернется.
А после одного разговора я стал думать о нашей дружбе еще больше.
Однажды я спросил Тоню, не приходилось ли ей видеть живого фашиста. Может быть, его пленного по Ленинграду вели и Тоня издали видела? А если видела, то какой он? Чем он, фашист, от людей отличается?
А Тоня вдруг повела в сторону хмурым взглядом и ответила:
— Я его видела. И не пленного.
— Не пленного? Где же тогда?
— В самолете.
Я чуть не задохнулся от изумления:
— Расскажи!
— Что тут рассказывать? Нечего рассказывать… Началась война, а мы, ребята из нашей ленинградской школы, были в пионерском лагере. Далеко были, чуть не у самой границы. Мы как узнали, что война, так стали ждать автомашины. Боялись, они не придут, опоздают. Хотели уходить пешком. Но машины пришли, и мы поехали в Ленинград.
— Ну, а дальше что? — тороплю я, а Тоня не торопится. Говорит все так же хмуро и совсем не смотрит на меня.
— Дальше? Дальше — фашист прилетел. На самолете. Он обогнал нас, развернулся и давай стрелять.
— Ну, а
вы?
— Что мы… Он заходит во второй раз, идет низко-низко, машины все остановились, а мы — кто куда. Кто в кювет, кто в поле, в рожь. Только Света, наша вожатая, сдернула красный галстук и бежит ему навстречу. Бежит, машет галстуком: «Не смей! Не смей! Неужели не видишь? Это же дети! Это же пионеры!», а он — весь черный, кожаный, в очках — прямо в Свету… Прямо пулями…
Тоня отвернулась, замолкла.
А меня и самого словно кто пришиб. Я и сам словно оглох.
Я дотронулся до Тониной руки и совсем тихо сказал:
— Не надо. Дальше рассказывать не надо.
Так я с той поры о войне Тоню больше и не расспрашивал. А вот думать о нашей дружбе стал еще больше.
Глава 10
ГОЛУБОЙ КРАЙ ЗЕМЛИ
В тот день, когда увезли маму, в школу я не ходил, а потом стал опаздывать на уроки почти каждое утро. Пока сам проснусь, пока ребят подниму да пока печь истоплю, глядишь — время-то уже совсем вышло. И никакая сила воли тут помочь не могла, выручить мог только будильник. Но будильника у нас дома не было. Время мы узнавали по жестяным ходикам с кошачьим портретом-циферблатом. Глаза у кошки шевелились: тик-так, тик-так; это тиктаканье я слышал почти всю ночь. Чтобы не проспать, я дремал вполглаза, но к утру все равно засыпал как убитый и опять опаздывал.
Женька переживал за меня, все набивался:
— Давай я твои ходики переделаю на будильник. Приспособлю к стрелкам грушу от спринцовки, и жестяная кошка будет мяукать.
— Меня мяуканьем не разбудишь.
— Ну тогда она станет крякать. Кря! Кря!
— А петухом она петь не может? — ехидно спросил я.
— Петухом — нет. Не выйдет.
Женькин замысел я отклонил. Я вспомнил про велосипед и побоялся остаться совсем без ходиков. Выручил меня Валерьян Петрович. Он раным-рано стал приходить к нашему дому и барабанить в стекла. Барабанил он до той поры, пока я не просыпался, пока не высовывал всклокоченную голову через форточку на мороз и не говорил:
— Здрасьте!
— Здравствуй. Ты проснулся?
— Проснулся.
— А я вот мимо шел да и стукнул. Смотри, не опаздывай.
— Не опоздаю. Я уже валенки надел.
— Ну, то-то!
Он уходил по направлению к школе, я смотрел ему вслед и думал: «Чего это ему там делать в такую рань?» Я подозревал, что ходит он через весь поселок чуть свет лишь из-за меня.
В конце концов подыматься спозаранку я привык сам и попросил Валерьяна Петровича в окно больше не стучать.
Но все равно на мою голову обрушилось теперь столько всего, что и в школе я думал не об уроках, а совсем о другом.
Я сижу, смотрю на учителя, слышу, как он поскребывает по доске мелом, а сам думаю о маленьком Шурке. Сестра сейчас тоже на уроках, и одинокий Шурка сидит, наверное, на подоконнике, смотрит на безлюдную улицу. В одиночку Шурка играть не умеет, в одиночку ему тоскливо и страшно, и хорошо, если к нему прибегут соседские малыши. Да только теперь холодно, и малыши тоже сидят по своим домам.
Думаю я и про нашу козу Лизку. Сено для Лизки отец в прежние времена получал в колхозе, а теперь сена нет. Мы подкармливаем Лизку сухими вениками, но веников мало, и Лизка сама себе добывает пропитание. Она с утра до вечера шляется по станции, и везде Лизке могут поддать, вытянуть хворостиной, могут и взять за рога, запереть в чужой сарай. До сумерек Лизку надо непременно пригнать домой, а то и в самом деле пропадет, как пропала пестрая коза Федоровны.
Козу Федоровны даже не увели, а закололи прямо в хлеву. Кража произошла ночью, а на рассвете на крик хозяйки сбежался народ. Растрепанная, простоволосая Федоровна металась среди людей, показывала в глубину раскрытого хлева. Там на остывшей соломенной подстилке заледенело пятно крови.
— Кормилица ты моя… Господи! — беспомощно вскрикивала хозяйка, а старик Бабашкин стал осматривать распахнутые воротца.
— Они изнутри запираются?
— Изнутри, родимый, изнутри. Я козу-то как загоню, так и сама зайду следом и воротца с той стороны заложу щеколдой. А в дом из хлева у меня другой ход есть, через сени. Злодей, чтоб ему сгореть в геенне огненной, видно, через сени прошел.
Печник растворил ту дверь, о которой говорила хозяйка, потоптался в сенях и, не заходя в избу, появился на крыльце, на улице.
— Ну, Анна, вор у тебя, похоже, не первый раз этим путем проходил. Свой человек.
Анна Федоровна широко распахнула глаза:
— Ты что? С чего взял?
— С того взял, что чужому человеку в хлев и через сени не попасть. Там у тебя такие засовы, такие задвижки, что, не знавши да в потемках, их не открыть.
— Матерь-заступница, да кто же это?! У меня после Миньки-пастуха никто и не живал. Никто ни разу и не захаживал.
— Вот Минька, должно быть, и заглянул по старой памяти. Положение у него теперь волчье, а кормиться надо.
Все, кто стоял у крыльца — женщины, старухи, ребятишки, — испуганно зашептались. Если у Федоровны и в самом деле побывал Минька, то теперь он может заглянуть в любой дом. Нет в поселке такого дома, в котором бывший пастух не знал бы ходов-выходов.
Тут печник прошел сквозь толпу, сделал круг по всему двору, на ходу пригнулся, так и казалось — вот-вот понюхает снег.
— Здесь они, следы, — сказал он и ткнул в снег рукавицей. — На лыжах прибегал, дьявол! Где-то лыжи успел раздобыть. Но теперь ищи ветра в поле, с лыжами его не поймать.
Там, где стоял печник, и там, где не побывала толпа, по снежной целине протянулась лыжня. Протянулась она недалеко. Уже за углом избы ее заровняла ночная вьюга. Вор, наверное, на это и рассчитывал; наверное, сам выбирал такое ненастное времечко.
Я подошел к тому месту, где лыжня уцелела, тоже пригнулся, глянул — и у меня тревожно подпрыгнуло сердце. След был странно знаком. След был от охотничьих лыж — гладких, широких, а по-вдоль правой лыжни выпуклая тонкая бороздка.
«Где я видел такую бороздку? Где я видел такую бороздку?» — забухало у меня в голове, и я боком, боком пошел от лыжни, от толпы, от Бабашкина и сорвался с места, кинулся к своему дому.
Подбежал, и точно! — у крыльца в сугробе стоит одна пара лыж, а второй пары нету!
Когда мы задумали поход на горностаев, отец смастерил две пары отличных лыж. Одну для меня, другую — пошире, подлиннее — для себя. Недавно Шурка с Наташкой лыжи вытащили и сразу отцовскую пару попортили. Наехали по первому снегу на острый камень, и на правой лыже осталась глубокая борозда. И теперь вот этой пары у крыльца не было. Вчера она стояла тут, а теперь ее нету! Я так и сел в сугроб у крыльца — я не знал, что делать.
Сгоряча я хотел бежать обратно к людям, сказать: «Нас тоже обокрали!» — да мне словно бес какой шепнул на ухо: «Постой! Ты скажешь, а потом что? Потом вся станция, все ребята будут посмеиваться: у Леньки Никитина отец на фронте, отец — герой, а сам Ленька — растяпа! Чуть не собственными руками бандиту отцовы лыжи подарил».
Подумал я такое и никому ничего не сказал.
Утром не сказал, днем не сказал, промолчал и вечером, когда из района прискакал на лошади хромой милиционер в синей шинели. Он долго и дотошно всех выспрашивал, долго ходил, припадая на больную ногу, вокруг дома Федоровны, но уехал обратно ни с чем.
По примеру напуганных жителей поселка я навесил на Лизкин сарай здоровенный замок, но, навешивая, подумал: «А ведь нашу козу Минька, может быть, и не тронет. Не должен тронуть. В отплату за лыжи».
Я запутывался в этом деле все больше и больше. И выходило теперь, что сильный-то и гордый человек я не во всем. Есть слабинка и у меня. Но тут я утешался тем, что слабинка пока одна-единственная, да и та, если разобраться, получилась не по моей вине.
Вот какие думы одолевали меня в школе. И забот стало много. На последнем уроке я всегда сидел с шапкой в руках, а пальто заранее прятал под партой. Как только звякнет звонок, я должен впереди всех вылететь из класса, добежать до магазина и занять очередь за хлебом. Хлеб прозевать нельзя. Уже на другой день самостоятельной жизни я сделал еще одно грустное открытие.
Я выкупил хлеб и вдруг увидел: теплый шершавый отрезок буханки стал не таким увесистым, каким был при маме. Да что там «увесистым»: он стал совсем, совсем маленьким! Сначала подумалось: продавщица напутала; но потом дошло: продавщица не виновата. Она просто-напросто отпустила хлеба ровно столько, сколько нам полагается без маминого пайка. А ведь мамин паек был больше нашего в три раза!
Мама получала весь хлеб, и свой, рабочий, и наш, детский, одним весом сразу, а потом делила его между всеми поровну. Сколько нам, столько и себе. А теперь вот мамин паек уехал вместе с ней в больницу, и подкармливать нас рабочим хлебом стало некому.
Я как разделил хлеб на доли, так сразу и пригорюнился: завтра утром Шурка с Наташкой сядут за стол, глянут на тощие лепесточки-ломтики и — заревут. Заревут обязательно. Одними разговорами их не накормишь.
И вот я взял свою долю, отрезал от нее третью часть, оставил себе, а две трети прибавил к ребячьему пайку. Так поступать я стал каждый раз, и малыши ничего не замечали. Ведь им-то я говорил, что съедаю свой хлеб с утра, пока они спят.
Но все равно это был не выход. Во-первых, я стал тощать; во-вторых, убыло у нас не только хлеба. Вез него начала быстро подходить к концу картошка, да и коза на подножном корме почти совсем перестала доиться. Нам грозил настоящий голод, надо было что-то придумывать.
Конечно, я мог бы обо всем рассказать Бабашкиным, да только знал: у них по кладовым тоже не густо. Дед Николай отнес в деревню новенький патефон и поменял его на мешок овсяных отрубей. Поменял по нынешним временам хорошо, музыка нынче была не в цене.
Я тоже решил проверить, не найдется ли и у нас чего променять. И хотя без мамы браться за такое дело было страшновато, на всякий случай заглянул в комод. Я выдвинул нижний ящик и сразу увидел темно-серый пиджак отца. Тот самый пиджак, в котором он был на гулянии за рекой и которым укрывал нас в грозу.
От пиджака и сейчас еще пахло духами «Красный мак». Отец торжественно преподнес их маме в тот праздничный день, а мама, как открыла флакон, так сразу побрызгала отцу на пиджак, мне и ребятишкам на головы. А себе она тогда лишь тронула стеклянной пробкой белую впадинку на шее, посмотрела в зеркало, засмеялась, и отец тоже почему-то засмеялся…
Воспоминания нахлынули на меня. Я стоял, гладил мягкую ткань пиджака, и о том, чтоб отнести его в деревню, даже не хотелось думать. Мне хотелось думать только о том, как славно нам было с отцом до войны, какие у нас были с ним расчудесные денечки.
Перед самой войной отец получил новенький гусеничный, до той поры у нас еще невиданный, трактор «НАТИ». Новый трактор так пришелся отцу по душе, что он сразу и название-то переиначил. Он стал называть машину почти человечьим именем — Натенька. С железным, ладно скроенным на заводе Натенькой подружился и я.
Бывало, набегаюсь по поселку с ребятами, так что ног под собой не чую, и вот приду домой, сяду в прохладной комнате перед ярким распахнутым окном. Сяду, расставлю на подоконнике самодельную флотилию бумажных кораблей и вдруг слышу: где-то далеко-далеко гудит трактор.
Гудит он негромко. Его перебивает звон вагонных буферов на станции. Его перебивают свист и пыхтение паровоза на запасных путях, но совсем заглушить не могут. Дальний голос трактора похож на упрямое гудение майского жука, он все жужжит и жужжит в синеве за окном, и одно надтреснутое стекло в раме начинает ему вторить. А я уже узнаю: это отец с Натенькой приехали работать в окрестные поля, и я мигом позабываю об усталости и бегу на голос трактора.
Я бегу напрямик по широкому, почти бескрайнему клеверищу. Надо мною огромное небо с огромными облаками. Сочные стебли клевера мне по пояс. Их пунцовые шапки кланяются мне. Встречный ветер пахнет медом, вокруг звенят шмели, а прямо из-под ног выкатывается зайчонок и опрометью, высоко подскакивая, улепетывает по густым клеверам. Должно быть, запировался серый да и проглядел, прослушал, как я топочу пятками по теплой земле.
Клеверище уходит отлого вверх. Оно раскинулось на широком холме, переваливает через него, и мне кажется, что я взбегаю прямо в небо. Мне кажется, что там, за гранью холма, уже ничего нет — там голубой край земли.
Но рокот мотора долетает из-за этой грани. И когда я поднимаюсь на самую высоту, то у меня захватывает дух. Впереди, слева, справа — кругом, куда ни глянь, — опять огромное небо, опять огромная земля.
Клевера теперь уходят вниз, как бы в гигантскую чашу. На дне чаши сельцо с церковью, а чуть поближе — березовая рощица. Я бегу к ней. Багряные клевера кончились, и вот я стою на свежих пластах пашни. Пласты жирно поблескивают, тракторный плуг только что прошел тут, и опрокинутая почва не успела высохнуть. Босым ногам от нее прохладно и приятно.
А трактор спешит назад. Он становится все выше и больше. Он теперь не гудит, а грохочет. Мне видно, как мелькают и сверкают под солнцем стальные звенья гусениц. Я различаю в окне кабины отца. Он весь в пушистой коричневой пыли, и от этого белозубая улыбка его мне еще заметнее. Он рад, что я прибежал в поле.
Трактор замирает как вкопанный. Отец сдвигает рукоятку газа. Рев и звон сменяются добродушным урчанием. Я вскакиваю на гладкую гусеницу, ныряю в кабину, плюхаюсь рядом с отцом на пыльное сиденье. Сначала резкий запах керосина и горячего железа оглушает, но через минуту я уже не слышу его.
Отец улыбается еще шире, хлопает меня по спине, говорит:
— Пришел?
Я молча киваю. Он привстает, берет меня под мышки, пересаживает на свое место.
Я кладу ладони на рычаги, почти сползаю с пружинного сиденья, изо всех сил упираюсь в тугие педали. Сердце замирает в радостном предчувствии, и вот радостное настает. Отец толкает рычаг скорости, кричит:
— Давай!
Я отпускаю педали, трактор вздрагивает, весело рявкает и вдруг приходит в движение. Он, громоголосый, могучий, катится вдоль борозды, и я сам себе кажусь таким же могучим. Да не только кажусь, а трактор и в самом деле слушается меня.
Вот стоит мне потянуть рычаг — и трактор пойдет влево. Вот стоит мне потянуть другой рычаг — и трактор пойдет вправо. А если я возьмусь за рычаг со всей силой и до отказа выжму педаль, то железный силач закружится волчком на одном месте.
Но я этого не делаю. Я заставляю его идти ровненько вперед да вперед. Баловаться нам нельзя, мы — пашем, мы — работаем!
А вот песни петь можно. И я пою. И отец поет тоже. И хотя певцы мы с отцом не очень важнецкие, хотя слова песни больше выкрикиваем, чем выпеваем, но вместе с Натенькой у нас выходит куда как славно!
И песня у нас выходит славно, и борозда за трактором тянется ровная, и весело вокруг в поле, а больше-то нам всем троим ничего и не надо…
Это воспоминание было таким, что на миг показалось: я и в самом деле слышу гул мотора, слышу влажный запах распаханной земли. И я очнулся, и сказал сам себе:
— Знаю! Теперь знаю, что мне делать!
Глава 11
МОЕ РЕШЕНИЕ
Погода всю последнюю неделю стояла тихая. Был только ноябрь, но по вечерам сильно морозило, и над белыми полями, над белыми лесами вечерние зори казались еще багровей.
Гул фронта теперь доносился до нас еще отчетливее. Теперь, если идешь по улице и остановишься, то сразу слышно, как в московской стороне словно бы кто бьет гигантским молотом в мерзлую землю. Земля вздрагивает, дает отпор, и дрожь ее докатывается до станции, до наших тополей.
Я шагаю к школе и вижу, как с тонких веток слетает иней. Он падает на розоватый вечерний снег, и мне кажется, что это не заря закатная все высветила вокруг, а пылают в полнеба фронтовые пожары.
Школа наша стоит темная, притихшая. Уроки давно кончились, и, наверное, все, кроме Валерьяна Петровича, уже разошлись.
Там и в самом деле было пустынно. Лишь в зале при свете одинокой лампочки шаркала мокрой тряпкой уборщица. Осторожно, на носках, я прошагал по влажным половицам к директорскому кабинету, подергал за ручку.
— Нету Валерьяна Петровича, нету, — сказала уборщица. Она отжала тряпку над ведром, подоткнула мокрыми пальцами под платок рыжую прядь волос: — Дело какое или так?
— Дело, — нехотя буркнул я.
— Ну, тогда опоздал. Уехал Валерьян Петрович. Уехал!
Она так напирала на слово «уехал», что я встревожился:
— Как уехал? Куда уехал? Насовсем?
— Не знаешь, что ли, куда он ездит? — вдруг ни с того ни с сего рассердилась женщина. — В райком ездит! На войну просится! Его в райкоме отругают, завернут обратно, а он обождет да снова туда же… Нынче опять укатил. С колхозниками. Они зерно на станцию привозили. Обратно пеша придет, чуть не к утру.
— Ну и правильно, — оказал я.
— Что правильно?
— А то, что на фронт просится.
Женщина отшагнула от меня и даже махнула тряпкой:
— Глупый! Да разве таких людей в этакую страсть посылают? А если убьют?
— А если моего отца убьют?
Она испуганно прижала мокрую ладонь к груди, быстро и шепотом заговорила:
— Что ты, что ты? Я ведь не к тому. Я ведь не про это…
А Валерьян Петрович думает и про это!
И, не глядя, прямо по мытому, я пошел к выходу. Вслед мне донеслось растерянное: «Обиделся?» — но я хлопнул дверью.
А наутро, еще в потемках, я опять стоял у кабинета. Дверь была приотворена, и в щель пробивался свет. Наклонив голову, Валерьян Петрович сидел за столом, что-то писал. Перед ним стояла зеленая лампа с абажуром, и я подумал: «Как же так? Человек собирается на войну, а сам даже и лампу из дома в школу принес?»
Я скрипнул дверью, директор поднял голову:
— Это ты? Заходи.
Я без лишних слов приступил к делу:
— Дайте мне справку об окончании семи классов.
— Зачем? — спокойно спросил Валерьян Петрович.
— Поступлю на работу в МТС. С семью классами туда берут.
— Да, принимают. Но не детей. Тебе ведь нет еще и пятнадцати.
Что верно, то верно. В нашем классе я был моложе всех на целый год. Я сам научился читать и в школу пришел до времени. А кроме того, я был очень маленький ростом, и как только в первый раз появился в классе, так сразу с задней парты кто-то дурашливо крикнул: «Гли-ко, ребята! Вершок!» А с другой задней добавили: «Вершок-горшок!» — да так это имечко за мной и осталось.
Но в классе было проще. В классе такого дразнильщика-обзывальщика поймал, отлупил — и все в порядке, а теперь ведь не подерешься. И я упрямо сказал:
— Это до войны малолетних не брали, а нынче возьмут. Притом у меня отец тракторист.
Валерьян Петрович ничего не ответил, только подвинул мне стул и негромко спросил:
— С голоду идешь?
Я чуть не сказал: «Да», но подумал и ответил:
— Нет! Не только с голоду… — И это была правда.
И вот Валерьян Петрович вынул из стола печать, бланк, вписал мою фамилию и, дважды дохнув на кругляшок печати, хлопнул по бумаге. Уголки губ у него дрогнули, опустились, лицо стало хмурым:
— Жаль. Ты был способным учеником.
— Я еще вернусь. Вот придет с фронта отец — и вернусь.
Но Валерьян Петрович словно перестал слышать. Он взялся широко раскрытыми руками за край стола, уставился в крышку и молчит. Я поднялся, сказал:
— До свидания.
Но тут он произнес:
— Погоди.
Он быстро написал на чистом листе несколько слов и запечатал записку в голубой довоенный конверт. На конверте крупно вывел красным карандашом: «Тов. ПЕТРЕНКО П. М.».
— Это парторгу МТС. Так будет вернее. Не потеряй.
— Не потеряю. Спасибо вам.
— На здоровье, — хотел улыбнуться Валерьян Петрович, да улыбка-то у него получилась горькая…
Из школы я ушел совсем тихо. Попрощаться с классом, с учителями у меня не хватило духу. Да и уходил я с большой надеждой, что еще вернусь.

Глава 12
ТОВАРИЩ Пэ-эМ
Машинно-тракторная станция находилась в том самом селе с церковью, на которое я смотрел когда-то с вершины зеленого холма. Теперь холм и поля укрыты снегом, и я шагаю в подшитых валенках по гладкой, до блеска накатанной дороге.
Голова у меня кружится от солнца, от сияния снегов и от голода. Утром в честь «окончания» школы я скормил весь хлеб Шурке с Наташкой, а теперь каюсь.
Теперь, чем ближе село, тем больше я боюсь, как бы «тов. Петренко» не назначил мне сразу такую проверку, на которую моих скудных сил не хватит. Очень уж строгим казалось мне написанное на конверте слово «тов.», и представлял я себе этого человека тоже строгим, даже неприступным. Он и одет-то, наверное, не просто, а затянут в темно-синюю гимнастерку, брюки на нем кавалерийские, галифе, на ногах блестящие сапоги с калошами, а в руке толстый портфель. Я знаю: так одеваются почти все районные начальники, а неведомый парторг казался мне теперь куда старше их всех и куда важней.
Я вошел в село, и оно удивило меня пустынностью. На короткой улице не было ни души. Только на березе рядом с обшарпанной церковью качалась и громко стрекотала сорока. Сквозь узорчатую решетку церковного окна торчала жестяная труба. Из трубы шел дым, на меня пахнуло теплой кухней, и голова закружилась еще больше.
Я поскорее миновал церковь. За ней стоял дом с высоким желтым крыльцом. Над крашеной дверью висела стеклянная вывеска. Я еще издали прочитал косоватую надпись «Контора». Снег возле конторы был густо истоптан такими черными следами, словно ходили тут трубочисты.
Черные следы растекались от крыльца в двух направлениях. Одна тропа вела назад, к церкви, — там наверняка была столовка; другая тропа убегала за край села, в сторону невысоких длинных строений.
Я нерешительно затоптался у крыльца, прикидывая, стучаться в дверь или не стучаться. Но дверь открылась сама. Из конторы выскочил на мороз кривой высоколобый мужик с лохматой заячьей шапкой в руках, в промасленном до железного блеска ватнике. Он уставил на меня свой единственный, удивительно зеленый глаз, нахлобучил на голову шапку, заорал:
— Ты что тут, ёж твою корень, топчешься? Вали в дом! В доме-то теплее.
— Мне бы товарища Петренко.
— Петренко? Дуй туда! — махнул мужик в сторону дальних строений, а сам, как настеганный, припустил к церкви. Он в два прыжка влетел на широкие ступени бывшей паперти, опять обернулся:
— Туда, туда жми. В мастерские!
Он заскочил в церковь, выхлопнув на улицу сизое облако пара, а я пошел в ту сторону, куда он махнул рукой.
Сначала тропа привела меня к длинному дощатому навесу. Под ним с одной стороны стояли тракторы, с другой — комбайны, плуги, сеялки. Там, где стояли комбайны, от машин было тесно; а там, где тракторы, — пусто наполовину. Я даже удивился, что тракторов так мало.
Я забрел под навес и, перешагивая масляные пятна на мерзлой земле, стал искать наш «НАТИ». Но вот запнулся и вижу: торчат из-под колес полуразобранного трактора чьи-то кирзовые сапоги.
Сапоги зашевелились, их владелец стал выбираться. Сначала показались ватные брюки, потом почему-то юбка, потом стеганка, и, наконец, человек извернулся боком, вылез из-под трактора.
Передо мной встала женщина, замотанная в теплый суконный платок. Концы платка были заправлены под стеганку, из-за этого женщина казалась очень толстой. А старая она или молодая, понять нельзя: слишком уж перепачкалась под трактором. Я только и разглядел, что брови у нее светлые, глаза синие, улыбчивые.
— Чего шукаешь, хлопче? — не по-здешнему и напевно спросила она.
— Товарища Петренко. Пэ-эм.
— Так это ж я и есть.
— Ну да?
Если бы товарищем Петренко назвался тот кривой заполошный мужик, я и то бы удивился меньше. У того мужика хоть глотка здоровая — вон как орал с паперти! — а у этой толстой тетки и голосок-то несерьезный. Таким голосом только песни петь, а не командовать. И в руках у нее не портфель, а гаечный ключ и полукруглый подшипник от двигателя.
Я переспросил:
— Нет, правда, вы товарищ Петренко? А может, Петренко, да не Пэ-эм?
— Не похожа, что ли? — засмеялась женщина и, мягко, с придыханием выговаривая звук «г», поторопила: — Ну, говори, что тебе?
Я вынул конверт, а она положила ключ и подшипник на трактор и оглядела свои замасленные руки. Потом осторожно, двумя пальцами, надорвала конверт. На бумаге сразу отпечатались темные пятна.
Женщина прочитала записку, посмотрела на меня и сказала:
— Та-ак… Выходит, ты ученик Валерьяна Петровича? Работать желаешь?
Взгляд и голос ее были теперь такими, что я сразу поверил: она — начальница. И подумал: «Сейчас откажет! Сейчас разглядит, какой я тощий да маленький, и — откажет!»
Я ухватился за спасительное имя директора:
— Да, я ученик Валерьяна Петровича! Конечно, ученик… Он, знаете, у нас какой? Он если что скажет, то все так и делают. Это ведь он мне сказал: «Иди, Никитин, в МТС, там дело надежное».
Насчет «иди» я, конечно, приврал, но думаю: «Каши маслом не испортишь. А все остальное насчет директора — правильно».
Но женщина сказала:
— Не трещи. Я и без тебя знаю вашего Валерьяна Петровича. Лучше ответь: твой батько тоже тут работал?
— Вы и отца знаете? — обрадовался я.
— Про него написано в записке, — помахала женщина конвертом. — Я приехала сюда в сентябре, а твой батько ушел в армию, должно быть, раньше.
— Намного раньше. Но он тут всю жизнь работал и меня научил!
— Ну уж научил.
— Верно, верно. У нас еще с ним новый трактор был. «НАТИ» называется. Только нашего трактора я тут не вижу.
— На войне ваш «НАТИ». Все лучшие машины на войне, а мы вот с этим добром остались.
Женщина повела рукой в сторону видавших виды колесников и тронула раскиданный по частям двигатель соседнего трактора.
— Один разбираем — два лечим. Новых двигателей нет и получать пока неоткуда. Ты тоже пойдешь до весны на ремонт, понял?
Как сказала она: «Пойдешь», — так у меня сразу от души отлегло. Я чуть не хлопнул рукавицами, чуть не крикнул: «Порядочек!» — да спохватился и солидно сказал:
— Я хоть сейчас, тетенька.
Женщина усмехнулась:
— Вот и хорошо, дяденька.
Она взяла с трактора ключ, подшипник, серьезно договорила:
— Меня зовут Полина Мокиевна. А тебя Леонид, что ли?
— Ленька, — поправил я.
— Ну, Ленька так Ленька. Идем, Ленька, в мастерскую.
Здание мастерской было почти новым. Бревенчатые стены его светились медовой желтизной, окна поблёскивали прозрачно, и лишь притвор струганных ворот успел потемнеть, захватанный руками рабочих.
Вслед за Полиной Мокиевной я прошел в эти ворота, и тут на меня обрушился грохот. У самого порога ревели, сотрясались на деревянных подставках два тракторных мотора. Они чадили душным дымом, меж них металась девушка в неуклюжем комбинезоне. Мешковатые рукава она высоко подвернула, тонкими руками хваталась то за рукояти газа, то за тяги воздушных заслонок, но дело у нее, похоже, не ладилось.
Полина Мокиевна подошла к моторам, поманила девушку. Та подбежала, принялась объяснять, показывать руками. И происходило все это, как будто в немом кино. Я вижу: она говорит, а что говорит — за грохотом не слышно.
Наконец Полина Мокиевна склонилась над карбюратором одного мотора, над карбюратором второго, что-то там подвернула, и моторы загудели ровнее. Полина Мокиевна постояла, прислушалась, кивнула девушке: «Так, мол, и действуй!» — и вернулась ко мне.
Затем мы попали в помещение, которое после рева моторов показалось тихой горницей. Но и там был шум: постукивали молотки, поскребывали напильники, жужжали сверла в руках рабочих. Я никогда не видывал столько мастеровых людей сразу и встал у порога.
А Полина Мокиевна складно сказала:
— Вот вам, товарищи, новичок — еще один мужичок!
Кто-то хохотнул, все обернулись. И тут я увидел: народ этот хотя и мастеровой, да все тоже старые старики и парнишки. И стоят эти парнишки у верстаков не на полу, а кто на пустом ящике, кто на широком чурбане, а без этих подставок им до рабочего места и не достать. Но все равно смотрят они на меня ехидно; чувствую, еще минута — и грянет роковой возглас: «Вершок!»
Я нахохлился, спросил Полину Мокиевну:
— Говорите скорей, какую работу делать.
— Ты хоть сначала поздоровкайся!
— Здрасьте, — глянул я исподлобья, на людей.
— Здорово, здорово! Ишь ты, какой сурьезный, — ответил мне за всех один плотный усатый старик в железных очках и с пышными бровями.
Над шеренгой ребят опять прокатился хохоток, но старик повел бровями в ту сторону, и хохоток скис.
— На клапана его, Полина Мокиевна, на клапана. Там силы не надо, а сурьезность пригодится, — то ли в насмешку, то ли по делу сказал старик.
— Он еще неоформленный.
— Веди, оформляй. Потом — сюда.
— Может, завтра ему начать?
— Что завтра, когда человек позарез нужен теперь, — отрубил старик.
Он сердито ткнул пальцем в бревенчатый простенок, там висела на гвозде написанная от руки бумага.
— Ты вон подписку с нас взяла.
— Не я взяла, вы сами обязательства приняли. Какая же это подписка?
Я заробел, как бы старик и женщина из-за меня не поругались; а Полина Мокиевна протянула старику подшипник, который все еще держала в руке, и тихо, мирно сказала:
— Смотри, Павел Маркелыч, и в этом тракторе все сношено. И эти подшипники надо заливать.
Старик поднес подшипник к очкам, постучал по его вогнутой поверхности ногтем:
— Надо. Да только баббиту на складе — с гулькин нос.
— Миленький, что же делать? Будь ласка, придумай что-нибудь.
Старик еще сердитее зашевелил усами:
— Что я, академик, что ли, придумывать… — Но подшипник положил рядом на верстак.
— Идем, — сказала Полина Мокиевна и повела меня через всю мастерскую. И опять парнишки-рабочие разглядывали меня со своей «высоты», а один, большеротый, кудрявый, с хитрыми глазами, пригнулся и состроил мне рожицу.
Кабинет Полины Мокиевны находился рядом, за стеной. Почти все место в нем занимали железная печь да письменный стол. В кабинете негде было повернуться, его разгораживала пополам брезентовая занавеска, подвешенная к потолку на стальной проволоке.
Полина Мокиевна шагнула за край занавески, я увидел там спинку железной койки, а потом услышал стук умывальника. Возвратилась Полина Мокиевна уже без ватника, в серой вязаной кофте, и я увидел, что никакая она не толстая, а очень складная и даже молодая.
Она была почти такая же молодая, как наша мама. Только мама темнобровая, а у Полины Мокиевны волосы золотистые и влажные от умывания брови почти белые.
— Вы что, так вот здесь, прямо на работе, и проживаете?
— Прямо и проживаю.
— А дом где? Разве дома у вас нет?
Полина Мокиевна подвинула ко мне бумагу, ручку с пером:
— Пиши заявление.
Глава 13
ОДНОГЛАЗЫЙ КУЗНЕЦ
Ну вот, написал я заявление, а Полина Мокиевна прочитала его, свернула трубкой и говорит:
— Все! Теперь беги до хаты.
— До какой хаты? — говорю я.
— Ну, домой, значит. Приказ в конторе подпишут к вечеру, а стало быть, зачислят на работу и прикрепят к столовой лишь с завтрашнего дня.
— А Павел Маркелыч? Он же рассердится. Он же у вас вон какой.
— Кто? Пыхтелыч? — засмеялась женщина, да вмиг спохватилась, прикрыла рот ладонью: — Ой, что это я!
Потом отняла руку и, озорно усмехаясь, погрозила мне пальцем:
— Не вздумай вслух Павла Маркелыча так назвать. Он и в самом деле рассердится. Это его за глаза у нас хлопчики так называют, а я, глупая, повторила. Беги домой.
— Нет уж, я лучше к нему пойду.
— Так без обеда останешься!
— Не останусь. У меня с собой есть. В кармане.
Я похлопал по карману пальто, в нем лежали рукавицы.
Честно говоря, пошел я к Павлу Маркелычу без особой радости, только потому и пошел, что боялся его ослушаться. Что бы там ни говорила Полина Мокиевна, а своим неприступным видом и обещанием поставить на «сурьезную» работу, «на клапана», он нагнал на меня страху.
Мастер и в самом деле поставил меня на клапаны. Только работать с ними оказалось не так страшно, хотя он и заставил меня раз пятнадцать повторить, что нужно делать, как делать, да еще и припугнул:
— Запорешь хоть один клапан — полетит к лешему весь мотор! Чувствуешь?
— Чувствую.
— Ну, то-то.
Клапаны тракторного двигателя похожи на стальные грибы с тонкой ножкой. Они то плотно закрывают, то открывают круглые отверстия для прохода в мотор горючей смеси. Под ними смесь взрывается, ударяет вниз, в поршень, и приводит в движение весь трактор.
Если клапан закрыт плотно, то вся сила взрыва употребляется с пользой. Если клапан прилегает неплотно, то и часть взрывной силы вылетает без толку назад. Тогда двигатель работает как худой насос, трактор тащится едва-едва.
Каждый клапан надо было притереть к месту так, чтобы его края блестели, как зеркало. А сама притирка исполнялась просто. Зажмешь отвертку в коловорот, упрешь ее в прорезь на шляпке клапана и — пошел крутить! Накручивай да время от времени подливай две-три капли мазута со стеклянной пудрой. Пудру рабочие готовили сами, разбивая молотком в мельчайшую пыль осколки стекла. Павел Маркелыч первым делом отправил меня за осколками.
Он глянул поверх очков повдоль верстака, оглядел шеренгу ребят:
— Юрей! А ну, покажи парню, где видел стекла.
Тот большеротый, хитроглазый опять скроил рожу, бросил возиться у тяжелых тисков, громко заорал:
— Я нянька, да?
— Что, что? — сверкнул очками старик. — Сам-то давно от няньки отстал? А ну, не рассуждать!
Повторной команды Юрка дожидаться не стал. Он схватил с верстака брезентовые рукавицы, шлепнул меня по шее: «Идем, тютя!» — и выскочил из мастерской. Юркины приятели заржали, я разозлился.
Я догнал Юрку на улице, дал затрещину, Юрка полетел в снег. Я думал, он опять заорет, начнет крыть почем зря, но он лежал — руки-ноги крестом — и удивленно хлопал глазами:
— Ты чего?
— Это тебе за няньку. А сейчас дам за тютю.
Юрка ловко взвился на ноги, поймал мою руку, завернул за спину.
— Ой! — сказал я.
— Квиты? — спросил Юрка.
Я стиснул зубы, для прилику потерпел, помолчал, потом ответил:
— Квиты.
Юрка отпустил меня, стал отряхиваться:
— А ты, оказывается, сердитый.
— А ты заедливый.
— Это я так.
— Ну и я так. Где стекла-то, показывай.
Битые стекла валялись в куче мусора под зернистым снегом за мастерской. Мы быстро наполнили карманы острыми, скрежещущими осколками. Юрка сунул тонкие рукавицы за пазуху, подул на озябшие руки, кивнул на приземистую, попыхивающую дымком избушку невдалеке:
— Зайдем?
— А что там?
— Кузница. У меня там друг в молотобойцах. Васька Филин. У него самосад есть.
В маленькой кузнице плавала сизая гарь и пылал огонь. Пылал он в кирпичном закопченном горне. То лиловые, то белые языки пламени пронизывали горку угля, охватывали лежащий там обрубок железа. Он светился.
Спиной к нам, лицом к огню стоял кузнец в заячьей шапке. По его торопливым движениям, по лохматой шапке я сразу признал в нем того заполошного мужика, что был у конторы. Он длинными клещами подгребал угли, покрикивал:
— Давай, давай! Еще чуть-чуть!
Рядом с горном стоял и дергал за веревку коренастый парнишка в больших валенках. Парнишка был без пальто, в одной распоясанной грязной рубахе. Веревка, которую он держал, была перекинута через блок под черным потолком; она поднимала и опускала кожаный мех. Этот мех, будто безрукое, безногое существо, пошевеливал широкой спиной, натужно пыхтел, и пламя в горне пылало ярче.
Я подумал о парнишке: «Это и есть Васька Филин, Только на филина он не похож».
Квадратный, крепкий, как кряж, с темной челкой, с узкими глазами на круглом лице, парнишка больше смахивал на японца. В ответ на Юркин приветственный возглас он ничего не сказал, только стрельнул в нашу сторону глазами-щелками и опять стал смотреть на кузнеца.
А тот всунул клещи в самый огонь, скомандовал:
— Товсь!
Васька бросил веревку, поднял на плечо тяжеловесный молот и, раскорячив короткие ноги в широких валенках, встал к наковальне.
Кузнец выхватил из огня раскаленную железину. В лапах клещей она светилась, как вишня. Описав круг, она легла на гладкую поверхность наковальни, по ней побежали темно-фиолетовые тени окалины, и она стала похожа на яркий полураскрытый бутон цветка.
Кузнец перехватил клещи в левую руку, в правой у него оказался молоток. Он легко, быстро пристукнул молотком по горячей железине и сразу опустил его на зеркало наковальни. «Стук!» — очень ясно проговорил молоток. «Дзвень!» — готовно откликнулась наковальня.
Васька скривил рот, произнес: «Ы-ых!» — и наотмашь бухнул молотом. Искры сыпанули желтым ливнем, а кузнец слегка повернул железину и опять пристукнул молотком. И вот — пошло:
Стук! Дзвень! Ых! Бух!
Стук! Дзвень! Ых! Бух!
Я смотрел на мелькание угластого инструмента, на озаренных огнем рабочих и видел: происходит удивительное.
Вот только что под молот лег невзрачный обрубок железа, и вдруг он стал превращаться в красивый шестигранник с ровным отверстием посредине. Был обрубок — стала гайка. Была просто железина — стала вещь! Одно превратилось в другое, и это было чудо.
Я и потом, всю жизнь, не перестану удивляться умению рабочих рук превращать одно в другое, будь это руки слесаря, плотника, столяра — чьи угодно. Но тогда, у наковальни, среди железного звона, работа кузнеца и его помощника показалась мне почти волшебством. Она показалась мне той сказкой, в которой добрый волшебник поднимает свою палочку и обращает серого паука в белогрудую ласточку, дождевую каплю в утреннюю звезду, пыльный камень в яркий цветок.
Когда кузнец бросил гайку остывать на пол, рядом с горкой других, откованных раньше; когда он, сверкнув зеленым глазом, сказал: «Ну, ёж твою корень, теперь и покурить можно!» — я уже был навеки влюблен и в кузнечное дело, и в самого кузнеца, и даже в Ваську. И я горько сожалел, что попал на работу в мастерскую, а не сюда.
Васька опустил на землю молот, молчком поднял из темного угла овчинный полушубок, накинул на плечи и уселся на деревянную скамью близ горна. Он вытянул одну ногу вперед, неспешно запустил руку в карман штанов и вытащил за шнур пузатый матерчатый кисет.
Васькино медленное действо перед закуриванием сразу напомнило мне печника Бабашкина. Только печник свертывал «козью ножку», а Васька соорудил себе папироску иного сорта. Он раздвинул двумя пальцами горловину кисета, достал оттуда прямоугольный обрывок газеты, загнул корытцем и всыпал в него щепоть ядовито-зеленой махры. Махра эта известна под названием «самосад», а еще лучше — «самодер».
Васька лизнул край обрывка, ловко повернул его в пальцах, и у него получилась тугая короткая папироса с тонко закрученной пипкой на конце.
Сунув самокрутку в рот, Васька щедрым жестом протянул кисет мне. Я помотал головой. Васька удивился и молча преподнес кисет Юрке. А тот, хотя и напустил на себя важности, хотя и старался все сделать, как Васька, да все равно у него так здорово не вышло. Юркина самокрутка тут же расклеилась, часть табака просыпалась на грудь.
По-моему, чем держать такой форс, лучше не курить совсем. И я не курил.
Однажды летом дядя Сережа забыл у нас на крыльце коробку с папиросами, и я стянул одну, папиросину. Она была длинная, тонкая, заманчиво пахла. Придерживая рукой карман штанов, чтобы не гремели сворованные на кухне спички, я убежал с добычей за наш сарай.
Я спрятался там в дремучем, розовато цветущем пустырнике, в лопухах, и приступил к запретному, а потому давно желанному делу. Поджег папиросу, с великим шиком зажал меж двумя пальцами, во всю силу потянул раз, потянул два, на третий — закашлялся. А на четвертый — земля вдруг пошла самолетом вверх, небо повалилось вниз, все тело мое скрутила страшная тошнота, и я пал на четвереньки. В этой жалкой позе я простоял долго.
Я слышал, как меня ищут дома, кричат, но в ответ не мог произнести ни слова. Пришел я в себя лишь вечером, когда меня обдуло холодным ветерком, и с той поры такое мучительство над собой больше не проделывал.
Пока я припоминал свой небогатый курцовский опыт, Васька выхватил голыми пальцами из горна красный уголек, прикурил и, с усмешечкой кося на Юрку, сказал:
— Дружок-то у тебя интеллигентный больно. Не желает с рабочим классом самодер курить.
— Цигару ему надо. Американскую! — хихикнул Юрка. Видно, затрещину мою он не забыл и радовался случаю отомстить.
— Сам ты цигара! — отрезал я. — Смотри вон, вся фотография в махорке. Даже на губах налипло.
Юрка выдернул папиросу изо рта, поспешно утерся всей пятерней и поглядел на ладонь. Он и в самом деле поверил, что у него на губах табак.
Васька, дурашливо дрыгая валенками, повалился на лавку, зареготал, а кузнец усмехнулся и сказал одобрительно:
— Так их, ёж твою корень! Нашли, дураки, чем хвастать. Отравой.
Он придвинулся ко мне, и вблизи лицо его показалось жутковатым. Оно словно было слеплено из двух чужих друг другу половинок. Левая сторона будто спит, а правая давным-давно проснулась. Левый глаз плотно закрыт неподвижным веком, бровь продавлена глубоким шрамом и не шевелится, а вот правая сторона — вся живет, вся двигается и, приветливо моргая зеленым глазом, улыбается мне.
— Что, на лешего похож? — спросил о себе кузнец.
— Не очень, — слукавил я.
— Похо-ож… Это меня белофинская кукушка в тридцать девятом клюнула. Слыхал про таких?
О финских кукушках я, конечно, слыхал. Так называли вражеских снайперов, которые стреляли с елок по нашим бойцам во время недавней войны с белофиннами.
А кузнец заругался:
— Всю жизнь нас клюют, с самого семнадцатого нам мешают! А теперь вот не только мешают — к горлу лезут. Ну, ничего. Мы, ёж твою корень, тоже стреляные, у нас тоже хватка есть.
Он стиснул кулачище, опустил на скамейку. Скамейка хрустнула.
Кузнец посидел, помолчал, успокоился. Потом опять обернулся ко мне и вдруг стал разглядывать:
— Постой, постой. Ты чей будешь-то?
И тут же громко, на всю кузницу, сам ответил:
— Мать честная! Да ведь ты Коли Никитина сын. Точно?
— Точно. А вы откуда знаете?
— Марку видно! — дружелюбно ткнул он в мой лоб жестким пальцем, а я машинально провел по тому месту ладонью и точно так же, как Юрка, оглядел ее.
— Какую марку?
Тут мальчишки захохотали уже надо мной, а кузнец, радуясь собственной догадливости, заговорил:
— То-то давеча у конторы стою, думаю: «Где я этого пацана видел?» А оказывается, это я, глядя на тебя, Колю вспомнил. Папку твоего. Письма-то от него получаешь?
Я сразу сжался, а кузнец тоже вдруг остановился и досадливо повел головой. Повел и, притворяясь, что вроде бы ничего такого не произошло, продолжил разговор:
— Больно вы, брат, похожи. На работу к нам поступил? Молодчина. Небось к Пыхтелычу попал?
— Угу.
— Ну, ничего. К нему все на
первую обкатку попадают. Старик он — сухарь, но ничего. Делу научит.
Кузнец усмехнулся, насупил правую бровь и ворчливо, точно так, как это выходило у Павла Маркелыча, пробубнил:
— Чувствуешь?
— Чувствую, — улыбнулся я.
— Но ты и ко мне забегай. Забегай почаще. Зовут-то меня знаешь как? Ван Ванычем зовут. Все так зовут, и ты так зови. Твой папка меня тоже Ван Ванычем звал. Я его — Колей, а он меня — Ван Ванычем. Вот какие пироги, ёж твою корень!
Словами кузнец сыпал быстро, повторял их по нескольку раз. Выговаривал каждое слово ласково, особенно когда говорил о моем отце. И мне нравилось, что называет он отца «Колей», говорит о нем: «Твой папка…»
Грустно и нежно стало у меня в груди от этих слов. Кузнец ни разу не сказал о том, что были они с отцом друзьями, но я это понял и так.
А вот Юрка мне совсем разонравился. Уж больно ему хотелось взять верх надо мной, особенно при людях. Он и «цигару» ввернул специально для этого. А когда увидел, как запросто разговаривает со мной кузнец, как примолк и стал слушать наш разговор хохотун Васька, то Юрке совсем стало невмоготу. Он встал, швырнул окурок, придавил пяткой валенка и сказал командирским голосом:
— Ну, хватит, хватит! Людям работать надо. Потопали.
Глава 14
ПАВЕЛ ПЫХТЕЛЫЧ
Мастер встретил нас неласково:
— Где пропадали? Небось махру смолили, в кузнице сидели?
Я чуть было не сказал: «Немножко посидели», — да увидел: Юрка мигает мне. Я промолчал, а Юрка стал разгружать карман и сердито приговаривать:
— Сидели, сидели… Посидишь тут! Стекло-то, чай, пришлось из-под снега выковыривать. Все рученьки обморозили.
Юрка старательно подул на пальцы, но старик все равно заругался:
— Комедию не ломай! Вставай к верстаку — нагреешься. Ты тоже берись за дело, — сказал он мне.
Старик был не то что кузнец. С ним много не наговоришь. И я забрал стекла, отправился на свое рабочее место в углу.
Работа здешняя тоже совсем не та, что в кузнице. Там дело сразу видно, а здесь как начал я клапан крутить, так час кручу, два кручу, а работа вроде бы и не подвигается. Ведь шлифовать не ковать, дело это очень медленное.
И вот, то ли от монотонного верчения коловорота, то ли оттого, что к этому времени я без еды окончательно ослаб, но слышу: творится со мною неладное. Творится со мною такое, как будто я опять накурился.
Пол подо мною стал покачиваться, свет в глазах — то ярче, то темней, голова закружилась, и ладно, я сидел перед мотором на корточках, а то бы не удержался, грохнулся.
В углу мастерской поблескивал жестяной бак с кружкой на цепочке. Я встал и, держась за стену, пошел к нему. Две полные кружки холодной воды освежили меня, и я снова взялся за коловорот. Только крутил теперь не так быстро и все думал: «Поскорей бы конец смене». А она все не кончалась и не кончалась.
Я опять было наладился к баку, да тут подошел Павел Маркелыч. Он выдернул клапан из гнезда, протер тряпкой, повернул к свету:
— Готов.
— Ну да? — Я выхватил из рук мастера клапан и тоже стал разглядывать. Отшлифованные края блестели, темные точки раковин исчезли.
— Получается, — сказал Павел Маркелыч. — Не больно быстро, но получается. Утром приступишь к другим клапанам.
— Разве смена кончилась? — обрадовался я.
— Для кого не кончилась, а для тебя — шабаш. Подростков отпускаем раньше, — безо всякой радости прогудел в усы старик. Он все разглядывал мою работу, но его кустистые брови так низко нависли над очками, что невозможно было понять, доволен он мной или недоволен.
А вокруг шла веселая суета. Совсем как в школе, когда кончается последний урок. Мальчишки с грохотом убирали инструмент в ящики и один за другим выскакивали на улицу. В мастерской остались только пожилые слесари да мы с Павлом Маркелычем.
Я тоже поднял коловорот с пола, глянул, куда бы его пристроить, а Павел Маркелыч сказал:
— Погоди. — И полез рукой в карман пиджака, вынул вчетверо согнутый лист бумаги: — На вот, держи.
— Что это?
— Пока вы с Юркой махрой дымили в кузнице, Полина Мокиевна принесла на тебя приказ.
Не успел я развернуть бумагу, не успел разобраться, что там напечатано, а старик уже медленным, торжественным движением вознес надо мной палец, басом изрек:
— Чувствуешь?
— Чувствую, — прошептал я, и голова у меня опять закружилась.
А мастер, смотрю, опять полез в карман, только теперь в другой. Он вынул тряпичный сверток, положил на левую ладонь и правой рукой раскинул углы тряпицы. Раскинул — и передо мной возникла горбушка хлеба.
В кармане она чуть помялась. Коричневая, маслянисто-глянцевая корка с одного края отскочила, и внутри мякоти был виден прозрачный, с горошину, комок соли. Когда хлеб замешивали, комок не успел растаять, он так в горбушке и запекся.
Рот наполнился слюной. Я закрыл глаза. Если бы Павел Маркелыч сейчас спросил меня: «Хочешь?» — у меня бы не хватило сил отказаться. Но он не спросил, он просто сказал:
— На! Я видел, как ты бренчал кружкой по баку. Бери — и шуруй в столовую. Хлебушко умнешь там с приварком.
В руке его появился талон с чернильной печатью, и талон этот он положил поверх горбушки. А еще он через круглое стекло очков подмигнул мне и этим окончательно сбил с толку.
Я теперь не знал, как понять этого человека. То он вроде бы хмурится, вроде всем недоволен, а теперь вот поди ж ты — взял и отвалил мне горбыль хлеба! А, спрашивается, за что? Неужели за притертый клапан?
Что ж, может быть, и за клапан. Ведь молчал же Пыхтелыч целых полдня о приказе и отдал бумагу только тогда, когда увидел, как я работаю. Вот уж прав так прав был кузнец, когда назвал его сухарем. Сухарь он и есть, да по мне — побольше бы таких сухарей! Зря я думал перебегать от него в кузницу, напрасно я его побаивался. Кто-кто, а наш-то Пыхтелыч — человек на все сто!
С такими вот хорошими думами, с хлебом за пазухой, с первым своим рабочим документом в кармане я вышел из мастерской. Погода к ночи установилась тоже славная. В синих сумерках порхали крупные и невесомые, как белые бабочки, хлопья снега. От них исходил мягкий свет. Видно было еще далеко. Я даже разглядел, как из окна церкви струится кухонный дымок. Ощупав сквозь пальто горбушку, я прибавил ходу. Я вновь шагал мимо длинного навеса, мимо темных, громоздких машин. Холодные, неподвижные, они терпеливо ждали тут своего часа.
Они дожидались той поры, когда руки людей прикоснутся к ним, и разбудят их, и напоят прохладным бензином, и направят в путь по теплой майской земле. Направят, чтобы пахать и сеять, направят, чтобы следом за ними земля взметнула тугие колосья и чтобы покатился по этим колосьям ласковый солнечный ветер и разнес по всей округе радостный запах спеющей ржи.
И хорошо было думать, что руки эти, которых так ждут машины, будут не чьи-то, а теперь и мои тоже…
Но вдруг я замер. Под высоким навесом, с краю тихо дремлющих машин я увидел немыслимое. Там стоял новенький комбайн «Коммунар», а гладкий металлический бок его был чудовищно распорот. Разодранное железо торчало внутрь. В темной глубине раны, словно белые кости, топорщились перебитые планки решёт, качались обрывки цепных передач, мертвенно и морозно мерцали изломы расколотых шестерен. Мне стало жутко и холодно.
Я долго ощупывал острые края раны. Я хотел понять, что произошло с этой новенькой, еще ни разу не повидавшей полевых просторов машиной, да так ничего и не понял. Я постоял, послушал печальную тишину вокруг и пошел к церкви.
А там было тепло и шумно. Там стоял дым коромыслом. Вернее, не дым, а кухонный пар.
Церковь под столовую приспособили не так давно. Древние, нахолодавшие за много лет стены еще не успели прогреться. Пар оседал на них крупными каплями. Капли медленно сползали вниз. Они смывали наспех нашлепанный на древнюю штукатурку мел, и сквозь промоины, как сквозь дождь, смотрели большеглазые лики святых. Святые удивленно разглядывали меня, разглядывали толпу ребят, которые тискались и горланили возле новой кухонной перегородки, у раздаточного окна.
Ребята совали в окно талоны, получали глиняные чашки с супом и, подняв их над головой, орали: «А ну, поберегись, а то на кумпол вылью!» На «кум-пол» никто никому не выливал, только капал, но и пробиться к окну было невозможно.
Я встал на цыпочки, глянул поверх толпы и тут вижу: у самого окна стоит Юрка. Он тоже заметил меня. Одной рукой он уцепился за окно, другую тянет ко мне через головы:
— Давай талон!
Вся куча мала зашумела:
— В очередь! В очередь!
А Юрка хоть бы что, не испугался:
— Не орите! Ему домой аж на станцию топать. Давай, Леха, талон.
Когда мы с ним уселись за длинный, грубо сколоченный из толстых досок стол, Юрка весело сказал:
— Что такое очередь? Очередь, по науке, это большая толпа людей, желающих пройти без очереди.
Я оглянулся на толчею у окна, засмеялся и вдруг спросил Юрку:
— Что это ты какой?
— А какой?
— То нос драл, командира из себя строил, а теперь вот заступился.
— Так то теперь! Теперь ты своим стал, эмтээсовским. А мы своих не задеваем.
— Значит, днем-то проверял меня?
— Значит, проверял.
— Не знал я! А то бы не так тебе у мастерской всыпал.
— И я бы всыпал. Моли бога, что мы с Васькой тебе в карман горячую гайку не подсунули. Кузнеца постеснялись.
— Вы что же, всех новичков так встречаете?
— Всех до единого! — радостно сообщил Юрка и, взяв ложку, добавил: — Меня тоже так встречали.
— А зачем?
Юрка не донес ложку до чашки, удивился:
— Как зачем? Правило такое! Раз новенький, значит, проверочка. Может, ты в работяги-то и не годишься? Может, ты нюня, трус и ябеда? Вот недавно один пацан не успел прийти, а сразу побежал к парторгу ябедать.
— Горячую гайку ему подсунули?
— Точно! Горячую, — ухмыльнулся Юрка.
Я не стал в эту тему вдаваться дальше. Я и сам недалеко ушел от Юрки с Васькой. Я сам не раз пробовал устраивать такие же проверочки новичкам в школе. Устраивал до тех пор, пока не схлопотал от одного парня по шее. А как схлопотал, так сразу понял: никакая это не проверка, а просто охота одному мальчишке покомандовать над другим, сильному покуражиться над слабым. А вот Павел Маркелыч, тот в самом деле проверял меня. Испытывал не какими-то глупыми подвохами, а работой, и за это я благодарен ему. За его строгость благодарен, за его добрый хлеб благодарен.
Но и на эту тему я распространяться не стал. Мне не терпелось узнать от Юрки об искалеченном комбайне.
— У нас таких не один, — ответил Юрка, — у нас таких три. Не видел, там дальше стоят?
— Не видел.
— Те еще страшнее. Это не здешние комбайны, украинские. Их Полина — парторг — привезла. Их много было, «Коммунаров»-то. Целый эшелон, и все как с иголочки, прямо с Ростсельмаша. Полина их к себе домой, на Украину сопровождала, а тут — хлоп! — война. Эшелон попал под бомбежку, и почти все комбайны сгорели. Комбайны сгорели, и Полина домой не угадала, а оказалась с остатком эшелона у нас.
— Это бомбой так распороло комбайн?
— Нет, этот — из пулемета. У фашиста, у гада, бомбы кончились, так он, сволочь, из пулемета врезал.
— Из пу-ле-ме-та? — повторил я, и передо мной вновь возник тот случай на ленинградской дороге, о котором рассказала Тоня. Возник уже совсем по-иному: грозно и явственно.
Раньше все, что приходилось услышать о войне, я переживал как дурной сон или как страшноватый рассказ из книги — прочитал, поужасался и забыл! А вот комбайн изувеченный был наяву. Комбайн-то, расстрелянный фашистами, был здесь, почти рядом со мною.
Я и сейчас еще чувствовал, как саднит кожа на моих пальцах, порезанных об острые края его рваной раны.
Это был первый увиденный мною самим знак войны, и — что говорить! — я притих.
А Юрка заметил и говорит:
— Не дрейфь. Залечим. Руки при нас — вот они… Кой-что уже умеют! — И он, то ли хвастаясь, то ли всерьез, раскрыл на столе свои ладони.
Они были по-мальчишечьи пухловаты, но кожа на них крепко зароговела.

Глава 15
ЖЕНЬКА
В тот вечер я бежал домой чуть не вприскочку. Я всю дорогу насвистывал, обсуждал сам с собой все, что произошло за день, и выходило — день этот для меня хорош! Если не вспоминать о комбайнах, то весь он из радостей, весь из удач.
«Тов. Петренко П. М.» устроила меня на работу — это раз. Я познакомился с Юркой и Васькой — это два. Я встретил отцовского друга, кузнеца, — это три. Я справился со своей первой работой так, что даже получил от Пыхтелыча вроде бы премию, а это уж и четыре и пять сразу!
А сам старый мастер? А сам хмурый Пыхтелыч? Разве это не он, в конце концов, повернул все мои дела так, что я теперь вот бегу с работы и на все лады насвистываю? Конечно он! Конечно из-за него у меня такое славное настроение, и теперь Пыхтелыча надо бы чем-то отблагодарить.
А чем — я уже придумал. Только бы вот успеть повидаться с Женькой, только бы он раньше времени не завалился спать. А что касается моего зарока ни у кого, а тем более у Женьки, не просить подмоги, так на сегодня можно сделать скидку. Сделать ради Пыхтелыча.
В поселок я вошел по глубоким потемкам, домой забегать не стал, а сразу свернул к Женьке.
Женькин дом был приземистым, как барак, с гулким бесконечным коридором. Жили в доме станционные машинисты, кочегары, сцепщики — многосемейный рабочий люд. В коридоре по летним вечерам, бывало, всегда кишела ребячья мелюзга, а теперь тут темно, холодно. Гремя и раскатываясь мерзлыми валенками, я дошагал до конца коридора, нашарил в потемках Женькину дверь. Нашарил, послушал — за дверью постукивало.
Я вошел и первым делом увидел посредине комнаты соткнутые боками низенький старинный буфет и высоченный фанерный шкаф. Торчат они посередине комнаты нелепо, но с умыслом. Не со своим, конечно, умыслом, а с дяди Сережиным. Ими дядя Сережа выгородил для Женьки уютную каморку. В каморке Женька спит, в каморке Женька мыслит. Здесь у него «научная лаборатория». В «лаборатории» все, даже постель, завалено гайками, проволокой, винтами и всякими склянками-банками.
Вход в Женькино обиталище постоянно закрыт ситцевой занавеской-задергушкой. Каморка закрыта и сейчас. Постукивание доносится оттуда, а в жилой комнате никого нет. Я крикнул в занавеску:
— Профессор, вы дома?
Стук с той стороны прекратился, там что-то звякнуло, скрипнуло, зажужжало — занавеска сама поползла в сторону. Я шагнул в «лабораторию» — занавеска опять закрылась.
Женька сидел на кровати, в руках держал медный, похожий на сковородку, маятник от старинных часов. Маятник был мятый, Женька выпрямлял его деревянным молотком прямо на одеяле. Увидев меня, мой приятель удивленно заморгал, потом обрадовался.
— Явилось красное солнышко! Сто лет не был. — Он хлопнул маятником по одеялу: — Садись!
— Рассиживаться некогда, у меня дело.
Тут я вспомнил, что не поздоровался, и солидно, с полупоклоном, как положено трудовому человеку, протянул Женьке ладонь:
— Здорово, Евгений.
Женька ничуть не поразился такой церемонностью, руку пожал:
— Привет. Какое дело?
— У тебя баббит цел?
И я рассказал о Павле Маркелыче, о том, как он бранился, что нечем подновить старые тракторные подшипники.
— А мы, Женька, помнишь, насобирали баббита полную банку. И ты унес баббит к себе, сказал: «Нужен». Так, может, он теперь не нужен?
Баббит — тяжелый и плавкий, как свинец, металл — собирали все станционные мальчишки. Крохотные кусочки его мы выискивали на деповской свалке, складывали в какую-нибудь ржавую посудину и плавили на костре. Нам нравилось наблюдать, как серые крупицы металла начинают от жары блестеть, округляться, а потом в какой-то почти неуловимый миг словно оживают и вдруг сливаются в одну крупную горячую каплю. Капля, когда остынет, приятно тяжелит ладонь; ее так чудесно подкидывать и ловить.
Вот про этот баббит я и напомнил Женьке. А Женька смотрит в сторону и молчит.
— Что молчишь? Здесь он у тебя или нет?
— Здесь-то здесь, — наконец говорит Женька и лезет под кровать. — Здесь-то здесь, — говорит он, и тут, смотрю, вытаскивает из-под кровати никакую не банку, никакой не баббит, а целый паровоз!
Ну, не то чтобы целый, не то чтобы настоящий, — вытаскивает он модель, да только это такая модель, что, если бы не размеры, от настоящего паровоза ее и не отличить.
Все в ней есть, все у нее на месте. И шатуны, и колеса. И тендер, и будка. Есть даже медный свисток; и только в тендере, где полагается хранить уголь, стоит пузырек с керосином и с ватным фитилем, а над пузырьком жестяной запаянный котелочек с трубками.
При виде такого чуда я и о деле своем позабыл. А Женька чиркнул спичкой, поджег фитиль, говорит:
— Считай до сорока трех…
Я досчитал до сорока и только сказал: «Сорок один!» — как в паровозе забулькало, словно в чайнике, над маленькой трубой взвился пар и раздалось отчетливое, самое взаправдашнее: пшшш!
Я сказал:
— Сорок два! — и паровоз опять откликнулся: пшш! пшш!
Я крикнул:
— Сорок три!
Женька просунул палец в будку, что-то надавил, медный свисток пропел: — ту-ту! — и… паровоз покатился.
Он покатился по кругу. Он заехал под кровать, выскочил оттуда, пробежал мимо задней стенки буфета, опять нырнул под кровать — и так все время по кругу, потому что Женькина каморка была малой и узкой.
Я уселся на пол и, не спуская с паровоза глаз, прошептал:
— Ну, Женька! Ну, Буслаище! Когда хоть успел-то? Я о нем ничего и не знал.
— Не заходил, вот и не знал. Самоходную модель я придумал давно, только все не было подходящих колес.
Женька протянул руку, на ходу выхватил из паровозного тендера горелку, пламя погасло, паровоз тихо вздохнул: уф… пуф-ф… — и остановился. Женька тоже вздохнул:
— Вот и все. Теперь он опять будет без колес.
— Почему?
Я потрогал низенькие толстенькие колеса и сразу все понял. Хитроумный Буслай изготовил их из баббита, за которым я припожаловал.
Он заполнил расплавленным металлом круглую жестяную банку, а потом слесарной пилой порезал банку, словно колбасу, на равные доли-колеса. Колес получилось восемь штук. Все они теперь стояли на месте — четыре слева, четыре справа, — я опять их потрогал и сказал:
— Жалко.
— Мне самому жалко, — насупился Женька, достал с полки коробку от детского конструктора, вынул махонький гаечный ключ и принялся отвинчивать колеса.
— Может, не надо? Может, в мастерской обойдутся? — придержал я Женькину руку.
— А если не обойдутся? Тогда, выходит, из-за меня трактор не починят?
— Почему не починят? Все равно починят. А про тебя и знать никто не будет.
— Зато я сам теперь знаю! — нахмурился Женька и решительно одно за другим стал снимать с паровоза колесики.
Он сложил их высокой стопой, приказал мне подняться и опрокинул стопу в карман моего пальто. Карман сразу огруз, пальто перекосилось.
— Забирай. Тут не на один подшипник хватит.
Я стал застегивать пальто на все пуговицы, сказал:
— Ничего, Женька. Может, колесики мы потом какие-нибудь другие придумаем. Не хуже этих.
— Ладно, ладно, — притворился Женька веселым и задвинул ногой в угол бесколесный паровоз. — Дело сделано. Вот только жаль, если новых колес не будет, то не с чем ехать в Ленинград.
— Куда ехать?
— В Ленинград. Во Дворец пионеров. Говорят, там есть такая детская выставка, где принимают всякие модели и даже премии дают. Даже путевки в Артек.
— Ты в уме? Какой тебе Ленинград? Какой Артек? Война же.
— Война кончится. А когда кончится, я сразу паровоз в чемодан, и — в Ленинград. С Тоней в одном поезде!
На меня словно потолок рухнул. Я даже пригнул голову и говорю хриплым, неизвестно откуда взявшимся басом:
— С кем, с кем в одном поезде?
— С Тоней. А что?
— Да нет, — говорю, — ничего. Ты сам про Ленинград надумал или Тоня тебя туда позвала?
— Пока сам. Я ведь модель эту толком и не достроил. А вот когда дострою, тогда и Тоне скажу. А что? Неладно что-нибудь? Так ведь я, Ленька, если путевку в Артек и получу, я ее Тоне отдам. Пусть она там от войны отдохнет, от нашей голодной житухи.
— Отдашь? Тоне?
— Отдам. Тоне.
— Ну, ясно. Вопросов больше нет. Отдавай, действуй!
— Да что с тобой, Ленька? То был человек человеком, разговаривал, улыбался, а теперь как мышь на крупу. Живот, что ли, схватило?
— Ничего не схватило. Домой пора. Отдергивай занавеску!
Вот так и оборвалась наша встреча. И это все из-за Тони. Не помяни Женька Тонино имя, ничего бы и не произошло.
А теперь я бежал один по ночному поселку и думал: «Вот они какие бывают, друзья-то! Вот ведь что узнаешь, когда лезешь к ним за подмогой. Нет, уж видно, как решил я жить в гордом одиночестве, так и жить мне теперь одному. Одному-одинешеньку, даже без Тони, и на этом — точка!»
Я хотел повернуть назад, швырнуть колесики под Женькину дверь, да взвесил их на ладони и ссыпал обратно в карман.
Утром в мастерской Павел Маркелыч их долго разглядывал, вертел так и сяк, все взглядывал на меня поверх очков, все расспрашивал:
— Так говоришь, тот малец сам изготовил?
— Сам. Кто же еще.
— Голова-а! Маста-ак. Без токарного станка сотворил колесо, как по циркулю. А не жалел он, что изделие свое нарушил?
— Откуда я знаю?
— Жале-ел. Конечно, жалел. Разве не пожалеешь? Ведь это, паря, с головой сработано. Вот, смотрите, как надо мозгами-то шевелить, — совал Пыхтелыч своим ученикам Женькино изделие. — Не похохатывайте, а смотрите и чувствуйте! А ты, Никитин, спасибо ему передай. Скажи — выручил. Скажи — взамен этих я ему на станке новые колеса выточу. Стальные. Совсем как настоящие.
А мне за все мои старания Пыхтелыч даже и словечка доброго не сказал. И опять получалось: Женька перебежал мне дорогу. Перебежал даже здесь, в мастерской.
Глава 16
КАРАВАЙ
Раньше о рабочей жизни я думал: ну что там особенного? Вовремя явился, вовремя приступил, честно отработал и — до свидания! Но на самом деле получалось не так. Даже прибежать ко времени в мастерскую для меня целая беда.
Чтобы не опоздать на работу, мне приходилось подниматься чуть не с первыми петухами. Я очень боялся пропустить этот час и всю ночь вроде бы и спал, и в то же время не спал. Все ждал, когда будет половина шестого.
При таком сне-полусне я только маялся, а не отдыхал, и нашу жестяную кошку-ходики прямо возненавидел. Лишь открою глаза, протяну руку, включу свет — она уже зыркает. Она будто дразнится: «Тик-так! Сла-бак… Тик-так! Сла-бак… Я вот и капли не дремала, а смотри — веселая».
Мне хотелось трахнуть по ней подушкой, да что толку? Лучше о ней не думать, лучше думать о том, какой я ужасно одинокий, обманутый друзьями человек, но все равно — сильный.
И вот помаленьку становится легче, я одеваюсь, топаю босиком к печке, достаю валенки, поворачиваюсь все быстрей да быстрей: начинается мой рабочий день.
Я выскакиваю из домашнего тепла в зябкую тьму улицы. Я с разбега, прихватывая руками снег, набираю охапку дров и лечу с ними на кухню. Я громыхаю чугунами, растапливаю печь, чищу картошку, несу очистки в козий сарай, и все это — бегом. А затем на скорую руку завтракаю, на клочке газеты пишу печатными буквами для Наташки памятку и — ухожу.
Передо мною сумеречная даль, перевитая ночною метелью дорога. По ней надо пробежать три километра, а там, как вбежал в мастерскую — тут же и за работу. Мои новые друзья тоже как в дверь — так сразу к верстакам. И вот слышишь: тут запошаркивал по железу рашпиль, там зарокотала ручная дрель, а там запостукивал по зубилу быстрый молоток. Ночной передышки будто и не было. Будто никто отсюда и не уходил.
Да ведь если бы мы могли, если бы люди умели, как те моторы, работать без передышки, то вряд ли бы кто из них ушел из мастерской даже и на эти короткие ночные часы.
Каждое утро, когда все уже разберут инструмент, Полина Мокиевна медленно подходила к стенке, где чернела тарелка репродуктора, и, поймав шнур со штепселем, оборачивалась к нам, как бы спрашивая: «Ну, товарищи, что-то сегодня услышим?»
А потом опять медленно, словно боясь, словно не решаясь, втыкала штепсель, и репродуктор вздрагивал, и суровый, жесткий, как будто бы и не человеческий, а железный голос диктора врывался в мастерскую.
То, что говорил этот человек, должно быть, по-иному, более спокойно, произнести было и невозможно. Бой с фашистами шел уже у самой Москвы, он шел весь ноябрь, и о переменах к лучшему пока было не слыхать.
От этих вестей, от этого железного голоса на душе становилось угрюмо и неприютно. Я глядел на своих товарищей и понимал: у них на душе — так же.
Их серые, истощенные лица были нахмурены, даже скорбны. Но каждый так же, как я, тянулся взглядом, а то и подшагивал к своему напарнику, к своему соседу. В эти минуты никто из нас не хотел оставаться сам по себе. Суровые вести нас словно бы придвигали друг к другу ближе, крепче.
Только тут, в мастерской, я понял, почему тогда, в осенних, шедших на восток эшелонах, заводские люди держались так тесно. Их соединяла одна общая тревога, одно общее дело.
А наша общая работа тоже становилась все напряженнее. Павел Маркелыч и рта не давал никому раскрыть, погадать вслух, что будет, если фашисты прорвутся. Он просто не верил в это и, хотя зима еще только началась, твердил о весне:
— Душа из нас вон, а к первому теплу всю технику — на колеса! Мы тут не харчи переводить поставлены, а фронт подпирать, я так понимаю: нагрянет весна, и каждый наш трактор в поле будет что танк в бою. Чувствуете?
— Чувствуем! — хором отвечали мы.
— Ни черта вы не чувствуете. Димка Сидельников да Вовка Пронин ушли вчера в столовую и прохлаждались там сверх положенного чуть не полчаса. Киселя ждали. Клюквенного. На сахарине! И какой это дьявол сказал им, что кисель будут давать? Это ты, Юрка, придумал?
Юрка делал невинное лицо, отворачивался.
— Не отворачивайся. Все равно знаю, каков ты гусь. Веньке Макушкину кто петушиное перо сзади вставил? Не ты? В кузницу за махрой кто бегает? Не ты? Смотри, Юрка, доберусь до тебя, сниму с нарезки гаек, пошлю варить радиаторы.
Но снять Юрку с нарезки гаек мастер не мог. Гайки нарезались вручную, и нарезать их лучше Юрки мог только сам Пыхтелыч. А вот меня на моем деле мог бы заменить каждый. Проще и хуже моей работы была только та, которой мастер пугал штрафников. Радиаторы варить, а точнее — вываривать из них накипь, надо было на улице, на холоду. Причем возиться приходилось с едким раствором каустической соды, которая разъедала не только твердокаменную накипь, но и одежду, и обувь, и кожу на руках.
И вот я старался, накручивал моторные клапаны. Старался так, что даже и в кузнице за всю первую неделю не побывал ни разу. Но зато я полностью закончил один мотор, и мастер посулил: «Притрешь второй — поставлю нарезать болты». А нарезка болтов — это уже, считай, повышение. Это нисколько не хуже Юркиных гаек — и я торопился, нажимал на коловорот. Нажимал так, что даже Юрка сказал:
— Смотри, в Америку дырку провертишь!
Работа пошла веселей еще и потому, что в нашем доме стало чуть-чуть сытнее. На то время, пока я хожу в учениках, Полина Мокиевна выхлопотала для меня колхозную стипендию: полмешка ржаной муки. Мука была серая, несеяная, на треть из отрубей — но я не променял бы ее ни на какую другую, даже на манну небесную, о которой не раз слыхивал от Анны Федоровны.
Это был мой первый заработок. И когда я привез его на санках домой, то долго сидел перед мешком на кухне, все пересыпал мягкую теплую муку в ладонях. Пересыпал, вдыхал ее чуть слышный запах, и передо мною вставало душное летнее поле, вставали струйки знойного марева и колыхание спелой ржи без конца и без края.
Когда-то, совсем еще глупым и маленьким, я заблудился в таком вот поле, во ржи. Как я туда попал — не помню, помню лишь, как испугался. Я стою меж высоких стеблей, будто на дне золотого колодца, и, куда ни гляну, — везде, кроме желтой стены, ничего не вижу. А над головою зыбким куполом смыкаются колосья. А вокруг такая тишь, словно на земле не осталось никого — ни людей, ни птиц, ни кузнечиков. Даже голубое небо отодвинулось куда-то страшно далеко.
И вот мне показалось, из этой тишины я никогда не выйду. Тут навсегда и останусь, тут пропаду, И я закричал. Закричал, как зайчонок, тонко и потерянно. И, помню, на мой крик отозвался мужской голос. Желтая стена с шумом раздвинулась, и предо мною возник отец. Он стоял в белой рубахе, загорелый, большой — рожь ему по грудь. Он поднял меня над колосьями, над всем жарким полем, засмеялся:
— Ну что кричишь? Ну что? Не в море потонул — в хлебах. Радуйся.
Вряд ли я тогда понимал, о какой радости говорит отец. Я понял это лишь теперь, когда мы с ребятами заварили из муки ржаную кашу и сели вокруг чашки за стол. Я сидел, смотрел на Шурку с Наташкой, на их мелькавшие ложки и ублаготворение думал: «Проживе-ем! Теперь-то проживем. Теперь малыши за мною как за каменной стеной!»
А чтобы совсем устроить в доме пир, я решился испечь каравай. Пусть хоть раз малыши наедятся хлеба вволю, да не какого-нибудь, а моего, трудового, рабочего.
К этому непростому делу я приступил поздно вечером, когда ребята легли спать. Муки я извел фунта полтора. Я весь перемазался в тесте, но когда, наконец, задвинул сковородку в горячую печь, оттуда пошел такой аппетитный дух, что я зажмурился и покрутил головой.
Я сел напротив печки, стал глядеть на заслонку и ждать. Сижу, жду, а в кухне пахнет все сытнее, а дом наполняется запахом печеного хлеба все сильнее. И тут, слышу, за переборкой в спальне скрипнула кровать, и — топ-топ-топ — застучали по полу босые пятки. Я оглядываюсь: а в кухню заявляется Наташка, за Наташкой шлепает полусонный Шурка.
— Ой, — говорит Наташка, — пирогами пахнет! Я проснулась и думаю: мама приехала.
— Я тоже думал, что мама, — сказал Шурка, влез на скамейку и притих рядом со мной.
Наташка пристроилась по другую сторону, а я им обоим говорю:
— Сейчас, ребята, каравай будет. Вкусный, горячий, как при маме.
Говорю, а сам поглядываю на них и вижу: что-то они у меня не очень обрадовались. Сидят, руки на коленях сложили, как старички, и думают о чем-то другом. Наверное, о маме.
Я и сам думаю про маму. Я сам по маме истосковался, да только не подаю вида. Но тут не вытерпел, сказал:
— Знаете что? Вы хоть одну-единственную ночь можете без меня побыть?
— А зачем? — говорят они.
— Затем, что я хочу съездить к маме. Накануне вечером уеду, ночью побуду у мамы, а к утру и домой вернусь. Ладно?
Шурка — бестолковый и маленький — сразу же надулся:
— Ничего не ладно. Я к маме тоже хочу.
Наташка — побольше, поумнее — спросила:
— Ой, Леня! Да как поедешь-то? Тебе билета не продадут и ночью в больницу не пустят.
— А я с бойцами. А в больнице попрошу, скажу: «С работы!» — пустят. Ты, Наталья, не бойся. Я быстро обернусь. А от вас маме поклон передам; знаешь, как мама обрадуется!
— Где он, поклон-то? У нас поклона нет, — опять пробубнил сердитый Шурка.
Наташка прыснула:
— Эх ты, Шурка-жмурка! Не понимаешь ничего. Это только так говорится — «поклон», а на самом деле мы каравай маме пошлем. Вот он испечется, и пошлем. Верно, Леня?
— Верно!
Шурка наконец милостиво согласился:
— Ну, ладно, поезжай. Только и нам дай каравая попробовать.
Настроение у всех поднялось, да тут и каравай напомнил сам о себе. В кухне запахло горелым, я кинулся к печной заслонке.
— Ну, — говорю, — готово. Доставайте нож, будем пробовать.
А сам выхватил заслонку; обжигаясь, уронил; подул на пальцы; схватил кочергу и давай вытягивать из печного нутра сковороду.
Тяну, смотрю и глазам не верю! На сковороде вместо каравая черная лепеха, и от нее столбом валит синий дым.
— Воды! — кричу я Наташке. — Воды! — И пока она искала кружку, сам сдернул с гвоздя полотенце, обмакнул в полное ведро и накинул на каравай. От полотенца пыхнул пар, каравай зашипел, потом все стихло.
— Вот, елки-палки, чуть не сгорел, — сказал я и немного погодя приподнял полотенце. Каравай уже не дымился, лишь на чистом полотенце отпечатался темный круг.
Я взял нож, проткнул угольную корку, из дырки опять фукнул пар.
— Ага! Внутри-то не сгорело, — сказал я и развалил ножом каравай пополам. Развалил, раздвинул обе половинки — из них на стол потекло горячее тесто.
Шурка макнул в тесто палец, отдернул, засмеялся:
— Ну и каравай!
Я шлепнул Шурку по руке — не лезь! Шурка заревел, а Наташка вздохнула!
— Эх, Леня. Муки-то сколько перевел. В больницу маме что теперь повезешь?
— Не бурчи! Сам знаю. Из этого теста я блин для мамы завтра испеку. А сейчас — спать, спать на печку полезайте. Нынче печка вон какая теплая, зря топил, что ли?
А на самом исходе ночи я услышал громкий стук, дребезжание. Стучало так, словно кто колотил по печной заслонке. «Надо же, — подумал я, — во сне и то заслонки снятся», — повернулся на другой бок, а стук раздается вновь. Он все громче и громче. И, слышу, гремит не заслонка, а кто-то бухает в оконную раму, да так здорово, что все стекла ходят ходуном.
Кто это? Неужели мама приехала?
Я вскочил на четвереньки, нашел в потемках край печки, нашарил ногою приступок, спрыгнул на пол, подбежал к окну. Стекла от кухонного тепла растаяли, и вижу: маячит на морозном лунном свету какой-то мужик. Ворот у него поднят, лицо замотано шарфом, кто такой — не понять.
Я ответно стукнул, мужик присунулся к окну. И тут гляжу: да это же вроде Валерьян Петрович? Ну конечно, он и есть!
Я кинулся открывать дверь. Одной рукой скидываю крючок, другой включаю свет, а гость уже на пороге. Он чуть не бегом вбежал в дом, впустил за собой холод, застучал мерзлой обувью, крепко захлопнул дверь, обернулся и вот встал — ну, вылитый Дед Мороз!
Шарф и шапка у него заиндевели, иней топорщится вокруг губ, словно борода, и даже на бровях иней и на ресницах иней.
— Ой, Валерьян Петрович, откуда вы?
— Погоди, Ленька, сейчас… — просипел он простуженно, скинул прямо на пол рукавицы и стал искать на подбородке завязку шапки. Ищет, а пальцы не гнутся и все не могут ухватить узелок.
— Ну-ка, дерни, — подставил он мне подбородок. Я дернул узел, и шапка развязалась. Он скинул ее, размотал шарф, утер ладонью лицо, и борода исчезла. Только нос так и остался ярко-розовым, а толстые щеки — словно натертые свеклой.
— Уф, — говорит, — теплота у вас какая, прямо Африка! Ну и дрыхнуть ты, Ленька, здоров! Я чуть все окна не высадил.
— Да нет, — отвечаю, — не очень здоров. Я бы и сам теперь встал. Мне на работу скоро. Но вы-то откуда?
— Откуда? — И тут, смотрю, Валерьян Петрович становится совсем прежним Валерьяном Петровичем. Глаза хитро прищурились, озябшие лиловые губы смеются: — Откуда? Чуть не с того света, Ленька. С тормозной площадки.
— Как, — говорю, — так?
— А так. В управление дорожных школ ездил, тетради добывал. Тыщу штук достал! Достать-то достал, а домой ехать не на чем. Вот и занесла меня нелегкая к охраннику на товарняк, на тормозную площадку. Ох, и наплясался я, Ленька, — всю жизнь так не плясывал!
Он ходит в пальто по комнате, дует в ладони, посмеивается, а я как подумал об этой самой площадке, о том, как летит она с грохотом сквозь морозную ночь, а ледяной ветер хлещет, бьет, лупит по ней так и сяк, и охранник в бараньем тулупе свернулся там зябким калачиком, а Валерьян Петрович в своем драповом полупальто мечется, прыгает, жмется, ищет хоть какого-нибудь укрытия, а укрытия никакого там нет, и терпеть надо не час, не два, а целых четыре, — и у меня самого даже заломило кости.
— Ну, Валерьян Петрович, я бы там не выстоял. Я бы там пропал, замерз бы насмерть. Да вы раздевайтесь, раздевайтесь. Хотите, самовар поставлю?
И я сразу кинулся на кухню, зазвенел о ведро ковшом, загремел самоваром, а Валерьян Петрович кричит:
— Не надо! Я на минуту. Я вам от мамы поклон привез.
Я чуть не обронил холодный самовар на ноги, бросился обратно:
— Правда?
— Почему же не правда? Вот, пожалуйста, доказательство.
Валерьян Петрович распахнул пальто. Распахнул, а там у него перепущен через плечи шнур, а на шнуре плоский пакет в белой тряпке.
— Извини, брат, за такой способ. Рук две, а в руках были тетради.
Он положил пакет на стол, а с печки раздался Шуркин голос:
— Гляди, Наташка, гляди! Вот он какой, поклон-то. В тряпочке. А ты говорила: «Просто так!»
Валерьян Петрович привстал на носки, заглянул на печку:
— Проснулись, главные жители?
— А мы давно проснулись. Мы давно все слышим, — сказали ребята и полезли с печки.
И вот мы с Наташкой теребим гостя, спрашиваем: «Как мама? Когда приедет?» А Шурка давит ладошкой пакет, говорит:
— Там хрустит что-то.
— Не знаю, что там хрустит. Сами посмотрите. А мама ваша идет на поправку, и тебе, Ленька, от нее привет и благодарность.
— А мне? — говорит Шурка.
— Тебе в первую очередь.
— И мне? — спрашивает Наташка.
— И тебе.
А мне даже жарко стало от таких хороших слов, и я бормочу:
— Чего уж там… Чего уж… Какая благодарность… Я вот и съездить-то к ней все не могу.
— А ездить она и не велела. Она сама скоро приедет, недельки через полторы.
— Через полторы? — пригорюнилась Наташка. — Ой, как долго. У меня все терпелочки кончились.
— Потерпишь, — сказал я солидным голосом. — Ты лучше спроси, как хоть там в больнице. Кормят-то хорошо, досыта?
Валерьян Петрович посмеиваться перестал, развел руками:
— Так ведь как везде, Леня. По карточкам. Надо бы лучше, да сам знаешь…
— Исхудала мама?
— Болезнь никого не красит.
Валерьян Петрович хотел еще что-то сказать, да тут вдруг Шурка радостно пискнул и говорит:
— Ой!
А Наташка тоже:
— Оё-ёй!
Я обернулся и вижу: пакет они распороли, а из пакета… А из маминого пакета сыплются сухари! Сухарей много. Целая горка. Ребята изумленно трогают их, а потом как запрыгают, как завизжат:
— Мама хлеба прислала! Мама нам хлеба прислала!
Я смотрю на сухари и говорю:
— Что это? Неужто она? Зачем же вы взяли, Валерьян Петрович?
А он тоже смотрит, плечами пожимает!
— Так ведь не знал же я! Она без меня пакет зашивала.
Я чуть не заплакал!
— Эх, Валерьян Петрович, Валерьян Петрович, надо было посмотреть. Ведь это же она и там, в больнице, для нас свой хлеб прячет.
А маленьким хоть бы что. Поморгали, послушали да и говорят:
— Леня, а можно мы попробуем?
Я махнул рукой:
— Пробуйте! Ешьте. Не отправлять же назад.
Они принялись нахрустывать сухарями, на рожицах у них счастье, а у меня на душе — мрак. Ведь это я их собирался накормить хлебом, а вышло так, что накормила их опять мама.
Валерьян Петрович тоже стоял грустный, потом он поднял с табурета шарф, шапку:
— Ладно, Леня. Мне надо идти. У меня в дежурке на вокзале тетради остались. Я к вам завтра зайду.
Он направился к двери, я пошел его провожать. Но у порога он остановился, глазами показал на стол, на сухари, на ребят и тихо сказал:
— Маме твоей, Ленька, цены нет. Помни об этом всю жизнь. Всю, до последнего денечка.
Я опустил голову, он потрогал мои волосы:
— Ну, будь здоров. Не унывай.
— Спасибо вам.
— Это маме твоей от меня спасибо.
Я хотел спросить, за что же он-то благодарит маму, да дверь уже захлопнулась, и только холодный пар обдал мои голые ноги и раскатился по полу.
Глава 17
ТЕМНЫЕ ДОРОГИ
К своей рабочей жизни я стал уже привыкать, не мог лишь привыкнуть к пустынной зимней дороге, потому что приходилось бегать по ней в потемках одному. О гордом одиночестве, о том, как я докажу Тоне и Женьке, что мне хорошо и без них, легко думалось дома на теплой кухне или в мастерской, а вот в ночном поле на дороге было не очень-то уютно и даже тоскливо.
Ребята, которых я узнал на работе, все жили по своим домам в здешнем селе или ночевали в общежитии за церковью. Ночевал тут и весь взрослый народ. Слесари, трактористы, комбайнеры не заглядывали к своим семьям неделями, и все это называлось казарменным положением и по-иному быть не могло. Теперь каждый работал не только за себя, но и за тех, кто ушел на фронт. Это лишь нам, пацанам, давали поблажку: время от времени разрешали выходной да отпускали на ночь к дому. Но все равно попутчиков у меня не было, вот я и бегал в одиночку через пустынные поля.
Бегал и каждый раз нажимал так, словно кто за мною гонится.
Боялся я волков. О них что ни зима, то расходились по всей округе страшные слухи. Тут они, слышь, проломили на колхозной ферме старую крышу и порезали всех овец; там они повстречали на ночной тропе деревенскую учительницу, и осталась от этой учительницы лишь раскиданная по снегу стопа школьных тетрадей.
Рассказ об учительнице действовал на меня ужасно. Видение лежащих на истоптанном снегу тетрадей преследовало меня до той поры, пока однажды утром Павел Маркелыч не спросил:
— Чай, боишься один через поле бегать?
Я сознался:
— Боюсь. Волков боюсь. Они, говорят, учительницу задрали.
Старик презрительно махнул рукой:
— Опять учительница! Да я сколько зим на свете живу, столько о ней и слышу. Как зима — так учительница, как новая зима — так опять учительница. А я, милок, шестьдесят третью зиму распечатал, так считай, сколько их, учительниц-то, пропало? Брехня все это.
— Может, на одну когда и нападали?
— Выдумки! Не нападали. Если бы напали, мы бы эту учительницу знали по имени. А ты хоть раз имя слышал? Нет, не слышал. Вот и получается — враки. Это люди со злости навесили на волков такой грех. В отместку за овец, за телят. Вот эту живность, если сторожа растяпы, волк берет — это точно. А человека — нет. Человека он сам боится. Да что тут волк? Нынче двуногие волки появились.
— Двуногие? Вы о ком?
— О Миньке. О бывшем твоем соседе. Вот волк так волк. Не трусцой по суметам, а с ножом да на лыжах. Не зря в народе говорят: на волка помолвка, а пастухи шалят.
Сказал он это, глянул на меня поверх очков, а у меня даже коленки ослабли. Я думал, про Миньку давным-давно все позабыли, а он — вон он, опять! Я сразу глаза в сторону и говорю этаким скучным-скучным голосом, будто мне все равно:
— Где же он их взял?
— Что взял?
— Да лыжи!
— Украл где-нибудь. А может, кто и подарил. Петых дураков на свете немало, в лицо Миньку не каждый знает. Лыжи-то у него, слышь, охотничьи.
Душа у меня совсем ухнула вниз, я Пыхтелычу говорю:
— Неужели? Откуда известно, что охотничьи?
— Так его ведь сегодня под утро чуть-чуть не накрыли. В здешней овчарне замок ломал.
— Сломал?
— Не успел. Кузнец спугнул. Он у нас ни свет ни заря на работу ходит, все первым, все первым норовит. А тут в потемках и слышит: железо
хрустит на овчарне. Кузнец — туда, Минька — от него. Кузнецу, лешаку, не шуметь бы; к нам бы в общежитие потихоньку; мы бы Миньку сообща враз накрыли, а он, дьявол одноглазый, сам кинулся. Да где ж ему!
— А по следу почему не пошли?
— Пошли! Но откуда пошли, туда и вышли. Минька — зверь опытный: дал круг, всех запутал, а сам по зимникам, по накатанным дорогам — шасть в леса, там и канул. Он, волчина, знает: рабочим людям по борам да по чертолому бегать некогда, а милиции на весь край — полтора человека; разве что из области пришлют.
Пыхтелыч говорит, я слушаю и чувствую: чем дальше, тем больше грызет меня совесть. С одной стороны, совесть, с другой стороны, страх. По совести-то я понимаю: надо бы мне признаться, что лыжи у Миньки наши; а, с другой стороны, страх подсказывает: «Помалкивай! Ведь на лыжах не написано, чьи они. Правда, на лыжах есть борозда, по которой Миньку намного проще разыскать, но и про борозду говорить нельзя. Как скажешь, так тем самым петым дураком Павел Маркелыч тебя и назовет. А потом сбежится вся мастерская, все будут спрашивать, как это я умудрился подарить Миньке лыжи. Вон Павел-то Маркелыч так и говорит: „Подарил!“ А попробуй докажи, что не подарил. Пока докажешь, хватишь горюшка».
В общем, стою и маюсь, а старик говорит!
— Что ежишься? Напугал я тебя? Наплюй, не бойся. И волков не бойся, и Миньки не бойся. Минька — молодец против овец, а против молодца и сам овца, Оттого и в дезертиры подался. Он теперь год на здешних дорогах не покажется, если не изловят да под наганом не поведут. Бояться тебе некого, помяни мое слово.
Так и не открылся я Павлу Маркелычу про лыжи, но слово его помянул скоро.
Накануне моего выходного дня подошла к концу работа над вторым мотором. Над тем самым, за который мне было обещано повышение. Я думал, управлюсь с ним часам к восьми вечера, а провозился допоздна. В мастерской в это время оставались лишь старики-рабочие, и Павел Маркелыч все выпроваживал меня!
— Иди, иди, потом доделаешь. Ты ведь у нас семейный. Вроде как отец-одиночка.
Рабочие на эту шутку посмеивались, тоже говорили: «Иди!» — но я уперся на своем. Новый день мне хотелось начать с новой работы, и домой я собрался чуть не в полночь.
Когда я вышел на улицу, падал густой снег. Я миновал темные постройки села и вышел в поле. По безветрию шагалось легко. Вверху не светилось ни звезды, ни месяца, пушистые снежные хлопья так и сыпались вокруг, но дорогу я различал хорошо. Я видел на ней то полузасыпанный клок соломы, то черный, словно нарисованный тушью, сухой кустик конского щавеля на обочине; а потом по краю зимника побежали еловые вехи. Это сельские ребята-школьники приготовились к вьюгам и понаставили еловых лап до самой станции. За белой мглой снегопада я смутно различил и темную полосу ельника, в котором ребята лап наломали.
Дорога от села идет везде по чистому полю, и только в одном месте к ней примыкает лес. В этом месте невысокий холм, когда на него поднимешься — считай, ты дома, считай, твой путь уже пройден, только не гляди с холма в ту сторону, куда растекается лесной клин. В зимнюю пору картина там мрачная. Лесная глухомань слилась там с глухим, непроглядным небом, и веет оттуда лишь полярным холодом и свинцовой угрюмостью. Еловые крепи в той стороне дремучие, простираются на сотни верст, и нет в них ни единой живой души, кроме глухарей да белок-летяг.
А еще где-то там скитается ставший уже не человеком, а полупризраком дезертир Минька. Но я стараюсь об этом не думать. Я стараюсь думать о другом.
На днях подходит ко мне Полина Мокиевна и спрашивает: «Привыкаешь?» — «Привыкаю, — говорю я, — а что?» — «Да ничего. Хочу вот узнать, не подумываешь ли ты о комсомоле». Но я и рта не успел раскрыть, она сама как замашет рукой да как захохочет. «Ой, — говорит, — что это? Совсем забыла: ведь ты у нас еще маленький, у тебя еще годы не подошли!» Ну, а мне обидно. Я и в самом деле стал думать про комсомол. Ладно, думаю, вы там как хотите, считайте мои года, не считайте — я своего добьюсь. Вот растает снег, все равно напишу заявление, ответа ждать не стану, а сяду на трактор и укачу на пашню. И в первый же день выдам две или три нормы! А на другой день — столько же. И так каждый раз! Вот тогда им и в голову не придет отказать, они и думать забудут о моих годах. Сами крикнут: «Ты чего, товарищ Никитин, насчет заявления не интересуешься? Заходи!»
Крикнуть-то они крикнут, да вот как мне быть с моей тайной про лыжи? Неужто опять придется помалкивать?
Мысли мои снова повернули на пастуха, и никак я от них избавиться не могу. Я даже встал и чуть не вслух подумал: «Вот наваждение!» — И только так подумал, только остановился, вдруг вижу: катит на меня какое-то пятно. Сквозь снег его понять трудно, только вижу: оно живое, оно спешит прямо ко мне, и тут я со страху сел на валенки и без голоса ахнул: «Минька!»
А пятно надвигается, все растет. И вот я вижу: это совсем и не человек, а как будто бы собака, Собака-то собака, да больно уж велика, таких больших собак, пожалуй, не бывает. Я вдруг начинаю понимать: это волк; ясно понимаю — и не могу шевельнуться.
А волк все ближе. Он катит торопливым шагом и словно меня не видит. Когда между нами осталось всего ничего, он остановился, замер и поднял узкую длинную морду. Он встал чуть боком, и я увидел мощное, спокойное тело, приспущенный хвост и острые уши над крупной головой.
В нем не было ни страха, ни злобы ко мне. Было в нем только удивление: что, мол, за пень такой на пути торчит?
И тут ужас мой начал помаленьку проходить. Нет, он не то чтобы прошел совсем, но я почувствовал, что могу вздохнуть, и я судорожно вздохнул. Я вздохнул так, что даже всхлипнул, а волк вскинул голову еще выше, словно вот только сейчас и разглядел меня.
Потом он в один мах перескочил канаву за дорогой и по-прежнему ровно, спокойно, будто меня здесь и не было, потек по снежной целине. Я еще успел увидеть его скользящую тень на опушке леса, а затем его скрыли снег и деревья…
Пришел я в себя возле собственного дома. Как долетел до него — не помню. Помню только, что долго стоял на крыльце, отпыхивался и думал: «Прав был Павел Маркелыч: волк человеку не страшен. Конечно, не страшен, когда стоишь дома на пороге и держишься за дверную скобу!»

Глава 18
ПРО ЛЮБОВЬ И ПРО СТИХИ
В дом я вошел тихонько — думаю: ребят бы не напугать, — а они сами как бросятся ко мне, как закричат:
— Мама! Мама!
У меня внутри опять все оборвалось, и я тоже закричал:
— Что мама? Что с мамой?
А они, дурачинушки, захохотали, запрыгали вокруг:
— Ага, испугался, испугался! А мы чего-то знаем! А наша мама скоро домой приедет.
Насилу я добился от них толку. Оказывается, заходил Валерьян Петрович, он дозвонился сегодня до больницы, и с ним разговаривала сама мама и обещала вот-вот выписаться. А еще он передал, что станционное начальство посулило дать лошадь, и надо бы загодя, пока невелик снег, приглядеть проезжий путь к делянке, к дровам.
От таких новостей я и сам выкинул коленце. Как был, в пальто, в сырых валенках, так и пошел по всей комнате отбивать чечетку. Шурка — руки врастопырку — пошел следом за мной, а Наташка закричала:
— Ленька, сумасшедший! Ты хоть валенки свои черношлепые сними. Не видишь разве, какие у нас нынче полы — белые, намытые!
Валенки мои были теперь и в самом деле как у заправского тракториста. За эти дни в мастерской я так их отделал, что из сереньких они стали черненькими, словно побывали в печной трубе. Я снял их, закинул на печку, встал босыми ногами на чистый, еще немного влажный пол и спросил Наташку:
— Кто-нибудь из маминых подруг приходил?
Наташка заулыбалась, заложила руки за спину, сделала хитрые глаза:
— Вот и нет! Угадай, кто.
А Шурка — тот сразу выпалил:
— Сама мыла! Вместе с Тоней. Пришла Тоня, сказала: у тебя, Ленюшка, сегодня какой-то день, вроде праздника, и все надо сделать как в праздник. Какой у тебя, Ленька, сегодня праздник? Говори! Они мне ничего не рассказывали.
— Какой праздник? — спрашиваю я Наташку и вижу: подол у нее и теперь еще мокрый — обшлепала, пока примывалась.
А она смеется:
— Сам знаешь, какой. Вместо маленькой работки тебе сегодня побольше, поглавнее работу дали. Ведь верно? Сам же вчера мне об этом говорил, а я в школе рассказала Тоне.
Ну, тут уж я совсем возликовал. Надо же: я-то, олух, на Тоню дуюсь, а она — вот как! Она праздник для меня придумала. Я-то, голова дубовая, на нее всякую ерунду выдумываю, за версту от нее бегаю, а она мне — праздник. Ну что тут скажешь? Ничего не скажешь!
Я только и сделал, что насунул Наташке на голову свою шапку. Насунул так, что оттуда лишь Наташкин курносый нос торчать остался, и весело сказал:
— Молодец, Наталья! Умница! Благодарность тебе — в письменном виде, в приказе!
Наташка расцвела еще больше, потянулась к окну:
— Посмотри, что мы еще придумали. Нравится?
По всему окну разбежались голубые плоские фигуры. Девочки вырезали их из тетрадных обложек и приклеили прямо к стеклам. Были тут островерхие елки; были огромные сквозные снежинки, и был тут парусный голубой корабль с вымпелом на мачте.
— Корабль Тоня вырезала. Она сказала, что любит корабли, а этот точно такой, как в Ленинграде на одной высокой башне. Правда, красиво? А днем будет еще лучше. Завтра днем Тоня опять к нам забежит. Ты дождешься ее, в лес не уйдешь?
И опять я на это ничего не сказал, только чувствую: хорошо мне. Вместо ответа я потрогал на стекле в самом низу какую-то округлую, замусоленную нашлепку, спросил:
— А это что? Огурец?
— Сам ты огурец, — обиделся Шурка. — Разве не видишь, это колобок. Это я сам вырезал! Смотри, он кругленький, как в сказке. Катится и поет: «Я в амбаре метен, по сусеку скребен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел». Вот как!
— Ну, значит, и ты молодец, — сказал я Шурке. — Я сразу-то не понял, а теперь твой колобок мне очень нравится. Вот когда кончится война и в магазинах будет всего располным-полно, я получу получку и куплю тебе, Шурка, тоже хороший подарок.
— Какой? — Глаза у братишки так и загорелись.
Я посмотрел на Шурку, на его застиранную рубашку, на коротковатые, чуть ниже колен, штаны с одной пуговицей и подумал вслух:
— Костюмчик бы, Шура, надо. Красивый. Такой, как, помнишь, летом у поезда мы видели на одном мальчике.
— Матросский? — сказал Шурка.
— Матросский. Брюки длинные, рубаха с откидным воротником, а на воротнике якоря.
— И на шапке якоря.
— Да, и на ленточках якоря, а посередине золотая надпись: «Герой».
— Настоящая золотая?
— Настоящая золотая.
— Вот хорошо бы! — захлопал в ладоши Шурка, да тут же и добавил: — Только ты, Леня, мне еще книжечку хоть одну подари. Со сказками! Книжек-то в магазине после войны тоже, поди, много будет.
— Подарю, Шура, подарю.
— А мне туфли с пряжками! — потребовала Наталья.
— Тебе туфли с пряжками на длинных каблуках и шляпу с пером.
— Ой, мамочки! С пером! — пискнула тоненьким голоском Наташка, и мы так развеселились, что я едва загнал ребят в спальню. Но они и там все еще перешептывались, о чем-то лопотали, хихикали.
Наконец, слышу, Наталья угомонилась, тихо запосвистывала носом. Она всегда, когда засыпает, тихонько посвистывает, словно мышка.
А Шурка, слышу, все еще не спит, все ворочается.
— Ты что, Шурик, не спишь?
Он шепотом зовет меня:
— Леня, иди-ка сюда.
Я зашел за переборку в полутемную спальню, а он опять:
— Ко мне иди.
Я присел с краешка постели, пригнулся, и Шурка задышал мне прямо в ухо:
— Ты правда мне книжку подаришь?
— Правда.
— Так ведь мне, Леня, не одну книжку надо.
— Сколько же?
— Много. Целую стопу, лучше две. И чтобы все детские и все с картинками. И чтобы толстые-претолстые! А то у меня один «Колобок», да и та тоненькая. Перелистаешь — и жалко.
— Чего жалко?
— Что сказка кончилась. Ты, Леня, вот что, — заторопился Шурка и даже обхватил меня горячей рукой, чтобы я не ушел. — Если у тебя, Леня, денег не хватит, то костюм не покупай. В штанах я и в этих прохожу, а деньги мы все потратим на книжки. Ладно?
— Идет, — сказал я. — Ты давай спи и не думай об этом. Денег у нас хватит и на костюм, и на книги. Ведь я трактористом буду, а трактористы, знаешь, сколько зарабатывают? Да и папа к тому времени вернется. Ох, и заживем тогда!
— Как в сказке? Будем жить, поживать да добра наживать?
— Точно!
— И Наташке шляпу с пером купим? — вспомнил и опять засмеялся Шурка.
— Купим, купим. Ты спи.
Хорошо мне было в этот поздний вечер, а вернее — в ночь. И хотя я наработался за день крепко, да и после встречи на дороге, наверное, сдал не одну норму ГТО и по бегу и по прыжкам, а все равно, скажи мне кто-нибудь сейчас: «Пошли, Ленька, землю копать, камни ворочать!» — я бы пошел не задумываясь. Настроение у меня было такое, что я не знал, куда его девать.
И это все из-за того, что Тоня приходила к нам и придумала для меня праздник. А может, дело совсем не в празднике, а в чем-то совсем другом.
Конечно, если бы с кем-нибудь сейчас поделиться, хотя бы, например, с Юркой, то он бы наверняка окинул меня презрительным взглядом и наверняка бы сказал: «Ну, ясно! Влюбился». Но «влюбился» — не то слово. Совсем не то. Да и вообще это слово мне не нравится. Как услышу его, так сразу мне видятся хихикающие в классе по углам девчонки, видятся дурацкие записочки, которые эти девчонки суют друг другу во время уроков. Суют и делают вид, что им ужасно страшно, как бы эту записочку не перехватили мальчишки.
А из таких девчонок мне чаще всего представляется Фима-Серафима Сиротина. Вот кого, несмотря на фамилию, сиротой не назовешь! Ростом Серафима больше любой учительницы, глаза всегда удивленные, навыкате, губы держит бантиком, и раскрывает она их только для того, чтобы сказать басом:
— Ой, девочки, какую я историю слышала… Про лю-бо-оовь!
Помню, еще в шестом классе, когда «Тараса Бульбу» проходили, она отличилась. Учительница вызвала Серафиму, спрашивает:
— Скажи, Сиротина, кто был Тарас и в чем видел смысл своей жизни?
А Серафима стоит над партой, как коломенская верста, глазами хлопает и ни гугу.
Тогда учительница опять спрашивает:
— Так расскажи нам хоть вкратце, о чем книга. Что в ней больше всего тебе понравилось?
И тут Серафима выдала басом:
— Про лю-бо-оовь!
Мы все так и грохнули. Это «Бульба»-то про любовь? Ну и Фима! Ну и чадушко! Век другую такую Серафиму искать — нигде не найдешь.
Ну так вот, этой самой Серафиме вдруг ни с того, ни с сего приглянулся не кто-нибудь другой, а именно я. Правда, записочек она мне никаких не присылала, зато подсунула свой самодельный альбом. Каждая страница альбома была разукрашена собственноручными Фимиными рисунками, он весь топорщился от приклеенных картошкой открыток. И на всех рисунках, на всех открытках в альбоме все целовались. Целовались цветы, голуби, розовые кошки, кудрявые собачки, целовались прилизанные фотографические женихи и невесты. Стишки в альбоме были тоже все на один лад:
Дарю тебе собачку,
Прошу ее не бить,
Она тебя научит,
Как мальчиков любить!
На одной странице Серафима загнула уголок и на нем написала: «Секрет». Я уголок, конечно, разогнул и увидел там нарисованное сердце, а внутри сердца аккуратненько написано: «Леня».
Я страшно разозлился, страницу из альбома выдрал с клочьями, а потом взял красный карандаш и прошелся по самому первому стишку в альбоме. Стишок был вот какой:
Фима — роза,
Фима — цвэт.
Фима — розовый букет.
Там прямо так и было написано: «цвэт». Ну, а я, чтобы уж все получилось в Серафимином духе, взял да в слове «букет» букву «е» переправил на букву «э». Вышло: «Фима — роза, Фима — цвэт, Фима — розовый букэт». Исправленное я по-учительски дважды подчеркнул, внизу вывел основную Серафимину отметку «оч. плохо» и засунул альбом во время перемены хозяйке в парту.
Серафима альбом вынула, раскрыла, посмотрела: потом стала красной, потом зеленой, потом опять красной, а затем шагнула ко мне — да как при всех треснет меня этим альбомищем по макушке, аж звон пошел! На том сразу все и кончилось. С тех пор она в мою сторону даже не смотрела. Не смотрела до той поры, пока не выдался случай отомстить. Я думаю, с велосипедом-то Женькиным она нас тогда специально подкузьмила.
А вот для Тони я и сам был готов сочинять стихи. Но сочинять я не умел. Правда, во мне что-то такое пело и звенело в этот вечер, во мне словно бы звучала какая-то ласковая песенка, но когда я взялся за перо, попробовал эту песенку записать, то получилась одна сплошная чепуха. Сколько я ни бился, из-под пера выходили только такие вот невразумительные выкрики:
О Тоня!
Ах, Тоня!
Эх, Тоня!
Не хватало еще написать «Ух, Тоня!», тогда совсем бы получилось, будто я колю дрова и приговариваю: «Эх! Ах! Ух!»
Я и в самом деле измучился так, словно переколол поленницу. Да что там поленницу — клапаны шлифовать в мастерской и то было легче, чем писать стихи. Я и по комнате из угла в угол ходил; я и на кухню за холодной водой раз двадцать сбегал; я и затылок скреб, а дело как застопорилось на этих несчастных «Ах! Эх!» — так дальше и не двигалось.
И вдруг меня осенило. Из-под моего пера на бумагу легко и сразу легли такие вот строки:
Развернись, гармоника, по столику!
Я тебя высоко подниму!
Выходила тоненькая, тоненькая
— Тоней называлась потому…
Нет, это чудо чудесное придумал не я. Где уж мне! Это я вспомнил строчки из книги стихов, которую давным-давно листал в книжной комнате Валерьяна Петровича. Вспомнил всего лишь четыре строчки, а вот стихотворение целиком и фамилию поэта припомнить не мог.
Я уж совсем было собрался бежать за книгой к Валерьяну Петровичу, да спохватился: на дворе глухая ночь. Но я рад был и этим четырем строчкам. Я чувствовал себя так, словно вот только что тихо и долго плакал, мучился и вдруг увидел яркое солнышко. От этих стихов мне было легко-легко. И вот я подошел к окну и на голубых парусах Тониного кораблика четко вывел все четыре строчки. Думаю, придет завтра Тоня, глянет и удивится:
— Ой, откуда здесь такое?
А я тоже удивлюсь и отвечу:
— Не знаю, не знаю. Кораблик не я вырезал.
А потом, конечно, не выдержу, засмеюсь. Тоня тоже засмеется, и тут я ей расскажу, как целую ночь сочинял стихи, а написал на парусах в конце концов чужие.
Глава 19
ВОТ ТАК-ТО!
Наступило утро выходного дня, и чуть забрезжил рассвет, я уже был на ногах. Мне хотелось поскорее увидеть Тоню. Я хотел ее позвать с собою в лес. Дорогу к дровам надо было разведать сегодня же, а то если и в самом деле дадут лошадь, так дадут ненадолго.
Перво-наперво я управился по дому, а меж делами нет-нет да и поглядывал в окно. Я даже Наташку замучил одним и тем же вопросом:
— Так, говоришь, Тоня с утра обещала прийти?
— С утра, с утра, — кивала Наташка. А сама по случаю выходного дня разложила на столе цветные лоскутья, собиралась наряжать куклу.
Наконец Наташке я надоел, она обернулась:
— Вот пристал. Если тебе надо, так сбегай к Тоне сам да сам у нее и спроси, когда она придет.
Я постоял у окна еще минуты две-три, подумал: «Проспала, видно, Тоня», — и побежал к Бабашкиным.
Двор Бабашкиных, так же, как наш, за прошлую ночь побелел еще больше, но крыльцо и дорожка к нему старательно расчищены. Наверное, печник встал ни свет ни заря и, пока старуха готовила завтрак, ровнехонько, словно по шнуру, разгреб весь ночной снег деревянной лопатой.
Делал он это, должно быть, не спеша. Я даже представил себе, как в темноте он покашливал, посвечивал огоньком цигарки, покряхтывая, нагибался, отбрасывал в сторону щепки от пронесенных тут вчера дров, — словом, разминал косточки перед длинным трудовым днем.
День этот у печника подлиннее, чем у путейских рабочих. Раньше под его надзором состояли только казенные дома, а нынче и все хозяйские избы перешли под его руку. И вот ходит дед Николай по солдатским домам, чистит, подмазывает, подправляет печи. Делает он эту работу по вечерам, после той, что назначена ему начальством, и никакой платы за нее не берет.
Злая на язык Анна Федоровна, я знаю, говорит про печника: «Это он на старости лет решил безбожие свое замолить. В святые угодники собрался. Да только бог ему прошлого безбожия не простит, и господней благодати печнику не видывать».
Бог у Анны Федоровны получался скупым и злопамятным, весь в самоё Анну. Но не в нем дело. Богом Анна Федоровна лишь прикрывается, а не любит она Бабашкиных за другое. Она просто-напросто им завидует. Завидует, что вокруг стариков всегда люди, а вокруг нее — никого. Только и тут Федоровна виновата сама. Утешительных, бесплатных слов она может наговорить людям много, а делает для них — ничего. У Анны Федоровны зимой снегу не выпросишь, а вот у Бабашкиных все иначе. Они сладкие речи вести не умеют, а если кого нужно выручить — то пожалуйста!
Даже тропку к дому печник разгребает по утрам так широко и чисто, словно каждую минуту ждет гостей: «Милости просим, кто бы ты ни был, званый, незваный, а заходи!»
Но теперь дед Николай наверняка возится у чужой печки, а его старуха ушагала на стрелочный пост. Как чинно и важно она туда шествовала, я видел в окно, а иначе бы на свидание к Тоне сейчас не побежал.
Я хлопнул калиткой, промчался по разметенной дорожке, взлетел по крутой лестнице в сени Бабашкиных и сразу распахнул дверь.
Я влетел туда радостный и стремительный, да только тут же и осекся.
Я влетел туда чуть не с песней, со всей открытой душой, да только тут же и скис.
Тоня-то, вижу, совсем и не проспала. Она про меня и думать позабыла. Сидит себе за столом на чистой половине избы, перед нею разложены бумаги, стоит чернильница, а рядышком посиживает Женька. Вот так-то!
Ну, ладно. Посиживают и посиживают — это их дело. Это я еще стерпел бы. Но только я в дом, Женька — хлоп! — закрыл бумаги газетой, а Тоня — руки на газету и смотрит на меня растерянно.
Я даже здороваться не стал. Я им сразу говорю:
— Секретничаете?
— Секретничаем.
— От меня?
— От тебя, — отвечает Женька и нахально улыбается.
— Ну что ж. Мое вам с кисточкой! Продолжайте в том же духе, — говорю я и поворачиваю назад.
Тоня спохватилась, шепчет:
— Давай, Женька, скажем. Он ведь рассердился.
А Женьке хоть бы хны. Ухмыляется, рот шире ворот:
— Пускай. Пускай посердится. Ему не привыкать. Да это и ненадолго.
— Надолго, не надолго — дело не твое. Может, навсегда, — сказал я и так грохнул дверью, что загудел весь дом. И где-то со стены загремел и покатился по полу железный таз.
Тоня выскочила за мной:
— Леня, погоди. Мы же пошутили.
На крыльце она ухватила меня за рукав, а я уже ничего не понимаю. У меня от обиды в голове тьма, и тут произошло то, чего я сам не ожидал: я толкнул Тоню.
Я закричал:
— Пошутили? Ничего себе пошутили! Иди дальше дошучивай! — ну и — толкнул.
Нет, я не ударил Тоню. Я просто вывернул из ее пальцев рукав и отпихнул ее от себя. Но все равно вышло так, словно толкнул. Толкнул если не руками, так своим криком. Я сразу увидел, какими вдруг стали Тонины глаза. Они вдруг стали огромными и несчастными. И тут уж ничего не могло меня остановить. Я в два прыжка долетел до калитки, выскочил на улицу.
— Послушай! — донеслось вслед. — Мы сейчас к тебе приде-ем!
— Нечего слушать, нечего ходить, — огрызнулся я. — Иди сама слушай своего Женюшку. Секретчики несчастные!
Но самым-то несчастным человеком на земле теперь был я. Когда я прибежал домой, Наташка даже испугалась.
— Ты что, — говорит, — такой весь бледный?
— Ничего не бледный. У тебя резинка есть?
— Есть. В пенале.
— Дай!
Я схватил резинку, подбежал к окну, стер с корабля стихи, но после этого мне стало еще хуже. Я посовался из угла в угол, походил по комнате, потом говорю Шурке с Наташкой:
— Идите гуляйте, а я схожу в лес. Обед в печке, обедайте без меня.
— А ты скоро вернешься?
— К вечеру вернусь. Делянку только найду и вернусь.
— Только один не ходи. Смотри, в лесу страшно.
— Я ребят позову. Идите, идите.
Но ребят я звать не собирался. Конечно, вместо Тони и Женьки я мог бы созвать целый отряд — мало ли на станции мальчишек и девчонок, — да только никто мне теперь был не нужен. Никто!
Мне и о самом себе было думать тошно.

Глава 20
БЕЛЫЕ МАСКХАЛАТЫ И ВЫСОКИЕ ЕЛИ
Собрался я быстро. Я нашел ключи, открыл чулан, вынул берданку, разыскал за сундуком в сенях припрятанный от мамы тот, второй патрон и положил его в карман. У берданки был слабый спуск, и заряжать ружье загодя я поопасался.
Потом забежал на кухню, взял свой обеденный и вечерний хлеб, взял кремень и обломок напильника, которыми пользовался вместо спичек, присоединил к ним фитиль в жестяной трубке и вышел из дома.
Снег с ночи так и не переставал, он расходился все пуще, но было по-прежнему тепло и безветренно. Я открыл сарай, подбросил козе пару веников, снял с чердака свои лыжи, встал на них и побежал к станционному переезду.
На переезде полосатый шлагбаум был закрыт. Со станции на главный путь выходил воинский эшелон. На той стороне пути возле стрелочной будки стояла тетка Евстолия. Она держала в руке туго свернутый желтый флажок — словно готовилась им отсалютовать эшелону.
А поезд нарастал. На полном ходу длинный паровоз полетел между нами. Он скрыл стрелочницу, обдал меня серым облаком пара, оглушил грохотом и свистом, а за ним, прогибая рельсы и заставляя подрагивать мерзлые шпалы, замелькали красные вагоны.
Двери вагонов и сейчас были полураскрыты. В дверях стояли бойцы, я смотрел на них и вдруг подумал: «Вот бы сейчас, когда мне так горько и одиноко, увидеть отца».
Умом я понимал: отца здесь нет. Мой отец давным-давно там, куда эти люди еще только едут. А вот сердцем все равно думалось: «Мало ли что… А вдруг?»
Но если бы отец и стоял здесь, то вряд ли бы я успел его узнать. Слишком стремительно пролетали вагоны, слишком одинаковыми от такой быстроты казались мне эти хмурые лица, эти люди в одинаковых военных одеждах, перепоясанных ремнями.
А вот одно бросалось в глаза. Почти каждый из них теперь в белом маскировочном халате, у всех оружие в руках. Прежде, в осенних эшелонах, с оружием в руках стояли только часовые у пулеметов и пушек, а теперь каждый боец держит его при себе. И было ясно: только домчится эшелон до места, тут же пойдут красноармейцы в бой. Пойдут сразу, безо всякой передышки. Они готовы к этому. Они знают: пути им осталось всего несколько часов.
Такие эшелоны шли теперь день и ночь. Про них у нас говорили: «Сибирь двинулась. Скоро, очень скоро что-то произойдет».
Мне так и хотелось крикнуть бойцам: «Возьмите меня с собой!»
Но вот длинная громада эшелона пролетела, и опять я стою один, и никого рядом со мною нет, лишь стоит на той стороне стрелочница и смотрит вслед эшелону. Потом она опустила флажок, повернулась ко мне:
— Куда наладился? Иди-ко сюда, иди.
«Того не хватало! Еще домой завернет. Скажет: один не езди», — подумал я и поднырнул под шлагбаум, проскочил мимо будки, припустил к оврагу.
До меня только и донеслось: «Вот бес! Право бес!» — а что еще крикнула стрелочница, я не услышал. Я соскользнул на своих вертких лыжах в овраг.
Делянка с дровами находилась от переезда не очень далеко, за речкой. Я перешел по бревенчатому полузаброшенному мосту на заречную сторону, взял направление на узкий прогал между двумя синими перелесками и побежал по белым лугам. Я совсем не думал о том, что не очень дальние перелески стали чуть видны, что тихий снегопад переменился — в лугах стало ветренеть, завевать. Я все двигал да двигал вперед свои лыжи, думал о Тоне с Женькой.
Здесь, одному среди ровных лугов, под шелест летящего наискосок снега, думалось о нашей ссоре совсем по-иному.
Ну зачем я, дурак, орал? Ну зачем я бухал дверями, как будто Женька с Тоней сделали мне подлость? А разве их секреты — подлость? Почему это у меня с Тоней могут быть секреты, а у Тони с Женькой — не могут? Что Женька, хуже меня? Нисколько. Женька вон для общего дела модель разобрал, не пожалел, а я что? Я в комсомол собрался и то лишь для того, чтобы свою светлую личность выказать. А разве я светлая личность? Так себе, в крапинку…
И вообще я со своим гордым одиночеством стал вроде Федоровны: мой дом с краю — не трогайте меня. Из-за этого и про лыжи скрыл, и про Миньку. Именно из-за этого: чтобы не трогали меня. А страху на себя только так напустил — для оправдания.
Нет, Женька не хуже меня, и живется Женьке не слаще, чем мне. Жекькин отец если не на фронте, так все равно дома не живет и почти каждый рейс попадает со своим паровозом то под обстрел, то под бомбежку. Дня не проходит, чтобы Женька не сбегал в диспетчерскую на вокзал, не попытался узнать, домчался ли до фронта поезд, который увел дядя Сережа.
Но диспетчеры Женьке ничего не говорят, это военная тайна, и Женька мается, каждый вечер бродит по пустому перрону, ждет с обратным рейсом отца. А когда издали узнает по гудку его паровоз, то летит пулей домой и несет оттуда вдвоем с матерью кастрюлю супа и чистую рубаху. Несет опять к вокзалу, в каменное с черепичной кровлей общежитие. Женькин отец тоже находится на казарменном положении и отдыхает в этом общежитии.
А отдых машиниста невелик. Пройдет два-три часа, и паровоз его снова подхватывает тяжелый эшелон, и снова уходит туда, где бухает война. А Женька опять мотается по перрону и ждет. Мать у них за одну эту осень вся поседела.
Нет, что и говорить, правильно Тоня делает, что с ним дружит. И, конечно, Женька на Тоню не орет, кулаками не машет…
Вот об этом вспоминать было хуже всего. От этого воспоминания хотелось кричать криком, хотелось остановиться и сломать, сокрушить что-нибудь, а что — неизвестно. Не было вокруг ничего и никого, кроме летящего снега, кроме ветра.
Казня себя на все лады, нарочно подставляя лицо жестким снеговым зарядам, я, наконец, пересек замутненные метелью луга и вбежал в лесную прогалину.
Посреди прогалины болотце. По нему растекаются темно-серые пятна, торчат хилые кусты, но ели вдоль болотца стоят, как колокольни. Я подныриваю под них, и ветра будто не бывало.
Здесь, под елями, тишина. Тонко и прохладно пахнет хвоя. Из-под наста кое-где проглядывают глянцевитые ветки брусничника. Снега под старыми деревьями мало, он почти весь держится на мохнатых лапах, на высоких темно-зеленых этажах. Толстые узлы корней выпирают над землей. На крепкой, словно кость, древесине их — глубокие царапины. Грибники и ягодники набили здесь за лето торную тропу, да, видно, и на подводах тут езживали часто.
У нас ведь, если год грибной да если к тому же и груздовый, то в лес отправляются не только пеша с корзинами, а и на лошадях, на телегах. На подводы ставят щепные кузова, каждый кузов — мужику не обхватить.
Ездят за груздями, правда, далеко. Но зато домой в белые летние сумерки возвращаются с таким возом, что и конь едва тянет, и кованые оси под телегой трещат. Кузова все полные, да и поверх кузовов горою лежат грузди. Они лежат, едут, а по домам их липовые кадушки ждут, и укроп, и чеснок, и соль наготове…
Вот если Тоня простит меня и доживет на станции до лета, я непременно покажу ей в наших лесах груздовое местечко. Да только простит ли?
Тропа круто свернула в гору, а я как бежал по лесной закраине, так все этой закраины и придерживался. Делянка, по словам Валерьяна Петровича, была где-то близко. Места тут пошли повыше, посуше; темные ели стали перемежаться красноствольными соснами; вокруг сосен грудился плотными крепями молодняк, и я петлял то влево, то вправо — высматривал удобный для саней путь. Наконец посветлело, я выскочил на край делянки.
Делянка была небольшая, но нанятые директором еще прошлой зимой лесорубы понаставили дровяных штабелей немало. Лес под вырубку пошел спорый, и дров с участка хватит школе не на один год. Не снимая лыж, я стал обходить штабеля, прикидывать на глаз, где чурбаки потоньше, для меня поухватистей. Ведь грузить сани придется одному.
А погода все хмурилась и хмурилась. Вырубка, окаймленная с трех сторон соснами и елями, а с четвертой — голым чернолесьем, лежала под мутным небом, как огромная, набитая снегом ямища. Снега в эту ямищу все добавляло, и только ветер сюда не залетал. Он шумел поверху. Острые макушки елей начинали куриться белым дымом.
Глава 21
КОРОЛЕВСКИЙ ЗВЕРЕК
Наконец на самом краю делянки, рядом с голым кустом крушины, я разыскал подходящую поленницу и, довольный, хлопнул по ней рукавицей. Хлопнул и тут же подскочил. И с перепугу чуть не повалился. Прямо из-под моих ног метнулось что-то живое, легкое, верткое. Оно пробило рыхлый сугроб, на секунду замешкалось, но справилось, взлетело на высокий ворох сухих веток, замерло — и я увидел горностая.
Я сразу узнал его. Он внимательно смотрел на меня, вскинув точеным столбиком голову, навострив аккуратные маленькие уши. А глаза у него как черни-чинки, а сам весь морозно-белый, и лишь конец длинного хвоста черный с рыжеватинкой.
И тут я совершил глупость. Я заорал, захлопал в ладоши и сделал это неизвестно зачем. Я поступил так, как поступают почти все люди, завидев в лесу какую-нибудь зверюшку.
— Эгей! — завопил я, и горностай взвился, прыгнул с вороха под куст, белой молнией исчез в чернолесье. И только тут я схватился за ружье, чуть не завопил вновь, но теперь от великой досады.
Мне сразу припомнился набитый шкурками мешок Бабашкина, припомнился воротник, который я столько раз мысленно преподносил Тоне, и вот теперь упустил, и вот теперь проворонил, заполошный крикун и растяпа!
Я сорвал с плеча ружье, кинулся в чащу. Следы были четкими — напуганный горностай шел прыжками. Следы уходили в тонкие осинники, и я молился: «Только бы не свернул в ельник». В ельнике он может пойти, как белка, верхом, и в густых лапах мне его не разыскать, а тут по верху он не пойдет. Верх тут прозрачный, сквозной, прятаться ему негде. Здесь я разыщу его запросто, лишь бы следы не засыпало снегом. Отпечатки следов стали мельче. Как видно, горностай пошел теперь спокойнее, и я обрадовался. Ведь шансы у нас были неравные: там, где горностай проходил метр, мне приходилось пробегать два.
Через любой завал, через любое обрушенное дерево горностай перемахивал напрямик, а я петлял, высматривал: куда же зверек побежал дальше?
Шел он почти по прямой. Он тропил свой след в ту сторону, где лежачих деревьев становилось больше и больше. «Ага, — подумал я, — наверное, где-то там у него нора! Говорят, именно такие вот непролазные дебри горностай больше всего и любит. А если там нора, то живет он, возможно, не один. Возможно, у него есть такая же пушистая горностаиха да и соседи тоже…»
Я ломился сквозь хрусткий голый малинник, переваливал через колоды, обегал непроходимые сучкастые завалы, и мне уже мерещилась целая охапка горностаевых шкурок.
Их много, и все они нанизаны хвостами вниз на один шнур. Я вхожу к Тоне, плавным и щедрым взмахом руки опускаю связку на стол, и связка рассыпается по столу великолепным веером. Тоня гладит податливый мех, потом задерживает руку, прислушивается, как тонкие ворсинки щекочут ладонь, и вдруг говорит: «Ой, Леня, как тепло-то!»
А вот великолепный веер превращается в меховую шубу. В шубе Тоня еще красивее. В шубе она такая, что, наверное, смотреть сбежится вся станция. Но это ничего. Пусть сбегаются, пусть смотрят. Я и сам таких шуб еще никогда ни на ком не видел. В таких шубах, если верить печнику, красуются лишь заморские королевы да принцессы. Но в моих горностаях королевам не хаживать. В моих пусть бегает в школу Тоня, пусть наряжается по праздникам наша мама. Для мамы, если повезет, белых мехов я раздобуду тоже полно, а королевы с принцессами пусть подождут! Пускай подождут и перебьются как-нибудь так. Они под бомбежкой, должно быть, и дня не живали, они голодом не сиживали, на собственной спине двадцатипятипудовые рельсы не таскивали — так за что же им горностаевые меха?
Я раскипятился, размечтался и не заметил, как попал в такой бурелом, уперся в такую груду мертвых деревьев, что и леса из-за нее нигде не видать. Все здесь перепуталось, все топорщилось, дыбилось. Острые сучья торчали штыками — тут и медведь не пролез бы, не то что я с лыжами.
А горностай прошмыгнул… Причем прошмыгнул недавно и сделал это не спеша. На одной из поваленных елей снег был притоптан и даже оставлена желтая роспись тоненькой струйкой. Наверное, горностай тут сидел, смотрел в мою сторону и по-своему усмехался. Зверюшки это делать умеют.
Отдохнув, горностай нырнул под самый низ перепутанных стволов и — ау! Ищи его теперь, свищи! Там у него, конечно, тайный ход, и уйти по нему он может хоть за версту.
Я отдышался, огляделся и везде увидел бурелом. Когда-то над этой приволоченной местностью пролетел жестокий ураган и наломал вокруг страшно. На корню тут не осталось ни лесники, полегло все подряд. Я стоял посреди опрокинутых деревьев и глядел, как снег заметает прощальные следы горностая. Заметало их прямо на глазах. Не успел я подумать: «Вот тебе и королевская шуба, воротника и того не добыл…» — как снежный вихрь слизнул остатки следа и ударил мне в лицо.
Я отвернулся и посмотрел назад. Я думал, увижу край леса, из которого выбежал сюда, но увидел одну лишь летучую мглу да поднятые на дыбы корневища.
«Крепко завел, — подумал я о горностае. — И бежал он сюда не от меня, а от ненастья. Вьюгу чуял. Смотри-ка, что начинается: света белого не видать». И тут бы мне сразу чалить к лесу, да очень я в погоне упарился и решил отдохнуть.
Отдыхал я недолго. С полчаса, не больше. Я смахнул снег с удобно изогнутой коряги, сел на рукавицы и достал сверток с хлебом. Один кусок я тут же спрятал обратно, а второй, стараясь не торопиться, съел.
Съел, сладко вздохнул, подумал о том, что нет ничего вкуснее хлеба, сдобренного зимним холодом, достал второй кусок и тоже съел. «Что, — думаю, — хранить? Все равно домой».
Потом я взгрустнул по горностаю, пожалел об упущенном случае помириться с Тоней, зябко поежился от ветра и, наконец, собрался в путь. Я не очень спешил. Я совсем не подозревал, что за это время вокруг что-то произошло.
Когда я гнался за горностаем, за мною тоже оставался четкий след. Он двойной нитью тянулся по лесу, отмечал все мои повороты и объезды, выбегал в заломы и связывал меня с делянкой, с грибной тропой, с лугами, с домом. Но вьюга все завевала и завевала. Она быстро замела следы зверька, а вместе с ними принялась заравнивать и мою лыжню.
Сначала это произошло на открытых ветру полянах, потом в безлистых сквозных осинниках, березняках, и остался мой след, наверное, лишь под могучими елями возле самых лугов. Там-то он остался, да как туда теперь доберешься? Двойная ниточка во многих местах оборвалась, а потом и совсем исчезла.
Кланяясь встречному ветру, щурясь от снега, который так и норовил залепить глаза, я шел и видел, как бывшая лыжня становится все незаметнее. И вот наступила минута, когда я пошагал по нетронутой, без единого следочка, целине.
Сначала я старался сохранить направление. Но сохранить его было невозможно. Приходилось то и дело огибать завалы, и я быстро сбился. А самое главное, я никак не мог выбраться из буреломного места. Мне казалось, что если бы я добрел до леса и походил бы по его кромке, то еще и разыскал бы остатки лыжни. Но лес пропал, впереди и за пять шагов ничего не разглядеть.
Я словно бы находился внутри наполненного ветром и летящим снегом огромного белого купола. И, куда бы я ни брел, этот купол передвигался вместе со мной. В конце концов я понял, что заблудился.
А белая метель стала свинцовой. Приближались вечерние сумерки. Декабрьский день короче воробьиного носа, да и в путь из дома я вышел уже поздновато. Дома ребятишки, поди, давно отобедали и теперь приплющили носы к оконному стеклу, пугливо слушают вьюгу и ждут не дождутся меня…
Я как подумал о ребятишках, так у меня даже сердце зашлось. А что, если я проплутаю до ночи? А что, если я и в ночь не выберусь домой? Так ведь они тогда и сами обревутся со страха, и соседей всех переполошат. Нет, надо что-то придумывать, а не кидаться без толку из стороны в сторону. Так я заплутаюсь еще больше и понапрасну растеряю последние силы, а их осталось уже совсем ничего.
Я остановился, утер лоб рукавицей, снял шапку. Холод приятно опахнул мокрые волосы, и тут в голове мелькнуло: «Ветер! Мне поможет ветер!»
Я открытым лицом, щекой попробовал определить направление ветра. Среди огромных, раскоряченных во все стороны выворотней он крутился вихрем, и все же главное направление определить было можно. Сильнее всего он дул с правой стороны, хлестал прямо в щеку, прямо в ухо, — и так вот, все время подставляя ветру щеку, я опять тронулся в путь.
Куда я шел — на юг ли, на север — мне было неведомо. Но шел я теперь в одну-единственную сторону, и это, если не переменится ветер, было уже спасением. Все равно где-нибудь да выйду в лес, а там, глядишь, найдется и путеводная ниточка.
Ветер не обманул меня. Сначала сквозь метель преступила одна прямостойная черноногая осинка, затем другая, третья; потом пошли березы вперемежку с нечастыми елями, и я вступил в долгожданный лес.
Только было тут еще хуже, чем в лому. Деревья скрипели, раскачивались; мерзлые ветви стучали друг о друга, и гул по вершинам катился такой, будто где-то невдалеке шея товарный поезд. Снежные вихри здесь, в бесхвойном лесу, гуляли свободно, и я как глянул вокруг, так и распростился со всякой надеждой найти дорогу к дому. А вместе с вихрями навстречу мне катила глухая ночь, и я отступил от нее и повернул назад, в лом. Уж если укрываться, так лучше там, в плотных завалах, как это сделал хитрый горностай.
Что и говорить, не слишком легко мне было поворачивать назад. Шурка с Наташкой не выходили у меня из головы. Минутами мне казалось, что в заунывный плач вьюги вплетается тонкий ребячий голосок. И я нагибался, хватал на ходу снег, тер потное лицо, отгонял наваждение.
Убежище я нашел уже в потемках. Две большие ели когда-то рухнули рядом враз и подняли свои переплетенные корни одною косматой стеной. Верх стены загнулся козырьком, и получилось похоже на гигантскую крытую кибитку с оглоблями из целых елей.
Задевая за концы сухих лап, я продрался между елями к стене и сразу увидел, как тут
хорошо, тихо. Облепленное землей и мхом, корневище не пропускало ветер, а взъерошенные стволы-«оглобли», впившись острыми сучьями в снег, хоть как-то да отгораживали меня от мрачного и вьюжного пространства.
Я очень ослаб. Мне хотелось пить. Хотелось тут же сесть в сугроб, закрыть глаза и ни о чем не думать. Однако сидеть без огня — гибель, и, глотнув из горячей горсти холодного снега, я принялся за костер.
Когда я вышагнул из лыж, то чуть не упал. Без лыж ноги стали такими легкими, слабыми, будто и не мои. А через минуту они опять налились непомерной тяжестью, и, загребая валенками снег, я побрел вдоль моих елей, стал обламывать сучья для костра.
Но еловые сучья не дрова. Они только растопка. Надо было разыскать что-нибудь попригоднее. Мне повезло: в одно время с елями хрястнулась на землю сухостойная береза, и ее ломкий ствол разлетелся на куски. Они вмерзли в снег, и все-таки, попинав их и раскачав руками, пару обломков я добыл. Но мне нужно было не меньше трех.
Если бы у меня был топор, я бы, конечно, обошелся и двумя. Положил бы их друг на друга, стиснул кольями, и у меня бы получился настоящий охотничий костер, какой учил меня зажигать отец, Жар и свет от такого костра идут понизу, к человеку. А если два кряжа повалить просто так, рядом, то вся огненная польза уйдет в небо: тут обязательно нужен третий кряж.
С третьим я возился долго. Приволок его чуть не ползком. Ватник и штаны у меня намокли, обмерзли, встали коробом. Зато и надсаживался я не зря. Когда высек огонь и поджег трутом сухой мох, а потом растопку, то костер запылал отлично. Самым толстым, третьим кряжем я придавил нижние кругляши, и когда разгорелось, весь жар от них пошел ко мне.
Снег между костром и стенкой я раскидал. Потом бросил обе лыжи рядом, прикрыл их ветками и наконец-то прилег. Ноги ломило, руки болели — острыми сучками я исцарапал их в кровь. Но когда кончилась работа, опять пришел страх. Подсвеченные костром коряги так и шевелились вокруг, они тянули ко мне крючковатые лапы, извивали змеиные жала и головы. Я старался смотреть в огонь. Он тоже извивался, шипел, приплясывал, но был добрым.
От мокрых штанов, ватника, валенок пошел пар, я совсем разомлел, и пить захотелось еще пуще. Лизать снег было бесполезно. От него во рту становилось неприятно, шершаво.
Я попробовал натаять снега в ладони. Но руку застудил, а воды получил каплю.
«Посудинку бы сейчас какую, — подумал я. — Да только где ее взять?» И вот вижу: на одном из кряжей береста от жары лопнула и завилась. Я достал обломок напильника и вдоль кряжа, где бересту еще не тронуло огнем, пропорол длинный надрез. Распаренная береста снялась с чурбака полотнищем, на желтой изнанке держалась ломкая, как печенье, коричневая кора. Я попробовал ее на вкус. Жевать хрупкую кору было можно, да в пищу она не годилась. От нее пахло прелью, сыростью.
«Ладно, мне бы только попить, тогда и без еды до утра дотерплю».
Я свернул берестяной лоскут фунтиком, фунтик перегнул пополам, а нижнюю, узкую часть его пришпилил надколотым сучком к широкому верху, и у меня получился берестяной черпак. Я наполнил его снегом, придвинул к огню, но ставить в самый жар побоялся. Посудина могла сгореть прежде, чем растает снег. А он и так таял — дальнего тепла ему хватало.
Радуясь своему изобретению, которое было не хуже любого Женькиного, я смастерил еще парочку посудин, тоже набил снегом и стал ждать.
Спустя время в берестяных черпаках накопилось по глотку талой воды. Я сглотнул ее, опять добавил снег и опять стал ждать. «Чаевничал» я таким способом долго.
А где-то рядом, в ночной тьме, все время что-то возилось, вздыхало, скрипело, и хотя я понимал: это возится ветер, — все равно было страшно.
Я уткнул голову в колени, смотрел в огонь и думал: «Ну вот, сильная личность, достукался? Ты хотел одиночества, так получай его! Получай самое настоящее, самое непридуманное… Тут тебе никто не мешает: хочешь — радуйся, хочешь — помирай. А скорей всего придется помирать. Если вьюга зарядит суток на двое, так и огонь не поможет: протянешь с голоду ноги. И будешь ты, браток, лежать в снегу холодненький; и найдут тебя только по летней поре какие-нибудь грибники или ягодники, как в третьем году, рассказывают, нашли одного кологривского мужика. Тоже вот так заплутал, замерз, и осталась от него только берестяная записка, нацарапанная ножом: „Прощайте, добрые люди, выйти к вам, хорошие мои, силов больше нет!“ Так, сказывают, и написал: „Хорошие мои“.
Видно, мужик этот при жизни своей перед людьми не заносился, товарищей от себя не отталкивал, как я оттолкнул Тоню с Женькой. А все из-за чего? Из зазнайства. Конечно, из зазнайства! Вообразил себя черт-те кем… Со мною люди-то все — и соседи, и в МТС, и Валерьян Петрович — как с писаной торбой, а я — нате вам! Один, сам по себе жить желаю, и вот — нажелал. Теперь хоть самому тоже бери и пиши берестяную записку».
Я и в самом деле начал подумывать о записке, да тут опять передо мной возникли ребятишки, вспомнилось, как в тот день, когда мы остались одни, Наташка глянула на меня грустно и сказала: «Давай, Леня, ты будешь теперь как будто наш папа, а мы будто твои дети. Ладно?» И, вспомнив это, я чуть не вслух заорал сам на себя:
— Не сметь! Не сметь! Не сметь и думать ни о каких записках! Ты что, сглыздил? Ты что, сдаться решил? Да пусть хоть вьюга-распровьюга, да пусть хоть голод-распроголод, пускай хоть сутки, хоть двое, хоть трое будет хуже некуда, а все равно я обязан вернуться к Шурке, я должен вернуться к Наташке. Мама ведь мне сказала: «Покрепись, Ленюшка!» А отец? Он там, на войне, хоть сколько-то да надеется на меня. Он бы тоже, как Валерьян Петрович, сказал: «Держи, Ленька, позицию! Держи сам да на товарищей надейся. Может, еще кто и на выручку придет».
И вот тут ко мне в самом деле прилетел чей-то дальний крик. Я вздрогнул.
Опять чудится? Или дурит ветер? Но ветер-то как раз почти совсем утих, даже снег перестал идти, а крик повторился. Он прозвучал не так уж далеко. Он прозвенел горестно и протяжно, как от большой боли, а потом смолк.
Тогда я закричал сам. Я замахал руками, запрыгал, загорланил что есть сил:
— Эге-гей, люди добрые! Ау, хорошие мои! Сюда, сюда, я здесь! — Я даже не замечал, что повторяю в точности слова из берестяной записки; я кричал первое, что пришло в голову, лишь бы меня услышали.
Я сгреб всю охапку лап, на которых только что сидел, швырнул их в огонь, и пламя заполыхало чуть не до неба. Его можно было разглядеть, наверное, за, целую версту. Но мне никто ниоткуда больше не отвечал.
Тогда я схватил ружье, вскинул стволом кверху, нажал на спуск — и… выстрел почему-то не грохнул. Я дернул затвор, опять нажал, но опять лишь четко и бесполезно клацнул боек.
Я откинул затвор, поглядел в ствол: патрона там нет. Да ведь ружье у меня не было заряжено! Я запустил руку в карман ватника, обшарил карманы штанов, куртки — патрона не было нигде. Наверное, он выпал в снег, когда я возился с дровами.
«Прозевал! Прозевал, не выстрелил, и вот человек прошел мимо! А может, там и не один человек? Может, там целый отряд идет через лес? В поселке меня хватились и вот — разыскивают… Но если разыскивают, почему больше не кричат и на мой зов не откликаются? Я ведь вон как вопил! На том свете, наверное, было слышно…»
Я еще долго стоял без шапки у костра и вслушивался в притихшую ночь. Вьюга улеглась окончательно, небо вызвездило. Боясь замерзнуть, если угаснет костер, я не прилег, а только присел возле него на корточки. Я то и дело встряхивал головой, но перед самым рассветом меня словно кто-то накрыл мохнатым тулупом.
Глава 22
ШАПКА ПОД ОБРЫВОМ
Я увидел Шурку. Шурка улыбался розовым ртом, держал в руке железный ковш и тоненькой струйкой лил мне на ноги холодную воду. Я говорю ему: «Отстань, Шурка! Разве так шутят?» — подбираю ноги под себя, а он все льет и льет. Потом ковш превращается в розовый колобок, от колобка сияние. Шурка говорит: «На, поешь… Он теплый!» Я хватаю колобок и сразу отдергиваю руку. Розовый колобок тоже холоден, как ледышка.
От холода я и очнулся. И сразу увидел утреннее розовое солнце. Оно только что взошло над кромкой леса и светило мне прямо в глаза. Костер совсем погас. Круглые чурбаны перегорели, уголья истаяли в белый пепел, от них поднимался к морозному небу чуть заметный дым.
На деревянных от холода ногах я подковылял к пепелищу, собрал головешки, обугленные концы веток, положил на горячий пепел, стал дуть. Сухой древесный мусор задымил густо, через минуту в нем зародился огонь, и вот уже вновь пылают сваленные в кучу остатки толстенных кряжей, и я сам вместе с костром начинаю оттаивать, оживать.
Перво-наперво я вскарабкался на самый верх своего укрытия и огляделся. При свете солнца буреломное место оказалось не так уж и велико: не шире и не длиннее километра — а дальше везде стоял пушистый, заиндевелый лес. Было даже непонятно, как это я так долго вчера плутал.
Конечно, я и теперь не имел понятия, где находится станция, но зато я быстро смекнул, в какой стороне пролегает железная дорога. Она там, откуда поднимается солнце. Из дому я уходил на закат, теперь надо идти на восход. При таком не очень точном направлении я на станцию могу и не угадать, да зато мимо железной дороги ни за что не проскочу. А как выйти на нее, так и дом где-то близко.
С той же восточной стороны доносился ночной крик. А если кто там и вправду был, то должны уцелеть следы: ведь крик я услышал уже после вьюги.
Я хотел сразу встать на лыжи, отправиться в путь, да чувствую: в животе у меня от голода так и сосет, так и подводит — и решил опять натаять воды. А пока вода в берестяных посудинах копилась и грелась, побрел к ближним несломленным елям.
Елку я приглядел густую, разлапистую, и когда раскидал под нею неглубокий снег, то нашел там десятка полтора бурых, тугих шишек. Эту добычу я тоже разложил у костра. Шишки подсохли и начали медленно раскрываться. Они растопырились, будто ежи, я взял одного «ежа», встряхнул над шайкой. Из-под клинчатых чешуек на подкладку выпала добрая сотня крылатых семян. «Беличий хлеб!» — говорил когда-то про эти семена отец.
Семян я насобирал целую пригоршню и всю сразу отправил в рот. «Беличий хлеб» горчил, отдавал смолой, крылья семян облепили язык и нёбо, да я глотнул теплой воды, и они проскочили. В пустом животе сразу заурчало, стало очень больно. Но я еще раз глотнул воды, и боль прошла.
Костер гасить я не стал. Всю ночь он грел меня, отгораживал от ночных страхов, был мне единственным товарищем, и завалить его снегом не поднималась рука. Я оставил его тихо догорать — среди сугробов он потом истает сам по себе.
А когда я уже почти совсем собрался, когда стал поднимать со своего лежбища лыжи, вдруг среди колкого, как стриженая шерсть, мха что-то блеснуло медным блеском. Я нагнулся и увидел патрон! Всю ночь он спокойно пролежал подо мной, под моим собственным боком, а я в потемках его и не заметил. Вот ворона так ворона! Окажись патрон поближе к огню — не видать бы мне сегодняшнего дня, не видать бы красного солнышка…
Радуясь и ужасаясь, я осторожно ощупал теплый патрон, сдул с него мусор и вставил в ствол берданки. Теперь моя берданка опять стала огнестрельным оружием. Теперь у меня опять в запасе был выстрел.
Я встал на лыжи и двинулся в ту сторону, где всходило солнце. От зубчатых макушек леса оно уже оторвалось, и все вокруг стеклянно сверкало, морозно искрилось, путь мой по бурелому был теперь легче.
Я заранее приглядывал дорогу и все быстрее, все ближе подходил к лесной опушке. В лесу я смогу идти еще прямее и, глядишь, часа через два-три выйду на железку. Выйду, а там… А там и думать не хотелось, что будет! Теперь вся станция небось в панике: меня считают пропавшим, Шурка с Наташкой ютятся где-нибудь у соседей, но хуже всего то, что у меня сегодня рабочий день. День у меня трудовой, а я, выходит, прогуливаю! Вот тебе и повышение, вот тебе и болты: «навел резьбу», нечего сказать!
Я миновал последнюю груду коряг и только собрался нырнуть в спокойный, совсем не страшный теперь лес, как со всего разгона влетел на пробитую поперек моего пути лыжню. Влетел, глянул и мигом остановился: «Что за морока? Неужто опять кружусь? Ведь это же мой собственный след. След от моих охотничьих лыж. Такой же широкий, такой же глубокий».
Нет, след, пожалуй, был чуть поглубже и чуть пошире. И на нем успело натоптать какое-то зверье. Я с любопытством присел на корточки, даже руку потянул к следу, но тут же взвился, сорвал с плеч берданку и рывком передернул затвор.
След был не моим, но он был и не чужим. След был от отцовских лыж. Та самая бороздка отпечаталась на нем яснее ясного, а еще на нем я разглядел такое, от чего мороз по коже продрал вдвойне. Лыжню истоптали не лисы, не зайцы — по лыжне прошла волчья стая. Прошла она гуськом, след в след, но все равно было видно, что лобастые шли числом не менее трех, и один из них такой матерый, что отпечатки лап не покрыть и моей ладонью.
Меня захлестнул ужас, мне так и казалось: вот-вот из-за деревьев выскочит Минька, а вслед за ним с воем и лязганьем клыков вылетит серая стая.
Но лес молчал. Ни один кустик в нем не шевелился.
Лишь где-то незвонко попискивали синицы да осыпал снег с недальней сосны краснопёрый клест.
И вот медленно, робко я начал соображать. Я начал понимать, что Минька и волки — все же компания разная. Что они тоже друг другу враги, и тут, на опушке, ночью произошла беда. Ведь кричал-то не кто иной, как Минька. Кричать в этих местах больше некому. Видно, волки преследовали Миньку, да только почему? Пыхтелыч говорил, волки человека не трогают; меня самого волк не тронул, так зачем же им дезертир? Неужели они различают: кто дезертир, а кто не дезертир?
А может быть, волки лишь припугнули Миньку? Может, он просто с перепугу кричал, а потом ушел и сидит теперь, посиживает в какой-нибудь своей берлоге и нахваливает краденые, удобные на бегу лыжи? Конечно, ушел! А не ушел, так отсиделся от волков на дереве, а потом все равно убежал. Он убежал, и я теперь пойду себе восвояси, опять буду помалкивать, буду дрожать: как бы кто Миньку не застукал на наших лыжах, как бы не записал меня с ним в одну воровскую шайку-лейку.
Тут я даже выругался вслух:
— Ну, паразит! Ну, ворюга! Так не бывать же этому! — И я решил идти по следу.
Я решил: «Будь что будет. Поймать Миньку, конечно, не поймаю — с одним патроном да без хлеба не много наловишь, а вот логово Минькино, может быть, выслежу. Выслежу, сообщу людям, и тут бандиту конец. А про лыжи тоже всем расскажу. Пусть что хотят, то со мной потом и делают».
Минькина лыжня привела меня опять на открытое, встопорщенное корягами пространство, а потом круто повернула почти назад. И тут я догадался, что, выбежав сюда, Минька про волков еще ничего не знал. Мне стало ясно, что напугался он здесь не волков, а напугал его мой костер. Дезертир, должно быть, преспокойно вышел из чащи, увидел огонь и — остолбенел. Он ведь не знал, кто сидит у костра, и сдрейфил, побежал назад.
А волки тоже добрались до этого места. Серые тоже, наверное, постояли, посмотрели на мой огонь да и опять потянули за Минькой.
Я перевел дух, еще раз проверил ружье и двинулся вдоль страшной тропы. Впереди по-прежнему было тихо. Лишь снег поскрипывал под лыжами да иногда с еловых лап срывались тяжелые снеговые шапки. Но и от этого шума я вздрагивал, и чем глубже входил в лес, тем осторожнее ступал по лыжне. Минька здесь, видно, тоже не торопился. Ведь шел он впотьмах, боялся налететь на сучок или пень и все время сворачивал то влево, то вправо.
Но вдруг вилеватый след резко спрямился и, как по струне, полетел вперед. Он пошел прямо туда, где елки, березы и желтоватые стволы осин поредели, а за ними плеснул голубой свет.
«Кончился лес! А за лесом-то поле! — воспрянул я. — А если поле, то и деревни близко, а там — люди. И не надо мне теперь одному выслеживать Миньку, а надо бежать созывать народ».
Дрожь в руках и ногах сразу поутихла, я даже прибавил шагу. Но спрямилась Минькина лыжня — изменились и волчьи следы. Видно, вот тут-то и оглянулся наконец Минька и увидел или услышал за собою погоню. Он кинулся напрямик, а серая стая сошла с лыжни, полетела врассыпную, в обхват.
Волки помчались по сугробам. По длинным волчьим следам-прыжкам было видно, как стая начала зажимать Миньку в клещи. Самый крупный, матерый, заходил с одной стороны, пара помельче — с другой.
А лес был уже совсем редкий. Редкий и голоствольный. Взобраться с ходу на дерево было уже нельзя, и Минька мог рассчитывать только на скорость лыж да на удачу. Миньке оставалось только одно: бежать и бежать вперед. Но лыжня вдруг словно наткнулась на какую-то преграду. Она круто повернула туда, сюда, потом затопталась на месте и прянула к толстой и гладкой, как столб, березе. Волки с обеих сторон кинулись к ней — снег под березой был разворочен, истоптан, на снегу темнели пятна.
Я как заметил эти пятна, так мне стало муторно. Я обхватил тонкую осинку, прислонился лбом к холодной коре и тупо уставился в снег. А когда мутить перестало, пошел к тому месту.
Я еще и до березы не добрался, а уже увидел, почему Минька дальше не побежал. Дальше бежать Миньке было некуда. Впереди простиралось не поле, а был там высокий речной обрыв. Он круто падал в длинный, покрытый тонким льдом омут: волки загнали Миньку в ловушку. И он метался, думал обежать омут, но поздно: волки встали и там и здесь. И тогда — спиной к березе, лицом к стае — Минька решил дать бой. И бой этот был смертельным. Вот тогда-то Минька и закричал.
Я с трудом заставил себя подойти к самой березе. Я даже глаза зажмурил. Но вот странное дело: когда подошел ближе, то увидел совсем не то, чего так боялся.
Да, волки тут пировали. На снегу лежал изодранный в клочья мешок, рядом с мешком — остатки бараньей туши: от нее и костей почти не уцелело, лишь витые рога да шерсть. И наши лыжи я тут увидел — их сыромятные ремни волки тоже сгрызли, — а вот сам пастух словно испарился.
Я взглянул вверх, на березу, и вокруг посмотрел. Думаю: куда же он пропал? Следов Минькиных на снегу больше нет, ушли только волки. Ушли совсем недавно: когтистые отпечатки лап нисколько не припорошены летящим по воздуху морозным инеем.
А уходили волки странно. Перед тем как скрыться в лесу, они все трое зачем-то приближались к высокому обрыву и, рискуя сорваться вниз, вставали лапами на самую кромку, на торчащие над крутизной корни берез.
«Прыгать, что ли, собирались?» — подумал я. И тут из-под обрыва, из-под нависших корней, до меня долетел слабый, но совершенно отчетливый звук. Он был такой, как будто кто сидел там полуживой от холода, как будто пытался выговорить замерзшими губами хоть одно-единственное слово, а выходило лишь зябкое бормотание: «Бу-бу-бу… Бу-бу-бу…»
А я и сам словно в ледяную воду попал. «Вон он где, Минька! Под обрывом сидит, сейчас выскочит…» — И уже собрался бежать, но тут словно какая-то необоримая сила задержала меня, положила плашмя на снег и заставила медленно, все время держа берданку наготове, подползти к обрыву.
Я подполз, высунул над обвисшими корнями голову и посмотрел вниз. Никакого Миньки там не было. Там, в неокрепшем льду омута, зиял черный пролом. Глубокая вода в проломе дымилась, шла воронками и глухо бормотала: «Бу-бу-бу…» А на краю пролома лежала рваненькая шапка-ушанка, та самая ушанка, в которой Минька ходил зимой и летом.
Вот и все…
Вот и все, вот и не ушел Минька от волчьей стаи, и бояться его мне уже не надо. И мне не надо, и другим людям тоже не надо; не пойдет больше Минька в глухую полночь зорить деревенские да поселковые дворы — прошлая ночь была для него последней. И последней для Миньки была его вчерашняя добыча. Ею-то он и привел сюда свою собственную гибель. А вышло все, наверное, так.
Минькино логово и впрямь находилось где-то в этих местах. Возможно, в одном из тех заломов, где я провел ночь. И вот во вчерашнюю пургу Минька снова нагрянул в чей-то двор, приколол там барашка, упрятал в мешок и отправился «к дому». А потом его воровской путь пересекся с волчьей тропой.
Голодные волки шли за Минькой долго. Они не понимали, почему пахнет бараном, а движется впереди лишь опасный для них человек. Они останавливались, долго нюхали воздух, нюхали свежую лыжню. Нападать не решались: Минька-то шагал, должно быть, не очень быстро, уверенно. Он даже не оглядывался, а, говорят, такое поведение человека для волков странно и от решительной атаки удерживает.
Но вот Минька оглянулся, увидел серых и — побежал.
А как только побежал, то и волки пошли вмах. Убегающий, он стал для них добычей. А добычу волки брать умели.
Куда ни кидался Минька, он везде встречал волчьи глаза. На него, уже и так напуганного моим костром, теперь обрушился смертельный страх, а страх в такую минуту не помощник.
И напрасно я думал, что Минька вступил в бой. Вступить-то он, конечно, мог бы, у него наверняка нашлось бы чем оборониться: топор или нож — ведь с чем-то он разбойничал по чужим дворам? — но беззащитные дворы — одно дело, а открытая схватка с волками — другое.
Не тот человек был Минька, чтобы вступить в открытую схватку. Он умел красть, убегать, прятаться, но не умел он взглянуть опасности в лицо. Больше всего он боялся за собственную жизнь. Этот страх сковал его сразу, как началась война, этот страх его сделал дезертиром, и этот же страх в решительную минуту заставил Миньку отступить перед волками, отступить всего лишь на два-три шага, но шаги были — в пустоту, в омут.
И вот лежал я теперь на снегу над высоким речным обрывом, смотрел в черную булькающую воду, и если говорить честно, то не было во мне ни успокоения, ни радости, что Минька погиб. В голову приходило совсем другое.
Я даже вспомнил, как прошлым летом, когда с поймы реки сошло половодье и по всей низине поблескивали светлые лужи, мы ловили в них руками щурят. Щурята были молоденькие, тонкие, как веретено, и очень верткие. Они ловко уходили от нас. А тут прибежал от стада Минька, закричал: «Эх вы! Смотрите, как надо!» И, задрав штаны до колен, не снимая огромных, как футбольные бутсы, лаптей, врезался в лужу, и пошел ее баламутить. Брызги стекали по Минькиным толстым щекам, по круглому подбородку, шапка и та намокла. А когда вода помутнела и щурята стали всплывать к свету вверх, Минька показал нам, как надо подводить под них ладони ковшиком и выплескивать с водой на берег. Навыплескивали мы тогда щурят много, жарили их на костре и угощали Миньку.
Я вспомнил его тогдашнего, смешного, в лаптях посреди мутной лужицы, и подумал, каким он стал потом и что с ним произошло. Мне опять стало тошно. Мне стало так, как будто я и сам хоть каплю, да в чем-то виноват перед Минькой. А в чем виноват — не знаю…
Я медленно отполз от обрыва, встал, надел свои лыжи.
Глава 23
ЧИСТЫЙ СЛЕД ГОРНОСТАЯ
Высокий лесистый берег, вдоль которого я пробивал тропу, стал понижаться. Он вскоре вывел меня на речную долину.
По долине то там, то тут вставали ольховые рощицы. Они были светлы и прозрачны от инея. Тонкие изогнутые стволы деревьев отбрасывали на сугробы голубую тень, а морозные купы ветвей клубились под синевой неба, как серебряный дым.
Тут все было полно чистого света, солнечной тишины, да только мало меня трогало. Я думал теперь об одном: «Домой, домой, домой! А там — позабыть про Миньку, успокоить малышей, истопить печку, поесть, хоть капельку отдохнуть и — на работу. За прогул мне, конечно, влепят, но это ничего, стерплю».
И я бежал, из последних сил поторапливался, пока не заметил, что бок о бок со мною вьется голубая цепочка — цепочка следов горностая. «Ишь ты, — подумал я, — объявился старый знакомый. А может, и не старый. Может, другой, да все равно теперь, дудки! Не стану я, браток, за тобой гнаться, я теперь ученый, да и не до того мне».
А след печатается да печатается, никуда не сворачивает, идет прямо к рощице, на которую я держу путь. «Этот фокус мне тоже знаком. Там ты свернешь к реке, запетляешь по непролазным кустам, и быть мне опять с носом», — сказал я горностаю, а сам как бежал, так и бегу, словно зверек мне и в самом деле ни к чему.
Ни к чему-то ни к чему, а ружье из-за спины потихоньку достаю, помаленьку в руках поворачиваю. «Ну, — думаю, — Длинный Хвост — Короткие Ушки, если ты и в самом деле никуда не свернешь, то так и быть, возьму тебя на мушку».
И вот бегу, нажимаю, равняюсь с ольховой рощей и гляжу — сидит! Сидит как миленький! Сидит себе, дурашка, на пеньке, и весь на виду, как мой вчерашний знакомый, только чуть потоньше да поменьше, — наверное, первогодок.
Наверное, совсем еще молоденький и совсем глупый. А может, просто задумал меня подурачить — вот и сидит.
Лапку одну он приподнял. Уши навострил. Мордочку на меня уставил. А взгляд у него лукавый — такой бывает у ребятишек, когда они задумают что-нибудь этакое хитренькое.
Ну и вот, сидит он, в мою сторону смотрит; голову то так наклонит, то этак; а день вокруг — синий, а снег в лугах — чистый, а глаза у горностая такие смышленые, что поднял я ружье вверх и грохнул весь заряд в небо!
Пусть, думаю, живет! Пусть радуется Длинный Хвост — Короткие Ушки!
Пусть, думаю, этот свет, этот снег, этот голубой на сугробах след чистым и останется. Не могу я сегодня, после того, что было, испятнать эту чистоту кровью…
И только прокатился мой выстрел по долине, только раскололся эхом надвое, как в ту же минуту за кромкой леса, невдалеке от меня, прогремел ответный выстрел. А спустя миг — второй, третий.
И смотрю, из леса выбегают люди. Они мчатся мне навстречу по долине, размахивают шапками, руками — они тоже увидели меня. Я хотел шагнуть навстречу, да тут ноги мои будто отнялись, и я, как подкошенный, повалился на пенек, на котором только что сидел горностай.
Хотел с пенька подняться, да чувствую: ноги не слушаются меня. Ну не слушаются и не слушаются, будто их совсем нет! Будто они только и брались послужить мне, пока не придет помощь.
Тогда я стал смотреть в ту сторону, откуда бегут люди. Только выходило так, что и смотреть я не могу. Смотрю, а ничего не вижу! Где тут смотреть, когда одолевают слезы и весь я раскис неведомо с чего.
Я почерпнул горсть снега, утер лицо рукой, потом шапкой и разглядел наконец кто ко мне бежит.
А бежала добрая половина моей бывшей школы: все парни, все девчонки-старшеклассницы. Всех-то я даже по именам не знаю, только по фамилиям. А вот Фиму-Серафиму узнал сразу. Мчится она почти впереди всех, ростом тоже больше всех, шурует лыжными палками так, что снег фонтаном! Я как признал ее, так у меня опять глаза застлало. «Вот, — думаю, — как получается… И зачем я альбом ей тогда измазал?»
И Тоня, смотрю, бежит. И Женька бежит. И дед Николай Бабашкин с двустволкой поторапливается, — в общем, бегут все мои станционные друзья, нет среди них только Валерьяна Петровича.
Но самым первым мчит на школьных узких лыжах человек, при виде которого у меня екнуло сердце: «Даже в МТС паника!» И человек этот не кто иной, как наш кузнец Ван Ваныч.
Летит он быстро, ватник на нем распахнут, шапка на самом затылке. Лицо держит чуть в сторону, будто и разговаривать со мной не собирается, но единственный глаз нацелил прямо на меня. И вот, когда он, задыхаясь, подскочил, я даже отшатнулся: «Ну, думаю, сейчас как даст!» Но он обхватил мою голову шершавыми ладонями, глянул в мое запрокинутое лицо, а потом прижал к ватнику и давай нахваливать:
— Молодец! Молодец, ёж твою корень, что выстрелил! А то бы мы проскочили мимо. Зря бы пробегали, как Валерьян Петрович.
Я бубню прижатыми губами в жесткий ватник:
— Разве меня уже искали?
— Всю ночь Валерьян Петрович со школьным военруком тебя искали. Весь лес обшарили, с фонарями ходили, до самых вырубок добрались, а следов твоих так нигде и не нашли. Где хоть бродил-то, чертушка?
— Я дальше был. Лыжню мою задуло…
— Знамо, задуло! Такой буран. Сгинуть мог.
— Ничего не мог. Я бы все равно вышел. Сам.
— Сам-то с усам, а у тебя их нету, — засмеялся кузнец, и был он какой-то не совсем обычный, чересчур веселый, будто хлебнул вина. Должно быть, радовался, что прибежал ко мне первым.
Ласково поглядывая зеленым глазом, он запустил руку под затертый до глянцевитости ватник, вынул толстые шерстяные носки:
— Скидай валенки, показывай ноги. Живо!
— Целы, — говорю, — ноги. Я бы лучше поел.
— Скидай, скидай!
Он сам стянул с меня валенки, сам раскрутил подобувки, потискал жесткими пальцами мои ноги, опять похвалил: «Молодец, порядок в танковых частях!» — и натянул мне теплые, как печурка, носки. Для него, бывалого солдата, сберечь ноги было наипервейшим делом. Он только после этого вспомнил о моей просьбе и начал из пристегнутой на ремне старой полевой сумки вытаскивать измятый кусок хлеба.
Но тут подбежали все. Печник отпихнул кузнеца:
— Не суй ему голый-то хлеб, не суй! Человек эстолько время не ел, а ты ему — сухомятку. Заворот сделаешь. Парню молока надо! На, Ленька, молока. Это от вашей Лизки.
Старик протянул мне большую белую бутылку. От нашей козы столько молока быть не могло, но я ухватил бутылку, стал пить.
И вот, сижу на пеньке, пью молоко, закусываю хлебом, а все стоят вокруг и улыбаются. Тоня улыбается, Фима сияет, Женька мне весело подмигнул, и у всех на лицах такое, будто они не меня, потеряшку, нашли, а каждый получил по дорогому подарку.
«Чему радуются? — думаю я. — Смеются надо мной, что ли? Им ведь неизвестно, как я нахолодался и чего натерпелся…» И тут я опять вспомнил ночной костер, волков, Миньку и всхлипнул.
А печник говорит:
— Не всхлипывай, Ленька. Сегодня всхлипывать не положено.
И как он это сказал, так вижу, все заулыбались еще шире. Я утер слезы варежкой, говорю:
— Да это я просто так.
— Хоть так, хоть не так, а реветь не положено. Сегодня день-то знаешь какой?
— День моего спасения, что ли?
Тоня, Женька, Фима, кузнец, школьники — все захохотали, а Бабашкин даже хлопнул себя ладошками по бокам, радостно выкрикнул:
— Ничего-то он, ребята, не знает! Да и откуда ему знать? В лесу радио нет!
И тут меня, словно вихрем с пенька сорвало. Бутылку я выронил, шагнул к печнику, остановился, оглядел всех и почти шепотом спрашиваю:
— Что… радио? Что сказало… радио? Война кончилась, да? — Потом заорал: — Да говорите же! Да или нет?!
А печник весь так и сиял, даже щетина у него на лице засветилась.
— Нет, не кончилась. Но немцев, Ленька, из-под Москвы поперли. Понимаешь? По-пер-ли! Драпают они, сынок!
— Правда? — говорю я, а сам уже понимаю, что правда: не могут люди так шутить.
— Вот те крест, — всерьез перекрестился неверующий печник. — Истинная правда. Сегодня утром сообщили.
И тут я затоптался на месте, начал, как слепой, соваться туда-сюда. Я побежал зачем-то к своим лыжам, не надел их; потом вернулся к печнику, потом опять к лыжам сунулся, и все никак не могу сообразить, за что приняться. Наконец, спрашиваю:
— Что делать-то теперь, а? Ведь надо что-то делать! Немедленно делать! Не стоять же теперь просто так?
А кузнец с печником и все ребята опять хохочут, говорят:
— Да сейчас ничего не надо делать! Сейчас домой надо идти. Ноги-то у тебя теперь шагают?
— Шагают! Будь здоров, как шагают.
И мы пошагали. И я пошел вместе со всеми, а потом остановился и говорю:
— Знаете, кого я в лесу нашел?
— Кого? — откликнулся кузнец. — Бабу Ягу?
— Нет… — совсем тихо произнес я. — Миньку… Он в омуте утонул. Его волки загнали.
И тут все опять остановились, и все смотрят на меня так, как будто никогда и не улыбались. Я негромко рассказал им про то, что видел у обрыва. Все слушали и молчали. И даже потом никто не сказал ни словечка. А что было говорить? Нечего. Лишь печник потянул было с себя шапку, да так до конца и не снял.

Глава 24
ДО СВИДАНИЯ!
Радость от победы под Москвой была великая. Отмечала ее вся станция, а наша компания решила собраться у Бабашкиных. Дома разрешили мне только отоспаться, а потом приказали приходить в гости.
На работу бежать было не надо. Кузнец сказал, что Полина Мокиевна и Павел Маркелыч дали мне на день освобождение. Ведь и в мастерских за меня переживали не меньше, чем в поселке. Как только ночью меня хватились, так Валерьян Петрович позвонил туда: вдруг обо мне что-нибудь знают? Но в МТС тоже всполошились, вот начальство и отпустило на поиски кузнеца, человека расторопного и на ногу легкого.
Когда мы вернулись в поселок, кузнец не зашел ни ко мне, ни к Бабашкиным. Он сразу побежал на работу. «Да и митинг в честь победы обязательно будет!» — ликующим голосом сказал он. А я как добрался до дома, так едва успел раздеться, рухнул на кровать.
В конце дня пришла за мной Тоня. Дверь на крыльце была не заперта, и Тоня сама вошла в дом. Я услышал ее только тогда, когда сказала:
— Леня, вставай.
А может, она и не сказала ничего. Может, мне это лишь почудилось. Но когда я приподнял голову, то увидел Тоню. Она прислонилась плечом к переборке и смотрела на меня. Лицо ее мне показалось грустным, наверное, потому, что в дом заглядывало предзакатное, всегда чуть печальное, солнце.
Я сел в постели, укрылся до горла, сказал:
— Здравствуй.
Она ответила:
— Здравствуй… Мы ведь сегодня виделись.
— То встреча была одна, теперь совсем другая. Я хочу что-то сказать…
— Скажи, — негромко произнесла Тоня.
— Знаешь, почему я заблудился? Я хотел принести для тебя горностая.
— Горностая? — тихо удивилась, будто вздохнула, Тоня.
— Да, горностая. Он был такой весь белый-белый, пушистый. Он был такой красивый, что мне и не рассказать. А еще, знаешь, он был какой? Он был смешной и веселый. Я назвал его Длинный Хвост — Короткие Ушки. И вот поэтому я не смог его убить. Я отпустил его.
Тоня наклонила голову, помолчала, совсем тихо ответила:
— Это хорошо… Это хорошо, что ты не убил его. Пусть бегает!
— Пусть! — сказал я.
Она опять помолчала, потом подняла голову и вдруг спросила:
— Ты, наверное, думаешь, я сержусь на тебя? За то… Ну, знаешь, за что.
— Теперь не думаю. А тогда думал. Но это я сам виноват.
— Не очень, — сказала Тоня.
— Почему не очень?
— Не надо было нам с Женькой секретничать, надо было свой секрет показать сразу.
И тут, не дожидаясь моих вопросов, она распахнула занавеску, лукаво посмотрела на меня и говорит:
— Глянь!
Я перевесился с кровати, глянул в дверной проем и тихо ахнул.
— Это, — говорю, — и есть секрет?
— Это и есть наш секрет. А ты что думал?
В комнате, на стене, озаренной солнцем, висели старинные часы с медным маятником. С тем самым маятником, который я видел не так давно у Женьки, Минутной стрелки на циферблате не было, стекла в деревянной дверце тоже не было, но желтый маятник раскачивался и отстукивал в лад с нашими ходиками: тик-так, тик-так!
А под часами висел плакат. Огромный самодельный плакат. На плакате химическими чернилами был нарисован кособокий колесный трактор. Из трубы трактора валил густой дым. За трактором тащился плуг с нелепыми закорючками вместо лемехов, а за рулем восседал веселый человечек: рот — шире масленицы, руки — грязнущие, на голове огромная, как воронье гнездо, шапка. Человечек похож на меня, а вокруг него — большими буквами стихи. Тоже про меня.
Привет болтам и гайкам!
Прощайте, клапана!
За руль возьмется скоро
Наш Ленька-старина!
Получится из Леньки
Не кок, не трубочист,
А выйдет замечательный
Пахарь-тракторист!
Ура!
И в это время часы захрипели, заскрипели и начали вызванивать: «Бом-м… Бом-м… Бом-м… Бом-м!» Они отбили ровно четыре удара, ровно столько, сколько показывала часовая стрелка. И тут я не только ахнул, я даже с кровати соскочил и стою, как куль, в одеяле:
— Вот эти часы вы и прятали? Этот плакат и сочиняли, когда я к вам вломился?
— Это и сочиняли, это и рисовали. А часы Женька давно приготовил. Минуты они не показывают, но время отбивают примерно точно, с ними на работу не проспишь. Ведь мы вчера хотели, чтоб у тебя праздник был. Настоящий, с сюрпризом. Собирайся, нынче у нас другой праздник будет — для всех.
Тоня ушла в комнату, я стал одеваться, а сам все поглядывал на часы, на плакат, и так мне весело, так легко — хоть по воздуху лети!
— Здорово, — говорю, — у вас получилось. И часы здорово, и рисунок здорово, и стихи тоже. И про трубочиста верно. На него я и похож, когда на работе. А вот кок зачем? Я что-то не понял.
Тоня смеется за переборкой:
— Это у меня просто одного слога не хватило, вот я кока и вставила. А что? Кок ведь тоже профессия.
— Точно. Профессия.
А сам думаю: «У тебя, Тонюшка, одного слога не хватило, а у меня целого стихотворения. Хорошо, что чужое вчера со стекла стер».
Я выскочил из спальни:
— Ну, айда, «кок»! Женьки почему нет? Часы со звоном здесь, а Женьки нет.
— Женька за Валерьяном Петровичем побежал. Бабушка Таля послала.
— И Валерьян Петрович придет? Вот сила!
— Что значит — сила? Валерьян Петрович к нам в гости всегда приходит.
И вот я опять лечу к дому Бабашкиных, опять мчусь по широко разметенной дорожке к их высокому крыльцу, но теперь я не один, теперь со мною Тоня. На бегу я подхватываю горсть пушистого снега, швыряю в Тоню, Тоня в меня — мы хохочем.
Правда, я чуть-чуть побаиваюсь встречи с директором. Я знаю: за вчерашние похождения он меня не похвалит. Но это ничего — я стерплю. Я только попрошу и его, и Бабашкиных ни слова не говорить маме, когда она вернется домой, а самого-то меня пусть изругают, как хотят, — все равно все плохое уже позади.
Я даже представил себе, как сейчас мы с Тоней вбежим в дом к Бабашкиным, а в доме уже все собрались, все сидят вокруг стола, кто на лавке у самых окошек, кто на табуретах спиной к двери, а печник с директором сидят там, где и полагается сидеть почетному гостю с хозяином. Они наверняка заняли место в переднем углу под высокой треугольной полкой. С этой полки во многих деревенских избах и теперь еще смотрит богородица с младенцем, но у Бабашкиных богородицы нет. У них тут стоит портрет Всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина.
На божнице портрет стоит давно, и это никого ни капельки не смущает. Даже Анну Федоровну. Забежав к печнику по какому-нибудь делу, она еще от порога всегда начинает креститься, а потом отвешивает бородатому, веселому, в тонких очках Калинину глубокий поклон. Печник при этом усмехается, но до поры помалкивает. Зато тетя Таля не сдерживается:
— Не грех на партийного-то креститься?
Федоровна машет на Бабашкину:
— Почто грех? Какой грех? Праведный старец.
Тут и печник не выдерживает, смеется:
— Ну, ты даешь, Анна Федоровна! Какой он старец, да еще праведный? Он из тверских мужиков. Вот из таких, как я. И годами он мне ровесник.
— Хоть и ровесник, да все равно тебе не чета. Ты на свой страхолюдный лик в зеркало погляди. Глянь, глянь! Вот то-то и оно-то! Нашел с кем равняться.
Но про Анну Федоровну и портрет я вспомнил просто так, от хорошего настроения. Я даже на минуту остановился и рассказал об этом Тоне. Тоня засмеялась еще звонче, и так вот — с шумом, хохотом, все в снегу — мы вбежали к Бабашкиным в дом.
Вбежали, и самое первое, что я там увидел, — праздничный стол. А стол тетя Таля сотворила такой, что мне и во сне не снилось. Конечно, белых пирогов на столе нет, да зато на самой середине исходит паром горячий чугун с рассыпчатой картошкой, в голубом блюде алеет моченая брусника, а на двух тарелках с зелеными каемками смачно поблескивают соленые грузди и боровые крепенькие рыжики. Судя по всему, своими осенними запасами старики тряхнули шибко, да ведь на то он и праздник, на то и победа под Москвой!
Но стол столом, только, вижу, вокруг стола происходит что-то не то. Вижу, Валерьяна Петровича здесь нет, Женьки нет, сидят здесь только Шурка с Наташкой, сидят сами старики Бабашкины, и те грустные.
Правда, Шурка с Наташкой, как только увидели меня, так сразу соскочили с табуреток, сразу кинулись ко мне. А я их обоих обхватил, даже над полом приподнял, но старики сидят и глядят на меня, на Тоню, на ребятишек, как будто нас совсем не видят. Смотрят в нашу сторону, а сами даже не шелохнутся.
Я разжал руки, отпустил ребят, а Тоня спрашивает:
— Разве Валерьян Петрович к нам в гости не придет? А Женька где?
— Валерьян Петрович был, да на станцию ушел, — говорит Наташка.
— Женька вслед за ним убежал, — добавляет Шурка и почему-то испуганно смотрит на тетю Талю.
А та подхватила конец платка, плотно прикрыла губы — лицо у нее сморщилось, задрожало.
— Перестань, мать, перестань, — сказал старик, и вид у него тоже такой: вот-вот заплачет.
И тут мне вдруг словно кто ножом в сердце ткнул: «Неужели с фронта какая весть? Неужто без меня, пока я отдыхал, радио что-нибудь другое, опять страшное, сообщило? А может, маме хуже опять?»
Но тетя Таля обронила руки на стол и, покачиваясь, заговорила:
— Надо же… Надо же… Ну, Валерьян Петрович, дорогой! Целые сутки сам знал, а нам — ни слова. Ребят, говорит, жалко. Ребятам радость, говорит, не хочу портить. Да кому какая нынче радость, коли война? Разве убегом-то, наспех прощаясь, радости кому прибавишь? Вон они… — кивнула старуха на Шурку с Наташкой, — что понимают? И то давеча заревели.
Слушая плач тети Тали, я начинаю тревожно догадываться, в чем тут дело. Я хочу спросить об этом вслух, но голос меня не слушается, он пропал.
А старуха все наговаривает:
— Ведь мы бы ему, Николаша, проводы устроили. Настоящие проводы, красноармейские. Ну что он так-то поехал? Ведь никого-то у него нет, никто ему, бедовой головушке, вслед не помашет. Один как перст. Ох, и как же это мы его, Николаша, послушались, на вокзал не пошли?
— Да уймись ты, уймись! — говорит старик. — Что причитаешь, как Анна Федоровна? Вот то и не пошли, что не велено, что на слезы наши ему там, у поезда, смотреть невыносимо.
И тут я понял. Я подбежал к деду Николаю и не то шепотом, не то криком, не помню уж каким голосом, спрашиваю:
— Что? Валерьян Петрович на фронт, да?
Печник сокрушенно махнул рукой:
— Бумага ему еще вчера вечером пришла, а он нам только сейчас вот, в последнюю минуту, сказал.
— Как — в последнюю?
— Так, в последнюю. Он сейчас уже на вокзале. С первым попавшим эшелоном поедет.
— Так ведь победа же!
— Ну, до полной-то далеко. Еще хватит беды.
— А я?
— Что ты? — не понял старик.
— А я? А со мной? А со мной-то что же не попрощался?
— Да он, Ленька, и с нами толком не простился. Забежал, сказал, обнял да и обратно… Тебе вот ключ оставил и записку.
— Какой ключ? Зачем?
Дед
Николай, словно ничего не видя, словно слепой, пошарил по столу, сдвинул блюдо с брусникой, а там лежал голубоватый, в клеточку, согнутый пополам листок, и на нем — ключ. Тот самый, опаянный медью, тяжелый ключ от книжной комнаты, за которым я бегал когда-то к Валерьяну Петровичу.
Я даже вздрогнул, когда этот ключ увидел. Я даже помедлил, прежде чем взять, но вот взял, стиснул в кулаке, а другою рукой развернул записку. Там острым летящим почерком было написано:
«Леня!
Оставляю на тебя книги и свою комнату. Пускай мой дом тоже не опустеет. Помнишь наш разговор? А что не простились — не горюй. Лучше встречаться, чем прощаться, — верно? Так что до встречи, до полной нашей победы! Из армии пришлю письмо. Крепко жму руку.
Твой В. П.».
Внизу было приписано:
«За вчерашнее не переживай. В лесу вел ты себя правильно. Мне рассказали школьники».
И опять роспись, но уже полная:
«В. Тихонравов».
Я пробежал записку глазами раз, пробежал два, руки у меня тоже, как у деда Николая, затряслись; и тут словно бы опять я слышу только что сказанные печником слова: «В последнюю минуту… Он уже на вокзале… Он с первым попавшим эшелоном уезжает…» — и все оцепенение с меня — долой, и я из дома — долой, и за мною лишь дверь да лестница успели прогреметь, — а я уже за калиткой, я мчусь что есть духу.
Я бегу так, что в ушах свистит ветер. Неровная тропа подо мною сливается в одну сплошную ленту. Я не слышу ни своего дыхания, ни буханья сердца, я думаю: «Скорей! Скорей! Неужели опоздал?»
Там, где тропа сворачивает к вокзалу и становится шире, меня настигает Тоня. Но я смотрю только вперед. Я еще издали, при свете закатного солнца, увидел на станционных путях красный эшелон. Паровоз в голове его меняется: эшелон вот-вот отойдет.
Я влетел на длинную, всю в истоптанном снегу привокзальную площадку, махнул Тоне:
— Беги влево, я — вправо!
А уже у самой дальней, самой первой теплушки заиграл, залился горнист. Он торопил бойцов, и они вспрыгивали на подножки. И были они опять все в белом. А я мечусь, высматриваю среди них Валерьяна Петровича. Я понимаю: он в белом быть не может, он форму еще не получил, он еще только едет с этим попутным эшелоном в свою воинскую часть.
Я кидаюсь туда-сюда, но везде вижу лишь незнакомых солдат. Они кричат мне:
— Мальчик! Мальчик! Ты кого ищешь? Отца, что ли? Смотри, шапку потерял!
А я сам чувствую, что у меня слетела шапка. И я нагибаюсь и ловлю ее, а в руке белый комок записки — он тоже падает в снег. Я подбираю шапку, записку и тут слышу — загудел паровоз. Он прогудел, а где-то рядом раздался Тонин крик:
— Леня! Леня! Сюда, быстрей…
Я распрямляюсь и вижу: стоит на перроне Женька, стоит Тоня, и стоит рядом с ними новый, уже без меня поступивший в школу военрук в шинели с пустым, заложенным в карман рукавом, и стоят тут все школьные учителя. Валерьяна Петровича они, видно, не послушались, видно, пришли провожать и вот машут мне: показывают на распахнутую дверь вагона.
— Туда смотри, Никитин! Туда!
Я впиваюсь глазами туда, а там, среди светлых солдатских полушубков, среди белых комбинезонов и башлыков, — знакомое пальто Валерьяна Петровича, его невоенная шапка, его устремленное ко мне лицо. Но вагон уже тронулся, поплыл, покатился, и напрасно Валерьян Петрович мне что-то пробует крикнуть — уже все, поздно.
И тогда я побежал по перрону. Побежал вслед за вагоном. Я замахал смятым листочком записки:
— Валерьян Петрович! Валерьян Петрович! Я прочитал, я все сделаю, я сохраню…
Но мой крик вряд ли кому был слышен в грохоте колес. И вагоны уже мелькают рядом со мной совсем другие, и не вижу я больше той невоенной шапки, а лишь белые крылья маскхалатов проносятся надо мною, развеваясь на звенящем, поднятом вагонами, ветру.
Прогремел последний вагон, и я остановился.
Я встал далеко от вокзала, по колено в сугробе.
И когда поезд скрылся за лесом, я поднял руку и увидел, что все еще держу записку. Еще не притихший после эшелона ветерок слабо теребил ее, будто хотел вытянуть из моих пальцев. Я поднес ее к глазам, но раздумал, перечитывать не стал, а вновь свернул и осторожно опустил в карман, где лежал ключ.
А потом я побрел прямо по сугробам к тропе, по которой от станции к притихшему вечернему поселку шли все провожающие, шли Тоня с Женькой. Я тоже пошел в ту сторону.
Я пошел туда, где стоит и наш дом, и дом Валерьяна Петровича. Я пошел туда, где живут все мои друзья, которых я теперь никогда, никогда не променяю ни на какое гордое одиночество. Я остаюсь теперь с ними.
А затем наступит такой день, когда и мама вернется, и вернется с войны отец, и, конечно, приедет Валерьян Петрович.
Они все приедут, и вот тогда-то и будет у нас настоящий праздник. Праздник для всех. Я верю в это.
1970–71 гг.

Художник О. Коровин
Оглавление
Глава 1
ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ
Глава 2
ДАВНЫМ-ДАВНО И В ЭТОТ ВЕЧЕР
Глава 3
НА СТАРОМ ЧЕРДАКЕ
Глава 4
ВЫСТРЕЛ
Глава 5
ТОНЯ
Глава 6
ОСЕННИЕ КОСТРЫ
Глава 7
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Глава 8
СВОЙ ДОМ
Глаза 9
«ПОЗИЦИЯ»
Глава 10
ГОЛУБОЙ КРАЙ ЗЕМЛИ
Глава 11
МОЕ РЕШЕНИЕ
Глава 12
ТОВАРИЩ Пэ-эМ
Глава 13
ОДНОГЛАЗЫЙ КУЗНЕЦ
Глава 14
ПАВЕЛ ПЫХТЕЛЫЧ
Глава 15
ЖЕНЬКА
Глава 16
КАРАВАЙ
Глава 17
ТЕМНЫЕ ДОРОГИ
Глава 18
ПРО ЛЮБОВЬ И ПРО СТИХИ
Глава 19
ВОТ ТАК-ТО!
Глава 20
БЕЛЫЕ МАСКХАЛАТЫ И ВЫСОКИЕ ЕЛИ
Глава 21
КОРОЛЕВСКИЙ ЗВЕРЕК
Глава 22
ШАПКА ПОД ОБРЫВОМ
Глава 23
ЧИСТЫЙ СЛЕД ГОРНОСТАЯ
Глава 24
ДО СВИДАНИЯ!