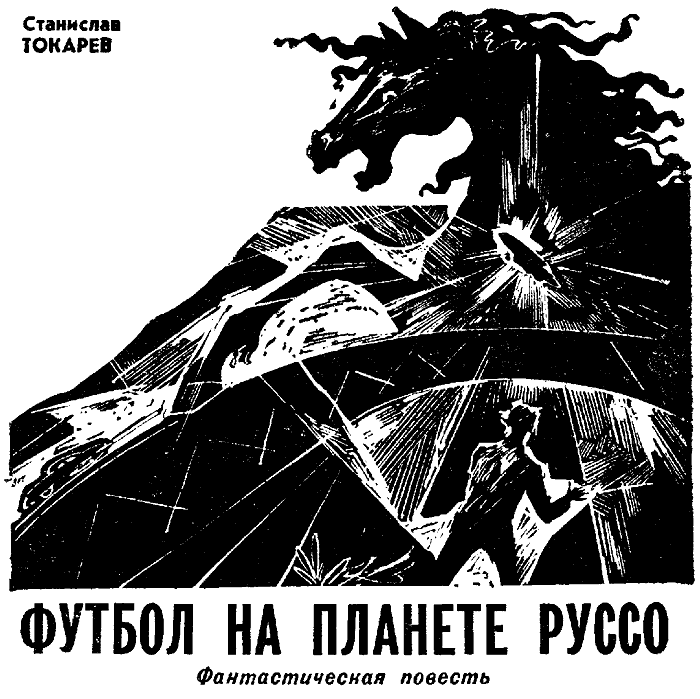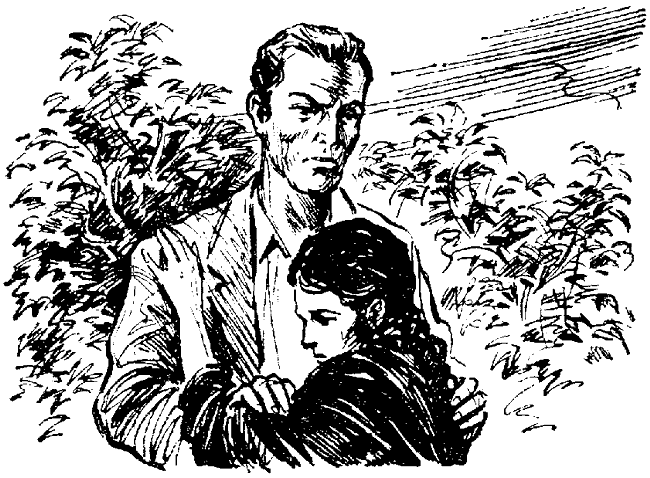ИСКАТЕЛЬ № 4 1981

Станислав ТОКАРЕВ
ФУТБОЛ НА ПЛАНЕТЕ РУССО[1]
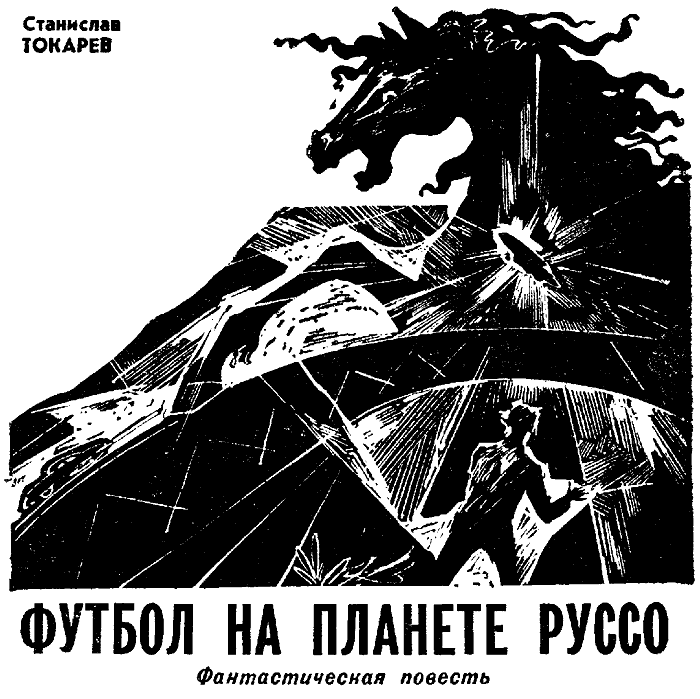
1
Моя беда в том, что я белесый. Почти альбинос. Репортер должен растворяться в толпе. «Как он выглядит?» — «Так, ничего особенного, с пробором». Людей с проборами сколько угодно, а обо мне охранник рангом повыше всегда может сказать охраннику рангом пониже: «Того белобрысого (или седого) не пускать» — и поди пробейся к прокурору, адвокату или судье.
У меня нет репортерских навыков, но это полбеды. На нашей планете нет навыков так же у судей, прокуроров и адвокатов, как нет их у историков, философов, экономистов, у парламентариев, сыскных агентов, официантов, метранпажей, фокусников и саксофонистов. Мы самоучки, родившиеся на планете Руссо, мы у наших отцов и дедов, у первопоселенцев, учились рубить лес и корчевать пни, пахать, сеять, строить жилища и бить дикого зверя.
Но это, повторяю, полбеды — боюсь, что я не создан быть репортером. Репортер должен быть сообразителен и верток, а я неуклюж и здоров, пишу я длинно и трудно, а читателю требуются факты — не душевные извивы. Душа репортера никого не интересует.
Так учит мой шеф Хорейшио Джонс.
Я должен вести эту хронику по-репортерски. Факты и только факты. Мои репортажи и репортаж о репортажах. Короткая фраза. Энергичный период. Упругий слог. Школа Хорейшио Джонса, шеф-редактора газеты «Старлетт».
Впрочем, я иногда думаю, что если хвощ Хорейшио так здорово знает, как вести хронику, то неплохо бы ему самому хлебать эту кашу. Но шеф предпочитает политические обзоры, в которые учит президента и парламент управлять планетой, администрацию регионов — руководить регионами, фермеров — сбывать пшеницу, хлопок и маис, банкиров — заправлять банками, учителей — учить, врачей — лечить и так далее. Мой коллега Джим Каминский пишет о футболе, все остальное делает Боб Симпсон, то есть я, поскольку, кроме Джонса, Каминского и Симпсона, в малышке «Старлетт» сотрудников не имеется.
Этими сведениями исчерпывается мое вступление. Перехожу к сути дела.
2
20 мая 52-го года Освоения на первой странице субботнего номера «Старлетт» был напечатан репортаж Джеймса Каминского о футбольном матче команд «Валендия» и «Скорунда». Он заканчивался так:
«4:4, и шесть минут до конца. Похоже, что желто-зеленые (цвета «Валендии». —
Примеч. Симпсона) упускают первенство. Мяч навешивается на штрафную «скаев» (игроков «Скорунды». —
Примеч. Симпсона), и тут арбитр Бронек дает свисток, властным жестом указывая на 11-метровую отметку. Пенальти.
Однако пробить его не удалось из-за внезапно вспыхнувшей драки между игроками «Валендии» и «Скорунды». В нее вмешались зрители, ринувшиеся на поле, матч был сорван. Руководство лиги дисквалифицировало Ульриха Земана («Валендия») и Поля Шлоссера («Скорунда»). Вопрос о переигровке рассматривается».
23 мая 52-го года Освоения на первой странице вторничного номера «Старлетт» было напечатано правительственное коммюнике;
«В минувшую пятницу на стадионе клуба «Валендия» во время футбольного матча вспыхнули беспорядки, для ликвидации которых на поле были введены части Сил гражданской обороны четвертого и пятого регионов. Однако, вместо того чтобы соединенными усилиями восстановить спокойствие, стрелки упомянутых частей под руководством своих капитанов открыли друг против друга вооруженные действия, поддержанные толпами сторонников той и другой команд. Конфликт перекинулся в близлежащий район, и всю последующую ночь вдоль восточного берега Блю-Ривер, по которому проходит граница четвертого и пятого регионов, продолжалась перестрелка, перемежаемая рукопашными схватками.
Причины конфликта расследуются, виновные будут наказаны».
4 июля 52-го года Освоения на четвертой странице субботнего номера «Старлетт» был напечатан мой репортаж:
«Новая Элоиза. Вчера в малом конференц-зале парламента начался судебный процесс «Республика против администрации четвертого и пятого регионов». Администрация обвиняется в том, что своими необдуманными распоряжениями она способствовала перерастанию драки на стадионе «Валендия» во время матча хозяев поля со «Скорундой» в вооруженный конфликт между частями Сил гражданской обороны упомянутых регионов.
Председателем суда является генеральный судья планеты миссис Дженни Адамсон (39 лет, замужем, имеет двоих детей, супруг — бригадир разведчиков)».
Далее из моего репортажа рукой шефа вычеркнуто: «Миссис Адамсон — полная добродушная блондинка с ямочками на круглых щеках и круглых локтях и уютной складкой под двойным подбородком».
«Обвинение поддерживает генеральный прокурор Карл Гирнус (42 года, женат, имеет троих детей, супруга — ветеринар)».
Далее вычеркнуто: «Стройный Гирнус — в прошлом популярный профессиональный охотник, он убил двух саблезубых львов и своими меткими выстрелами повернул вспять прорвавшийся к границе табун черных коней. Он всегда точно знает, чего добивается, идет к цели прямо и последовательно».
«В качестве адвоката выступает Мик Йошикава (44 года, холост)».
Далее вычеркнуто: «Маленький сухощавый человек с лицом, похожим на маску из полированного желтого дерева, на которую зачем-то нацеплены темные очки, не пользуется известностью на планете».
3
По поводу сокращенных строк я спорил с Джонсом почти час. Чтобы быть репортерски точным — 49 минут 32 секунды. Секретарь шеф-редактора Таня Ли, раскосый херувим, ведет хронометраж наших дискуссий, за последний год набежало около 228 часов.
Я сказал:
— Шеф, я опираюсь на факты. Гирнус известен, Йошикава неизвестен. Гирнус убил двух львов, Йошикава носит очки — это факты или не факты?
Джонс произнес монолог:
— О должностных лицах надо судить по их поступкам — давать оценки этим поступкам обязано общественное мнение. — Идеалы, сформулированные в «Клятве Колумбов» и представляющие собой краеугольный камень нашей цивилизации, суть свобода и демократия. Отсутствие объективности означает ущемление демократии, а любое, даже завуалированное, навязывание читателю собственного мнения лишает информацию объективности. Мы дышим воздухом и употребляем в пищу белки, жиры и углеводы. Добро побеждает зло — жизнь прекрасна. Я бы советовал вам, Роберт, задуматься над моими словами, сказанными от чистого сердца.
Я сказал:
— Шеф, что вы знаете о Йошикаве? Кто-нибудь видел его с топором в сельве или за плугом?
Джонс набрал воздух в легкие, но в этот миг в комнату ворвался наш коллега Джим Каминский.
— Мозговой центр! — воскликнул он с порога, восторженно глядя на нас. — Генеральный штаб! Бобби, всегда слушайте моего друга Хорейшио, он кладезь премудрости, нам с вами чертовски повезло, что мы имеем честь служить под его началом! А вы, Хорейшио, любите, лелейте талант Бобби — такой тонкий, такой лиричный! Бобби, вы должны писать о футболе! Только тогда вы узнаете, что такое популярность! Хорейшио, запомните, когда я стану богат и вырвусь из вашей постылой лямки, я передам этому мальчику мое золотое перо.
Джим милейший человек, но его постоянные обещания вырваться из нашей лямки не более чем риторический оборот: он без ума от своего дела…
4
«Продолжается допрос подсудимого Толлера Таубе, верховного администратора четвертого региона (42 года, женат, супруга — владелица магазина моющих средств «Чистоплотная тетушка», имеет сына и дочь). Главой региона избран на пятое четырехлетие подряд».
Далее вычеркнуто: «Заметно, что этот квадратный человек наделен исполинской физической силой. Его короткопалые широкие лапы, спокойно лежащие на барьере, который ограждает скамью подсудимых, могут, если сожмутся, размозжить дерево в труху. Он играет в простачка, и лишь стремительная усмешка, редкая и внезапная на клювастом лице, позволяет догадаться, как он смел, надменен и ни в грош не ставит происходящее».
«Прокурор:
— Подсудимый, часто ли вы посещаете футбольные матчи?
— То, что я вам отвечу, здорово подмочит мою репутацию в глазах избирателей. Честно сказать, я вообще на футбол не хожу. Наследник смеется над таким папашей. Бродягу среди ночи разбуди, он вам отбарабанит, кто с кем как сыграл и у кого какие шансы. А я домосед, сад, огород — мой лучший отдых. Грейпфруты у меня величиной с вашу мудрую голову — извините, прокурор.
— «Валендия» — команда вашего региона, не так ли?
— Ну, это громко сказано. Конечно, на нашей территории находится их база, и, если они выигрывают, наши люди готовы на руках их носить.
— Оказывает ли регион финансовую помощь «Валендии»?
— В нашем бюджете есть статья «На развитие детского и юношеского футбола». Эти деньги, как я понимаю, идут клубу.
— Ваше выражение «как я понимаю» следует расценивать в том смысле, что траты по данной статье происходят помимо вашего контроля?
— Ну уж не совсем чтобы помимо. При клубе есть «Совет граждан», я ему доверяю.
— А как обстоит дело с контролем по иным статьям бюджета? Например, на закупку сельскохозяйственной продукции?
— Это другое дело. Это я проверяю лично.
Прокурор просит вызвать свидетеля Бронека, арбитра матча между командами «Валендия» и «Скорунда».
Норберт Бронек (41 год, женат, имеет пятерых детей, род занятий — фермер, в прошлом — профессиональный футболист, зарегистрирован в списках лиги в качестве арбитра первой категории). Бледен, голова забинтована.
Прокурор:
— Свидетель, на выращивании какой культуры специализируется ваша ферма?
— Маиса.
— Каков в этом году урожай?
— Примерно шестьдесят центнеров во всей округе.
— Это высокий урожай?
— Очень высокий.
— Очевидно, закупочные цены упали?
— Да, конечно. До трех гульдов за центнер.
— Но вы всю последнюю партию продали по другой цене?
— Мне повезло, я продал по семь.
— Кому же?
— Администрации четвертого региона.
— Свидетель Бронек, на каком расстоянии от границ четвертого региона расположена ваша ферма?
— Около восьмисот километров.
— Миледи, я прошу разрешения задать вопрос обвиняемому Таубе. Обвиняемый, на территории вашего региона имеются посевы маиса?
— Да.
— Футбольный арбитр первой категории Бронек, — в голосе прокурора звучит металл, — расскажите суду о том, когда и при каких условиях вам была предложена сделка.
— Вечером накануне матча ко мне пришел один человек и напрямик все выложил. Я согласился. У меня два трактора в рассрочку куплены.
— Что именно сказал вам этот человек?
— Он сказал, чтобы я помог «Валендии», а как, это мое дело. И что взамен у меня будет куплена такая партия маиса, какую я захочу продать. Я запросил десять гульдов за центнер, но он настоял на семи. И что купчую мы подпишем только после матча.
— Вам известно имя этого человека?
— Чарли Чиз. Секретарь администрации четвертого.
— Каким образом вы, свидетель, помогли «Валендии»?
— При счете 4:4 за шесть минут до конца я назначил пенальти в ворота «Скорунды».
— Было ли это продиктовано игровой ситуацией?
— Нет, не было.
— У меня больше нет вопросов к свидетелю.
Судья:
— Адвокат Йошикава, имеются ли вопросы у вас?
— Да, миледи, благодарю вас. Уважаемый свидетель, из дела нам известно, что после назначения вами одиннадцатиметрового штрафного удара в ворота команды «Скорунда» на поле возникла драка. В чем вы усматриваете ее причину?
— Ну… Вроде бы Земан ударил Шлоссера. Я-то спиной стоял, а когда обернулся, Шлоссер лежал на земле, а Земан бил его ногами. Тут толпа набежала, меня по голове сзади ударили, у меня сотрясение мозга было…
— Прошу принять мои соболезнования и позволить задать два вопроса.
Судья:
— Предупреждаю адвоката, что время сегодняшнего заседания близится к концу.
— Благодарю, миледи, я не задержу. Свидетель, если мне память не изменяет, Земан является игроком «Валендии», а Шлоссер — «Скорунды».
— Конечно.
— Тогда не представляется ли свидетелю несколько странным то, что в момент, когда к победе была близка именно «Валендия», а пострадавшей стороной могла считать себя «Скорунда», драку, сорвавшую матч, затеял игрок «Валендии»?
— Нервы, мало ли что… Да и помню я все смутно, у меня и сейчас голова болит, когда я волнуюсь. Миледи, у меня болит голова, отпустите меня, бога ради!
Судья:
— Допрос свидетеля откладывается. Заседание закрыто».
5
Сенсационное разоблачение, совершенное прокурором Гирнусом, вызвало настоящую бурю. Футбольная лига выступила с декларацией, в которой решительно осуждала арбитра Бронека, лишала его категории и права судейства пожизненно. В парламенте был сделан запрос президенту о том, как он квалифицирует действия верховного администратора Таубе. Президент заявил, что он воздерживается от комментариев до конца процесса — зал встретил его слова гневными криками и хлопаньем пюпитров.
«Старлетт» опубликовала декларацию лиги на первой странице, подверстав к ней четыре свирепых абзаца Джеймса Каминского: «Грязные руки на чистом поле… Неслыханный в истории позор… Благородная игра — гордость и радость планеты…» На второй странице мы напечатали письма читателей: «Уважаемый редактор, возмущению нет предела» — Маллиган, агротехник; «Своими бы руками!» — Мушотт, клерк почтового ведомства; «Ничто не в силах поколебать веры и любви!» — Грумбах, врач-стоматолог; «Как жить, где святыни?» — Луиза Страут, библиотекарь на пенсии. В ответ на письма Хорейшио Джонс разразился статьей о принципах «Клятвы Колумбов», краеугольного камня нашей цивилизации.
«Свидетель Чарльз Чиз, секретарь верховной администрации четвертого региона (46 лет, женат, супруга — владелица нескольких мастерских по ремонту электромобилей, имеет двух дочерей).
Заикаясь и шепелявя (вычеркнуто), Чиз признал, что во всех своих действиях неукоснительно выполнял указания верховного администратора Таубе. «Я Бронеку так и сказал: «Будет 4: 4, а дальше валяй действуй».
Адвокат:
— Прошу прощения, свидетель Чиз. Вы хотите подчеркнуть, что арбитр Бронек должен был предпринять решительные действия именно при счете 4: 4?
— Да нет, это я оговорился, это я теперь знаю, что было 4: 4, знать-то я тогда ведь не мог, просто я велел ему… вернее сказать, мне ему велели велеть, чтобы он, то есть Бронек, как говорится, все обеспечил…
Прокурор просит пригласить на свидетельскую трибуну обвиняемого Толлера Таубе.
— Что ж, — сказал Таубе, — сделанного не переделаешь, проигрывать надо красиво. Признаюсь, виноват. Я лично приказал этому недоноску… извините, миледи… этому, черт побери, подзаборнику, которого я сделал государственным деятелем, купить арбитра. Знал, на что шел.
Прокурор:
— Какую цель вы преследовали?
— Какую, какую… Да поставьте себя на мое место, прокурор. Хотя вам и на вашем неплохо. На этих руках — вот на этих — у меня регион. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование… Черт, дьявол, господь бог и все святые угодники… Извините, миледи. И тут такая вот пустяковина — одна победа в паршивом этом футболе…
Возмущение на скамьях для публики. Судья звонит в колокольчик и предупреждает обвиняемого, чтобы он выбирал выражения, а зрителей — что в случае, если они будут мешать ходу заседания, она распорядится очистить зал.
— Все, миледи, все. Буду как ангел. Так вот, я подумал: одна победа «Валендии», и «Валендия» — чемпион. Народ ликует. Народ засучивает рукава. Трудится с утроенной силой. Четвертый регион — мой, кровный — лучший по всем статьям на планете. Вы скажете, что я честолюбец, — да. Но я хочу блага моему народу. Разве высокая за это цена — семь гульдов за паршивый мешок маиса?
Женский голос из публики:
— Жульничество — ваша цена!
Судья звонит в колокольчик.
— Ты права, сестренка. Теперь я и сам это понимаю. Пусть меня судит народ.
Адвокат Йошикава просит пригласить свидетеля Бронека для продолжения неоконченного в прошлый раз допроса. Судебный пристав оглашает сообщение, согласно которому вчера вечером Норберт Бронек бесследно исчез, и его поиски, производимые Силами гражданской обороны, пока безуспешны.
Адвокат просит пригласить свидетеля Клиффорда Монтгомери.
«Клиффорд Хьюз Монтгомери (61 год, вдов, пенсионер)».
Далее вычеркнуто: «Старикашка, похожий на арахис, бывший плотник, бывший член парламента, бывший обладатель ряда должностей — одна другой ниже, бывший — напоследок — сортировщик мусора».
«Адвокат:
— Уважаемый свидетель, в двадцать восьмом году Освоения вы принимали участие в прениях по поводу учреждения на планете профессиональной футбольной лиги?
— Что верно, то верно. Здорово мы тогда спорили.
— Вы голосовали за или против?
— Именно, что против, а зря — это я сейчас понял, что зря. Я на койку ложусь и думаю — проснусь завтра или не проснусь. О чем мне еще думать — я простой человек. А так я думаю — победят или нет завтра мои ребятишки… Опять же «тотошка» — может, я завтра тысчонку выиграю, должно же быть счастье у простого человека…
— Не затруднит ли свидетеля поделиться с нами мотивами, которыми он руководствовался, голосуя против?
— Давно это было. Точно уж не упомню. Говорили, что не на пользу пойдет нам футбол. Мол, даже в «Клятве» что-то такое написано. Сам я этого не читал — говорили.
— Кто говорил?
— Один депутат. Он был постарше всех нас, мы его уважали.
— Можете ли вы назвать его фамилию?
Прокурор:
— Миледи, я заявляю протест. Пользуясь тем, что в первые годы Освоения протоколы заседаний парламента велись без должной тщательности и многие не сохранились, адвокат пытается натолкнуть свидетеля на путь распространения ложных слухов в отношении краеугольного камня нашей цивилизации. Кроме того, я вообще не усматриваю во всем этом прямого отношения к данному делу.
Судья:
— Протест прокурора принят. Свидетель свободен».
6
Старикашка ковылял с неожиданной прытью. Я догнал его рысью и выложил в лоб:
— Так как же фамилия?
— А ты, — он спросил, — кто? — Он смотрел на меня из-под разведчицкой шляпки пыльного цвета — защитного, отступая к серой стене парламента, словно в желании раствориться на ее фоне всем своим старым пыльным существом.
— Я из газеты. Хочешь, я, дед, про тебя напишу?
— Нет, этого я не хочу. Я мало чего хочу, белобрысый. А твоя какая команда?
— «Скорунда», — сказал я наугад и попал.
— «Петуха» надо в защиту переводить, а? — проскрипел старикашка испытующе.
— Бежать не бежит, а голова варит, верно? — мне повезло, я снова попал.
— Карамаякис его фамилия. Я много чего помню, но я не трепло. Слушай, ведь ты из газеты, а когда матч переигрывать будут?
— Скоро, дед, — пообещал я. — В середине будущей недели. А что все-таки говорил Карамаякис про «Клятву»?
— Ку-ку, парень. — Он ловко вывернулся из-под моего бока. — Жара сегодня, напекло меня, а ты вон какой здоровый, от тебя еще жарче.
7
Что-то у меня в мозгах стронулось. Я спросил себя, что я знаю о «Клятве».
Обстоятельства ее создания (вкратце, по школьному учебнику истории): 53 года назад — за год до начала Эры Освоения — 22 молодых жителя Земли, силой захватив межпланетную ракету, высадились на самой далекой и малоосвоенной планете из сферы земного влияния («Стихийный протест против машинной цивилизации… романтическая тяга в неведомое… стремление сформировать новое общество в тяжких условиях борьбы с дикой природой»…). Затем ими был переправлен на Землю документ, получивший название «Клятва Колумбов» («Мы, собравшиеся здесь мужчины и женщины, белые и черные, желтокожие и краснокожие… Мы утверждаем, что человек в нашем обществе служит лишь придатком тех механизмов, которые изобрели его предки для собственного блага, но это благо обратилось во зло… Только в труде и подвигах мы можем сохранить себя как биологический вид… Если ты голоден, пойди и убей зверя, если ты голоден, вырасти хлеб. Если тебе холодно, построй дом. Если тебе негде его построить, выкорчуй лес и осуши болото… Человек смотрит на природу как в зеркало, только она в состоянии дать ответ на вопрос, чего он стоит…») Сто ракет, десять тысяч первопоселенцев прибыли на планету, названную именем Жан-Жака Руссо («Французский философ-просветитель… трагическое противоречие прогресса — по мере развития углубляется неравенство… Естественное состояние помогает уберечь от тлетворного влияния… Трудовое воспитание…»). Дальнейший контакт планеты с Землей был сведен до минимума. Двадцать два «колумба» погибли одновременно от неизвестной болезни. Мемориальный музей их памяти находится в центре Новой Элоизы — это П-образное здание, окаймляющее лужайку, на которой высятся двадцать два гигантских пальмовых клена над каменной плитой с их именами.
Что-то у меня в мозгах стронулось, и я спросил себя, читал ли я когда-нибудь «Клятву» целиком. Выходило, что не читал, даже не видел полностью опубликованной. Только в выдержках — одних и тех же: из учебника, из государственных документов, газетных статей и юбилейных речей. Мы все знаем, что она составляет краеугольный камень руссоистской цивилизации, но как звучит она — от начала до конца?
8
— Полный экземпляр? — библиотекарь музея вскинул на меня фасетчатые стрекозиные очки. — Кто вы по профессии? И есть ли у вас разрешение?
— А кто может его мне дать?
Очки затуманились:
— Откровенно говоря, я и сам не знаю… Просто этот документ у нас никогда не спрашивают… Он существует в единственном рукописном экземпляре, и я должен быть уверен…
— Вы можете быть совершенно уверены, — твердо сказал я. — Мне и читать-то необязательно. Что положено, я в школе отзубрил. Просто я делаю репортаж о музее. И вот несколько слов: «Глядя на священные страницы, благоговейный трепет…» Здорово закручено, верно? А вообще-то меня интересуют люди. Хранители истории. Скромные труженики. Как, простите, ваша фамилия?
Перед хранителем истории стоял напористый белобрысый недоучка, но скромный труженик хотел славы.
Он зря боялся за Ее сохранность. Она была в тяжелой кожаной обложке с коваными уголками, каждая Ее страница заключена в прозрачный пластик. Я скользил взглядом по строкам, выведенным твердым прямым почерком, крепкой, наверное, и тяжелой рукой. Иные были мне знакомы, иные — нет. «…В суровой борьбе, которую нам предстоит вести на планете Руссо, чтобы сделать ее пригодной к жизни для нас и наших потомков, мы обязаны быть равны. Не должно быть героев и толпы, аристократии и плебса, владык и ра-… — Я перелистнул страницу, — предостерегаем вас от перенесения на нашу планету язв земной цивилизации. Строгое ограничение в пище и одежде…»
Стоп, стоп, стоп. Здесь был какой-то разрыв. Здесь и, кажется, еще раньше тоже. Вот оно:
«…Мы утверждаем, что единственная функция, которая осталась человечеству, это развлечения…» — страница кончается, а следующая начинается фразой: «…естественными препятствиями, которые предоставляет ему мать-природа».
В конце последней страницы — ровно и наискось, тщательные и небрежные, с росчерками и без росчерков — шли подписи: Расмундсен… Паули… Каяк… Три каллиграфических иероглифа… Меникелли. М. Баттон… Ю. Баттон. На третьей строке слева тем же твердым прямым почерком — ни хвостиков, ни завитушек, — каким был переписан весь текст «Клятвы», значилось: «Иоаннидис».
Я захлопнул папку. Библиотекарь ждал и улыбался.
Я сказал:
— Красивая какая папка. Ручная работа?
Хранитель расцвел:
— Переплетное дело — моя слабость. Взгляните на наши полки, взгляните — все сам. Врачи не советуют, из-за близорукости, вот горе.
— Да, — вздохнул я, — вы уж берегите, пожалуйста, зрение. Здесь у вас драгоценные реликвии, а я пришел и… взял, например, на память.
— Вы бы не говорили так, если бы знали, какая у нас система сигнализации.
— Абсолютная надежность?
— Попробуйте сами глухой ночкой.
— Это, естественно, подлинный текст?
— Аутентичный, — гордо проговорил он.
— Неповрежденный?
— Как вас понять?
— Мне показалось… Я не специалист… Кажется, одна страница не совпадает с другой. Начало и конец — вы понимаете? Что-то там пропущено. Я невнимательно читал, но…
Он должен был бы схватиться за папку, впиться в рукопись своими окулярами. Если бы не знал.
Он взял Ее со стола и сунул под мышку.
— Вам показалось. Это полный и единственно подлинный текст.
— А кто передал его в музей?
— Это было до моего прихода сюда, я ничем не могу быть вам полезен.
Он боялся меня. Что-то скрывал и боялся. Вот уже вторая подряд встреча с человеком, который знает и боится, — первым был старикашка Монтгомери.
Я вырос в обществе без тайн. Тайны бродили лишь за границей освоенной территории — свирепые, шестиногие черные кони и красные пумы в душных глубинах сельвы, на берегах неизвестных рек. Они вызывали страх, если ты не вооружен, а других страхов не было — бандитов, пиратов, флибустьеров, гангстеров, что ли, мафиози, или как их там — это все на Земле осталось, только деды об этом помнили…
Гласность служила одной из основ нашего общества, оплотом гласности была газета «Старлетт», я в ней служил репортером, и от меня что-то скрывали.
Подведем итог. Если верить Монтгомери, двадцать четыре года назад во время прений в парламенте по вопросу об учреждении профессиональной футбольной лиги некий депутат, выступая против этого акта, ссылался на то, что сказано о футболе в «Клятве».
Я в ней ничего похожего не обнаружил.
Но в экземпляре из музея каких-то страниц явно недостает.
Он же, тот депутат, их, очевидно, читал.
Фамилия депутата Карамаякис. Фамилия покойного «колумба», переписавшего «Клятву», Иоаннидис. Тот и другой по происхождению греки.
Что еще говорил старикашка о депутате? «Он был постарше всех нас, мы его уважали…»
Межзвездный скачок от Земли до Руссо по земному и нашему времени занимает около десяти лет, в ракете они сводятся к нескольким неделям, но если ты был в числе первых…
Если ты был в числе двадцати двух первых, то остальных ждал около десяти лет. Этим остальным — десяти тысячам — в подавляющем большинстве было по восемнадцать-двадцать. Значит, «колумбы», останься они в живых, оказались бы старшими среди основного населения Руссо.
Но ведь они погибли — одновременно, от неизвестной болезни. Когда это случилось — до основной волны переселения или после, что была за болезнь, пострадал ли от нее кто-либо еще, я не знаю. Нигде об этом не слышал и не читал.
— А вдруг болезни вовсе не было?
Что же было?
Стоп, стоп. Как там в «Клятве»? «В суровой борьбе… мы обязаны быть равны. Не должно быть героев и толпы, аристократии и плебса…»
Может быть, здесь разгадка? Может быть, они просто не захотели стать теми, кем мог их сделать ход событий, — героями, неким подобием аристократии? Сочинили легенду о болезни, сменили имена и словно растворились среди десяти тысяч поселенцев — ушли, например, разведчиками в передовые отряды или охотниками — на рубежи сельвы.
И значит, кто-то из них в принципе через какое-то время мог стать депутатом парламента.
Иоаннидис — Карамаякис. Возможно, фамилия матери или друга, оставшегося на Земле. Избрав новое имя, он оставил себе происхождение. Тогда получается, что он знал о написанном в «Клятве» не потому, что просто читал ее. Он сочинял ее вместе с другими «колумбами» и сам переписывал.
Жив ли он? А если не он, то кто-то другой из двадцати двух. Пятьдесят два — возраст Освоения. Плюс, допустим, двадцать — его возраст в год Освоения. Плюс десять лет ожидания. Восемьдесят два года… Жизнь, полная трудов и опасностей…
И все-таки кого-то из них я должен найти. Того, кто з н а е т.
9
«На очередном заседании суда свидетельскую трибуну занял Джереми Багги-младший, президент профессиональной футбольной лиги планеты (28 лет, женат, супруга — Элеонора Багги, популярный косметолог и психогигиенист, трое детей. Род занятий — председатель правления банка Руссо)».
Далее вычеркнуто: «Джереми Багги-младший, единственный сын цельнометаллического Джереми Багги-старшего, удалившегося на покой основателя банка, женат на племяннице президента республики. Воскресное цветное приложение «Эпо» не раз публиковало фоторепортажи, посвященные частной жизни этого образцового семейства: патриарх в алюминиевых сединах, мать-вседержительница в нежно-голубых сединах, мускулистый наследник, любящий алые костюмы и золотистые рубашки, и грациозная косметологиня…»
Пламенный и племенной Джереми Багги на свидетельской трибуне держится аффектированно-мужественно, напрягает шею и натужно откашливается, прежде чем изречь нечто значительное нутряным, желудочным басом.
— Уважаемые господа, я сам изъявил желание предстать перед вами. Считаю это своим долгом. Отец учил меня ходить прямыми дорогами, и я хожу прямо. Кхм. Прискорбные события, о которых идет здесь речь, могут наложить нежелательный отпечаток на деятельность нашей лиги в целом. Потому я здесь и готов ответить на любые вопросы.
Прокурор:
— Мистер Багги, как вы расцениваете случившееся во время матча «Валендии» и «Скорунды»?
— Как досадное исключение.
— Располагает ли возглавляемая вами лига гарантиями беспристрастности арбитров?
— До сих пор мы считали их стопроцентными. Сегодня наш долг перед народом — усилить меры контроля. Кхм. Создана комиссия, ее поручено возглавить мне. Футбол, по нашему убеждению, не только развлечение. Меньше всего развлечение. Футбол служит истине. Футбол — это нравственность. Деятель футбола — это рыцарь. Это паладин. Отец учил меня, что победа всегда и во всем — это чаша Грааля.
Судья:
— Адвокат, имеете ли вы вопросы к свидетелю?
Адвокат:
— Если мне будет позволено, миледи, я хотел бы попросить достопочтенного свидетеля разъяснить нам, на какие материальные средства существуют клубы, входящие в лигу.
— Я уже подчеркивал, что деятельность лиги имеет в основе духовные мотивы. Необходимые материальные средства дают сборы от матчей, благотворительные пожертвования любителей прекрасного вида спорта — как организаций, так и частных лиц, суммы, выделяемые регионами, — исключительно на воспитание резервов, а также продажа сувениров.
— Означают ли ваши слова, что фирма «Кикс», производящая сувениры, самым тесным образом связана с клубами?
— Фирма «Кикс» пропагандирует идеи футбола. Ее деятельность проникнута высоким идеализмом. Идеалы святее коммерции.
— Не буду ли я назойлив, если поинтересуюсь у свидетеля, что он имел в виду, говоря о воспитании резервов?
— Кхм. Это же ясно! Детский и юношеский футбол — наш фундамент. Молодежь — краеугольный камень будущего, как говорит мой отец.
— Можно ли предположить, что руководство клубов в целях правильного воспитания будущих юных героев поддерживает контакт с их родителями?
— Можно ли? Кхм. Я поражен! Нужно! «Футболист — сын народа» — наш девиз. Семья — наша опора.
10
— Хэлло, я Роберт Симпсон из «Старлетт», готовлю репортаж о том, как наше здравоохранение заботится о престарелых. Ну да, о людях преклонных лет, ветеранах Освоения. Кто самый старший из пациентов вашей больницы? Момент, записываю.
Пятый такой визит — в госпиталь имени Багги-старшего — принес славный улов. Мясистый двухметровый младенец, видно только что выпорхнувший из «Высшей костоправки» и мечтающий титуловаться «наш обозреватель по вопросам медицины», смачно потер красные намытые ладони:
— С вас пиво, с нас сюжетик. Был тут в прошлом месяце один дедушка. Грыз орех и зуб сломал. Зубы все целы, но стерты просто до корней. «Сколько ж вам, — говорю, — папа, лет?» — «Пятьдесят пять». Кой черт — ему все девяносто. Туда-сюда, полное обследование. Регидность мышц ярко выраженная, подагрические узлы такие, что хоть в учебник. Пришел проф, туда-сюда: «Девяносто». А папа — фигушки, папа разведчик и хочет полноценно трудиться, потому пиши пятьдесят пять. Сюжет?
— Сюжет, — сказал я. — С меня пиво. Имечко не запомнили?
— А нам память ни к чему, у нас картотека. Джейн, милочка, принеси карточку того черного папы, его еще звали так забавно…
— Джон-Джейкоб Смит, — сказала красивая Джейн. — Шестнадцатый отряд разведчиков, южная граница первого региона, поселок Веселая Собака.
— Вы сказали «черный папа» — он негр, что ли?
— Великолепный негритянище, я бы не удивился, если бы ему добрая сотня отбарабанила.
«Мы, собравшиеся здесь, — мужчины и женщины, белые и черные»… Черные. Джон-Джейкоб Смит… Жан-Жак!
Ох, как это все походило на правду!
11
Собаки в поселке Веселая Собака были грустные. Лежали под сваями домиков в тени, распластав хвосты по серой пыли.
Отец рассказывал, что, когда на Руссо завезли собак, они в первое время рычали, лаяли и выли без передышки. Их земной ум не мог примириться с местной фауной — шестиногой, и когда они стаей загоняли маленького безобидного длинноухого олешка и тот, припав на четыре копытца — средние и задние, в ужасе отмахивался от них передними, то даже бравые псы-вожаки отшатывались и пускались наутек.
Наши собаки жмутся к жилью, для охоты они непригодны. Знаменитый зверолов и зоолог Спаркс носится с идеей приручить черного коня — не для вьючной работы, а именно чтобы охотиться с человеком (я у него на сей счет брал интервью), но это, по-моему, невозможно. Во всяком случае, хрип и зубовный скрежет табуна, в котором низкорослая самочка достигает трех метров в холке — самая кровь леденящая музыка нашей планеты.
Поселок был по-дневному пуст. Издалека — оттуда, где синел лес, — слышался грохот механизмов. Я свистнул, и тотчас послышался ответный свист. С высокого порога ближнего домика спрыгнул мальчик в разведчицкой шляпе набекрень.
— Вы кто?
— А ты кто?
— Я на вахте.
Это был подлинный юный переселенец, независимый, уверенный и настороженный, в комбинезоне на голом коричневом теле. Точь-в-точь я десять лет назад в шестом, отцовском отряде.
— Мне нужен Джон-Джейкоб Смит. Старый негр. Знаешь такого?
— Знаю. Это повар. Только вы ему кто? У него никого нет родных.
— Я из газеты, — проговорил я заветную фразу, которая все и всем всегда объясняла.
— О! Послушайте, ведь у «Скорунды» с «Валендией» будет переигровка, верно? У нас сломался приемник.
— Конечно, будет, — сказал я. — Послушай, а какой он — Джон-Джейкоб Смит? Добрый, сердитый?.. Он старик, он много, наверное, историй знает…
— Может, и знает, но вам из него их не выкачать. Он молчит и рисует на песке цифры.
— Что рисует?
— Всякие цифры и значки. Он не злой, но и не добрый. Не знаю какой. Просто старик, который молчит. Его кухня во-он там — вправо от опушки, возле ручья.
Опушка сельвы была искорежена исполинскими вывороченными пнями, ямами и следами гусениц. Сине-зеленая чаща трещала и рушилась в полусотне метров отсюда. Хижина притулилась к сизому стволу прекрасного пальмового клена, который разведчики пощадили, обрубив только нижние ветки, чтобы какое-нибудь шестилапое не обрушилось ненароком на крышу. В огромном медном котле, висящем над костром, аппетитно скворчало. Я присел на полированный обрубок — давно он, видно, служил табуретом. Возле него на песке, перемешанном с пеплом, было и вправду что-то начерчено.
Я вгляделся.
Это был интеграл вероятности Гаусса, именно он, — я же в техническом полгода оттрубил, прежде чем сбежать в репортеры.
Старый повар на досуге развлекался высшей математикой.
…Смит показался снизу, от ручья. Он нес ведро с водой, и только когда приблизился, я понял, что передо мной великан — согнутый, скрюченный, но великан. Я смотрел прямо на него, а он меня словно не видел. Темно-бронзовая кожа его лица обвисла, глаза были скрыты под складками, только макушка блестела сквозь седой пух. Я сидел и смотрел, пока он приподнял крышку котла, плеснул туда воду, понюхал вздыбившийся пар, полез в карман, что-то достал и бросил в свое варево, аккуратно прикрыл котел и лишь потом покосился на незнакомца.
— Здесь интересно получится, если ввести суммы Дарбу, — сказал я и ткнул прутиком в формулу. — Не пробовали?
Он проворчал что-то неразборчивое, влез в хижину и вылез с железной палкой в руке. Я вспотел. Но это не мне предназначалось — у него, оказывается, висел гонг возле хижины, и он, видно, собрался звонить на обед.
— Постойте, — сказал я. — Не сбежит ведь никуда каша. Все равно я знаю, кто вы, и теперь вам не отмолчаться.
— Все он знает, — пробасил старик нараспев. — Пришел сюда такой, все знает. А за ручьем лошадки топочут. О-ох, надо ему уходить.
— Изящная позиция, — сказал я. — Двадцать два бога создали мир и умыли руки. Разбирайтесь без нас. В мире все, может, сикось-накось, а мы кашу варим.
— Что вам от меня надо? — Это был другой голос, по другому модулированный. Таким голосом можно и об интегральном исчислении толковать.
— Прежде всего меня интересует, есть ли у вас экземпляр «Клятвы».
— Предположим. Но вы, полагаю, должны знать, что там написано.
— Смит, это ваша планета, и на ней неладно. Из «Клятвы», которая хранится в музее, вырезано несколько страниц. Кому-то невыгодно, чтобы полный текст был известен людям. Для вас это новость?
Он снова скрылся в хижине и вернулся с бумажным свертком.
— Уходите в поселок. Там сейчас все дома пустые — садитесь и читайте. Сюда придут люди и будут есть. А я буду думать. Потом приходите.
Когда я вернулся, он мыл котел — скреб изнутри песком. Он спросил;
— Что они из нее вырезали?
— Кто «они»?
— Жаль, что вы об этом спрашиваете у того, кто не может знать.
Я прочел ему то, что переписал в свой блокнот. Он кивал головой точно в такт стихам, с умиленным и светлым лицом. Когда я закончил, он не проронил ни слова.
— Сколько вас осталось?
— Не знаю.
— Вы никого из них не встречали за полвека?
— Полвека… — Он выговорил это слово, будто вдумываясь в его непостижимость. — Полвека… Лет двадцать назад здесь… Не здесь, конечно, тогда мы работали севернее, у истоков Блэк-Ривер, убили охотника. Убил не зверь, а человек. Когда его хоронили, я узнал. Это был младший Баттон — Юджин… Как вы сказали тогда: «Двадцать два бога умыли руки»?.. Полвека — это срок, чтобы подумать. Тем более если нет книг.
— Послушайте, Смит, но ведь книги — это доступно. Не в тюрьме же пробыли вы все эти годы.
— Меня зовут Теренс Тейлор, а тюрьму я выстроил сам. Чтобы быть как все, кто вокруг меня. Я учил себя подчиняться людям и обстоятельствам, чтобы не заболеть жаждой ими управлять. Похоже, что это ложная посылка. Хотя я не должен так говорить. Один я не могу признать неправоту всех, моя информация слишком бедна, да и ваша, я вижу, немногим богаче. Но у вас еще есть время. Наша история только началась, полвека — это для нас страшно, а для нее, друг, смешно.
— Чем я могу быть вам полезен?
— Есть прекрасная древняя книга. «Дон Кихот Ламанчский». Достаньте мне ее.
12
«Продолжается допрос свидетеля Ульриха Земана (27 лет, холост, род занятий — профессиональный футболист, полузащитник команды «Валендия»).
Адвокат:
— Свидетель, вы утверждаете, что ударили игрока «Скорунды» потому, что он вас оскорбил.
— Так это… Конечно. Шестиногим желтопузиком он меня обозвал. Обидно. И нервы. Вот как получилось.
— Свидетель, вы извините меня за вопрос: нормально ли функционируют ваши слуховые органы? Иными словами, не почудилось ли вам?
— Это что, глухой я, что ли? Ну нет, вот уж нет!
— Между мной и вами сейчас пятнадцать метров тридцать два сантиметра. Между мною и судейским столом — тринадцать метров девяносто сантиметров. Теперь я отставляю микрофон и произношу фразу… Прошу извинить, миледи, вы меня слышали?
Судья:
— Нет, адвокат.
— Свидетель, вы меня слышали?
— Так вы же спиной ко мне повернулись!
— Не будет ли невежливым с моей стороны напомнить вам о том, что лицо, назвавшее вас желтопузой шестиножкой… простите… да, шестиногим желтопузиком, находилось от вас на расстоянии приблизительно двадцати метров и тоже спиной? Уважаемый суд, я располагаю видеомагнитофонной записью и готов ее предъявить.
Тишина в зале. Земан потирает шею.
— Так. Значит, так. Они меня дисквалифицировали. Я им денежки спасал, и они у меня из кармана вынули. Ладно. Тут вот какое дело. Нам велели проиграть. 4: 5 должен был быть счет. А тут — 4: 4, всего ничего остается, дают пенальти в их ворота… Была не была. Я ему съездил, и пошла драка, и матч сорвался. Вот как дело было.
В зале шум, судья звонит в колокольчик.
— Кто же дал вам указание проиграть со счетом 4: 5?
— Как кто? Тренер, конечно. Франческо д'Анжело, наш старший тренер.
— Миледи, прошу пригласить на следующее заседание в качестве свидетеля тренера д'Анжело. Извините, свидетель, у меня еще вопрос. Не могли бы вы повторить свою фамилию, место рождения и имена родителей?
Прокурор:
— Миледи, я протестую. Свидетель говорил об этом в начале допроса. Адвокат намеренно затягивает ход процесса.
Судья:
— Адвокат, время сегодняшнего заседания кончается. Вы уверены, что ответ в состоянии открыть нам нечто новое?
— Совершенно уверен.
— Свидетель, отвечайте.
— Ульрих Земан, родился в поселке Три Камня, на ферме Теофила и Марии Земанов.
— Ваши уважаемые родители здоровы?
— А чего ж нет? Я у них в отпуске весной был.
— Свидетель, я должен сообщить вам прискорбную новость. Ваша матушка скончалась три года назад. Мне очень жаль, но вторая новость окажется еще печальнее. Свидетель Ульрих Земан, вы не существуете. Никаких следов вашего рождения нет в метрических книгах планеты. Миледи, вот документы, которые я прошу приобщить к делу.
Оглушительный шум. Судья звонит в колокольчик и предупреждает, что удалит публику из зала.
Адвокат:
— Свидетель, я прошу ответить на вопрос: кто вы?
Судья:
— Ввиду истечения времени допрос свидетеля откладывается. Следующее заседание в понедельник в десять утра.
Адвокат:
— Миледи, я прошу
прощения, но мне необходимо сделать заявление.
— Делайте.
— Я прошу суд принять меры к обеспечению безопасности свидетеля. Исчезновение арбитра Бронека уже имело место, и мы…
— Суд принимает к сведению ваше заявление. Заседание закрыто».
Камешек я приготовил заранее. Завернул его в записку. Я был доволен собой, с галереи он попал точно на адвокатский стол.
Я написал ему: «Адвокат, у меня кое-что для вас есть. Жду в ресторане «Тихая сельва» в 21.00. Симпсон («Старлетт»)».
13
«Тихую сельву» открыли недавно, и она была переполнена. Мне нашелся столик лишь потому, что я писал об открытии и хозяин меня знал. Ресторан был выдержан в охотничье-разведчицком стиле: прочная грубая мебель, стены из бревен в пятнах коры и плюща, каменный очаг в центре зала — на тлеющих углях там жарилось мясо. С одной стены смотрела, скаля пасть, башка красной пумы, с другой — таращилась на нее исподлобья, выгнув шею и вывернув ноздри, как перед схваткой, голова черного коня. Патлатая певица в кожаных штанах томно и низко тянула с эстрады:
Тихая сельва… Синие тени…
Ласковый вечер лег у корней…
А четыре кожаных молодца — рояль, банджо, сакс, ударные — рявкали хором:
Если разлюбишь! Если изменишь!
Пулю получишь между бровей!
Чиновники, торговцы, процветающие фермеры и богатые зубодеры в такт били в столешницы коваными днищами пивных кружек, чувствуя себя простыми лесными парнями, крепко любящими своих простых подруг. Кое-где уже обнимались, кое-где пробовали трясти друг друга за манишки. Ребята из «эрбэка» — Роты Борьбы с Контрабандой Алкоголем — явно запаздывали на боевой пост.
Войдя, адвокат растерянно остановился возле очага, повертел головой и заспешил, обрадованный, на мой оклик.
— Прошу прощения, я не подозревал о наличии у нас столь колоритных предприятий общественного питания.
— Два пива, — сказал я официанту.
— Извините, — адвокат глянул жалобно, — с вашего позволения я бы предпочел чай.
Официант смылся, гневно фыркая на ходу.
— Я вас слушаю внимательно и очень польщен знакомством. — Он снял темные очки, узкие глаза были усталыми и слегка воспаленными.
— Не знаю, зачем вы допрашивали того старика, бывшего депутата. Но мне тоже захотелось обнаружить в «Клятве» упоминание о футболе. Вот оно — другого нет.
Я выложил на стол собственноручно перепечатанный листок.
«Мы утверждаем, что единственная функция, которая осталась людям в нашем обществе, — развлечения. Прикованный к своему жилищу, к телеэкрану, человек обречен на иллюзорное существование, ибо он живет в мире лишь тех эмоций, которые дарят ему его рабы и его шуты, профессиональные развлекатели: футболисты, бейсболисты, регбисты, автогонщики и иные гладиаторы нашего времени. Лишенный физических движений, которые производят за него другие, человек неизбежно утрачивает черты, изначально присущие его биологическому виду».
Йошикава читал, низко склонясь над листком. Прочел, разгладил бумажку концами пальцев и улыбнулся ей со странной нежностью:
— Благодарю, я представляю себе, как трудно было вам это найти. Найдя, вы узнали, я думаю, многое, но этот текст и мне хорошо знаком.
— А этот?
Я протянул ему цитату со второй из вырванных страниц:
«В суровой борьбе, которую нам предстоит вести на планете Руссо, чтобы сделать ее пригодной к жизни для нас и наших потомков, мы обязаны быть равны. Не должно быть героев и толпы, аристократии и плебса, владык и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых. Все богатства планеты принадлежат всем гражданам планеты».
— Прекрасные слова, не правда ли? — грустно сказал Йошикава. — Но какой детский утопизм — поступить так, как поступили они…
— Вы можете объяснить, почему в экземпляре, который хранится в музее, этих строчек нет? Нет, а вы о них знаете — откуда? А если знаете, зачем понадобился вам тот старый пень? И вообще, что за дела у нас тут творятся?
— Когда много вопросов сразу, не так легко ответить. Вы, должно быть, заметили, что прокурор Гирнус имел здравый резон прервать мой допрос Монтгомери, как не имевший к процессу видимого отношения. Но сказанное побудило вас к поискам, вы искали и нашли. Одного этого уже немало.
— Именно я?
— Извините, я не рассчитывал лично на вас, поскольку лишь сейчас удостоился приятного знакомства. Но я знал, что кто-то будет искать, и рад, что это вы. Впрочем, уверены ли вы, что вы один?..
Тем временем шум в «Тихой сельве», нараставший по плавной кривой, внезапно дал резкий скачок. Девица в кожаных штанах едва перекричала его в свой микрофон:
— Друзья и гости! У нас большая радость! Мы видим в своих стенах юного героя, любимца зрителей, центрфорварда славной команды «Бранцоза» Анри Пелисье и его боевых товарищей!
У очага, картинно скрестив на груди руки, высился стройный блондин в синем пиджаке и канареечных брюках — цивильной форме клуба. За его спиной теснились такие же сине-канареечные, только старше, толще и плешивее.
Публика встала. Публика разразилась какофонией звуков, которой был придан ритм с помощью рояля, банджо, сакса и ударных:
— «Бран-цоза»! «Бран-цоза»! Целуй меня, стервоза! Люби меня послаще! И-на-че не за-бью! Ю-у-у-у!
Музыкально-поэтический шедевр увенчался подобием волчьего воя.
— Что это? — Йошикава испуганно прикрыл ладошками уши. — Зачем это?
— Так «Бранцозу» же зовут «синими волками». Вы что, никогда не слышали, какой вой на стадионе стоит?
— Извините за любопытство, но вот те не столь молодые господа, прибывшие вместе с героем и одетые подобно ему, кто они?
— Члены клуба, конечно. Любители футбола. Они платят взносы и за это могут бывать в клубе, на тренировках, и на трибунах у них постоянные места.
— Как это удобно и интересно, я о такой системе ничего не знал.
Слишком много и слишком мало знал этот непонятный тип.
— А вы, — он спросил, — тоже являетесь поклонником какой-либо команды?
— «Юнтарча», — гордо ответил я, хотя гордиться было особенно нечем: «юнты» плелись в хвосте розыгрыша.
— И у вас тоже имеется красивый костюм?
— Не имеется.
— Нельзя ли спросить почему?
— Не по карману.
— Любопытно. Могу ли я понять вас так, что сумма взноса доступна далеко не всем?
— Еще как далеко.
— Но из этого можно сделать вывод о том, что членство в клубе влечет за собой определенную выгоду. Кроме, разумеется, бескорыстного, чисто спортивного энтузиазма.
— Можно.
Я знал, что у стоек уютных клубных баров, куда РБКА нос не совала, за рюмками контрабандного горячительного завязывались полезные знакомства, обмывались сделки. Я сказал адвокату об этом и о том еще, что сегодня у нас без цветного пиджачишки даже кандидатуру в парламент выставить трудно — «попробуйте-ка сами».
— О, я понимаю. Как много поучительного принес мне наш разговор, как много интересного и важного!
Он снова снял очки и снова изменился — стал прост, напряжен и словно беззащитен.
— Вы можете мне помочь. Но это опасно.
— Я не боюсь, — сказал я, потому что не хотел бояться.
— Сегодня девятое июля. Завтра прибывает корабль с Земли. Два раза в год, вы, очевидно, знаете: десятого июля и десятого декабря. Вы репортер, вам легче попасть на космодром. Требуется установить, какой груз будет доставлен для фирмы «Кикс».
— Производство и продажа футбольных сувениров?
— Совершенно верно — маленькая невинная фирма. Меня интересует даже не содержимое — вряд ли вам удастся с ним познакомиться, — а характер груза, его внешний вид, величина и упаковка.
— Что ж, — сказал я, — надо будет постараться.
— Надо.
14
Лиловый неподвижный браслетик бортовых огней обозначал вдалеке корпус корабля. Красные, зеленые и белые движущиеся огоньки — краны. Мне не приходилось прежде здесь бывать, и я не ждал, что космодром — просто огромное поле, на краю которого дощатый барак. Со стороны поля к нему один за другим подкатывали тягачи с платформами, на которых громоздились контейнеры. Получатели ждали у деревянного барьера, делившего барак пополам, — кожаные куртки, широкие шляпы, суровые физиономии, набыченные в ожидании: таможня и РБКА работали, видно, дотошно. В толпе никому ни до кого дела не было — до меня тоже. Время от времени слышалось: «Кабинет электроники — принимайте… Фирма «Жако» — принимайте… (Вздохи облегчения.) Фирма «Унта» — пройдите к начальнику таможни». (Ругань сквозь зубы.)
Наконец из-за барьера прозвучало;
— Фирма «Кикс» — принимайте.
Груза было много, главную его часть составляли большие продолговатые ящики, изрядно тяжелые, — рабочие фирмы выносили каждый втроем.
Я выскользнул на улицу. Ящики аккуратно укладывали в фургон электрокара. Сейчас он отъедет, и моя миссия будет выполнена. Как, чем помог я Йошикаве и помог ли — неизвестно.
Внезапно возле машины поднялся шум.
— Жабы! — орал мужской голос тем криком, с каким нарываются на скандал. — Жабы проклятые, вонючие!
Крикуна пытались унять те, кто пониже, — он был саженного роста, и они, тесня его скопом, приглушенно гомонили!
— Арчи, уймись, имей совесть!
— Совесть? А у вас совесть есть контракт нарушать, жабьи вы личинки? А за нос три года водить — что таращишься, что, что? Я вырву жабьи твои глаза, крыса!
Скандалисту уже крутили руки, а он отбивался, колотил ножищами в один из ящиков, приготовленных к погрузке, вопия совсем несообразное:
— Эй ты, живой товар, проснись, малыш! Тебя надули, дурья башка!
Его отшвырнули, ящик торопливо сунули в кузов, машина тронулась, а он цеплялся за борт, хрипел:
— Подохнете здесь, подохнете, слышите, парни?
Тут от стены барака отделились двое рослых охранников, до меня донесся смачный звук — этот в челюсть, а поглуше, должно быть, в солнечное сплетение. Симпсон, ваш выход. Одному я угодил в ухо, другому попутно сделал подсечку, а тот малый, не успев разогнуться, добавил головой, и мы побежали.
Он тащил меня за собой к эстакаде, смелой аркой соединявшей космодром с городом. Здесь, у обочины, стоял маленький двухместный «Жижи» последней модели, похожий на чечевицу. «Элегантность и скорость» — из рекламной заметки в «Старлетт», которая полностью соответствовала действительности — мы взяли сто с места и единым духом проскочили всю гнутую ленту бетона, затормозив у первых домов спящего города.
Мой спутник снял руки с руля, потрогал челюсть, охнул. Достал из заднего кармана плоскую флягу, отвинтил крышку, побулькал, мыча от боли, во рту, проглотил. Протянул флягу мне. Это была крепкая штука.
— Ты, парень, гвоздь, — сказал он слегка невнятно.
— Ты тоже.
Небесный пепел помаленьку светлел, и я разглядел славную костистую морду, литую, как у коня, и с гривкой до бровей.
— Что глазеешь, узнал?
— Вроде того, — сказал я осторожно.
— Вроде, вроде… Арчи Хэйла не помнишь?.. Я центра играл в «Валендии» — юный герой, пропади они пропадом, жабы.
— Кто жабы-то?
Он снова хлебнул из фляжки.
— Все вы на вашей вшивой планетке. Я с Земли, понимаешь, оттуда. Разве ты можешь знать, что такое Земля, какое бывает синее море и небо — не серое, как у вас, а синее, а у вас деревья синие, как с перепоя. Что таращишься? Я этого Хэйла в глаза не видел, моего здешнего папулю. Тридцатку в месяц ему в зубы, чтобы помалкивал и гордился дорогим сынком… Я Юханссон — на, выпей за мою мать, если жива еще там, в Стокгольме, и помнит своего идиота. Я живой товар — ты понял? Меня в таком же ящике привезли: шприц в задницу — и спи, пока не разбудят. Мы юные герои из ящиков, богатые парни, вам наши деньги не снились. Тысчонок триста у меня, два таких кара. Слушай, объясни мне, почему вы сами не хотите в футбол играть? Я ж здесь одиннадцатый год, я каждую собаку в бутсах знаю, и ни одной местной жабы, а?
— Я играл, когда учился, — сказал я.
— Ха! Кому ты нужен? Я сейчас знаешь кто? Тренер юношеских групп «Валендии». Я тренер, а групп нет. Есть тренированные парни, триста профи с Земли, и точка. А ты не знал? У нас и детские группы имеются, как же — тридцать штук, сто тренеров, а детишки — тю-тю, на бумажке. Нас же надо кормить, поить. А мы воем, на Землю хотим.
— Не пускают?
— Обеща-ают. У, крысы! «Последнее поручение, Арчи, и следующая ракета — твоя». Уже шесть так ушло. Ловушка, понял? Они всем врут.
— А какие поручения? — спросил я.
— Ты сыщик, что ли?
— Нет.
— И нечего нос совать. В футбол он играл… Вы тут хитрые все. Вам нашей жизни не надо — за решеткой. На Земле-то они тебе распишут: «Богатый будешь, жить будешь на клубной вилле… Бассейн, сауна, личный портной, личный парикмахер… Раз в неделю прямо в койку цыпочку подадим — ноги из подмышек». Все так и есть, да утопиться хочется в этом бассейне. Двадцать четыре часа в сутки под надзором. А почему, не знаешь? Чтобы языком не трепать о наших делах. Ты футбол любишь?
— Люблю.
— А я ненавижу. Ваш. Здешний футбол. Я был на Земле не последний. Ну, любитель, конечно, у станка стоял. Но там я играл как хотел — я вышел, я бог. Когда меня сюда привезли, я «Юнтарче» такую банку в первом же матче плюнул — метров с тридцати… Публика на трибунах скамейки от восторга грызла… У меня ноги подкосились, я на колени встал, я молился… Стоппер «Юнтарчи» мне аплодировал… А из наших никто даже не подошел. «Ладно, — думаю, — завидуют». Если бы так! Минут через десять выпрыгиваю на угловой, а наш капитан, старая шкура, меня локтем под дых. Упал, ничего не помню — где, что… Очнулся, он же меня с поля тащит. «За что?» — говорю. «После, сопляк, поймешь». Понял, спасибо. Тренер сказал: д'Анжело, знаешь такого? Он и есть, щепа позолоченная… «Ты не виноват, капитан должен был тебя предупредить». Ему вмазали штраф — триста гульдов, что не предупредил, полсотни — что меня выбил.
— А о чем он должен был тебя предупредить?
— Ты и вправду не сыщик, седая башка? Хотя что мне терять? Я бы их всех зубами загрыз. Эх ты, любитель футбола! У вас же здесь ни одного чистого матча не бывает. Все подстроено. В каждой команде по трое парней «джокеры». Им говорят, какой должен быть счет, и они его обеспечивают. А остальные под них подстраиваются. Я сам потом «джокером» стал, когда контракт продлил, идиотина.
— Арчи, — сказал я, — я не сыщик, но ты все-таки знай, кто я такой.
И показал карточку.
— Ах ты нос любопытный! — Он покрутил головой. — Да ладно. Я кому верю, тому верю. Хлебнем?
— Арчи, что ты знаешь об этом последнем метче «Валендия» — «Скорунда»?
— Все как есть.
— А рассказать можешь?
— Тебе могу.
— А если не только мне? При всех, на суде?
Он смял пятерней гривку на лбу:
— Ты во что ж меня тянешь, белобрысый?
— Нет так нет, Арчи. Я буду молчать.
— Ты один? Или есть за тобой какие-нибудь ребятишки?.. Хотя нет, этого ты мне не говори.
Он положил голову на руль.
— Чему нас учат наши хорошие мамы?
Помолчал.
— А зима на Земле снежная. Жалко мне тебя, ты и снега отродясь не видывал. Давай, что ли, излагай, как и что.
…Потом я позвонил Йошикаве и назначил срочную встречу.
15
«Очередное заседание началось с сообщения судебного пристава о том, что свидетель Ульрих Земан, допрос которого не был закончен в прошлую пятницу, бесследно исчез в субботу и попытки обнаружить его пока безуспешны».
Далее вычеркнуто: «Виски Йошикавы окропил пот, его сухая маска обмякла, и словно ожили темные стекла очков, став глазами, под взглядом которых судья Адамсон сделалась бела. Она тронула свой колокольчик, хотя зал был нем. В нем чеканно отдались шаги свидетеля д'Анжело».
«Франческо д'Анжело, старший тренер команды «Валендия» (64 года, вдов, бездетен, 23 года назад переселился с Земли, где, закончив футбольную карьеру, также работал тренером)».
Адвокат:
— Свидетель д'Анжело, какие указания вы дали руководимой вами команде перед матчем со «Скорундой»?
— Чисто тактические.
— Прошу ответить подробнее.
— Не считаю нужным.
— Из показаний свидетеля Земана явствует, что вами был отдан приказ о проигрыше со счетом 4: 5. Вы подтверждаете это?
— Вранье.
— Вам известен человек по имени Арчибальд Хэйл?
— Это мой бывший игрок. Теперь он работает с молодежными группами.
— Вы встречались с ним перед матчем?
— У меня нет причин для встреч с этим субъектом.
— Миледи, прошу пригласить свидетеля Хэйла.
«Арчибальд Хэйл (35 лет, холост)».
Далее вычеркнуто: «Он был хорош — бывший «юный герой», решительный сверхмужчина с рекламного плаката».
— Свидетель Хэйл, что вам известно по данному делу?
— Накануне матча я пришел к д'Анжело. Я всегда к нему прихожу накануне. В двадцать два тридцать. Потому что в двадцать два сорок пять он уже в постельке. Король режима — наш Франко. Я сказал: «Завтра надо сделать 4: 5». Он ни слова, только допил свою простоквашу. Он меня теперь любит, как собака палку, но он преданный лакей, на него можно положиться.
Д'Анжело (с места):
— Это вранье! Ни слова правды!
— Каркай теперь, старая ворона!
В зале нарастает шум, слышатся возмущенные выкрики и свистки. Судья потрясает колокольчиком.
Далее вычеркнуто: «На скамье подсудимых хохочет обвиняемый Таубе, барабаня по барьеру кулачищами. Прокурор Гирнус вонзает в судью ледяной взгляд».
Адвокат:
— Свидетель, вы сказали: «Всегда прихожу накануне». Что значит «всегда»?
Крик с галерки:
— Арчи, прикуси язык!
— Эй, ты, — кричит в ответ свидетель, — я тебя вижу, а ты меня знаешь, крысеныш! Всегда — это всегда, я у них три года на связи!
В оглушительном шуме тонет звон судейского колокольца.
— Что такое «на связи»? — кричит адвокат.
— Я агент Синдиката!
— Что такое Синдикат?
— Лига! Тотошка! «Кикс»! Одна шайка! Эй, змеи, собаки, жабий народец! Верьте нам, целуйте нам пятки! Заполняйте ваши вонючие карточки! Кукиш вам, дырка от бублика! Все продано на сто лет вперед!
— Кто вас послал к д'Анжело?
Хэйл не успевает ответить на этот вопрос. Судебный пристав рысцой выбегает за дверь, и через минуту в зал врывается охрана. Стрелки становятся плечом к плечу спинами к судейскому столу и начинают медленно теснить из зала толпу.
— Всех! — кричит судья Адамсон, взмахивая крыльями мантии. — Всех вон! Прессу тоже вон! Процесс теперь будет закрытым!
16
Я писал всю ночь. Я переписывал трижды. В первом варианте документ составлял девятнадцать страниц, в третьем — девять. Это был не репортаж, а материалы к репортажу. Факты и краткие выводы. Коррупция в футболе и очевидное мошенничество с тотализатором. Контрабандный ввоз «живого товара» и растрата сумм регионных бюджетов, отведенных на работу с детскими и юношескими командами — несуществующими. Система изоляции наемных земных футболистов, служащая средством прикрытия грязных махинаций. Явная причастность ко всему этому лиц из высоких сфер, на что указывает акт объявления процесса закрытым не только для публики, но и для прессы и, следовательно, для всей общественности планеты, а также подозрительное самоубийство Багги, если это вообще самоубийство.
Я предлагал продолжить расследование, одновременно начав публикацию материалов.
Я не упомянул о моем интересе к «Клятве», о встрече с Теренсом Тейлором (он же Смит), о контактах с Йошикавой: ситуация представлялась мне серьезной и опасной, и я не хотел навлекать опасность на этих людей.
Прочтя и проведя в молчании около трех минут, Хорейшио Джонс встал, прошагал мимо меня журавлиными ногами и пригласил в кабинет Джима Каминского.
— Я прошу вас, Джеймс, самым тщательным образом ознакомиться с этим… несколько неожиданным документом.
Джим читал и восхищался. Пять раз он поцеловал кончики пальцев, однажды произнес: «Восхитительно», однажды: «Чертовская логика» и трижды: «Ух, как он растет!»
— Да, — веско сказал он, закончив. — Теперь мне все ясно. Мы стары, мы исписались, вот кто нас переплюнет, Хорейшио. Бобби, я поздравляю вас, мой мальчик.
— Джеймс, вам что-нибудь известно об этом? — строго спросил Хорейшио.
— Ни-че-го. Мне, старому волку, с моим нюхом! То есть, разумеется, в матчах иногда бывают липовые счета, разумеется, привозят с Земли игроков — пару, тройку в команду, я и назвать вам их могу, но система, Хорейшио, система, которую усматривает наш молодой друг, — эт-то находка, эт-то открытие, эт-то сенсация!
— Джеймс, будьте серьезны. Я жду ваших предложений.
— Хорейшио, вы меня знаете, я неизменно серьезен, я в постели серьезнее, чем президент, когда он приносит присягу. В чем ваши сомнения? Публиковать немедленно! Наши тиражи подскочат до космической цифры, и если потом нас с вами разнесет на части толпа обезумевших опровергателей, я умру счастливым.
Все было ясно: Джим разносил на части мое предложение.
17
Каминский удостоил меня величайшей чести — пригласил посетить вместе с ним клуб футбольных репортеров «Работяга хавбек», куда пускали лишь избранных. Там и столиков было всего семь — по одному для каждой из газет и один для телевидения. Каждый столик таился в алькове, на нем стояла лампа в форме мяча, над ним — портреты ведущих комментаторов и известных игроков с автографами.
Джим повел меня по залу, велеречиво знакомя с коллегами:
— Роберт Симпсон, восходящая звезда политического репортажа… Джулиус Кэдмен, проблемист, бриллиантовый мозг!
Розовый лысеющий толстячок сделался еще розовее.
— Роберт Симпсон, тончайший стилист нашей журналистики… Жан Жиро, безжалостный аналитик и нежнейшая душа!
Аналитик кивнул пожилым сизым носом и брюзгливо спросил, как это у Джима в последней статье получилось, что «Бранцоза», видите ли, под влиянием теоретических… хм, хм… концепций Мааса исповедует систему сетевых передач в центре с клиновидными фланговыми перемещениями. «Он же болван, ваш Маас, у него солома в башке, ему надо на Пелисье играть, Пелисье — таран». Джим закричал, что не слышал этого, не слышал… На крик сбежались от своих столиков все мыслители, теоретики, аналитики, исследователи, философы, одописцы его величества футбола — они вздымали длани, они срывали с себя очки, ерошили прически, выхватывали блокноты и стило и чертили замысловатые схемы.
Я смотрел на них, пытаясь понять, дураки они, жулики или просто взрослые дети.
Когда все отшумело и разбрелось по альковам и зацокали машинки, материализуя жидкую лаву идей, Джим устало сказал мне.
— Ах, как примитивны эти люди, мой друг! Нет, нет, футбольная журналистика ждет таких, как вы.
— Джим, скажите мне правду.
— Какой правды вы хотите — знаю я или не знаю? Но ведь только такой тупица, как наш шеф — благороднейший, честнейший, однако, увы, тупица! — может задавать Каминскому подобные вопросы. Но сопоставьте факты. Когда создана наша «Старлетт»? Вы не помните, вы молоды, это прекрасно, а я скажу вам. Двадцать два года назад. А «Хот ньюс»? Двадцать два года назад. «Эпо»? Двадцать два года назад. Когда образовалась телекомпания? Тогда же. Все средства массовой информации возникли практически одновременно. Ну а когда была создана наша славная футбольная лига, вы, надеюсь, помните? Совершенно верно — двадцать три года назад. Вы понимаете, что это означает? Мы живем благодаря футболу. Он кормит вас, меня, этих крикунов…
Он замолчал, словно собираясь с мыслями. Это само по себе было невероятно — молчащий Каминский…
— Мне поручено с вами говорить. Мне поручено вас предупредить о том, чтобы вы изменили свое поведение.
Я не спросил, кем поручено. Я понял, что он не ответит.
— Что значит, — спросил я, — изменить поведение?
— Не трогайте этих дел, мальчик. Не прикасайтесь. Я ведь вас действительно люблю. Не трогайте, и с вами ничего не случится. Поверьте, мне было трудно добиться гарантий вашей безопасности.
Когда мы вышли из клуба, серая вкрадчивая ночь обволакивала призмы и кубы зданий, округляя их грани, делая улицу похожей на лес.
— Вам ведь направо? — спросил Джим. — Жаль, что я не могу вас проводить. Сесиль не любит, когда я задерживаюсь.
18
Я свернул за угол, и тотчас навстречу — наискосок, благо вокруг никого — ринулся знакомый коричневый «Жижи», и ручища Хэйла поймала меня за рукав.
— Прыгай сюда, сиди и молчи.
Кар петлял из улицы в улицу, Арчи только по сторонам посматривал, рывками водя длинным подбородком. То ли он был загонщиком, то ли его загоняли.
— Ты меня лихо кинул на гвозди, седой. Но все-таки ты меня разок выручил. И ты не жаба. Слушай, как подъедем к эстакаде, ныряй к черту через борт и ползи в кусты. Не гляди никуда, ползи, не дыши, ползи. Уцелеешь — твое счастье.
— Арчи, я ведь не жаба — пусть как с тобой, так и со мной.
— Я жаба. Ты спрашивал, какие поручения. Такие. В сельвочку тебя, в ямку, и тю-тю. Я возил таких птенчиков. Мне ж опять обещали: в последний раз — и домой. Только не сошлось у них. Не получилось. Я подумал: а почему именно я тебя должен, как они говорят, обезвредить? Подумай и ты. Хотя некогда думать. Бывший футболист Хэйл, попавшийся на удочку писаки Симпсона, мстит ему, но сам падает под пулями доблестных бойцов гражданской обороны. Годится в газету? Оглянись.
Я оглянулся. Далеко позади двигался какой-то кар.
— Что будешь делать, Арчи?
— Не твоя забота. Глотни. И я глотну. Из одной фляги мы пили, малыш. Прыгай!
Он вытолкнул меня через борт, я упал, встал, побежал вниз, снова упал и пополз, наклоняя голову и прикрывая глаза, чтобы их не выхлестало упругими колючими побегами. Гул его машины утих, вскоре возник другой. Я перевернулся на спину.
Вкось от меня круто чернела спина эстакады. Хвостовые огни машины преследователей еще только ползли пологим подъемом, приближаясь к верхней точке, как вдруг там, наверху, послышался удар, треск, что-то плоское, овально-вытянутое взлетело в воздух, закувыркалось, рухнуло, и длинная голубая искра ушла в небо. Взрыв был отрывист, категоричен. «Жижи» гибнет сразу, превращаясь в слиток пластмассы, и водителям инвалидность не грозит. Это одно из достоинств новой марки электромобиля, о котором не пишут в рекламных проспектах.
Душа Юханссона, если она есть, отлетела в космический рейс без ракеты.
19
«Н. Элоиза, 18 июля 52 г.
Памятная записка
Я, адвокат Мик Йошикава, составил настоящий документ на тот случай, если обстоятельства не позволят мне далее вести сознательную деятельность. Адресуя ее корреспонденту газеты «Старлетт» Роберту Симпсону, я почтительнейше прошу его воспользоваться данным документом в известных ему целях. Сожалея об отсутствии у меня литературного дарования, в высочайшей мере свойственного моему высокочтимому другу, я попытаюсь в меру моих слабых возможностей описать произошедшее со мной со всей доскональностью, заботясь при этом не о красоте слога, но о точности изложения.
16 июля после того, как судья Адамсон приняла прискорбное и, на мой взгляд, незаконное решение придать процессу закрытый характер, я имел свидание с моим подзащитным Толлером Таубе, каковое опишу.
— Уважаемый адвокат, — сказал Таубе, смотря на меня веселым взглядом, присущим этому сильному и не лишенному привлекательности, хотя глубоко порочному, человеку, — хочу быть откровенным. Я водил вас за нос. Сейчас у меня нет связей, меня караулят так, что не пикнешь, а дальше будет хуже, я уж знаю. Одна надежда на вас, станем же играть в открытую. Я действительно купил матч, но мое объяснение — собачья чушь. Футболом и тотализатором правит подпольная организация под названием «Синдикат», во главе ее шесть синдиков, я — шестой, младший. Все предсказанные результаты пропускаются через ЭВМ, и машина выдает нам вариант непредсказанный. Основываясь на нем, мы велим командам сыграть так, как нам надо. Наш результат мы вписываем в две-три карточки на подставных лиц и снимаем пенки. Заварушка вышла из-за меня. Синдикату было нужно, чтобы «Скорунда» обштопала «Валендию» — 5: 4. Но мой человек, имеющий доступ к ЭВМ, прокрутил прогноз с учетом и этого результата, и вышло, что при обратном исходе — 4: 5 — можно сорвать весь банк. Я не пошел ни к тренеру, ни к джокерам — дал арбитру в лапу, и точка. У меня нет времени оправдываться, да я и не считаю это нужным. Я люблю жизнь, я игрок. Рискнул, попался, это ясно — судья и прокурор на жалованье у Синдиката, сколько бы они мне ни впаяли, со мной будет то же, что с бедолагой Бронеком… Семь гульдов за маис, разрази меня гром, надо было десять дать, как пенсию вдове и с недотепой джокером. Проигравший платит, это закон, но пуля в лоб — дороговато, я еще поторгуюсь. Короче, предлагаю вам десять тысяч за то, что вы пойдете к одному человеку и скажете, что я попрошу. Я давно почуял, что у вас своя игра, вы зачем-то хотите взорвать нашу лавочку, но, ей-богу, не стоит. Вы же не верите в потустороннюю жизнь, она одна, а мы — пожилые циники, мы и свой геморрой любим, потому что он свой, а не дядин. Можете мне не отвечать, только слушайте — время свидания кончается. Вы пойдете на стадион «Валендия», там есть сувенирный киоск «Кикса». Киоскеру скажете, что шестой согласен отдать всю сумму. Ответ сообщите мне. Топайте и знайте — я силен, пока жив, но я и мертвый сильнее, чем вы живой.
Вечером того же дня я встретился с указанным лицом. Его внешность необычна и заслуживает описания. Он высок и сутул, потрепанная одежда выглядит так, точно он спит не раздеваясь, маленькая физиономия, похожая на печеное яблоко, не указывает ни на возраст, ни даже на пол. Крупные, оттянутые книзу глаза исполнены не человеческой, а, как писали в старинных книгах, сатанинской мудрости, для которой не существует ни нашей морали, ни нашего здравого смысла.
— Мой дорогой господин может называть меня Том, — произнес он тонким, отчетливым и несколько гнусавым голосом. — Мое настоящее имя обыкновенно. Я Том, а вы господин адвокат Йошикава, блистательно ведущий это забавное судебное дело. Мне кажется лишь, что судья поступила необдуманно, удалив из зала вместе с публикой представителей прессы. Они никому не опасны. Им только надо платить подороже.
Назвавшийся Томом живет в хибарке, примыкающей сзади к киоску, — она так мала, что ее нелегко заметить. Внутри помещаются ржавая железная кровать, прикрытая жалким подобием одеяла, и табурет с застарелым круглым следом от сковородки.
Хозяин сел на кровать, табурет был предложен мне, стола не было.
Передав слова моего подзащитного, я вежливо заметил, что должен получить уважаемый ответ.
— Мой господин ничего не должен, — столь же вежливо ответил назвавшийся Томом.
Мы кланялись и улыбались друг другу. У него были черные зубы. Я забыл отметить, что он беспрестанно курил дорогие длинные сигареты — допаливал до губ и зажигал от окурка другую. Пестрые наклейки на коробках этих контрабандных земных сигарет, стоявших под кроватью, были единственным ярким пятном среди его темной лачуги. Он сидел на кровати, поджав ноги, руки его казались бескостными.
— Ваш подзащитный вынужден был многое вам открыть, — не столь предположительно, сколь уверенно заметил назвавшийся Томом. — А открыв, пригрозить, но напрасно. Он мало знает, я намерен сообщить вам больше. Ваше лицо и манеры указывают мне на то, что вы умны, не ординарны, и деньги, предложенные вам за услугу, не имеют для вас такого решающего значения, как для несчастного Таубе.
Его взгляд и голос завораживали меня опасной ворожбой удава.
— Синдикат отнюдь не порождение тотализатора. Он сам породил тотализатор, как и футбольную лигу. Создатель любопытнейшей теории переустройства общества когда-то назвал религию опиумом народа. Вот мы и помогли народу создать здесь свою религию — футбол.
— Вы извините меня за вопрос, кто назван вами «мы»?
— Я, — просто сказал мой собеседник.
— Но для чего?
— Для чего нужен опиум? Чтобы реальную действительность заменить иллюзорной — для убогих духом, кому реальность тягостна. И этот же опиум дает возможность тем, чей дух силен, без помех формировать реальность так, как они считают нужным. Нам остался последний штрих, и мой проницательный господин понимает, что он будет уже чисто формальным.
— Ваша идея по-своему гениальна, — заметил я, поразмыслив. — Футболисты, живые воплощения опиума, будучи всецело зависимы от работодателей и чужды населению, могут представлять собой одновременно идеальное наемное войско.
Назвавшийся Томом удовлетворенно кивнул:
— Я угадал в моем господине неординарный ум. Но он еще не оценил всех преимуществ идеи. Вы не задумывались над механизмом нарушения принципа коллективной собственности, декларированного в красноречивом документе, который здесь называют краеугольным камнем цивилизации? За кулисами футбольных клубов Синдикат постепенно формировал правящую элиту, и лица, входящие в нее, вкладывали деньги, которые мы им давали и даем, в создание частных фирм, приобретение и округление сельскохозяйственных плантаций. Нынешняя власть у нас на содержании — мы платим всем, кто нам нужен, строго ограничив круг клиентуры, дабы не допустить увеличения накладных расходов.
— Вы, должно быть, обладаете колоссальными средствами?
— Но достойный господин ведь не думает, что тотализатор для нас — средство личного обогащения? Несчастный Таубе и в миг наказания сочтет себя только вором, обокравшим воров, но он покусился на иное, чего ему не дано знать.
— Могу ли я, — сказал я осторожно, — спросить, сколько людей на нашей планете посвящено во всю истину?
— Двое, — ответил Том. И, дав оценить значение сказанного, продолжил: — Двадцать два «колумба» переоценили человеческую природу. Человек в большинстве своем глуп, зол, жаден и эгоистичен, он самое скверное из животных. Он может быть также умен и дальновиден, но не наделен мышцами быка и не приспособлен к тем испытаниям, которые ему предназначены во имя ложной идеи равенства. Но он выжил. Все претерпел и все познал. Он понял, что главную ошибку «колумбы» совершили, когда вышвырнули в людскую помойку самое ценное, чем обладали, — власть. Взять ее в свои руки — его историческое предназначение.
Он снова помолчал, любуясь на то, как огонь превращается в пепел.
— Мне известно, кто вы. Я не пытаюсь вас купить — это невозможно. Не хочу убить — одиночество порой тягостно. Такие, как мы, должны физиологически брезговать принципом равенства — толпа дурно пахнет.
Внезапно я понял сокровенный смысл происходящего. Действительно, одинокий среди окружающей его нечисти, он наслаждался передо мной теоретическим разбором замысленной им шахматной партии, а я был достойным слушателем, хотя, с его точки зрения, безопасным противником. Но я понял и другое: покупая по дешевке чужую память, чтобы ее уничтожить, он продал дьяволу свою, и это бездарная сделка — долгие годы в этой каморке он играет сам с собой так, словно до него никто не играл в такие зловещие шахматы. Помня дебюты истории, он забыл ее неизбежные эндшпили. Я понял все это, и он перестал быть мне страшен.
— Вы не допускаете иного варианта в моей линии поведения? — спросил я.
— Мой дорогой господин лишь ускорил события, исход которых предопределен. Предопределена была и наша встреча, поэтому я не назначаю новой. Вы можете прийти
после. Жаль, если я вынужден буду избавить себя от приятной возможности вновь побеседовать с вами. Прощайте, уважаемый адвокат. Передайте своему подзащитному, что мы согласны на его предложение. Отсутствие страха прекрасно, даже если ненадолго.
Я ушел, пропахший его сигаретами, а он остался в их дыму, равно как в чаду своих человеконенавистнических грез. Я мог его убить, но это не входит в мои полномочия».
20
Таня вручила мне почту — обильную, как никогда. Она обязана была вскрывать и регистрировать те письма, на которых не значилось «лично», она все прочла, и ее милые руки дрожали.
Письма были корректные. «Извещаем об адресе ближайшего гробовщика»; дружески-шутливые: «Безносая мама стосковалась по тебе, сынок»; деловые: «Смерть предателю».
— Вам пакет еще принесли. И велели отдать по секрету.
Пакет был в прозрачном пластиковом футляре с надписью: «Уважаемому журналисту Р. Симпсону — покорнейшая просьба вручить лично».
— Желтый такой человечек? — спросил я. — Маленький, в темных очках?
— Нет, Бобби, их трое было. Два молодых парня и огромный негр, старый-престарый, он и дал мне это.
— Таня, — крикнул я, — ласточка, я идиот!
— Ты замечательный, — прочувствованно произнес раскосый херувим. — Дай мне руку. Потрогай мозоли. От чего, знаешь? Нет, чудачок, от клавишей эти — на пальцах. А эти, эти, эти — от ручки стиральной машины… от мясорубки… от лопаты, Бобби, не смейся, я умею и землю копать, а вы все — «птичка», «ласточка»…
— Меня хоронить рано, — сказал я.
— Не смей шутить, сейчас же возьми и не смей! Я все умею — шить, стирать, варить суп из крапивы… стричь… пилить дрова… Я девушка самостоятельная, я умею даже стрелять, у меня есть револьвер. Ты не представляешь, как я хочу тебе помочь.
— Помоги. Ты читала такую книгу — «Дон Кихот Ламанчский»?
— Даже не слышала.
— Достань мне ее. Где хочешь. Укради. Если надо, пусти в ход свой револьвер, я разрешаю.
— Смеешься? — грустно предположила она.
— Мне не до смеха, — ответил я, потому что мне было, как никогда, не до смеха. В пакете лежало несколько машинописных страниц, и к ним был приколот крохотный листок бумаги, одна каллиграфическая строчка: «Очень прошу ждать, где прежде, от 22.00 до 22.15 и извинить, если не приду. Йошикава».
21
Четверть часа у меня сжималось сердце, и когда Йошикава вошел своей деликатной походкой, точно и звуком шагов не желая никого обеспокоить, я ощутил, как он мне стал дорог за эти дни.
«Тихая сельва» по обыкновению гудела и бренчала под стоны горластых кожаных ребят:
Грозная сельва! Черные кроны!
Яростный рев саблезубого льва!
Шеф приказал экономить патроны,
Значит, до завтра ты будешь жива!
…Интересно, доживем мы с ним до завтра?
— Почтительнейше прошу извинить мое опоздание. — Адвокат поклонился и чинно сел, поставив на коленки в поддернутых брючках бывалый портфель.
— К чертям ваши церемонии, я прочел «Записку» — этот страшненький и то знает, кто вы, а я не знаю!
— Прошу извинить также мое неправильное воспитание. Нам предстоит важный разговор при наличии краткого времени, но прежде я прошу вас затруднить себя чтением еще вот этого.
Он достал из портфеля и раскрыл какую-то книжку.
— Прошу вот отсюда.
«17 октября вечером 29 «колумбов» собрались на последнее совещание…»
— Вот те на! — сказал я. — Откуда же двадцать девять?
— Прошу читать.
«Утром им предстояло напасть на космодром «Эйч си». Но тут Дэвид Йошикава выступил с неожиданным заявлением. Он сказал, что он и шестеро его друзей пришли к выводу о неправильности задуманного: «Земные проблемы надо решать на Земле. Уход в иные галактики будет лишь бегством от них, но они могут возникнуть вновь на любой другой планете. Переустройство общества достигается внутри общества, и история Земли дает нам примеры и способы». Так произошел раскол».
— Далее вы можете не читать, но перелистните страницу, — сказал адвокат.
Я увидел фотографию. Просто и прямо смотря в аппарат, улыбаясь в надежде и неведении, стояла группа очень молодых мужчин и женщин. Красавец негр возвышался над ними, обнимая за плечи носатого, с властным лицом, и маленького скуластого.
— В центре — магистр Тейлор, вы его узнали? Слева от него — инженер Иоаннидис. Справа — мой покойный отец. Вот братья Баттоны, старший был талантливым художником…
Нежность звучала в голосе адвоката.
Потом он взял у меня книжку и спрятал в портфель.
— Что это было? — спросил я, стараясь побороть некоторое головокружение.
— Обыкновенный учебник истории. Для восьмого класса земных школ. У вас еще будет время его проштудировать, и вы узнаете, как были разрешены на Земле многие из тех проблем, над которыми бились «колумбы».
…«Тихая сельва» шумела вовсю, ртуть на шкале веселья перла вверх. Вкруг каменного очага в центре зала раскачивался плечо в плечо горластый хоровод. Там плясали акционеры «Жако» и «Унты» в желто-зеленых, бело-голубых и сине-канареечных клубных костюмах; плясал, подмигивая мне, двухметровый мясистый младенец из «Высшей костоправки» со своей милочкой Джейн, живой картотекой; дородные дамы — патронессы «Союза матерей в защиту детей природы» в боа, надерганных из хвостов защищаемой ими птички вау; розовый проблемист Кэдмен, сизоносый аналитик Жиро и врач-стоматолог Грумбах — его пальцы в перстнях теребили, как струны, подтяжки цветов футбольной команды «Бранцоза». Они резвились грубо и неотесанно, воображая себя детьми сельвы, которую они не нюхали, и головы мертвых детей сельвы — черного коня и красной пумы — скалились на них со стен.
— Пир во время чумы, — усмехнулся Йошикава.
— Живо, — сказал я, — живо, я почти догадался, но все-таки признавайтесь. Мил человек, мне надоело, что тут вокруг все выдают себя не за то, что они есть на самом деле.
— Я то, что я есть на самом деле. У меня действительно юридическое образование. И, кроме того, философское. Разрешите рекомендоваться — доктор социологии Йошикава. На планете Руссо я представляю… извините, не совсем официально… планету Земля.
— Связь есть? — быстро спросил я. — Вызывайте своих. Тут такое творится, а мы рассиживаемся.
— Не входит в мои полномочия. Там, откуда я родом, известно давно, что революцию не экспортируют. Мы, люди, верим в вас, людей.
— Слушайте, — закричал я, — да в кого тут верить — в этих? Их же всех Том купил, разве вы не видите? Купил и растлил!
— Извините, — спокойно сказал Йошикава, — это совсем не так. В его утопическом плане создания некой, я бы сказал, футбольной псевдоцивилизации есть одно неучтенное звено. «Колумбы» были мечтатели, догматики, к сожалению, и очень плохие диалектики. В этом их трагедия. Но не все из посеянного ими заглушили сорняки. Я прошу вас прийти завтра в десять утра на площадь перед парламентом и описать увиденное вами так красноречиво, как это можете вы.
Зал грохотал, лупя кружки о кружки, в пивную пену которых плескали, уже не таясь, виски, джин и черт-те что. Патлатая певица хрипло выла с
эстрады:
Страшная сельва! Красною пумой
Солнце по веткам лезет в зенит!
И ей подвывали не только сакс, банджо, рояль и ударные — все, сколько есть, фирмачи, зубодеры, тотошники, канцелярская нечисть:
Лучше не помнить! Лучше не думать!
Если разок, черт с тобой, изменить!
— Весьма неглупая песня, — сказал Йошикава.
— Эта чушь?
— Разумеется. Стоит хоть раз изменить, и тогда уж действительно лучше ни о чем не помнить и не думать. В этом наш с вами оппонент прав. Но в вашу — именно в вашу — задачу и входит возвращать людям их память.
— Скажите, доктор, а что, с вашей точки зрения, футбол действительно яд?
Он рассмеялся и словно помолодел:
— По-моему, футбол прекрасен. Учась в университете, я сам играл в футбол. Правого защитника.
— Вот те на. А я — в средней линии.
— Как знать, — сказал он, — может быть, мы с вами здесь сыграем еще в футбол. В командах, конечно, старшего возраста. А теперь нам пора. Если вы не увидите меня завтра на площади, мой дорогой друг, не огорчайтесь. Все будет как надо. Я в этом совершенно уверен.
— Мик, — спросил я, — вы не боитесь?
— Социолог тот же естествоиспытатель. Опасность порой входит в условия эксперимента.
Маленький доктор уходил, прямо держа свою узкую, слабую, свою несгибаемую спину.
Я проводил его взглядом и пошел в редакцию.
21 июля 52 года Освоения на первой странице «Старлетт» был опубликован мой репортаж о невиданном по масштабам и накалу массовом митинге на площади перед парламентом.
Он явился началом тех событий, которые достаточно подробно описаны в нашем учебнике истории, и поэтому я умолкаю.

Виктор ВУЧЕТИЧ
СИРЕНЕВЫЙ САД[2]

Бричку они остановили, едва съехав с бугра, и, заведя коней в приречные заросли, до калитки пошли пешком. Илья прихватил из-под сиденья вещевой мешок.
Измученная ожиданием Маша с радостью бросилась от террасы навстречу Сибирцеву, но еще больше обрадовалась, узнав рядом с ним козловского доктора. Довольный Нырков подмигнул Сибирцеву, и тот понимающе кивнул, мол, пусть все остается так, как есть.
— С вами что-нибудь случилось, Михаил Александрович? — нетерпеливо спросила девушка, и Сибирцев заметил, что у нее слезы выступили на глазах. — Весь день вас не было… А потом этот сердитый председатель буквально прогнал меня, так грубо, зло…
— Ничего не поделаешь, Машенька. Назревают большие неприятности, — суховато ответил Сибирцев и обернулся к Ныркову. — Между прочим, Илья, об этом, — он взглядом показал на усадьбу, — тоже думать надо. Ну, пойдем, — и пошел по дорожке к дому.
Елена Алексеевна, перегнувшись через перила террасы и молитвенно сложив на груди ладони, укоризненно качала головой.
— Ай-я-яй, нехорошо, Михаил Александрович. Что ж это вы весь-то день пропадаете? Мы же беспокоимся. Я даже готова предположить, что, уйдя без завтрака, вы так и не удосужились поесть. Ох уж эти мужские дела! — В ней так неожиданно проявилось кокетство, что Нырков, поклонившись ей, легонько хмыкнул, сдерживая улыбку.
— Познакомьтесь, пожалуйста, Елена Алексеевна, это доктор, который меня лечил в Козлове.
— Очень приятно, здравствуйте, доктор. — Елена Алексеевна высоко, как для поцелуя, протянула руку.
Нырков шаркнул ногой и слегка пожал ладонь.
— Тут, кстати, — сказал он, кладя вещевой мешок в качалку, — кое-какая пища и газеты. Что ты просил, Миша.
— Потом пробегу, когда время будет. Спасибо, Илья, узнаю, чем мир дышит. Машенька, Елена Алексеевна, нам надо поговорить, доктор меня посмотрит, а вы пока, может быть, приготовите чего-нибудь пожевать? Вообще-то есть хочется, спасу нет.
«Вот откуда это выражение у Маши, — поняла Елена Алексеевна. — Тянется к нему, даже невольно копирует его речь… Ах, дай-то бог!..»
Сибирцев с Нырковым уединились, сели друг против друга, невесело переглянулись.
— Ну давай выкладывай свои соображения про нашего попа. — Нырков снова достал тетрадку и карандаш и положил перед собой.
Соображения… Услышав о банде, Сибирцев понял, что многое продуманное им еще вчера нынче в связи с бандитским налетом наверняка разрушится. Первый вопрос: есть ли какая-нибудь взаимосвязь между бандой и попом? Или это случайное совпадение? Если простое совпадение, то попа необходимо всеми силами удержать от контактов с бандитами. Тут любой аргумент подойдет, скажем, такой: банду могут уничтожить, но связь с ней, даже короткая, непременно его скомпрометирует, а в дальнейшем вскроет всю агентуру. Законспирированное, готовое к действию подполье дороже сотни случайных головорезов. Нельзя делать ставку на случай. Но это к примеру. Если же банда идет сюда по вызову отца Павла, тогда положение совсем скверное. Значит, поп уже всесторонне подготовился и его люди ждут только сигнала. Против них без крепкой посторонней помощи не устоять. Тогда коммунистам и всем сочувствующим надо уходить. И уходить немедленно. Сопротивление ничего, кроме бесполезной гибели, не принесет. И вместе с тем именно ему, Сибирцеву, необходимо устанавливать связь с попом, и незамедлительно. Но того еще нет в Мишарине. Где ж его черт носит?..
И второй вопрос — он был сугубо личным — касался Маши и Елены Алексеевны. Сибирцеву и в голову не приходило хоть на миг оставить этих женщин в селе, занятом бандитами. Их следовало срочно куда-нибудь увезти. Но куда? И согласятся ли они еще?
Ударил колокол, и звук его, тягучий и тревожный, поплыл над Мишарином.
— Посидим, — спокойно заметил Илья. — У меня там пока особых дел нет.
Зашла, постучавшись, Маша и пригласила обедать. Мужчины поднялись и пошли вслед за ней на кухню мыть руки, причем намывали их под рукомойником новым куском серого, похожего на глину мыла, привезенного Нырковым. Пены этот кусок почти не давал, зато дух от него шел пронзительный, как в лазарете.
Елена Алексеевна накрыла стол на террасе. И хоть тарелки были разнокалиберные и обед состоял все из того же зеленого щавелевого с крапивой борща на тушенке, а на второе — пшенная каша-концентрат, тем не менее каждый сидящий ощущал какую-то торжественность, приподнятость, необычность уж во всяком случае.
Только в самом конце обеда, отодвинув пустую тарелку, аккуратно подчищенную хлебной корочкой, и откинувшись на стуле, Сибирцев решил перейти к делу. Поглядывая на Илью, словно испрашивая поддержки, он коротко рассказал о бандитах, что вот-вот могут ворваться в село. Нет, их, конечно же, встретят и постараются не пропустить, однако же будет лучше, если женщины на время покинут усадьбу. Мало ли что может случиться: вдруг какому-нибудь озверевшему бандиту взбредет в голову… Что взбредет, Сибирцев не сказал, полагая, что и так все поняли.
Елена Алексеевна отнеслась к услышанному неожиданно спокойно. Только подняв от стола свое большое отечное лицо, отрешенно, как о постороннем, сказала, что ей теперь бояться поздно, а вот Машу надо обязательно увезти. И лучше всего, если о ней позаботится Михаил Александрович. Она надеется, что он не оставит Машу, ну а им с Дуняшкой — двум старухам — куда уж уходить из родного-то гнезда. Да и бог милостив, поди, обойдется.
Маша, естественно, заявила, что без матери она и шагу не ступит.
Разгорелся спор, долгий и, в сущности, бессмысленный, о том, что страшно, а что нет, чья жизнь дороже, — громкий семейный спор, в котором абсолютно прав каждый, потому что каждый меньше всего думал о себе самом и его могли заботить и волновать лишь безопасность и здоровье ближнего. Уже и слезы появились на глазах у Маши, дряблым и отчужденным стало лицо Елены Алексеевны.
Вечерело. Солнце в последний раз обожгло оранжевым огнем широкие половицы террасы и ушло за дом. Взглянув на карманные часы, Илья Нырков тем самым обратил внимание всех присутствующих, что время уходит бесполезно и надо приходить хоть к какому-то приемлемому решению. Устал настаивать, убедившись в бесполезности своих суждений, и Сибирцев.
Маша поднялась и, вытерев рукавом красные глаза, стала убирать со стола посуду. Расстроенная Елена Алексеевна ушла на кухню.
Сибирцев и Нырков спустились по ступенькам в сад и, медленно двигаясь к калитке, заговорили наконец о самом главном в настоящий момент.
— По всему выходит, что мне, брат, надо тут оставаться, — словно подвел итог разговорам Сибирцев.
— Это почему же? — шепотом возмутился Илья.
— А потому, что в пользу такого решения есть два веских аргумента… Даже целых три, если хочешь.
— Ну, — возразил Илья, — выкладывай.
— А вот какие. Давай по порядку. Ты как полагаешь, мандат, выданный мне Главсибштабом «Крестьянского союза», стоит чего-нибудь? Сотня бандитов — это тебе не сто уголовников, собранных вместе. Это скорее всего войсковая часть, подчиненная какому-то своему начальству или, возможно, вышедшая из его подчинения. В любом случае там есть командир, атаман или какой-нибудь черт в ступе, неважно. Документ, считай, подлинный, тут, в Мишарине, я никакими дурными, с их точки зрения, связями не опорочен. Знакомство с попом только на руку. А что ты или там Зубков меня допрашивали — это в порядке вещей.
Теперь дальше. Там, за церковной оградой, в случае рукопашной помощи от меня, считаю, никакой. А здесь же, напротив, могу не только узнавать о том, что бандиты замышляют, но и по возможности направлять их действия. В конце концов, устроить им с вашей помощью ловушку. Опять же и женщинам рядом со мной будет грозить меньшая опасность. В принципе-то, конечно, как еще повернется. Все от меня будет зависеть. Вот тебе уже два аргумента. И третий: если объявится Павел Родионович, — Сибирцев усмехнулся — пора мне перестать называть его попом, так вот, если вдруг он здесь появится, только я смогу раскрыть его преступные действия. Понимаешь? Он ведь, между прочим, уже возгласил с амвона, что грядет сюда сила великая. Может, иносказательно, а может, и вовсе по делу, имей в виду.
Нырков снял фуражку и вытер лысину своим знаменитым клетчатым платком. Сибирцев проследил за его жестом и добавил с улыбкой:
— Ты бы, Илья, не показывал платка-то. Тебя ж по нему любая собака узнает. Всей губернии этой твой платок известен.
— Да, да, — спохватился Илья и спрятал платок, но видно было, что думал он совсем о другом. — Честно скажу, Миша, есть резон в твоих словах, однако боязно за тебя. Я же не рассказывал, как с меня за твои подвиги штаны снимали.
— А ну-ка! — словно обрадовался Сибирцев.
— Это совсем не весело, — отмахнулся Нырков. — Потом когда-нибудь. Ну да не в этом дело. К сожалению, говорю, есть резон в том, что ты предлагаешь… А как же я тебе безопасность-то смогу обеспечить? Вот вопрос.
— Да ты что, Илья? Как раз самую лучшую безопасность и обеспечишь, ежели ни сном ни духом — понимаешь? — ничем не будешь связан со мной. А стрелять я, коли нужда случится, сумею, ты знаешь.
За кустами, у ограды, послышались негромкие голоса. Чекисты притихли. Люди прошли мимо, но вскоре снова раздались шаги, потом шорох кустарника и легкий кашель. Нырков, закрыв собой Сибирцева, выхватил наган.
— Спокойно, Илья Иваныч, — сказал из кустов знакомый голос. — Я это. — Баулин раздвинул ветки. — Поди-ка сюда. И вы тоже, Михаил Александрович. Тут нас никто не накроет… Значит, слушайте, докладываю: митинг мы провели. Короткий. По-военному. Многие мужики согласные, что банду в село пускать нельзя. Зубков вскрыл свой лабаз и раздал оружие. В общем, уже сейчас мы с полсотни людей имеем. Да мои, глядишь, подлетят. Малышева твоего я, Илья Иваныч, на колокольню отправил с пулеметом. Видимость, скажу тебе, отменная. И вот сейчас дозор у речки поставил. Тоже твоего одного и из деревенских — сочувствующего. Они предупредят, ежели что… А вы чего порешили?
— Мы-то? — Нырков оторвал листок сирени, пожевал и, сморщившись, выплюнул. — Он тут останется. Усек?
— Чего ж не понять? Это дело мы понимаем. Так, значит… Ну тогда прощевай покуда, неизвестный товарищ, а мы с тобой, Илья Иваныч, давай-ка в село. Оборону держать.
— Вы в случае чего в церковь. Пушкой не возьмут… И последнее: установите самое пристальное наблюдение за поповским домом. И если появится святой отец, немедленно, слышите, немедленно и любым способом дайте мне знать. Меня не найдете, тогда через Машу. Считай, Баулин, это приказом. Понял? — Баулин ни с того ни с чего негромко рассмеялся. Сибирцев с Нырковым даже опешили.
— Что с тобой, рехнулся? — Илья подозрительно посмотрел на него.
— Да нет, забыл вам сказать, заходил я к попу-то. Но его не было дома, кухарка открыла, она и сказала. Я, значит: «А кто из хозяев есть?» Она: «Сама дома». Ну, говорю: «Зови сюда». Выплыла. Видали б вы! Во баба! — Баулин поднял ладони выше своей головы. Во! Во! — Он показал, какие у нее бедра и бюст. — Лет тридцати с чем-нибудь, думаю. Хороша баба! Царица! На лицо приятная… Да…
— Варвара Дмитриевна ее зовут, — заметил Сибирцев.
— Да? «Имейте, — говорю, — в виду, сюда может скоро банда пожаловать. Так она никого не пощадит». — «Нам, — отвечает, — это не грозит. Церковь, — говорит, — выше политики. Это вы воюете, а мы о душе мирской заботимся». — «Смотрите, — говорю, — потом будете пенять на себя. Она мимо таких, как вы, значит, не проходят». Так она мне на дверь показала. «Ступайте, — говорит, — отседова и больше никогда не возвращайтесь». Чего делать-то? Я и ушел. Да, баба такая, что сама любую банду уложит. Вот бы к нам ее…
— Все, что ль? — Сибирцев нахмурился.
— Все, а что?
— Ну ладно, давайте прощаться. Ты потом, Илья, ежели чего, о Маше побеспокойся.
Илья помрачнел.
— А это, — Сибирцев раскрыл бумажник, извлеченный перед обедом из тайника в террасе и вынул мандат, подписанный Дзержинским, — ты его сохрани, однако, в случае чего, сам знаешь, как с ним поступить. — Он пожал Ныркову руку и добавил с усмешкой: — И платок свой спрячь подальше…
Маша сидела на ступеньках крыльца, сжав лицо ладонями. Сибирцев подошел, присел рядом, положил ей ладонь на плечо и почувствовал, как девушка вздрогнула.
— Машенька, — сказал он после паузы, — сейчас я вам скажу кое-что, а вы это крепко запомните. Можно?
Маша подняла к нему большие темные глаза и пристально, с глубокой затаенной болью посмотрела на него.
— Доктор уехал в Сосновку. Он проездом тут был, посмотреть меня. Сказал, что все хорошо и дело пошло на поправку. Я — бывший белый офицер, друг вашего брата, и все. Я через доктора кинул вам весточку, вы меня взяли на излечение… Вот это же все должна знать и ваша мама. И ни слова больше. Вы меня поняли? Вы сами должны сказать ей об этом, чтобы она поверила, если есть какие-то сомнения… Иначе всем нам может быть крышка.
Девушка внимательно, словно впервые узнавая, глядела на него и безмолвно кивала.
— И еще одно обстоятельство. Мне необходимо найти в вашем доме какое-то убежище, чтобы его никто, кроме вас, не знал. Вспомните, пожалуйста, детство, куда вы прятались от родителей. Такое место, повторяю, чтоб ни одна живая душа не отыскала. Ни одна.
Маша положила легкую вздрагивающую ладошку на его сжатый, упертый в колено кулак.
— Хорошо, я покажу вам такое место. Пойдемте ко мне в мансарду.
9
Пришла ночь. Спала дневная духота, посвежело. Из низины потянуло туманом, легким таким, чем-то напоминающим дымок от малого костра. Один за другим гасли огоньки в домах, и устанавливалась тишина недоброго, напряженного ожидания. Даже собаки перестали брехать. Застыли, всматриваясь в темноту, дозорные в церковном дворе, на крыше и колокольне, в помещении сельсовета заняли свои посты вооруженные люди, притаились, нечаянно мелькая огоньком самокрутки и настороженно покашливая. А ночь шла. Майские ночи коротки. И вскоре уже, должно быть, посветлело на востоке, потому что проявились темные силуэты крыш и деревьев. Вот тут и потянуло в сон по-настоящему.
Баулин с Матвеем обошли посты, постояли молча посреди площади, вольно дыша прохладным воздухом, пахнущим улегшейся пылью и ароматом отцветающей в низине сирени, и разошлись по своим местам: комиссар в сельсовет, а кузнец — на колокольню.
Не раздеваясь, только слегка отпустив ремень, лежал на кровати Сибирцев и чутко прислушивался к ночным звукам, доносящимся сквозь приоткрытое окно. Дверь на террасу была заложена щеколдой. Невольный арест и полдневное лежание в чулане, как видно, обернулись пользой: тогда духота сморила и кинула в сон, а теперь не было его ни в одном глазу. Слабо шелестела сирень в саду. Где-то подальше, может быть, в кроне лип, возились и негромко попискивали ночные пичуги. Но все это были обычные мирные звуки, которые лаской и покоем отдавались в ушах. Сибирцев же томительно выискивал и ждал только те, которые должны были нести с собой страдания и большую беду. Возможно, это будет осторожный и оттого пронзительно громкий в ночи скрип рассохшейся ступеньки под вкрадчивым сапогом или быстрый, скользко рвущийся шепот, короткий, как вспышка, звяк металла, отдаленное конское ржание или оборванный предсмертный всхлип убитого человека. Казалось, весь жизненный опыт солдата и чекиста Сибирцева сфокусировался сейчас в слухе, в ожидании глухого в туманной пойме или звонко треснувшего на взлобке винтовочного выстрела. Но — тишина. Она успокаивала, и, чтобы не расслабиться, не забыться, Сибирцев вспоминал и думал, сдерживания дыхание и глядя в темный потолок.
Просмотренные вечером газеты, которые привез Нырков, заставили крепко задуматься. Напечатанные на тонкой бумаге сведения из всех уездов Тамбовской губернии, из Москвы, Петрограда, из-за границы говорили о том, что битва, и тайная и явная, не прекращается ни на миг. С одной стороны, собравшиеся на митинг, скажем, в Борисоглебске 400 дезертиров клянутся искупить свою вину перед республикой, а в это же время комитет эсеровской партии приглашает членов бывшей «учредиловки» приехать в Париж для того, чтобы объявить о создании нового русского правительства. Это ж надо! В каждом номере короткие некрологи и сообщения об убийствах местных советских и партийных работников. Вот и недавно ворвались антоновцы в деревню Токаревку, резали рты, ремни со спин, кололи глаза. «Все убитые товарищи, — пишет газета, — не коммунисты, а беспартийные. Но оголтелая банда не щадит никого мало-мальски прикосновенного к рабочего-крестьянской власти». Но это бандиты, понятно. А в Моршанске революционный военный трибунал приговорил милиционера Сосновского района Фомина — это уж вовсе рядом, где-то, считай, под боком, — к расстрелу. Бандит Фомин, оказалось, виновен в самоличных обысках, грабежах и мародерстве. Вишь как получается. Они, эти Фомины, понимают, что Советская власть, конечно, побеждает, ну и стремятся проникнуть на ответственные посты. Неважно, какой уровень власти, им лишь бы власть. Сколько еще всего менять придется, сколько потерь впереди… Страна понемногу налаживает жизнь. Но бедность, нищета… Вон в Козлове на очередном субботнике домашними хозяйками починена тысяча штук красноармейского белья. Вишь чего достигли! А в Константинополе спекулянты перепродают друг другу разные суда русского флота. И бывший министр Врангеля официально заявил, что военный флот будет передан Франции для возмещения ее расходов по содержанию врангелевских войск. В самой же Франции проходят демонстрации в поддержку Советской России, вспыхнуло революционное движение в Китае и Японии, волнения в Индии, бастуют английские углекопы.
Мир бурлит в преддверии мировой революции. И России бы сейчас — самое время! — вовсю засучить рукава, кабы не антоновщина.
Рассказ Ильи о бригаде Котовского дал Сибирцеву больше всех газет, вместе взятых, да и не все в них можно писать из того, что хочется слышать. Свежими, опытными кадрами усилены политотделы, чека, милиция, местные советские органы. Огромная помощь. Вся страна, только вчера, как говорится, вышвырнувшая Врангеля, заключившая мир с Польшей, лежащая в дымящихся еще развалинах, слала на охваченную восстанием Тамбовщину учителей и врачей, медикаменты и продовольствие, одежду и обувь.
Конференция беспартийных крестьян-бедняков, съезд учителей, конференция домашних хозяек, собрания рабочих железнодорожных мастерских, и всюду одна резолюция — нет Антонову! Да, теперь уж точно нет. Но без крови он не уйдет. И потому слушай сегодня ночь, Сибирцев, может быть, это будет самая трудная, самая тяжелая ночь в твоей жизни…
Тайник, который показала Сибирцеву Маша, его вполне устраивал: почти неприметная дверца выводила из мансарды, где была Машина комнатка, на обширный чердак. И там среди старой и теперь никому не нужной мебели, досок и ящиков можно было бы довольно прилично устроиться. Если бы бандитам пришло в голову производить на чердаке обыск, то, прежде чем здесь кого-то найдут, пройдет целый день, столько нагромождено тут всякого барахла. Но скверно другое, и это решило вопрос: лестница так обветшала, что спуститься по ней бесшумно практически невозможно. Коли уж Машины легкие шаги отдаются скрипами да стонами по всему дому, то что уж говорить о Сибирцеве. Прятаться в какой-либо из комнат бесполезно, найдут запросто. Все, что сделал Сибирцев, это отнес на чердак свой полушубок и вещевой мешок, а остановился пока на самом простом варианте. Окно в его комнате заплетено вьюном, глухой кустарник вдоль всей стены. Окно невысоко, даже подтягиваться особенно не нужно. Уйти наружу через него он всегда успеет, тем же путем нетрудно и возвратиться в дом.
Захотелось курить. Сибирцев поднялся, подошел к окну. И тут раздался осторожный скрип.
Сперва Сибирцев решил, что скрипнула ставня. Но скрип повторился, и шел он с террасы. Кто-то в темноте искал дверь, наткнулся на стол, чертыхнулся сквозь зубы, дернул за ручку, звякнула металлическая щеколда. Пора. Сибирцев снял наган с предохранителя и, перекинув ногу через подоконник, бесшумно сполз на землю, притворив за собой ставни.
В двух шагах от него, отделенные кустом разросшейся сирени, молча прошли трое или четверо человек по направлению к террасе.
Прижимаясь спиной к стене дома, Сибирцев скользнул следом за ними. Осторожно, чтобы не хрустнуло, пробуя землю сапогом.
— Власенко! — услышал он негромкий голос.
— Тута я, — отозвался человек с террасы.
— Ну, открыл? — спросил первый.
— Не, атаман, задвижка, хрен ее возьмешь. Ломать треба.
— Я те дам ломать, Власенко! Чтоб мне без шума! — громче, чем следовало бы, прикрикнул человек, которого Власенко назвал атаманом, И голос его показался Сибирцеву знакомым. Слышал его уже Сибирцев. Но кто, кто? Взглянуть бы… Нет, не мог вспомнить.
— Ступай проверь с той стороны. Там должен быть второй вход, через кухню. И не греми!
«Этот человек знает дом и знает, где у него входы-выходы, — размышлял Сибирцев. — Значит, он из местных. Вот, наверное, почему мне и знаком его голос». Но, как ни напрягал память Сибирцев, вспомнить не мог. Оставалось ждать, благо никто по кустам не шнырял. А в том, что это бандиты, уже никакого сомнения не было. Хорошего человека атаманом не назовут.
Неожиданно хлопнуло окошко наверху, и Машин голос громко и возмущенно спросил:
— Эй, что там за люди и что вам надо?
Короткий топот сапог, щелчок затвора. Сибирцев выпрямился и поднял наган.
— Маша? — как-то растерянно и слабо прозвучал вопрос с террасы. — Машка! Машенька!!
Мертвая тишина, и оттуда, сверху, снова услышал Сибирцев:
— Яков? Ты?.. — Страх, даже ужас, а может, и отчаяние, смешанное с невероятной радостью, — все это перемешалось в двух словах «Яков? Ты?».
— Я, Маша, я, живой-невредимый! Открывай скорей! — Голос атамана задрожал.
Сибирцева словно обухом по темени ударили. Яков? Не может быть… Его нет. Но он же сам только что слышал и узнал, конечно, узнал этот голос. Правда, стал он грубей, с хрипотцой, но это действительно голос Якова Сивачева, Яши, расстрелянного семеновской контрразведкой год назад, в феврале двадцатого года. «Постой! — приказал сам себе Сибирцев. — Спокойно, думать надо».
— Эй, свету! — крикнул атаман.
Кто-то зажег свечу в стеклянном фонаре, поднял над головой, высветив остальных. Всего их было пятеро. Мгновение спустя распахнулась дверь, и вышла Маша, замерла, прижав ладони к груди. Один из пятерых рванулся ей навстречу и схватил в объятия.
— Маша, Машенька… — будто в забытьи повторял он.
Сибирцев услышал, как навзрыд заплакала Маша.
— Постой, пусти меня, — срывающимся голосом сказала она. — Я пойду маме скажу… Мама же умрет от радости.
— Мама… — эхом повторил Яков. Он повернул голову к свету, и Сибирцев увидел, что перед ним в самом деле Яша Сивачев, только возмужавший, с обтянутыми худыми скулами, но это он.
Как же так, Яков и вдруг бандит, атаман? Все перемешалось в голове у Сибирцева. Может быть, все-таки произошла какая-то ошибка? Может, показалось, и не атаман он, может, это послышалось Сибирцеву: ждал бандитов, нервы напряжены, вот и ослышался…
Яков подошел к краю террасы, пригнув голову, вгляделся в темноту, будто хотел увидеть Сибирцева, потом громко вздохнул и повернулся к своим.
— Ну докладывай, Игнат. Что у тебя?
— Обнаружили мы их с Ефимом. У самого брода. Они, значит, цигарку запалили, тута мы их и накрыли. А боле никого.
«Бандиты», — окончательно понял Сибирцев.
— Хорошо. Молодцы. Власенко! — Из тени вышел рослый худощавый казак в фуражке. — Давай заводи людей в усадьбу, пусть пока тут, в саду, сосредоточатся. А сам бери Игната с Ефимом, еще двух-трех казаков да к церкви. Нет, погоди. Пока собирай людей. Но смотри, чтоб ни одна собака не унюхала.
Сивачев взял фонарь и, махнув всем остальным рукой, шагнул в дом, притворив за собой дверь. Казаки затопали по ступенькам.
Сибирцев, воспользовавшись шумом, змеей проскользнул обратно к своему окну. Приподнял голову и увидел колеблющийся свет в зале. Там, слышно, что-то упало, похоже, стул, потом раздался прямо-таки нечеловеческий, какой-то утробный вскрик:
— Яша! Сынок! — И падение тела.
«Мать, — понял Сибирцев, — наверно, в обморок упала». В голове у него была полная каша. Все что угодно мог предполагать Сибирцев, но только не встречу здесь, в этом доме, с Яковом Сивачевым, действительно убитым! Сам Кунгуров об этом говорил. Помнит же Сибирцев… Что же делать?
Между тем в доме снова послышались рыдания. Они постепенно стихли, и тогда Сибирцев услышал наконец то, чего ждал.
— Яков, — заговорила Маша, и голос ее напрягся. — Ты кто? Скажи мне честно. Может, ты бандит?
Яков как-то странно, с натугой рассмеялся. Очень искусственный получился у него смех.
— Ты с ума сошла, Машка… Ну какой же я бандит?.. А что ты слышала про бандитов?
Сибирцев замер.
— Я слышала, что сюда идет банда.
— Кто тебе сказал?
— Мне? Ну это сейчас неважно, в селе говорят. Люди проезжие предупредили. Так кто же ты тогда?
— Предупредили, говоришь?..
— Яша, Яшенька, родной мой! — всхлипывала очнувшаяся Елена Алексеевна. — Живой, кровинушка моя! Я не верила, не верила, что тебя нет… Живой!
— Подожди, мама, — перебила Маша. — Ты мне не ответил, Яков.
— Машка, да что с тобой? Ты что, не рада меня видеть? — В голосе Сивачева прозвучала растерянность. — Мы, между прочим, сюда пришли, чтобы уничтожать бандитов… Понятно тебе? Только вот не знаем, где сейчас местное начальство, где… — он запнулся, — наши? Много их?
Маша молчала. Как хотел помочь ей Сибирцев!.. Но оставалось только затаиться и слушать. Слушать…
— Откуда же я знаю?.. Я из дому не выхожу… Много, наверно.
— А где они, в церкви засели или в другом месте? Где сельсовет? А?
— Не знаю, Яша… Ничего не знаю…
— Яшенька! — Это снова Елена Алексеевна. — Господи, дождались наконец. Маша, а где же?..
— Мама! — перебила Маша, в голос ее зазвенел. — Подожди, я сама! Яша, а почему же вы ночью, как воры?..
С террасы послышался громкий стук. Сивачев прошел через комнату, где спал Сибирцев, и открыл дверь, впустив Власенко. Его силуэт четко обрисовался на фоне освещенного дверного проема в зал. Они подошли почти к самому окну, под которым притаился Сибирцев, и негромко заговорили.
— Ничего не удалось узнать, — пробормотал Сивачев. — Говорит, много… Черт его знает!.. Придется тебе, Власенко, языка добывать. Душу из него вынь, но узнай, какие тут силы и где они. Узнаешь, сразу подтягивай за собой казачков. Перед самым рассветом ударим. Вот уже светлеет маленько. Начинайте по обстоятельствам без меня. Сегодня твоя ночь, Власенко.
Власенко молча выслушал атамана, молча же повернулся и ушел, затворив дверь.
В саду уже отчетливо слышались топот ног, фырканье лошадей, зазвенели уздечки, приглушенный говор. Видимо, казаки уже собрались и ждали только сигнала. Как же предупредить-то своих? Вся надежда на то, что там, у церкви, не такие раззявы, как те покойники у брода. Там не заснут и цигарками размахивать не станут.
— Ну, так о чем ты собиралась рассказать! — снова заговорил Сивачев, вернувшись в зал.
— Я? — удивилась Маша. — Не помню. Это ты не ответил на мой вопрос. Почему вы как воры?
— Маша, что ты говоришь? — вмешалась мать.
— Какие воры? — возмутился Яков. — Не твоего это ума дело, Маша.
— Ну хорошо, пусть так… Дело в том, Яков, что нам… Вернее, мне сообщили, что ты погиб… как герой где-то там, на Дальнем Востоке. И твои часы передали… Понимаешь?
— Какие часы?
— Твои. То есть папины, ну те, что у тебя были… Вот мы и решили, что тебя нет… И теперь так неожиданно…
— Кто передал? — Голос Сивачева напрягся.
— Твой товарищ. Был и передал.
— Какой товарищ? Ничего не понимаю. Мама, о чем она говорит? Погиб, передали часы — чепуха какая-то. Может быть, ты?..
— Мама! — снова воскликнула Маша. — Я не вижу, Яков, что тебе неясно. Ты хочешь знать, как зовут твоего товарища? Отвечу: Михаил Александрович. Ты его разве не помнишь? Сибирцева? Вы же с ним вместе были.
— Сибирцев? — протянул Сивачев. — Убей, не помню. А где он?
— Ты разве его не помнишь, Яков? — медленно спросила Маша.
— Я спрашиваю, где он? Отвечай! Где ты его видела?
— Успокойся, Яков, — устало и тихо ответила Маша. — Его здесь уже нет.
— Нет?.. — Сивачев, видно, успокоился, помолчал и после паузы сказал небрежно: — Ну нет, так нет. Жаль, хотелось бы с ним увидеться. Давно мы с ним расстались… Так это он, выходит, меня похоронил? А ты что же, Маша, желала бы видеть меня мертвым?
Ответа не последовало.
Сибирцев не видел ничего: ни, вероятно, изумленной Елены Алексеевны, ни, судя по сказанному, помертвевших глаз Машеньки, которая, конечно же, поняла, кто такой Яков и теперь сама хоронила его уже навсегда, ни выражения лица Якова. Интонации донесли до него суть той трагедии, которая разворачивалась в доме.
Маша… Он скрывал от нее, молчал, а она все-все понимала. Разобралась сама и теперь открылась перед Сибирцевым всем своим мужеством. Ах, Машенька, за что же тебе-то такое горе, за какие грехи?..
— Мама, — снова заговорила Маша, — ты сегодня очень устала. Идем спать. А Яша от нас теперь не уйдет, правда, Яков? Ты ведь больше не бросишь нас с мамой? Ну вот и хорошо. Помоги мне маму уложить. Идем, мамочка. А утром и поговорим, и порадуемся.
Свет ушел из зала. Видно, Маша с братом повели мать по коридору в ее спальню. Сибирцев беззвучно раскрыл ставни и, перевалившись через подоконник, подтянулся в комнату. Закрыл за собой ставни и, неслышно подойдя к двери, задвинул щеколду. Где-то в глубине дома слышались голоса, но слов Сибирцев разобрать не мог. Наконец снова из коридора показался свет, и Яков с Машей вошли в зал. Сивачев сел на стул, вытянул ноги.
— Ну а теперь, Мария, рассказывай мне все. Все как есть. Обещаю тебе также все рассказать. Ничего не утаю… Так где и при каких обстоятельствах ты видела этого Сибирцева? Что он тебе про меня говорил?
В этот миг тишину разорвал залп. Следом за беспорядочными винтовочными выстрелами затрещал пулемет. Донеслись крики, ржание, и все слилось в едином громе ночного боя.
Сивачев вскочил со стула, распахнул ставни, ударом вышиб окно в зале и перевесился через подоконник, пытаясь, видимо, определить, что происходит в селе.
— Что это, Яков? — вскрикнула Маша.
— Что? — удивился Яков. — Наверно, напали бандиты, о которых ты слышала, и теперь мы ведем с ними бой. — В его словах послышалась откровенная издевка.
Маша тяжело опустилась на стул, уронив лицо на руки. Сивачев захлопнул ставни и сел напротив.
— Ну, так что же Сибирцев? — усмехнулся он.
— Здесь я, Сивачев, — негромко сказал Сибирцев, входя в зал. — Руки, руки, — спокойно добавил он, поднимая наган и видя, как Яков схватился за кобуру. — Встать!
Сивачев медленно поднялся, держа раскрытые ладони на уровне плеч.
Маша, подняв глаза, с ужасом переводила взгляд с Сибирцева на брата.
— А теперь, Сивачев, расстегни ремень и сбрось портупею. Одно лишнее движение — стреляю.
Яков медленно снял ремень с кобурой, бросил на пол.
— Два шага назад! — скомандовал Сибирцев, потом подошел и, не отводя от Якова нагана, поднял его сбрую, расстегнул кобуру и, вынув сивачевский наган, сунул себе в брючный карман, а ремень отбросил в сторону.
— Маша, могу я с ним поговорить один на один?
— Конечно, Михаил Александрович, — тусклым голосом сказала Маша и сделала попытку встать. Потом, опустив голову, она оттолкнулась двумя руками от стула и медленно, через силу пошла скрипучими ступеньками к себе наверх.
Сибирцев плотно прикрыл обе двери — в коридор и в свою комнату, подвинул стул ближе к керосиновой лампе, которую, оказывается, зажгли, а он думал, что сидели со свечой, и кивнул Сивачеву на стул.
— Ну, Сивачев, а теперь рассказывай. Все мне рассказывай, бандит Яков Сивачев. — Сибирцев смотрел на Сивачева, а сам невольно вспоминал свою встречу с Кунгуровым, когда тот предъявил ему на опознание избитого до неузнаваемости Яшу.
10
…Ротмистр Кунгуров приехал к Сибирцеву, едва рассвело. Тяжелая ночь, в которой были и сумасшедший карточный проигрыш Сибирцеву, и обильное возлияние, казалось, вовсе не отразилась на нем. Разве что выдавали зеленоватая кожа обтянутых щек и нервно сжатые сухие губы с подрагивающим в уголке рта изжеванным мундштуком папиросы. Даже в разговоре не вынимал ее изо рта, небрежно рассыпая пепел. Сибирцев же чувствовал себя нехорошо: необходимое разудалое гостеприимство сделало свое дело.
— Во рту так кисло, — пошутил он, — будто там переночевал эскадрон гусар вместе с лошадьми.
Кунгуров скривил губы в улыбке, но глаза его были насторожены и безулыбчивы. По этому взгляду Сибирцев понял, что ротмистр пуст и деньги отдавать не собирается. А все эти вчерашние застольные разговоры об офицерской чести, о долге — сплошной блеф.
Видно, что-то другое было причиной столь раннего визита. И чтобы сразу прояснить для себя это второе, главное, Сибирцев решил избавиться от первого, которое определенно смущало Кунгурова, а неудобство, испытываемое в настоящий момент контрразведчиком и ставящее его в зависимое от Сибирцева положение, никоим образом не должно было влиять на то другое, ради чего прибыл ротмистр. Сибирцев решил опередить гостя. Потирая виски и морщась, он указал на кресло и сделал ладонью жест, призывающий к молчанию, а затем, раскрыв створки буфета, достал оттуда початую бутылку коньяка и пару хрустальных фужеров, похожих на рубчатые ручные гранаты. В них он влил коньяк и, перенеся через всю комнату, протянул один Кунгурову, присевшему в кресло. Молча чокнулся с ним — раздался мелодичный звон — и так же молча залпом проглотил коньяк.
Кунгуров проследил унылым взглядом и, швырнув в пепельницу окурок, опрокинул в рот свой фужер. Помолчали, глядя в окно на сырой рассвет. Ротмистр достал новую папиросу, закурил.
— Боже, холодина-то какая… — Сибирцев выплюнул лимонную кожуру. — Вот уж не позавидуешь… Я давеча хотел вас предупредить, Николя, — продолжал Сибирцев, не отрывая взгляда от раскисшей февральской улицы, — чтобы вы не особенно беспокоились. Все мы человеки, все под богом ходим. Да и невелика сумма, чтобы голову ломать. Так что будем считать вопрос исчерпанным…
— Должен вам заметить, Мишель, — сипло сказал ротмистр, — что я действительно нахожусь в несколько стесненных обстоятельствах. Однако…
— Э, полноте, полноте, друг мой, — перебил Сибирцев. — Я же сказал, что вопрос исчерпан. Оставим это. Уж нам-то что делить…
— С вашего разрешения, Мишель, я ведь к вам еще и по делу.
— Господь с вами, Николя, — поморщился Сибирцев и встал. — В такое гнусное утро…
— Что поделаешь? — вздохнул контрразведчик. — Понимаю вас. — Он попробовал усмехнуться, но усмешка получилась кривая. — С другой стороны, как вы догадываетесь, мы предпочитаем приглашать к себе в учреждение. Но, питая к вам искренние чувства, я решил, так сказать, тет-а-тет. Не по службе.
— Что ж, — шутливо-скорбно вздохнул Сибирцев, — ценю ваше доверие. Я весь внимание, господин ротмистр.
— Ах, оставьте этот тон, Мишель. Дело-то ведь действительно серьезное. Присядьте, сделайте одолжение. — Он подождал, пока Сибирцев снова сел напротив и закурил. — Прошу вас учесть, что разговор сугубо конфиденциальный… Наше учреждение заинтересовалось одним человеком, который, судя по собранным данным, имеет самое непосредственное отношение к красному подполью. Должен сразу сказать, что улики достаточно веские.
Сибирцев снова пожал плечами, как бы спрашивая, при чем тут он-то.
— Вы, вероятно, знаете его, Мишель.
— Вполне возможно. Но кто это, если не секрет?
— От вас у меня нет секретов, — подчеркнул ротмистр. — Это некто Сивачев из отдела шифровальщиков.
— Сивачев? — протянул Сибирцев. — Каков он из себя, напомните.
Ротмистр натянуто улыбнулся одними губами.
— Каков? — повторил он. — То-то и оно, что никаков. Рост средний, черты лица правильные, глаза серые. Подпоручик… Впрочем, я готов его предъявить вам очно.
— Если это необходимо… — Сибирцев вздохнул. — Но в чем должна заключаться моя миссия? Опознать и все? Или еще что-нибудь?
— Главная неприятность в том, Мишель, что в числе людей, которых он знает, он назвал и вашу фамилию.
— Ну какая ж это неприятность? — удивился Сибирцев. — Вполне вероятно, что по долгу своей службы этот ваш шифровальщик — так? — знает многих, в том числе, не исключено, и вас, и самого Григория Михайловича. Вы же понимаете, что такое штабная работа? Знать все и обо всех. К сожалению, немало народу по какой-то абсолютно для меня непонятной причине считают необходимым вмешиваться в сугубо ваши прерогативы. Вы не можете мне объяснить, почему? Что это, особая какая-то страсть или всеобщее помешательство на почве шпиономании?
— Возможно, вы правы, Мишель, — сухо заметил контрразведчик. — Но мне не хотелось бы углубляться в абстрактные рассуждения. Поставьте себя на мое место, и вы поймете, что поводов для беспокойства, если не сказать жестче, более чем достаточно.
— Согласен. Однако и вы, господин ротмистр, поставив себя на мое место, сочтете себя, мягко выражаясь, оскорбленным. Полагаю, что мой послужной список дает мне право так думать. Покойный адмирал…
— Оставим покойного.
— Есть немало других, включая нашего атамана, а также хорошо вам известного полковника Скипетрова. Я уж не говорю о Дмитрии Леонидовиче Хорвате, Вологодском, Путилове, Калмыкове, наконец. Вот видите, я называю вам самых разных людей, у которых вам нетрудно навести обо мне справки. И потом, почему я должен в чем-то оправдываться? — Сибирцев неприязненно смотрел на Кунгурова.
— Мне не оправдания нужны, Мишель, — примирительно сказал Кунгуров, видимо, названные фамилии произвели на него впечатление, — а ваша помощь. Вы меня неверно поняли.
— Помощь — другое дело, — сразу остыл Сибирцев. — Еще коньяку?
— С удовольствием, — буркнул Кунгуров, — только, с вашего позволения, не такими лошадиными дозами.
— Это как желаете, — рассмеялся Сибирцев.
Он откупорил новую бутылку и, налив себе полфужера, подвинул бутылку Кунгурову. Поднял свой фужер и, вертя его за ножку, стал рассматривать коньяк на свет.
— Вы бы не торопились, Мишель, — сказал Кунгуров, чувствуя, что Сибирцев может опьянеть.
— Нализаться? — усмехнулся Сибирцев. — А что еще прикажете делать, Николя?
— Вернемся к нашему разговору.
— Сухой вы человек, ротмистр, — вздохнул Сибирцев и отставил фужер. — Ну, слушаю вас.
— Мне нужно, чтобы вы вспомнили, где и когда встречались с Сивачевым и о чем могли говорить. Иными словами, какие сведения, если таковые были, мог он почерпнуть из ваших разговоров?
— Боюсь, что помощь моя будет невелика, — помолчав, сказал Сибирцев. — Ну, во-первых, я его, честно говоря, никак не вспомню… Хотя… Надо увидеть. А во-вторых… Что я мог выболтать? А черт его знает?.. Полагаю, ничего достойного внимания. Мы ведь с вами, Николя, принадлежим к тому поколению, которое научили держать язык за зубами. Правда, при моем общительном характере… Нет, не думаю.
— Я мог бы вам предъявить этого Сивачева. Может быть, вспомните?
— Делайте как считаете нужным.
И они поехали в контрразведку.
Комната, куда они вошли с Кунгуровым, была полутемной, низкой и сырой. Свет, казалось, с трудом просачивался в узкое, забранное решеткой окно. Кунгуров повернул выключатель, и под потолком вспыхнула пыльная тусклая лампочка без абажура.
— Садитесь, Мишель. — Кунгуров показал на широкую скамью у стены. — Сейчас его приведут, и я вас оставлю на минутку. Постарайтесь вспомнить.
Посреди комнаты стояла привинченная к полу табуретка. На нее, вероятно, должен был сесть Яков. Обитая железом дверь с волчком. Оттуда Кунгуров будет наблюдать за ними. Удобная позиция. Поэтому ни одного лишнего слова, ни одного неосторожного движения, ни одного жеста.
Послышались тяжелые шаги. Тягуче заскрипела дверь, и двое солдат ввели человека в истерзанной, окровавленной рубашке. Он сел на табуретку, держа руки за спиной. Солдаты вышли, закрыв за собой дверь.
Наступила тягостная до звона в ушах тишина. Скрипнула табуретка. Сибирцев услышал тяжелое, прерывистое дыхание арестованного. Ничто в этом человеке не напоминало Якова. Спутанные грязные волосы, опухшее от кровоподтеков лицо.
Двумя руками оттолкнувшись от скамьи, Сибирцев поднялся, шагнул ближе. Арестованный медленно поднял голову, и Сибирцев чуть не вскрикнул: он увидел почерневшие от боли
Яшины глаза. В них было только тупое, покорное, животное равнодушие, и больше ничего. Никаких чувств. Яков бессмысленно посмотрел на Сибирцева, и голова его поникла. Сибирцев постоял еще мгновение и повернулся к двери. Она тотчас отворилась, и вошли солдаты. Один из них взял Якова за плечо, он послушно поднялся и, с трудом передвигая ноги, пошел из комнаты, не оборачиваясь и не поднимая головы.
Вошел Кунгуров, пытливо взглянул на Сибирцева.
— Узнали, Мишель?
— Ну и поработали вы… — Сибирцев сглотнул комок в горле. — Конечно, узнал.
— Служба, — пожал плечами Кунгуров. — Что скажете?
— Может быть, не здесь? — Сибирцев брезгливо огляделся.
— Не возражаю, — охотно подхватил контрразведчик. — Поднимемся ко мне.
В кабинете Кунгурова, безвкусно обставленном пышной мебелью, Сибирцев позволил себе слегка расслабиться. Слегка, ибо понимал, что сейчас начнется второй допрос. Он развалился, закинув ногу на ногу, в широком и низком кресле и после разрешающего кивка хозяина кабинета закурил. Кунгуров и сам вставил в угол рта папиросу, но не зажег ее, а подвинул пепельницу Сибирцеву.
— Дайте чего-нибудь выпить, — небрежно бросил Сибирцев.
Кунгуров тут же сделал какое-то непонятное движение рукой, и в кабинет вошел солдат. Кунгуров молча кивнул ему, и тот достал из шкафа точно такую же, как у Сибирцева, бутылку «Мартеля» и, откупорив ее, поставил на край широкого письменного стола вместе с двумя небольшими серебряными рюмочками. Кунгуров снова кивнул, и солдат вышел.
Сибирцев курил, пуская дым в лепной потолок.
— Прошу, Мишель, — пригласил Кунгуров, но тут же словно спохватился: — Виноват, виноват…
Он подошел к шкафу и достал из него фужер, взглянул на свет: чистый ли? — поставил рядом с рюмками, налил наполовину.
— Хозяин должен помнить привычки гостя, — и капнул себе в рюмку. — Прошу.
Сибирцев молчал, так же рассматривая потолок и чувствуя нетерпение контрразведчика.
— Кажется, я могу вам кое в чем помочь, — наконец сказал Сибирцев. — Не уверен, что это то, что вам нужно, но… Кто знает?.. Помните, в прошлом декабре… нет уже в январе, когда примчался этот наш сумасшедший Скипетров, Григорий Михайлович готовил иркутскую акцию? Вы помните, по поводу нашего несчастного адмирала… Так вот. Я зашел к шифровальщикам и, если не ошибаюсь, говорил с ним, с Сивачевым, о скором наступлении… Он мне, кстати, казался вполне приличным человеком.
Сибирцев рассказывал контрразведчику об одной из секретных акций по спасению Колчака из Иркутской губчека. Она готовилась в строжайшей тайне, но именно поэтому была известна даже нижним чинам, никакого отношения к штабу не имеющим.
— Так вот, если Сивачев оттуда, — Сибирцев пальцем показал под свое кресло, — то я теперь понимаю, почему это дело с треском провалилось.
Кунгуров внимательно смотрел на Сибирцева и соображал, правду он говорит или валяет дурака. Но Сибирцев был серьезен и даже заметно удручен.
— Но почему именно с ним возник этот разговор? — спросил контрразведчик.
— Ах, Николя, — Сибирцев слабо махнул ладонью, — вы же понимаете… Видимо, я что-то сказал об адмирале, Сивачев посочувствовал. Вы прекрасно знаете о моем отношении к Александру Васильевичу… Я сказал, он посочувствовал. Сочувствие в наше время — единственное, что осталось из всех естественных человеческих проявлений. Падки мы на него. Думаю, поэтому. Впрочем, не помню. Хотя разговор такой, если не ошибаюсь, был.
Сибирцев достал из внутреннего кармана выигранные вчера у ротмистра часы и, щелкнув крышкой, посмотрел время.
— А что, — сказал он, пряча часы обратно, — не закатиться ли нам куда-нибудь позавтракать? Если вы, разумеется, свободны?
Кунгуров проследил за его движением.
— Вы с ним говорили о чем-нибудь?
— Я же сказал, — удивился Сибирцев.
— Нет, сейчас.
— Помилуйте, о чем?.. Я даже не уверен, узнал ли он меня, так вы его обработали…
— Между прочим, — помедлив, словно решился Кунгуров, — это его часы.
— Как?
— Да-да, его. — Губы Кунгурова зло скривились. — Взяты при обыске.
Сибирцев непонимающе уставился ему в глаза. Потом достал часы, несколько раз машинально щелкнул крышкой.
— Вы хотите сказать?..
— Нет, успокойтесь. — Ротмистр невинно усмехнулся. — Они ему больше уже не понадобятся.
— Николя… — Сибирцев осуждающе покачал головой. — Да если б я знал…
— Вы же сами заметили, что в нашей жизни мало человеческих ценностей, — цинично бросил контрразведчик. — Ценностей, достойных внимания. Конечно, я мог бы и не играть на них. Но что поделаешь? — вздохнул он. — Игра… азарт…
— Ну, — после паузы сказал Сибирцев, — я полагаю, вы не собираетесь выставлять их в качестве улики? Впрочем, — добавил он тут же, — вы можете их у меня выкупить. — И, заметив, как окаменело лицо Кунгурова, закончил: — Хотя, не скрою, они остались бы приятной памятью о нашем с вами знакомстве.
— Сделанного не воротишь, — махнул рукой Кунгуров. Он, возможно, уже осуждал себя за откровенность.
— Но я так и не понял вас. Что же, улики против этого несчастного так серьезны?
— Не скрою, да.
— Жаль, — пробормотал Сибирцев. — Всегда неприятно разочаровываться в людях. Даже если их почти не знаешь.
— Почти не знаешь, — со значением повторил Кунгуров. — Так куда вы меня повезете завтракать?
«Проиграл ты, Кунгуров, — подумал Сибирцев. — И твой многозначительный тон тебе не поможет…»
В тот же день он совершил непростительную ошибку. Напоив Кунгурова до бессознательного состояния, Сибирцев отвез его домой, а сам помчался в управление Китайско-Восточной железной дороги, где после расформирования отряда «орловцев» в качестве помощника самого Путилова подвизался Володька Михеев. Это был единственный адрес, по которому Сибирцев не должен был никогда, ни при каких обстоятельствах появляться. Но вызывать Михеева на связь и ждать его Сибирцев не мог: перед ним стояли глаза Яши Сивачева. И он представлял себе, что эти мерзавцы из контрразведки сделали с дядькой Федорчуком.
Разговор состоялся короткий, но очень неприятный. Сибирцев потом краснел, вспоминая о нем: как мог он допустить такое вызывающее мальчишество и поддаться панике? Однако ведь речь шла о жизни человека, которого кунгуровские садисты могли замучить с минуты на минуту. Розовощекий, всегда веселый Михеев был на этот раз, казалось, вне себя от ярости. Понимая побуждения Сибирцева, он тем не менее высказал ему все, что думал по поводу такого поразительного нарушения конспирации. В конце он рассказал о страшной судьбе арестованного машиниста Федорчука, буквально растерзанного палачами, и о том, что уже дважды предпринимались попытки извлечь арестованных из контрразведки, но обе попытки окончились трагически.
Михеев предупредил также, что Сибирцеву надо быть готовым к исчезновению. Приказ из Центра мог последовать в любую минуту. И действительно, такой приказ пришел через полтора месяца, в середине апреля. Сибирцеву было предложено выехать в район Читы, где разгорелись серьезные бои, для инспекции, и там он, что называется, пропал без вести. Он ушел, хотя ему казалось, что интерес контрразведки к нему уже начал ослабевать. Порой Сибирцев думал, что столь скорое и безоговорочное решение Центра было в какой-то мере связано и с его явным нарушением требований конспирации…
Очнувшись от нахлынувших воспоминаний, Сибирцев вскинул голову, пристально посмотрел на Сивачева, который, целый и невредимый, стоял перед ним, а в голове гвоздем засел вопрос: так как же ты жив-то остался, Яков Сивачев?!
Когда Сивачева пригласили в контрразведку, он решил, что это обычная, всем давно осточертевшая проверка, какие нередко затевал Кунгуров. Серия провалов семеновских операций, в число которых входила даже такая крупная, как взятие Иркутска и освобождение Колчака, естественно, не могла не вызвать паники среди высшего руководства. Обеспокоенные и раздраженные японцы настаивали на своей помощи, это знал Сивачев из шифровок. Семеновская контрразведка развила бурную деятельность, стремясь доказать, что не зря получает жирные куски от союзников.
И хотя вызов в контрразведку не предвещал ничего приятного, но и бить тревогу пока было рано. Сивачев тщательно проверил себя — ничего компрометирующего не было. По требованию Федорчука он никогда не держал никаких могущих бросить тень бумаг. Никаких документов. С тем и вышел из штабного вагона, стоявшего на запасных путях на станции Маньчжурия. Вышел, чтоб уже никогда не вернуться.
Сперва разговор шел об обычных вещах; нет ли каких-либо подозрений, как хранятся секретные документы и так далее. Сивачев отвечал спокойно, обдумывая каждый свой ответ. Доверительный тон Кунгурова, конечно же, не мог его обмануть.
А затем произошло совершенно непредвиденное, и Яков сразу понял, что провалился.
Кунгуров предъявил шифровку, которую готовил сам Сивачев и никто другой. Речь в ней шла о секретной карательной экспедиции против Тунгузского партизанского отряда. Причем с указанием сроков ее проведения, сил и дислокации семеновских войск. Весьма шаткие слухи о подобной операции уже имелись, и поэтому Яков счел необходимым познакомить с ней Федорчука.
И вот теперь эта шифровка лежала на столе перед Сивачевым, а Кунгуров, ехидно кривя сухие губы, подробно рассказывал, как готовилась в контрразведке эта фальшивка, как совершенно случайно был убит в перестрелке переходивший границу старик охотник и у него была найдена бутылка спирта, заткнутая пробкой из свернутой газеты, внутри которой оказалась эта шифровка. О шифровке же знал весьма узкий круг людей. Стечение роковых обстоятельств…
Яков молчал. Молчал и тогда, когда Кунгуров кликнул своего подручного бурята Ерофея, один вид которого внушал ужас и отвращение… Молчал, скрипя зубами от невыносимой боли, валяясь на нарах в вагоне смертников, следующем в харбинскую тюрьму.
А потом был сплошной провал в памяти: только дни и ночи нечеловеческих мук, бесконечных допросов и изощренных пыток. И в какую-то бессчетную из ночей он назвал, а может быть, ему только показалось, имя Федорчука. Меру своего предательства он вскоре увидел собственными глазами. Кунгуров привел его на допрос машиниста, и Яков не узнал своего бывшего хозяина. Это был окровавленный кусок мяса, из нутра которого изредка доносилось что-то похожее на клокотание. Кошмар, испытанный Сивачевым, сломил его. Он стал по крохам, оправдывая себя ужасом перед невообразимыми мучениями, выдавать то, что знал. Но знал он немного, возможно, на свое счастье. Он рассказал, как Федорчук склонил его передавать копии отдельных шифровок, а куда отправлял их потом, этого уже Яков не знал. Он рассказывал обо всех документах, копии которых передал Федорчуку, а их было немало, но какую-либо собственную связь с подпольем отрицал категорически. Его подловили, а потом он боялся отказаться, ему угрожали, обещали убить, если он откажется служить дальше. И он служил, но только из страха…
Видимо, Яков уже отыграл свою роль и больше активного интереса для Кунгурова не представлял. Вероятнее всего, Кунгуров действительно понял, с кем имеет дело. Однажды — Яков помнит: было уже по-весеннему тепло, слепило солнце после темноты камеры — Кунгуров вызвал его к себе и брезгливо заявил, что больше в услугах Сивачева не нуждается. Он так и сказал: в услугах…
Все, понял Яков, это конец. Скорее бы.
Но его попросту вышвырнули на улицу. Он и не понял тогда, зачем так поступил контрразведчик. Может быть, тот ждал, куда пойдет Сивачев, с кем попытается найти связь?
Грязный, избитый и оборванный, заросший до звериного облика, Яков забился в какую-то нору и долгое время вел животный образ жизни. Ни к кому он, естественно, не мог обратиться за помощью, понимая, что первым будет вопрос: за что его выпустил Кунгуров? Этот мерзавец не из тех, кому ведомы человеческие чувства и слабости. И Яков боялся вопросов, боялся встреч, даже случайных, со знакомыми ему людьми.
В пыли и жаре пришло харбинское лето. На что мог рассчитывать Сивачев? Только на случай. И он подвернулся в одном из притонов, где пьяный штабс-капитан с упоением рассказывал о том, какие дела разворачиваются на Дону. Терять Сивачеву было нечего: прошлое его никого не интересовало, будущего он и сам не видел. Формировался отряд для похода через Туркестан к Деникину на какие-то темные деньги; что его ожидало, никто толком не знал. Это было какое-то умопомешательство: никто ничем не интересовался. Спросили только, где служил, ответил: у Колчака. О своем пребывании в контрразведке умолчал, да и вряд ли кого это удивило бы. Его сотоварищи, сами такие же опустившиеся, бывшие защитники отечества, бившие и не раз битые в харбинских ночлежках, бредили реваншем, золотом, кровавым отмщением, еще черт знает чем. И Сивачев понял, что и он сам ничем от них уже не отличается. Поход на Дон он представлял себе прежде всего как расставание с проклятой памятью. Он хотел зачеркнуть прожитое, чтобы никогда больше к нему не возвращаться.
Отряд штабс-капитана оказался, по существу, самой оголтелой бандой, действующей под флагом какого-то мифического генерала, финансировавшего предприятие. И в Маньчжурии, и в долгом пути через Туркестан отряд занимался разбоем и грабежами. Имевший еще хоть мизерное представление об обычной человеческой порядочности — так он сам себя порой убеждал, — Сивачев скоро растерял и эти остатки. Надо было жить, а следовательно, добывать себе корм, убивать. И он жил…
Под осень с великими трудами добрались до Каспия и там уж окончательно разбежались кто куда. Сивачев отправился на Дон, надеясь когда-нибудь, каким-нибудь образом попасть в родные края. Навестить родительские могилы. И может быть, этим вымолить прощение за содеянное предательство. Возникло однажды такое желание и больше не проходило. Ему казалось, что он сможет вымолить прощение. Но из огня, как говорится, попал в полымя. Атаман Вакулин из Усть-Медведицкой станицы нарисовал ему картину, вмиг разрушившую все его благие помыслы. Времена давно изменились. Тамбов, Саратов, Воронеж выступили против Советов. Долой своеволие комиссаров, долой грабеж крестьянства! Мужики поднялись, крестьяне, весь народ. И борьба теперь идет не на жизнь, а на смерть. И снова обстоятельства оказались сильнее Сивачева. Возглавив сотню — а опыт такой уже был в Туркестанском походе, — Сивачев решил, что вернется в родные края победителем.
А дальше известное дело. То он бил красных, то его гоняли и били красные. Такова жизнь… Да, он был жесток. Но разве рок не был жестоким по отношению к нему? Да, на нем немало крови. Но ведь не только чужой, собственной крови! Да, он был слаб, он предал, но ведь не каждому удалось вырваться живым из контрразведки. В конце концов, война есть война, и, прав ты или виноват, частенько от тебя не зависит. Обстоятельства…
Да… Обстоятельства…
Слушал Сибирцев исповедь Якова Сивачева, а перед глазами его вставали Паша Творогов, растерзанный колчаковцами, Алеша Сотников, шедший с ним до самого своего смертного часа, Володька Михеев — розовощекий адъютант, показавший в том же Харбине чудеса храбрости и выдержки. Сколько лет им было?.. Кто помоложе, кто чуть постарше Сивачева, а в общем ровесники…
Вспомнился Федорчук… Добрый старый дядька Федорчук. Погиб, но никого не выдал. Ни единого слова не сказал…
— Знаешь, как погиб Федорчук? — спросил он, но, не заметив никакой реакции, продолжил: — Его вытащили в поле, в снег, раздели догола и, содрав со спины кожу, натерли солью. Он полз за своими палачами и умолял пристрелить его… А они, уходя, смеялись…
— Зачем ты мне это говоришь, Сибирцев? — Яков поднял воспаленные глаза. — Зачем говоришь?! Ты же не знаешь, что они со мной делали!..
— Догадываюсь. Но это тебя не оправдывает, Сивачев. Нет тебе прощения за твое предательство.
— А чего тебе меня прощать? — зло выкрикнул Сивачев. — Какое тебе дано право прощать меня? А? Вы там сидели, господа офицеры, водку жрали, картишками баловались. А за все расплачивались мелкие сошки вроде меня. Это нас пытали, убивали, вешали!.. А-а-а!.. — У Сивачева вдруг припадочно округлились глаза. — Я знаю! Ты тоже из этих… Федорчуков? Да? Жа-аль, что я раньше-то не знал! Я б и тебя продал Кунгурову! И тебя! Проклинаю вас! Ненавижу! Убью! Всех убью!..
На губах у Сивачева выступила пена, глаза его исступленно сверкали, он кричал, захлебываясь собственным криком, и вдруг смолк, устало уронив голову. Только грудь его тяжело вздымалась и побелели костяшки пальцев, сжатых в кулаки.
— Какой же ты мерзавец, Сивачев, — тихо и печально сказал Сибирцев. — Какой ты гнусный мерзавец. Нет, тебя нельзя судить принародно. Люди узнают, какие бывают мерзавцы, а это страшно. Это выше сил моих. Этот кошмар падет на головы твоей матери и сестры, и они не вынесут такого позора, Сивачев. Нельзя тебе больше жить…
В глубине коридора, за кухней, послышался стук в дверь.
— Встать! — резко приказал Сибирцев. — Сядь на стул, Сивачев. И запомни: я полковник Сибирцев из Главсибштаба. Понял? Лишнее слово, лишний жест — стреляю. Думай о сестре и матери.
Сивачев медленно поднялся с пола и сел на стул.
— Надеть портупею!
Он так же послушно надел и затянул ремни.
Сибирцев прислушался. Узнал высокий говорок деда Егора…
11
Перед рассветом Нырков с Баулиным вышли на галерею подышать свежим воздухом. Бессонная ночь и напряженное ожидание бандитского налета наложили отпечаток на их почерневшие небритые лица.
— Малышев бы не заснул. — Илья кивнул на темный силуэт колокольни. — Самый сон сейчас, о-хо-хо! — Он, широко и сладко причмокнув, зевнул.
— Не, не заснет, — тут же зевнул Баулин и улыбнулся. — Заразил ты меня, Илья Иваныч. С ним там Матвей. Железный мужик… Тихо что-то…
— Вот и жди беды, — потирая слезящиеся глаза, буркнул Нырков. — Слышь, Баулин, а ты сосновских кого знаешь?
— Не так чтобы… бывал там. А что?
— Я вот думаю, не шибко мы с тобой сообразили.
— Это почему же?
— Есть там такой Маркел? Он вроде в Совете работает.
— Маркел? Дай вспомнить… А кем он там?
— Не знаю.
— Может, секретарем состоит? Нет, секретарь у них баба. А, есть, вспомнил! Это который транспортом ведает. Точно, Маркел его зовут. Он еще нам подводы выделял. Заметный мужик, высокий, чернявый. А чего он тебе, Илья Иваныч?
— Свояк он попу-то нашему, вот что.
— Ну да?.. — недоверчиво протянул Баулин. — Выходит, тоже контра? А может, нет?
— Я так думаю, что, если он пользуется в Совете влиянием, помощи от сосновских нам не ждать. Только зря нарочного погнали.
— Не, не согласен я, Илья Иваныч, народ там крепкий, наш.
— Поглядим. — Нырков задумчиво побарабанил пальцами по перилам. — Однако надо быть готовым ко всему… Мужики-то собрались?
— Там они, — Баулин кивнул на храм, — за церковной оградой. Ну а которые по домам. Но тоже наготове. По первому выстрелу.
— Светает… Давай, Баулин, буди ребят. Чует сердце: с минуты на минуту ждать гостей… Постой! — Нырков заметил неясные еще фигуры нескольких людей, что двигались по улице к площади, прижимаясь к плетню. — Гляди, быстро! — шепотом подозвал Баулина. — Наши или нет?
Баулин поправил очки, присмотрел, а Нырков выхватил наган.
— Кажись, они, Илья Иваныч, — прошептал Баулин, — гости.
И сейчас же хлопнул выстрел. Пуля впилась в деревянную колонну галереи рядом с головой Ныркова. Он присел.
— Проспал, Малышев, сукин сын! — выругался он и метнулся в дверь. — В ружье! — крикнул сорвавшимся голосом. — Где же твой дозор, Баулин, чтоб тебя!..
Зазвенели разбитые стекла. На площадь махом с дикими криками и визгом вынеслись десятка три всадников, беспорядочно стрелявших по окнам сонных домов.
— Малышев!.. — застонал в бессильной ярости Нырков, и в ту же минуту с колокольни по площади ударила длинная пулеметная очередь.
Всадники закрутились, завертелись, ринулись в разные стороны, оставив на площади добрый десяток лошадиных трупов. От них, как тараканы, расползались спешенные бандиты. Только теперь осознал Нырков, что бой уже идет, но он никак не мог ухватить и понять его общую картину и потому злился. По ползущим фигурам били из-за ограды, стреляли из пустых оконных проемов сельсовета чекисты и Баулин со своими продармейцами.
— Молодец, Малышев! — тяжело выдохнул Нырков. — В самый раз врезал… Стрелять прицельно! — обозленный собственной растерянностью, крикнул он, поднимая наган и наводя его на уползающего бандита. Наган дернулся от выстрела, и бандит замер кучей тряпья. Выстрелы скоро прекратились.
Посреди площади била передними копытами и пронзительно ржала упавшая на круп лошадь. Одиночный выстрел из-за ограды прекратил ее ржание. Стало тихо.
Помещение затянуло кислым пороховым дымом.
— Все целы? — оглядываясь, спросил Нырков.
— Все, Илья Иваныч! — весело отозвался Баулин.
— Нечего скалиться! — огрызнулся Нырков. — Давай занимай круговую оборону, это только начало… За мной на чердак!
Они поднялись на чердак и через слуховое окно выбрались на крышу. Железные листы были холодные и мокрые от росы. «Обзор хороший», — подумал Нырков, распластываясь за слуховым окном.
Небо стало розоветь. Видимость улучшилась. Теперь только внимательно глядеть по сторонам, не прозевать.
— Ползут, товарищ Нырков… — услышал он сдержанный шепот.
— Где? — Нырков обернулся.
— Вон, — показал продармеец, худенький белобрысый парнишка, — с огородов подбираются. Сзаду.
— Дай винтарь. — Нырков забрал у него винтовку.
Он увидел, как заколыхались заросли конопли, на миг показалась голова и спряталась. Он прицелился я, проследив движение ползущего бандита, нажал на курок. Громко вскрикнул и застонал раненый.
Новой атаки пришлось ждать недолго. Как и в первый раз, но теперь уже с двух сторон, на площадь вынеслись казаки. Их было больше, однако дружная стрельба засевших за оградой мужиков и пулемет на колокольне сдержали и этот напор. Примерно половина верховых устремилась к церкви, чтобы приступом взять ворота, но их скоро отогнали. Остальные же ринулись к сельсовету, и им, несмотря на сильный заградительный огонь, удалось прорваться к самому дому. Укрытые галереей и дворовыми пристройками, они оказались недосягаемыми для осажденных в доме и на крыше. Кроме того, бандиты ворвались в соседние дома и повели оттуда нечастый, но прицельный огонь. По железной крыше защелкали пули.
«Пора отсюда убираться, — подумал Нырков. — Похоже, они уже поняли, что на испуг нас не возьмешь. Могут перестрелять, как воробьев».
И вовремя. Едва подумал, как услыхал удары и треск разламываемых досок. Видимо, бандиты хотели прорваться в лабаз на нижнем этаже. Если ворвутся, их оттуда трудно будет выкурить.
— Сергеев! — негромко окликнул он лежащего неподалеку чекиста. — Давай всех с крыши в дом. И приготовить гранаты. Скрип отдираемой доски полоснул его словно ножом. Он отцепил от пояса гранату и, подобравшись ползком к самому краю крыши, с хеканьем швырнул ее вниз. Громыхнул взрыв, захлебнулся матерной бранью крик внизу. Но тут же сильный удар чуть не сбросил его с крыши. В запальчивости Илья успел нырнуть в слуховое окно и только теперь сообразил, что не чувствует левую руку. Обжигающая боль опалила локоть, на мгновение пошла кругом голова. Нырков с трудом спустился по лестнице в дом и нос к носу столкнулся с Баулиным.
— Ну? — хрипло дыша, спросил он. — Потери есть?
— Одного моего наповал, — хмуро ответил Баулин. — Да двое легко ранены. Стой! Что с тобой? — Он подхватил покачнувшегося Ныркова.
— В руку, — засипел Илья, — помоги…
Он стащил куртку. Левый рукав гимнастерки побурел от крови. Баулин с треском разорвал его подолам, обнажив пробитую навылет руку Ильи. Кровь толчками выбивалась из раны выше локтя.
— Сейчас, сейчас, погоди… — твердил Баулин, перетягивая раненую руку у плеча.
Илья застонал:
— Полегче ты…
— Сейчас, ничего, это мы быстро.
Баулин забинтовал рану куском плотной белой материи и помог просунуть руку в рукав куртки.
— Прикажи ребятам гранатами их… И пусть не высовываются, подстрелят.
Баулин убежал. Вскоре ударило несколько взрывов подряд, и снова стихло.
В комнате собирались осажденные. Негромко переговаривались, осторожно ступая по хрустящим стеклам и опасаясь приближаться к окнам. Оттуда время от времени влетали пули, чмокая, впивались в бревна.
Принесли убитого продармейца, положили на пол в углу. Нырков узнал его: это у него он брал винтовку. Пуля вошла ему в глаз, разворотив сзади череп. Илья вздохнул и отвернулся к окну.
— Никак горим? — сказал кто-то, сильно окая. — Конечно, горим! — добавил уже с удивлением.
Нырков принюхался: тянуло дымом, но не кислым пороховым, а самым настоящим пожаром. Что-то действительно горело.
— Быстро проверить, что горит! — приказал он, но вбежал испуганный Баулин.
— Худо, Илья Иваныч! — с порога крикнул он. — Те бандюки, что с огородов подобрались, подожгли пристройки. Дерево-то сухое, сразу занялось. Как перекинется на крышу, хана нам тут всем.
От сараев повалили клубы дыма.
— Стой! Без паники! — Нырков встал. — Слушай, чего скажу! Делаем так: выводи коней, закладывай бричку. Раненые где? Бежать могут?
— Можем! — откликнулось несколько голосов.
— Которые не могут, тех в бричку. Его, — Илья показал на убитого, — тоже в бричку. После похороним… — Он поморщился от боли. — Всем собраться внизу. По команде раскрываем ворота и пулей к церкви. Стрелять всем и патронов не жалеть, чтоб грому больше. Прорвемся… Пусть бы только дыму погуще…
Оставшись вдвоем с Баулиным, Нырков сказал:
— Если б Малышев догадался сейчас прикрыть нас, а, Баулин? Площадь-то невелика. Насквозь простреливают, гады… Ну пойдем вниз.
Сараи уже полыхали вовсю. Ржали и дыбились кони, которых с трудом, навалившись всем скопом, загоняли в упряжь.
Порывом ветра огонь перекинулся на крышу сельсовета, лизнул бревенчатые стены и мгновенно проник внутрь дома. Густым дымом заволокло двор, потянуло на площадь. Сперло дыхание, люди кашляли, прикрываясь руками от подступающего жара.
— Еще малость, еще… — шептал себе Нырков, сжимая наган и плача от едкого дыма.
И, будто отвечая его просьбе, гулко и тяжело ударил колокол на колокольне. Низкий, стонущий звук поплыл над селом, колокол гудел, бросая в небо удар за ударом.
— Сообразил! Ах, молодец! — вскрикнул Илья. — Открывай ворота! Вперед!
Громыхая по булыжнику, бричка рванулась через площадь к церковным воротам, за ней, паля в разные стороны, вынеслись трое верхами, а за ними, петляя и припадая к земле, кинулись все остальные.
Миг — и вот уже середина площади. Зацокали по камням пули. Кто-то вскрикнул. Нырков обернулся и увидел падающего Сергеева. Подхватил его здоровой рукой и волоком потащил дальше. «Какой же ты, Петька, тяжелый… — билось в голове. — Маленький, а тяжелый… Нет, не брошу, дотащу… Все равно дотащу, чтоб вас всех…»
У самых ворог Сергеева перехватили двое продармейцев, рванули за руку и Ныркова. Теряя сознание от боли, Илья поскользнулся и рухнул наземь. И уже не чувствовал, как его тоже волоком втащили в открытые ворота.
Он очнулся в темноте. Открыл глаза и подумал, что наступила ночь. Было прохладно и сыро. Знобило. Попробовал привстать и оглядеться. Постепенно глаза привыкли, и тогда Нырков понял, что ошибся. Но не сразу сообразил, где находится. Слух различил чьи-то всхлипывания, тонкий детский плач. Память вернула последние ощущения: сумасшедший бег через раскаленную площадь, дым, забивший глотку, тяжесть хрупкого Петьки Сергеева и, наконец, обжигающую боль в левой руке.
Нырков машинально тронул ее и почувствовал, что она накрепко прибинтована к телу. И боль уже не горячая, она ушла внутрь и напоминала о себе только при резких, неосторожных движениях.
Послышались легкие шлепающие шаги, и высокий старческий голос произнес:
— Ну ить проснулся милай!
Из-за темной колонны показался старик в рясе. Он был освещен падающими откуда-то сверху лучами солнца и был похож на замшелый болотный пенек.
Еще ни о чем не думая, Нырков, словно заново рожденный, вбирал в себя новые ощущения. Дед какой-то странный, и вообще где он, что с ним?
— Проснулся… — снова повторил дед. — Она, лекарства-та, мертвого лечить. Ну-ка теперя выпей ету вот, выпей, не бойся.
Он протянул Ныркову кружку. Илья, не задумываясь, взял ее и вылил в рот. Обожгло, перехватило дух. Самогонка, что ли?
— Она, милай, она сама. На травках. Сплошная польза.
Нырков вытер рукавом рот и поднялся на ноги. Теперь он осознал, что находится в церкви, в темном ее притворе. Оттого и казалось, что ночь, и прохладно так. Нетвердо вышел на свет, снова огляделся. Увидел сбившихся в кучу женщин и детей, сидящих на узлах среди каких-то тряпок и мешков.
— Сей момент Матвея кликну, — сообщил дед и странным скоком заспешил в глубь церкви.
Вскоре пришли, гулко ступая по каменному полу, Баулин с кузнецом.
— Держимся, Илья Иваныч! — еще издали громко сказал Баулин и подтянул брюки. Лицо его было серым от дыма и гари, только очки сверкали воинственно.
— Плохо помню… — Нырков потер ладонью лысину. — Как мы выбрались-то?
— Это вот пусть Матвей Захарыч расскажет, — засмеялся Баулин, не понимая недоуменного взгляда Ныркова.
— Да чего ж тута… — замялся кузнец. — Как дым-то повалил, мы и поняли, что подобрались бандюки. Ну а коли пожар, выход один — сюды, к нам…
Нырков слушал, плохо поначалу схватывая, о чем говорил кузнец. Но вскоре и для него картина прояснилась…
Оставив Зубкова внизу с мужиками, Матвей поднялся к Малышеву на колокольню. Там и встретили рассвет. Бандитов они заметили, едва те показались на улице, — с колокольни-то далеко видать. Но затаились, решили подпустить ближе, чтоб уж бить наверняка.
Ну а когда пошли конные, раздумывать было нечего. Одна была забота: захватить их побольше да положить.
— Парень-то твой молодец, крепкий, — говорил кузнец и подтверждал как бывший батареец.
Потом занялся огонь, и Матвей сказал Малышеву, что засевшие в сельсовете с часу на час будут пробиваться к церкви. А потому ворота надо отпереть и по первому сигналу растворять. Он, Матвей, для этого ударит в колокол. Посреди боя колокольный звон наверняка хоть на миг отвлечет внимание бандитов, чай, все ж православные. Ну а тем временем свои проскочат. Малышев же прикроет их из пулемета. Выждав маленько, чтоб дыму на площадь подтянуло, так и сделали. За беглецами ринулись было с десяток верховых, но Малышев их отсек и рассеял. Вот и все.
— Другая теперь забота, — продолжал кузнец. — Бандиты, вишь ты, попов дом заняли, а с него, почитай, полдвора церковного простреливается. Носа высунуть нельзя. Храм-то, он крепкий, каку хошь осаду выдержит, дак ведь сидишь-то, как мышь в западне. Главный вход мы закрыли. Через боковой выползаем.
— А это что за дед? — кивнул Нырков в сторону ушедшего старика.
— Егорка-то? — усмехнулся кузнец и покачал головой. — Сторож он тутошний. Тоже пострадал, бедолага. Сгорела его халупа. Может, огонь принесло — сушь ведь, а может, кто из бандитов запалил. Всего и спас-то бутыль самогона да мазь, что вас вот лечил… Как рука-то, Илья Иваныч?
— Полегче. Это меня, видать, за нее дернули, когда тащили сюда. А так терпеть можно. Ты мне вот что скажи, Баулин, много наших погибло? Чего с Сергеевым?
Баулин опустил голову.
— Наповал его, Илья Иваныч, мертвого уже тащили. И у меня двоих положили насмерть. Это там, на площади. И достать-то не успели. Тут тоже потери. Но больше раненые. Убило всего троих.
— И дозорные, — напомнил Илья.
— И они, видать, тоже, — вздохнул Баулин.
— А раненые где?
— Да вот же! — Баулин показал на женщин.
Нырков сразу все понял. То, что ему показалось мешками, на самом деле были прикрытые дерюжками раненые мужики, за которыми ухаживали женщины.
«Сколько же их?» — покачал головой Илья.
— Я ведь говорил, Илья Иваныч, солдаты они в большинстве никудышные. Таких, как говорится, пуля сама находит.
— Может, и никудышные, — возразил кузнец, — однако сколько атак-то отбили! Не говори… Мужик, он крепкий.
Нырков нащупал в кармане наган и сказал:
— Ну пошли на колокольню. Глянем, чего делается. Там и поговорим…
Малышев лежал на охапке сена, осторожно выглядывая из-за пулеметного щитка. Спина его была белой от известковой пыли. Услышав шаги, он перевернулся на бок, и Нырков увидел его потное, в грязных кирпичных потеках утомленное лицо. Солнце стояло в зените и пекло неимоверно.
— Живы, товарищ Нырков! — радостно воскликнул он и снова перевернулся на живот.
Нырков заметил рядом, на соломе, неразлучный малышевский маузер с приставленной к нему в виде приклада кобурой.
— Ух и давлю я их, товарищ Нырков, — снова заговорил Малышев, — как клопов. Где «максимкой», а то этой пушкой, — он кивнул на маузер. — Носа не кажут… Только вы не выглядывайте, они тоже без конца пуляют.
Нырков уже обратил внимание на глубокие щербины в стенах колокольни. Чумазое лицо Малышева, его взгляд теплом разлились по сердцу Ныркова.
— И много надавил? — улыбнулся он.
— А я не считаю. Давлю, и все. — Его рука потянулась к маузеру. — Отойдите в сторонку, сейчас они снова озвереют.
Он долго целился и наконец нажал на курок. В ответ мгновенно запели, застучали, отскакивая от камня, пули, звонко цокнули по колоколу.
— Я ж говорю, озвереют, — довольно заметил Малышев. — Жаль, у попа их не достать. Обзора нет. Никакой приличной видимости. — Он отполз к середине площадки и на карачках подобрался к лестнице, встал, вытирая пот ладонью. — Чего-то помощи пока не видать, товарищ Нырков?
Все четверо переглянулись. Их уже давно мучили эти вопросы: где остальные баулинские продармейцы, почему молчит Сосновка? То есть почему Сосновка молчит, Нырков с Баулиным уже примерно знали. Но где остальные — из Глуховки, Рождественского? Перехватили, весть не дошла?
Осторожно выглянув наружу, Нырков увидел сгоревший сельсовет. Пламени уже не было, только дым поднимался из черной каменной коробки, над которой нелепо возвышалась такая же черная, закопченная печь с полуразрушенной трубой. Благо, стоял дом чуть на отшибе. Другие пламенем не задело, а то полыхнуло бы все село. Тесно стоят усадьбы.
— А что бандиты предпринимают? — не оборачиваясь, спросил Нырков.
— Ультиматум выдвигали, — нехотя отозвался Баулин.
— Так что ж ты, понимаешь, молчал? — возмутился Нырков.
— А чего говорить-то? Ультиматум известный. Выдавайте большевиков и продотрядовцев. Их повесим, остальных простим.
— И все? — поинтересовался Нырков.
— Все. Чего еще? Известное дело.
— Мало. Плохо у них, значит, с пропагандой дело обстоит. Белогвардейский лозунг. Эсеры поумнее. Они уже поняли: на такой примитив мужики не клюнут… А оттуда, — Нырков кивнул в сторону далекой усадьбы, — ничего?
— Ничего, — вздохнул Баулин.
«Тоже плохо, — подумал Нырков. — Надо искать какую-нибудь возможность связаться с Михаилом… Но какую? Кого послать и как?»
— Послушайте, мужики, — вдруг мелькнула у него мысль, — а дед этот ваш, как его?
— Егорка… Егор Федосеевич, — поправился кузнец, заметив, что Нырков нахмурился.
— Он давно тут служит?
— Да, почитай, всю жизнь, — снова отозвался кузнец.
— Пошлите-ка его ко мне… Или нет, лучше я сам к нему спущусь.
Мысль-то мелькнула, но Нырков пока не знал, в какие действия ее облечь. Тем не менее с дедом надо переговорить. Что сейчас требуется в первую очередь? Выйти за ограду. Церковный сторож как никто лучше знает, каким путем можно уйти. Дальше… Передавать что-то Сибирцеву напрямую нельзя. Это исключено. Но ведь есть девушка. Маша. Можно передать ей, а она сама догадается, для кого весточка… Почему же, скажем, тот же дед не может этого сделать? Согласится ли, другой вопрос. Но ведь попробовать можно. Дед он, видимо, ничейный, хотя и служит у попа. То, что рассказал о нем Сибирцев, говорит скорее в его пользу, нежели во вред. А ждать больше нельзя.
— Пойдем к деду, — решительно сказал Нырков.
…Сибирцев прислушался. Узнал высокий говорок деда Егора. Затем на лестнице показалась Маша, спустилась и медленно пошла на кухню. Вернулась короткое время спустя и, обведя присутствующих невидящими глазами, протянула Сибирцеву мятую бумажку.
— Вам. Я могу уйти? Маме совсем плохо.
— Минуту, Маша. — Он развернул и прочитал записку. Задумался. Посмотрел на Сивачева, на Машу. — Позовите, пожалуйста, сюда Егора Федосеевича.
Вошедший дед Егор оторопел, увидев мирно сидящих за столом Сибирцева и Сивачева.
— И-эх! — Он боязливо перекрестился. — Никак Яков Григорич?.. Помилуй… свят…
— Нет, — резко оборвал Сибирцев, — это атаман. Егор Федосеевич, сделай доброе дело, найди любого казака и скажи ему, что атаман требует… Как зовут твоего помощника? — строго бросил он Сивачеву.
— Власенко, — мрачно ответил Сивачев. — Подхорунжий Власенко.
— Скажи, что атаман требует передать подхорунжему Власенко немедленно явиться сюда. Понял, Егор Федосеевич?
Дед испуганно закивал.
— Давай, Егор Федосеевич, скорей, а то беда большая будет. И сам далеко не уходи. Может, кликну потом.
Дед по-прежнему кивал, глядя на Сивачева, но с места не двигался.
— Ну что же ты? — повысил голос Сибирцев. — Или боишься?
Дед затряс головой и поспешно удалился.
12
Власенко еще с ночи понял, что все пошло наперекосяк. Едва увидел дом, куда они пробрались через сад вместе с атаманом, услышал бабий голос, сразу догадался, что неспроста вел сюда сотню атаман. И дом ему знакомый, и баба-барынька. Кто она ему — жена, невеста, полюбовница? — теперь уже без разницы. Коли тут замешана баба, никакой пользы делу. И потому, обозлясь, решил махом покончить с селом. Дружный отпор, которым его встретили, только разъярил подхорунжего. Полнота власти, данная ему атаманом на эту ночь, оказалась слепой пустышкой. Поначалу дело вроде разворачивалось неплохо: из мужика, оказавшего ему сопротивление в одной из хат, он без особого труда выколотил все интересующие его сведения. Дело казалось простым: обложить сельсовет и одновременно ударить по засевшим в церкви. Сельсоветчики, конечно, не сдадутся — им терять нечего, будут драться до последнего. Но если их выкурить, то те, что у храма, сами поднимут лапы кверху. Так бывало не раз, так — не сомневался Власенко — будет и теперь. Немного не рассчитал подхорунжий, не учел пулемета. И вот, оказывается, сорвалось.
После двух неудачных атак казаки ринулись по домам грабить. В другое время и в иной ситуации Власенко не стал бы их сдерживать, однако в нынешней никак нельзя было дать им рассеяться по селу. По этой причине уже упустили сельсоветчиков, и бой грозил перейти в затяжную бесполезную перестрелку. Пора было принимать какое-то окончательное решение. От атамана, видать, никакого проку… А на ультиматум, который прокричал Власенко, с колокольни ответили длинной пулеметной очередью.
— Игнат! — позвал Власенко. Он слегка отодвинул тяжелую штору на окне и наблюдал за площадью. Глаза его равнодушно скользили по трупам казаков и лошадей и упирались в железные ворота ограды. Каменный поповский дом был отличным наблюдательным пунктом: огонь с колокольни сюда не достигал, а церковный двор неплохо простреливался с чердака дома. — Игнат! — сердито повторил Власенко. — Где тебя черт носит?
Вошел огромный, заросший до глаз черной бородищей Игнат, засопел, топчась на месте, оценил раздражение подхорунжего и, сочтя его результатом ранения, предложил:
— Може, бинт сменить? Тут у них чистый есть, а, Петрович?
Власенко скрипнул зубами: только ведь сказал, и сразу засвербило вчерашнюю рану.
— После, Игнат… Много хлопцев уложили?
— Много, Петрович, почитай, десятка три. Пулемет, сука, чтоб его… Хитрый, гаденыш, носу не кажет, а косит. И как его достать, ума не приложу.
— А мужики что?
— Мужики-то? А ничего. Мы кое-чего подсобрали. Коням есть. Себя тож не забыли.
Власенко удивленно обернулся, услышав что-то похожее на утробное урчание, потом сообразил, что это Игнат смеется.
— Они-то, — продолжал Игнат, — все готовы отдать, чтоб хаты пожалели, не тронули. Петуха не пустили.
— Все, говоришь? — задумался Власенко. — Поглядим… Пригони-ка их сюда, Игнат. Которых побогаче. Погутарим, чего они готовы отдать. Да чтоб их те, с колокольни-то, не накрыли… И скажи хозяйке, пусть жрать подает.
Ел он с аппетитом. Выхлебал две глубокие миски наваристого борща, обильно запивая самогонкой. Грыз чеснок, сплевывая на пол шелуху. Рукояткой нагана расколотил на белой скатерти толстую кость и со всхлипом высасывал мозг.
Хозяйка, пышная попадья, несмотря на неоднократные приглашения подхорунжего, участия в трапезе не приняла, стояла, подперев дверной косяк и сложив полные руки на высокой груди, с неприязнью наблюдая за Власенко. А он пьянел и, бросая искоса хмельной взгляд на попадью, хмыкал и мотал потным чубом.
Вошли мужики, степенно и испуганно перекрестились на иконы, встали у двери, как бы ожидая решения своей судьбы, боязливо посматривали в сторону попадьи.
Власенко поднял от стола тяжелый взгляд, покачал головой.
— Сидай, Игнат, — ласково позвал он. — Эй, хозяйка, налей борща казаку. Бери ложку, Игнат… Ну что будем делать, мужики?
Стоящий впереди всех пожилой, с густой сединой в бороде медленно, с достоинством опустился на колени.
— Господин офицер, окажи божескую милость, не губи! — сдавленно прохрипел он. — Матушка, Варвара Дмитриевна, заступись за чады свои!
— «Заступись»?! — взорвался Власенко. Он вскочил, опрокинув стул, и рванул штору. — А это кто лежит на площади? — крикнул, указывая наганом за окно. — Как встретили? О чем раньше думали?
Игнат, молча глядя на мужиков, налил полный стакан самогонки и единым духом проглотил ее. Снова взялся за ложку.
— Да не мы ж это, ваше благородие! Мы разве что? — загомонили у двери. — Мы-то со всей душой, не погуби деток, ваше благородие, господин офицер!
Мягко ступая по чистым половикам, Власенко прошелся мимо мужиков, пронзительно глядя в глаза каждому.
— Провиант давайте! — отрывисто скомандовал он. — С каждого двора. А тех, которые там, — он кивнул на церковь, — тех непременно пожгем.
— Помилуй, ваше благородие! — завопили мужики. — Сушь ведь какая! Все село прахом пойдет!
— Пойдет, — спокойно согласился Власенко.
Он сейчас упивался своей властью над этими бородачами. Но власть-то властью, а какой от нее толк, если на улицу носа не высунешь. Вроде как медведя за хвост схватил: и держать сил нету, и отпустить нельзя — задерет. Он может приказать запалить село со всех концов, может перепороть или даже перестрелять всех этих мерзавцев. Да что пользы? Жратва нужна, деньги, оружие. Свежие кони. Помнил Власенко, как сбивали со следа ночную погоню красных. Понимал и атамана, что уходить надо шибко, того и гляди снова нагрянут. Эти-то, что в храме заперлись, наверняка за подмогой послали, вот и жди ее с часу на час.
Устал он. Выпитый самогон тянул ко сну. Хотелось плюнуть на все и раскинуться на широкой пуховой перине. Да хозяйку под бок… Но знал, что расслабляться нельзя, это смерть.
Он сграбастал в кулак сивую бороду стоящего впереди других мужика и рывком подтянул его к себе.
— Даю полчаса сроку, — жестко, глядя в глаза, сказал Власенко. — Чтоб провиант, все оружие, какое есть, и кони были тут, во дворе. — Он помолчал и добавил: — И тыщу рублев. Не то запалю! Понял, борода?
Мужики заволновались.
— Я все сказал. — Власенко отпустил бороду, прошел к столу, плеснул в стакан самогонки. — Ступайте! Терпенья моя кончилась.
Из передней донесся тяжелый топот сапог, и в комнату, растолкав мужиков, быстро вошел казак. Огляделся, увидев Власенко, шагнул к нему, наклонился над ухом.
— Петрович, тебя атаман требует, — с одышкой прошептал он. — Дюже сердит…
— А-а! — Власенко грохнул кулаком по столу, встал, слегка пошатываясь, оглянулся на мужиков. — Чего стоите? — заорал он. — Даю полчаса, а после… Сами пеняйте! Игнат, гляди за ними!
Подхорунжий громко хлопнул дверью и, отвязав от перил крыльца повод, навалившись грудью, взобрался в седло.
— Ты задами, Петрович! — крикнул казак. — Не то достанут.
— Знаю! — яростно бросил Власенко и вонзил шпоры в бока коню.
Мужики толпой вывалили на крыльцо.
— Чего делать-то, Миней Силыч? — спросил невысокий щербатый мужик сивобородого.
Тот сошел на землю, обернулся, оглаживая бороду, будто приставляя ее на место.
— Придется, мужики, раскошеливаться, — мрачно заявил он. — Сердитый господин их благородие. Как есть запалит. Нет на ем, видать, хреста.
— Да где ж такие деньги-то взять? — возмущенно загалдели мужики. — Это сказать — тыщу рублев!.. Да коней ему! Провиянту! Грабеж, православные! Истый грабеж!..
На крыльце показался страховидный Игнат, послушал их, прищурился на солнце.
— А ну геть по хатам. Сполняй приказанию! — Он передернул затвор винтовки.
Мужики, склонив головы, покорно заспешили с усадьбы. Но, обогнув дом и выйдя к площади, остановились гуртом.
— Что ж это выходить, мужики? — снова задал вопрос щербатый. — Мы, значица, выворачивай карман, плати свои кровныя, — он всхлипнул, — а те, что в божьем храме, и стыда не имуть? Где жа справедливость?! Гореть всем, а спасай, выходить, я? Не согласный!
— Айда в храм! — поддержали его голоса. — Пущай всем миром выкуп!.. Эй, православные! Не стреляй! Депутация!
Они повалили к церкви, старательно обходя трупы, но чем ближе подходили к воротам, тем более сдержанными и робкими были их шаги. Застучали в ворота.
— Депутация к вам! Не стреляйте!
По ним никто не стрелял.
— Чего надо? — открыв калитку, сердито спросил Зубков.
— Впусти, председатель, — выступил вперед щербатый. — Миром совет держать надо.
— Оружие есть?
— Да какое оружие? Откель?
— Тогда проходи по одному. — Он впустил мужиков и снова запер калитку.
Со скрипом распахнулись церковные двери, в глубине показались Нырков с Матвеем, но на паперть не вышли.
— Ну, — крикнул Нырков, — кто тут такой храбрый? Дуйте бегом, не то подстрелят!
Поддерживая портки, мужики кинулись к паперти. Щелкнуло несколько выстрелов, вскрикнул раненый, но его подхватили под руки и втащили в церковь. Двери затворились.
— Ну что, отцы? — с сарказмом спросил Нырков, когда все успокоились. — Поди, прижали вам хвост? С чем пришли?
Мужики разом загомонили, закрестились, и Нырков вскоре понял, в чем дело. Он переглянулся с Матвеем и поднял руку, наводя тишину.
— А теперь слушай, чего я скажу… Вас всех упреждали, что банда никого не помилует. Было такое? Вам предлагали оружие, чтоб защитить свои дома и семьи. Было? Тоже было. Когда бандиты жгли сельсовет, когда требовали выдать коммунистов и продармейцев на скорую расправу, вы молчали? Так. А теперь сюда припожаловали? И чего, спрашивается? Деньги собирать для бандитов? Нет у нас для них денег. Оружие вот есть, чтоб прогнать их, стереть начисто с земли. А денег нет. Ошибка у вас вышла, отцы, так-то.
Мужики молчали, подавленно переминались с ноги на ногу.
— Другое могу вам сказать. С минуты на минуту ждем подмоги. Соседи уже знают про бандитский налет и спешат на помощь. И Красная Армия, с другой стороны, по пятам за ними гонится. Тоже, ожидай, скоро прибудет. И когда мы все разом ударим, останется от тех бандитов мокрое место. И вот тогда, отцы, мы разберемся, кто чего делал. И отдельных граждан, истину говорю, будем рассматривать как сознательных пособников бандитизму.
— Так чего делать-то? — выкрикнул отчаянный голос.
— А ты, Минейка, — вмешался кузнец, — заместо того, чтоб бандюков обедом угощать, дал бы своим сынам по винтарю. Вишь они у тебя какие! Да вжарили бы бандюкам по мягкому месту… И ты, Еремей, тожа. Вот и был бы порядок на селе… А то вы все мошну считаете, а об других у вас голова не болит.
— Ну вот что, мужики, — подвел итог Нырков, — коли не хотите, чтоб село сгорело, беритесь за оружие… Матвей Захарович, спорить поздно, скажи Зубкову, пусть выдаст им всем винтовки. Которым не хватит, пускай у раненых возьмут. А вы расползайтесь, стало быть, по своим избам и по команде открывайте огонь. И чтоб ни одного бандита не упустить. Против целого села у них сил не хватит. А командой будет удар в колокол. Матвей ударит… Матвей Захарович, — шепотом сказал он кузнецу, — покажи им дедов лаз в стене, чтоб они могли выйти наружу… И смотрите мне, мужики, — добавил громко, — ежели который из вас наведет сюда бандитов, никакой пощады не жди. А прогоним их, тогда и разберемся, кто кому чего должен.
Матвей увел мужиков в боковой притвор, а Нырков устало опустился на соломенную подстилку. Никакой реальной помощи со стороны он теперь не ждал, и все его мысли сводились лишь к одной: что с Сибирцевым? Сумеет ли он отозвать бандитов, снять осаду? Или хотя бы собрать их в кучу, чтоб можно было сделать вылазку из этой мышеловки…
Поднимаясь по ступенькам террасы, Власенко услышал мужские голоса, насторожился, но тут же быстро и решительно шагнул в дом. В полутемной комнате, куда свет проникал только через одно выбитое окно и тянуло сквозняком, напротив атамана сидел, развалясь на стуле, незнакомый Власенко человек в офицерской гимнастерке, перекрещенной ремнями. Вид у атамана был убитый и отрешенный. Он поднял хмурый взгляд на Власенко и хрипло сказал:
— Это полковник Сибирцев. Из Омска, из военного отдела Главсибштаба… Следует к Антонову. Догнали нас, Власенко, как видишь… никуда не скроешься… от своих. Слушай приказ полковника… — Атаман снова опустил голову, как бы передавая власть Сибирцеву.
— Как же, Григорич? — вскинулся Власенко.
— У вас что, воинская часть или воровская шайка? — резко перебил полковник.
Власенко сник.
— Садитесь, подхорунжий! — приказал Сибирцев. Власенко послушно сел на стул. — Хотя ваш уход от основных сил в момент боя на военном языке называется… вы, конечно, знаете, как называется, попробуем оправдать его чрезвычайными обстоятельствами. Вы ранены?
— Задело, — поморщился Власенко и почувствовал, как снова заныла простреленная рука.
— Сколько у вас в наличии сабель?
— Семь десятков… А може, и шесть. По всему селу трудно сосчитать.
— Командир должен твердо знать наличие своих людей, — наставительно сказал Сибирцев. — Какие предприняли действия?
Власенко стал подробно докладывать о захлебнувшихся атаках, о том, как оседлали церковь, где заперлись осажденные, упомянул про пулемет. В конце рассказал, какой отдал приказ собранным у попа мужикам, только про деньги промолчал.
Во время доклада атаман несколько раз поднимал голову, словно бы желая оправдаться — так понимал Власенко, — но под суровым взглядом полковника снова опускал ее.
Сибирцев внимательно слушал, пренебрежительно кривил губы и наконец сказал:
— Ну что ж, подведем итоги. Ваши действия, подхорунжий, и, разумеется, ваши, подпоручик, следует рассматривать как деяния раннего Александра Степановича Антонова. Именно за них, по нашим сведениям, его так ненавидит местное население. Сжег — убил — ограбил. Типичный бандитизм без какой-либо идейной подоплеки. Но мы, высшее руководство российским восстанием, не позволим вам опорочить святую идею освобождения крестьянства. По моим данным, сюда следует крупная воинская часть красных. Посему приказываю: немедленно прекратить всяческие грабежи и собрать казаков.
— У меня люди двое суток не жрали! — возмутился Власенко.
— В этом смысле мы готовы оправдать вашу контрибуцию, наложенную на местное население, исключительно военной необходимостью. Но никаких пожаров и убийств! Отвечаете лично, подхорунжий. Где предполагаете собрать казаков?
— Да где ж, можно и тут, можно и у попа. Двор большой, закрытый.
— Вот там и собирайте. Мы прибудем туда. Все, подхорунжий, вы свободны, выполняйте приказание.
Власенко вопросительно взглянул на атамана. Кашлянул. Тот поднял голову и медленно кивнул:
— Выполняй приказ…
Власенко с остервенением хлестнул себя плеткой по сапогу, вышел. «Ишь ты, теперь полковник явился, черт его принес, — размышлял он, гоня аллюром своего коня. — Все они одним миром мазаны… Контрибуция, военная необходимость — слова-то все какие круглые… Послать бы их обоих к едреной матери!.. А почто не послать? — Мелькнувшая мысль застряла занозой. — Коли красные близко, не врет полковник, самая пора ноги в руки… А тыщу рублев я все равно сдеру! Со шкурой!..»
Пока скакал, в него пару раз пальнули из-за плетней. Но промазали. Власенко припал к шее коня и наддал ходу. Вихрем ворвался в ворота поповской усадьбы, спрыгнул, тяжело дыша.
Двое казаков, сидя на ступеньках, дымили длинными папиросами.
— Эт-та что такое? Где взяли? — накинулся на них Власенко.
— Та ить, Петрович, — смущенно замялся один казак, — ты звиняй, у хате у попа малость пошарили. Ось на-ка. — Он вытащил из кармана шаровар коробку папирос.
— Как «пошарили»? — взъярился Власенко. — Где Игнат, где мужики?
— Мужики-тась? — протянул второй казак, пряча за спину папиросу. — Оне как ушли, так и не приходили… А Игнат, — он широко осклабился, — Игнат, значица, с бабой.
Власенко словно подбросило.
— С какой бабой?
— А с етой, с попадьей, значица. Тольки ты, Петрович, ускакал, а он к ей подался. Заломил бабу, как ведьмедь тую телку, и лакомится. Свиреп Игнашка до бабы. Истый ведьмедь… Она поначалу-тась все кричала, а теперя смолкла. Пондравилось, вишь…
Власенко ворвался в дом и нос к носу столкнулся с Игнатом, медленно спускающимся по лестнице. Рубаха на нем была разорвана до пупа, и шаровары он придерживал руками.
— Игнат! — зарычал подхорунжий.
— Погодь трошки, Петрович… — Игнат осоловелыми глазами посмотрел на него.
Оглушающий грохот, казалось, подбросил Игната и швырнул его на Власенко, едва не сбив с ног. Глаза, все лицо забрызгало чем-то липким и горячим. Власенко машинально отер лицо ладонью и увидел, что она вся в крови. И в тот же миг он разглядел вверху, в проеме двери, темный человеческий силуэт. Не раздумывая, подхорунжий выпустил в него полбарабана пуль и услышал пронзительно-тонкий женский вскрик. Перепрыгнув через Игната, Власенко взбежал по лестнице. Поперек порога, загораживая вход в светелку, навзничь лежала, разметав разорванные одежды, попадья. Живот и грудь ее были покрыты ссадинами и кровоподтеками. Власенко наклонился над ней, увидел: мертва. Сбоку валялось охотничье ружье, и от него тянуло кислым духом.
Скрипя зубами от бессильной ярости, Власенко смотрел на большое белое тело, словно раздавленное у его ног, а затем, перешагнув через него, быстрым безумным взглядом окинул комнату. Распоротая перина свисала с кровати, вывалив на пол, будто кишки, груды перьев, перевернутые стулья отброшены в углы, и всюду — под сапогами и на разодранной перине, подушках, на столе и комоде — осколки зеркала, фарфоровых фигурок, битого стекла. Комод! Власенко дернул за ручку — заперто. Дулом нагана взломал ящик, заглянул внутрь. Увидел кольца, перстни, золотой крест, жемчужные нитки. Все сгреб единым махом и сунул в карман шаровар. Еще раз обернулся на лежащую женщину. Хороша была… Ах, Игнат, скотина, такую бабу порешили… Подошел вплотную, опустился на колени, а потом рывком выдернул из ушей покойной серьги с зелеными камнями и, сжав зубы, содрал с пальца большой перстень вместе с обручальным кольцом.
Ударил колокол. Власенко вздрогнул и, снова переступив через женщину, сбежал по лестнице, споткнулся об Игната. Голова его была размозжена до полной неузнаваемости. Почти в упор била попадья…
На улице поднялась пальба. Увидев окровавленного Власенко, казаки отшатнулись в испуге.
— Всех сюда! — закричал он. — Всех до единого! Мигом! Казак с маху вскочил в седло и ринулся на улицу. Власенко снова зашел в дом, пошарил в углах и обнаружил большую бутыль керосина. Он выволок ее на середину комнаты, где только что обедал, рукоятью нагана разбил ее, опрокинул, залив белые скобленые половицы, забранные чистыми половиками. На столе увидел бутылку самогона, налил стакан и в два глотка осушил его. Огляделся, нашел коробок спичек на буфете…
Пламя ударило фонтаном, опалив брови и усы…
Отстреливаясь, во двор влетали казаки, с изумлением взирали на окровавленного подхорунжего, стоящего на крыльце. Из-за двери за его спиной, из окон валил дым. С крыши спрыгнул во двор и покатился кубарем казак. Привстав на корточки, крикнул, что по Сосновскому тракту пыль клубится, похоже, верховые скачут.
— По коням! — скомандовал Власенко и, перевалившись в седло, подъехал к воротам. Но оттуда, прямо с площади, ударила, расщепляя доски высокого забора, пулеметная очередь.
— Задами, огородами надо! — завопили казаки, разворачивая коней. Вспыхнула паника. Но уже через несколько минут, взломав ограду, уносились бандиты к реке, к дороге, по которой вчера ночью входили они в село в надежде передохнуть и подкормиться. А вслед им неслись громоподобные удары колокола и пули разом поднявшегося Мишарина.
«Ушли», — отрешенно подумал Власенко, и это была его последняя мысль. Следующая пуля подсекла коня, и он грохнулся через голову, подмяв под себя уже мертвого всадника.
13
После ухода Власенко в доме воцарилась долгая гнетущая тишина. Позже Сибирцев различил негромкие голоса на кухне и, словно вспомнив, очнулся.
— Егор Федосеевич! — позвал он.
Семенящей, робкой походкой приблизился дед. Но стоило только ему взглянуть на Сивачева, как на лице его отразился все тот же суеверный страх.
— Последняя просьба к тебе, Егор Федосеевич, — мягко заговорил Сибирцев. — Можешь обратно в храм проникнуть? Тогда скажи Матвею, Баулину, Ныркову — кого встретишь первым, что казаки сейчас соберутся во дворе у Павла Родионовича. Только эти слова, Егор Федосеевич, и больше ничего. Сможешь?.. Иначе село не спасем. Ступай, Егор Федосеевич, вся надежда на тебя. Ступай… А об том, что ты видел здесь, молчи. Забудь…
И снова тишина. Только слышно, как почему-то сами по себе потрескивают давно рассохшиеся половицы, скрипит на сквозняке разбитая рама окна, шелестит листьями ветерок в саду.
Вот сейчас услышит Сибирцев тяжелые, грузные шаги Елены Алексеевны… Нет, она в беспамятстве. Маша сказала: ей совсем плохо. Напротив, сгорбившись на стуле, застыл Яков, утопив в ладонях лицо. А время идет…
Отдельные выстрелы, доносившиеся из села, стали перерастать в плотную, густую перестрелку. Вот снова заговорил пулемет. И вдруг, все перекрыв своим мощным гулом, в который раз ударил колокол. Пальба усилилась.
«Пора! — сказал сам себе Сибирцев. — Больше рисковать нельзя. Чем обернется бой, неизвестно, а ждать уже поздно. Сивачев все понял, и рисковать им преступно. Значит, пора… Ах, Маша, Маша, поймешь ли ты?..»
— Вставай, Сивачев, — твердо сказал он и поднялся. — Пойдем.
— Сибирцев… — вырвалось у Якова. — Я же все сделал, что ты мне велел…
— Я людей спасаю, Сивачев, село, а не тебя, бандита. Сибирцев махнул наганом на дверь, и Сивачев встал. На его заросшем сером лице не было теперь ничего, кроме безмерной усталости и отчаяния. Медленно шагнул он к выходу на террасу, задержался в дверном проеме, безразличными глазами окинул комнату и хрипло спросил:
— Где ты меня?..
— Иди, Сивачев.
Сцепив пальцы за спиной, Яков, пошатываясь словно пьяный, стал спускаться по ступенькам в сад.
— С матерью дай хоть проститься… — сказал, не поворачивая головы.
— Убить ее хочешь?
Понурив голову и ускоряя шаги, Сивачев пошел по заросшей дорожке сада.
Сирень уже отцвела, осыпалась вишня, побурели в густой траве ее лепестки, еще вчера казавшиеся снежной метелью. Но настоянный жаркий аромат, духота притихшего сада кружили голову…
Казалось, они вступили в царство умирания и теперь медленно спускались к реке вечности. Где-то далеко, словно за тридевять земель, стреляли, убивая друг друга, люди, однако там била жизнь, жестокая, но все-таки жизнь. А здесь, на склоне к речке, заросшем густой крапивой, стояла поразительная тишина, в которой глохли все живые звуки.
«Трава, цветы, растения, — вспомнил Сибирцев услышанное когда-то, — перед смертью пахнут особенно сильно. Будто хотят отдать все, что не успели при жизни, все свои последние силы, свою кровь, свой нерастраченный дух».
— Послушай, Яков, — сказал Сибирцев и увидел, что Сивачев вздрогнул, как от удара. — Мы одни здесь с тобой, Яков. Кончим мы твою банду. Все. А теперь я хочу, чтоб ты остался мужчиной до самого конца. Если можешь, конечно. Не знаю, хватит ли у тебя сил для этого, но надо нам, Яков, уходить мужчинами… Ты был когда-то офицером. На, возьми, — Сибирцев за ствол протянул Сивачеву его наган. — Знаешь сам, что с ним делать…
Он в последний раз взглянул в запавшие глубокие глаза Якова, увидел его тяжеловатый и раздвоенный, как у Маши, упрямый подбородок и кивнул.
— Прощай…
Повернулся и медленно пошел вверх по склону. И вдруг он ощутил неимоверное облегчение, будто сбросил с плеч давний тяжеленный груз. Он снова увидел сейчас тоскливо-обреченный взгляд, какой бывает у загнанной, ждущей выстрела в ухо лошади, и понял, что поступил правильно. Кем бы ни был Яков, он был братом Маши. И он должен сам найти в себе силы…
Громкий металлический щелчок прервал его мысли, спина почему-то мгновенно покрылась липким холодным потом. Сибирцев резко обернулся: Яков двумя руками держал направленный ему в спину револьвер. Его выпученные глаза побелели от ужаса.
— А-а-а! — закричал Сивачев истошным пронзительным криком и, швырнув в Сибирцева револьвер, ринулся сквозь крапиву вниз к реке.
— Зачем же ты так, Сивачев? — с горьким сожалением сказал Сибирцев. — Куда же ты, куда ты теперь бежишь, бандит, от кого и зачем?..
Он словно нехотя достал свой наган, взвел курок и, когда из зарослей вынырнула спина бегущего, нажал на собачку. Крик тут же оборвался.
Потом Сибирцев поднял револьвер Якова, оттянул курок и увидел, что перекосило патрон в барабане. «Какой же ты дурак, Сибирцев, — отстранение, как о постороннем, подумал он, — о какой чести может идти речь? Нужно было опять испытывать судьбу? Не понимаю, на кой черт…»
Через сад он прошел к дому и увидел Машу. Она стояла на террасе, прижавшись щекой к деревянному столбику, и остановившимся взглядом наблюдала за Сибирцевым. Он подошел, поднял, держа за ствол, наган Якова, покачал его.
— Нет, видно, я совсем неисправимый… — раздумчиво проговорил он. — В спину стрелял… Патрон перекосило, бывает же такое… — Сибирцев недоуменно пожал плечами и отшвырнул наган в кусты. Сел на нижнюю ступеньку, сжал виски ладонями, уперев локти в колени. — Возможно, я не имел права его судить… — пробормотал он. — Может быть, он искупил бы свою вину… Вину?.. — повторил он удивленно. — Нет, он не хотел и не мог этого. Не мог… Его окружили, Маша, очень плохие люди, а он привык. Было поздно… Я знаю, что я не прав, но я не мог поступить иначе, Маша. Не мог.
— Мама умерла, — негромко сказала Маша, не меняя позы. Сибирцев поднял голову, словно прислушиваясь к ее словам. — Когда ударил колокол, она открыла глаза и сказала мне: «Знаешь, Машенька, а ведь Яша сейчас умер».
Сибирцев начал приподниматься, не спуская с нее глаз.
— Она умерла тихо, как уснула… Яша правда умер?
— Его давно нет, — ответил Сибирцев. — Он умер давным-давно. Когда мы с ним были совсем молодыми. Это было очень давно, Маша…
— Я знаю, — устало сказала она. — Сегодня ночью я слышала весь ваш разговор…
Над селом неистовствовал колокол…
Отец Павел, привстав на козлах, хлестал кнутом коней, гнал бричку. Он слышал колокольный звон и видел густой дым, встающий над Мишарином. Сердце предвещало беду. Уже на подъезде к селу он вдруг понял, что горит его дом. И это открытие его сразило. Он упал на сиденье, и кони сами, замедлив бег, выкатили тарахтящую бричку на середину булыжной площади.
Дом бушевал в огне, горели и бросали длинные языки пламени столетние липы на усадьбе, заворачивалось от жара кровельное железо на крыше, раскаленные добела листы его падали, разбрызгивая искры, на улицу.
Павел Родионович, сойдя ватными ногами на землю, безумными глазами оглядел пожар и кинулся к дому. Его перехватили толпящиеся на площади мужики и бабы. Вовремя сдержали. От жара едва не занялась, но пошла дымными курчавинами поповская борода.
— Господь с тобой, батюшка! — завыли старухи. — Куда ты в геенну огненную-то?.. Отошла Варвара Митревна, царствие ей небесное, прими, господь, отошла, батюшка… Помолись за ее, усопшую!..
Он позволил подвести себя к бричке. Кто-то помог прилечь на сиденье, чья-то рука положила на лоб холодную мокрую тряпицу. Сознание как будто покинуло его, но в горячечном пылающем мозгу бились слова Маркела: «Бог милостив, Паша, даст атаман прикурить твоим антихристам… Наша пора идет, Паша». Потом Павел Родионович услышал чей-то знакомый громкий голос: «Чего стоишь, дура, беги в кузню, багры тащи! Да ведра давайте! Огонь сдержать надо!»
Он открыл глаза и застонал от ослепительного солнца. Наконец разглядел. Это кузнец Матвей командовал мужиками.
— Водой заливай! Соседей, говорю, заливай, перекинется огонь-то! Ну чего рот раззявил? Полезай на крышу да ведро подхватывай! Эй, бабы, еще воды тащите!
Кузнец подошел к бричке, хмуро взглянул на попа.
— Прикатил, значица, Павел Родионыч? Ну-ну… Грех говорить, да чую, сам ты беду накликал. Ну да господь те судья… Не у одного тебя горе-то нынче. Эвон сколько мужиков бандюки положили. Загляни в храм-то, увидишь… А в доме твоем они самые вместе с атаманом своим пировали, стало быть. Вот так, святой отец! — Кузнец в сердцах махнул рукой и отошел к мужикам.
«Сам накликал, — колоколом бились в мозгу слова кузнеца. — Надо ехать! — сверкнула мысль. — Бежать!.. Но куда, куда теперь бежать?.. Варя! Куда от нее? И где она? Нет… У престола господнего…»
Павел Родионович услышал конский топот и с трудом повернул голову. На площадь влетела бричка с пулеметом на задке. Из нее выбрались двое. Одного он знал — злыдень Баулин. Другого, в кожаной тужурке и фуражке, видел впервые. Приехавшие размяли ноги и пошли к нему, о чем-то переговариваясь.
— Гражданин Кишкин будете? — строго спросил незнакомый. — Настоятель местный?
Павел Родионович слабо кивнул, прикрыв глаза ладонью.
— Вы арестованы как злостный пособник бандитов, — продолжал незнакомец. — Ордер на арест предъявлю в Козлове, в чека.
— Господи! — испуганно запротестовал Павел Родионович. — Да какой же я пособник? У меня у самого горе… Жена моя, Варюшка… Дом вот…
— А про то нам ваш свояк Маркел расскажет, — неумолимо заявил незнакомец. — Баулин, запри его куда-нибудь… И чтоб глаз не спускал.
«Все! — понял Павел Родионович, услыхав от чекиста имя Маркела. — Теперь конец…» И ему стало все равно.
В воротах церковной ограды, куда повел его продармеец, приставленный Баулиным, он вдруг увидел Егора, стоящего посреди двора в полной растерянности.
— Батюшка, — всхлипнул старик, утирая слезы рукавом рясы, — погорели мы с тобой, осиротели… И-эх! Бяда, милай!.. Мою-то пристроечку тожа сожгли вороги. Сироты мы теперя…
— Ну что ты, Егорий? — Отец Павел горько усмехнулся и потрепал его по плечу. — Несть числа человеческим страданиям. А ты — пристроечка…
— Варвару-та Митарьну, — захлебываясь слезами, продолжал старик, — бандюки сильничали… Марфушка твоя сказывала, она сбяжала, умом тронулася. Сильничали, а посля сожгли… Уж так кричала, батюшка…
Отец Павел окаменел.
— А ето вот я у атамана в кармане взял. На выгоне он, батюшка, конем придавленный насмерть.
Старик протянул отцу Павлу его золотой наперсный крест, кольца и сережки жены… Сережки с изумрудами! Они были в багровых пятнах засохшей крови. И крест, и кольца!.. Ее обручальное кольцо…
Павел Родионович ничего не сказал, повернулся и на ощупь, словно слепой, поднялся на паперть.
— Возьми, батюшка! — крикнул вдогонку старик.
Но он молча вошел в церковь и сел в темном углу притвора, опустив лицо в колени.
…А ночью, воспользовавшись тем, что охрана заснула, он неслышно поднялся на колокольню и, обратясь к мерцающим внизу чадящим углам сгоревшего своего дома, прошептал:
— Иду к тебе, Варюшка, иду, матушка… Прими душу мою…
Можно было подумать, что это ветер осторожно тронул высохший древесный лист и плавно кинул его с высоты на затянутый ползучей травкой церковный двор…
14
Играя плеткой и вытирая лысину клетчатым платком, Нырков бодро вошел в калитку и заспешил к террасе. Сибирцев сидел на нижней ступеньке, сжав виски ладонями.
— Ну, Миша! — восторженно закричал Илья. — Отбились! Хана банде! Почти всех положили. Остальных доловим.
Сибирцев предостерегающе поднял руку и с трудом встал.
— Ты чего? — удивился Илья. — Что тут случилось?
— Тише, Илья, — сказал Сибирцев и взял его под руку. — Пойдем-ка, брат, отсюда.
Они вышли на дорогу и спустились к речке. Сели на выбеленный солнцем корявый ствол старой ивы, опрокинутый недалеко от брода.
— Вот здесь Баулин наших, которые в засаде были, отыскал, — сокрушенно заговорил Нырков. — Зарезали их. У Федьки моего так цигарка в руках и осталась. По ней-то, видать, их и обнаружили… А говорил ведь им, чтоб ни-ни, никакого движения! Ножами их промеж лопаток. Знать, и охнуть не успели.
Нырков стал подробно рассказывать, как отбивались в сельсовете, как потом в церкви пришла ему мысль послать в усадьбу старика в качестве связного. Бравый оказался дедка, в самый раз появился с весточкой от Сибирцева и здорово облегчил задачу. Бандиты сами в мышеловку попали — в поповскую усадьбу, да и у мужиков иного выхода не оставалось: поневоле взялись за оружие, даже те, кто хотел бы отсидеться, мол, моя хата с краю… А когда пулемет поставили на бричку и так чесанули, что щепки полетели, тут и вовсе среди бандитов паника поднялась. Ринулись кто куда. Многих положили, в плен взяли. Тот же дедка помог опознать среди убитых атамана. Валялся он на выгоне, придавленный насмерть конем.
В церкви теперь как военный бивак. Тут тебе и пленные, и раненые, и покойников сложили, и лазарет, и охрана. Все тут. Даже арестантская. А пленные сейчас роют братскую могилу на площади перед сгоревшим сельсоветом. Надо мужиков хоронить. Двенадцать человек насчитали. Бабы воют, да что поделаешь? Могло быть и хуже…
— Кабы не ты, Миша, запалили бы село. Как есть запалили бы. — Нырков с участием посмотрел на молчащего Сибирцева. — А, была не была, угости, что ли, папироской-то!
Сибирцев протянул коробку «Дюбека». Илья закурил, закашлялся, отмахнулся ладонью от дыма.
— Ну чего ты молчишь? Дело ведь какое сделали!.. А без жертв, сам знаешь, не бывает.
— Видишь ли, Илья, — Сибирцев тоже закурил и после паузы сказал: — Не знаю, как тебе объяснить… В общем, слушай… Тот, кого вы на выгоне нашли, он не атаман. Правая его рука, подхорунжий Власенко. А атаман всю ночь со мной был. И фамилия его, Илья, знаешь какая? Сивачев.
— Погоди, — Нырков затоптал каблуком папиросу. — Какой Сивачев?.. Так ведь эта усадьба… Нет, постой, ты чьи часы передавал?
— Все верно, Сивачева. С которым мы вместе там были. Якова Сивачева. Сына Елены Алексеевны и Машиного брата… А он, видишь, где оказался?..
— И что? — растерянно спросил Нырков.
— Убил я его, Илья… А мать умерла.
— Умерла… — повторил Нырков. — Ты что же, Миша, прямо… при ней?
— Господь с тобой, — нахмурился Сибирцев, — там, у речки…
— Да он же бандит! Да за одно это знаешь?!
— То-то и оно, что знаю, Илья. Только это он для нас с тобой бандит, а для Елены Алексеевны — сын. Видишь теперь, как все обернулось? Тут, Илья, разобраться — одной головы мало.
— Так… — протянул Нырков. — Чего же делать?
— Почем я знаю, Илья?.. — Сибирцев помолчал и перевел разговор на другое: — Поп-то не появлялся?
— Прикатил, как же! Забыл сказать тебе. — Илья помрачнел, махнул рукой. — Дом его казаки подожгли, говорят, вместе с женой. Надругались над ней и убили, а после уж, видать, запалили… Одна коробка теперь осталась, все выгорело… А попа мы взяли. Под стражей он. Я как сказал ему про Маркела, так он и скис. В Козлов его заберем, там уж и размотаем.
Сибирцев задумчиво покачал головой.
— И у него, значит, тоже… — сказал как бы самому себе.
— Постой, Миша, — вспомнил Нырков. — Так чего с бандитом-то твоим?
— А ничего, — устало пожал плечами Сибирцев. — Попроси от моего имени Матвея, чтоб вырыли на кладбище две могилы. У них, у Сивачевых, там вроде бы свое место есть. Ограда, что ли?..
— Может, его как бандита вместе со всеми? Мужики собрались их за кладбищем тоже в одну могилу…
— Не надо, Илья. Это ведь не для нас с тобой. Для Маши прошу. Все же он последний мужик в их роду… Как там Малышев?
— Заговоренный, чертенок! — усмехнулся Илья. — Пулемет у него как игрушка. И когда успел выучиться, гимназер?..
— Ты бы дал мне его, Илья. И еще пару мужиков из тех, что не местные. Баулинские. Гробы там сколотить, отвезти. Один не осилю.
— А я на что? — обиделся Нырков. — Бандита вот только… душу воротит.
— Ну вот, видишь?.. Да и людей лишних, чтобы разговоры потом шли, тоже не надо.
— Ладно, Миша. — Илья рубанул ладонью по коленке. — Все сделаем, и разговоров не будет. Раз ты считаешь, что так надо, значит, так и сделаем. Я тебе, Миша, по-честному скажу: другому бы — нипочем, а для тебя — все! Мужик ты, Миша, правильный, я это еще вон когда понял.
Сибирцев с непонятным удивлением выслушал разгоряченные слова Ныркова, печально улыбнулся и легонько похлопал его по коленке.
— Спасибо, Илья. Только никакой я не правильный. Дал я Сивачеву наган, хотел, чтоб он сам себя… Должны же были сохраниться в нем хоть остатки чести? А он мне в спину. Патрон вот перекосило, потому и сижу тут с тобой. Вот, брат, какие дела…
— Да ты что? — изумился Нырков. — Ты в своем уме? Да тебя за такие штуки, знаешь?
— Знаю, Илья, сам себя казню, а что поделаешь? Крепко оно, наверно, сидит в нас, это бывшее офицерство…
— А сама-то… Маша… как?
— Маша?.. Как Маша? Не плачет. Она, я полагаю, все понимает, да не легче от того. Хочешь не хочешь, а это я ее одним ударом осиротил. Одной пулей, Илья… Ну пойду. Не забудь, пришли Малышева.
Нырков укоризненно развел руками.
— Завтра хороним? — словно не замечая этого жеста, поднялся Сибирцев.
— Завтра, Миша.
— И едем…
— Едем, Миша. Все поедем. Все вместе.
Сибирцев неопределенно кивнул и, пожав Ныркову руку, пошел к калитке. Нырков продолжал сидеть, глядя ему вслед печальным понимающим взглядом.
15
И вот наступил последний день. С утра кто-то из селян принес весть, что батюшка, отец Павел, ночью выбросился с колокольни. Грех-то какой!.. Нешто можно руки-то на себя накладывать?..
«Можно», — думал Сибирцев. Уж кто-кто, а он-то мог понять Павла Родионовича. Видя в нем откровенного врага, Сибирцев в глубине души, куда не только чужому, но и самому себе, казалось, пути не было, сочувствовал и жалел этого человека. Потом продармейцы вместе с Малышевым, сквозь напускную печаль которого все время прорывалась ужасная гордость самим собой, привезли два гроба. Сказали, что могила готова и можно двигать на кладбище. Погода жаркая, и вопреки всем законам и обычаям в селе решено не ждать три дня, а хоронить нынче. И так уж дух стоит тяжелый.
Сибирцев в этот день словно бы раздвоился. С одной стороны, он был как бы свидетелем и необходимым участником всего происходящего, но на самом же деле ни к чему не прикасался. Так уж получилось, что тело Сивачева, едва свечерело, принесли продармейцы. Обо всем остальном позаботился Нырков.
Сибирцев выходил на террасу, курил без конца, снова возвращался в дом и слонялся из угла в угол, ничего не делая и чувствуя себя лишним.
Солнце поднялось в зенит и палило неимоверно. Ветер кружил над дорогой столбы пыли, раскачивал липы в саду, срывая с ветвей рано побуревшие, засохшие листья. Сирень отцвела и обуглилась в одну ночь. И теперь ее кисти были ржавыми и неопрятными на вид.
Сибирцев курил, облокотись о перила террасы. Смерть, пришедшая в дом, казалось ему, захватила своим крылом и сад. Было в этом что-то мистическое, потустороннее, чего никак не принимал умом Сибирцев, однако же… было. Всего каких-то три, даже два дня назад, а кажется, будто целая жизнь прошла, все было в цвету. Все сияло и светилось от радости, от ощущения бесконечного счастья. А теперь и на могилу-то веточки не сыщешь…
— Пора бы везти, товарищ Сибирцев, — услышал он за спиной, обернулся и увидел Малышева.
— Да, да, — спохватился он. — Надо бы Маше сказать…, Малышев кивнул и ушел в дом. Там задвигали стульями, что-то загремело, и тут же продармейцы с Малышевым вынесли закрытый гроб. Сибирцев хотел помочь им, подхватил, чтобы снести по ступеням, но Малышев просипел с натугой:
— Вы не надо, мы сами.
И он опять остался не у дел. Вошел в комнату. Маша сидела на стуле у изголовья матери. Гроб стоял на том столе, у которого Сибирцев провел ночь с Яковом. Лицо Елены Алексеевны было спокойным, плоским, и на глазах лежали медные монетки. Маша молчала, не поднимая головы.
Возвратились продармейцы, помялись у входа. Маша поднялась, на миг прижалась лбом к материнской руке и отошла в сторону. Тогда они закрыли гроб крышкой и заколотили ее гвоздями.
…На кладбище было безлюдно — весь народ собрался на площади. И когда опускали гробы в одну большую могилу — не было нужды рыть две, места за оградой хватало, — от площади донесся троекратный ружейный залп. Там хоронили погибших от рук бандитов. Продармейцы споро взялись за лопаты, а Сибирцев, кинув горсть земли, отошел в сторону и сел на плоский камень, лежащий между могилами.
Трава выгорела от солнца, и камень был горячим. Кладбище казалось заброшенным, серые кресты на могилах перекосились, а от всего, окружающего сейчас Сибирцева, несло тоской и запустением.
Ударил колокол, и звук его был тягучим и заунывным. Пахло пылью и пересохшим сеном.
Маша стояла, опершись спиной об ограду. Голова ее была прикрыта черным платком, и вся она казалась отстраненной и одинокой, сама по себе со своим горем, со своей ненужностью.
Когда продармейцы стали, пришлепывая лопатами, ровнять холмик, на кладбище появились Матвей Захарович и дед Егор. Они несли тяжелый железный крест, склепанный из широких полос, на концах его были приварены завитушки из гнутой проволоки. Они установили крест в изголовье, вогнали его в рыхлую землю и закрепили. Дед, увидев Сибирцева, подсунулся к нему.
— Тама Матвейка-та исделал все, Михал Ляксаныч, — согнувшись, тонко прошептал он. — И написал, что-де с миром покоица Елена Ляксевна и сын ейнай Яшенька. А я, милай, никому, окромя Матвейки, не сказал про него-та, ни-ни. А пошто? Ей-то Машеньке-голубице, тады всю жизню хрест от людей нести… И-эх! Хоть и бяду они исделали, ей-та пошто?..
— Правильно, Егор Федосеевич, — сказал Сибирцев вставая. — Видишь, как все получилось-то? И не спасла твоя Варвара-великомученица.
— И-эх, милай друг! — махнул рукой дед. — Варвара-то сама, вишь ты, в огне сгорела. А ить светлой души была, красавица…
— Пойдем, Егор Федосеевич, может, найдем чем помянуть.
Машу вел под руку дед Егор. Кузнец пожал руку Сибирцеву, кивнул и молча ушел. Ушли, закончив дело, и продармейцы с Малышевым. Сибирцев еще постоял у ограды, окинул взглядом многочисленную родню Сивачевых, вздохнул и отправился следом.
Возле церкви встретили Ныркова. Он подошел и, сняв фуражку, вытер лысину клетчатым платком, неловко сунул его в карман.
— Мария Григорьевна, — сказал он, глядя на Сибирцева, — мы с Мишей… с Михаилом Александровичем считаем, что вам надо бы ехать с нами. Зачем вам тут оставаться? А там у нас и дело найдется, и вообще…
— Да… — подтвердил Сибирцев и закашлялся. — Разумеется, надо ехать Маше.
Она долгим немигающим взглядом посмотрела Сибирцеву в глаза и опустила голову.
— Спасибо, я подумаю.
— Подумайте, ага, — заторопился Нырков. — Скоро и тронемся. Вот закончим дела и поедем. Нынче и поедем. — Он ободряюще кивнул Сибирцеву и надел фуражку. — Я заеду за вами.
— Постой, Илья, еще два слова. Извините, Машенька… — Он отошел с Нырковым в сторону. — Как же это у тебя с попом-то получилось? Как не уследил?
— Ей-богу, Миша, хоть убей, не пойму, — виновато забормотал Илья. — И охрану приставил, и глаз не спускать велел… Подозреваю, что это твой дедка помог ему. Век себе не прощу, такую птицу упустил.
— Ну тогда слушай, Илья. Что прошляпили, то прошляпили. Но ведь Маркел-то существует. Как полагаешь, не следует ли мне теперь прямо к нему податься? Мол, еле ноги унес, а? Поп с ним наверняка обо мне говорил. Самого уже нет. Может, воспользоваться случаем, а?
— Тебе бы в себя сейчас прийти, Миша…
— А Машеньку ты возьмешь с собой. Это правильно.
Сибирцев вернулся и, взяв Машу под руку, почувствовал, как она вздрогнула.
— Машенька, — сказал он после долгой паузы, глядя себе под ноги, — я хочу вам сказать… — Он замолчал.
— Я долго думала, Михаил Александрович, — заговорила она, — последние дни я только и делала, что думала, думала, думала… Я никогда столько не думала, сколько… вчера. И я должна, обязана вам сказать, Михаил Александрович, что никогда в жизни понимаете, никогда не напомню… об этой ночи… И еще… Мне стыдно говорить, но я, Михаил Александрович… Я вас люблю…
— Машенька… — Сибирцев ошарашенно остановился.
— А сейчас мне очень хочется плакать, Михаил Александрович… — и она прижалась лбом к его груди.
Мимо прошли две старухи, видно, тоже с кладбища.
— Так снесли-та кого, Катярина, ась?
— Я ж те баила: Сивачеву, оттеля, с усадьбы. И сынка ейнова.
— А че с им-та?
— Вроде бы ранетай, болел усе, болел, да, видать, и помер.
— Ну тады прими их души…
— Истин так.
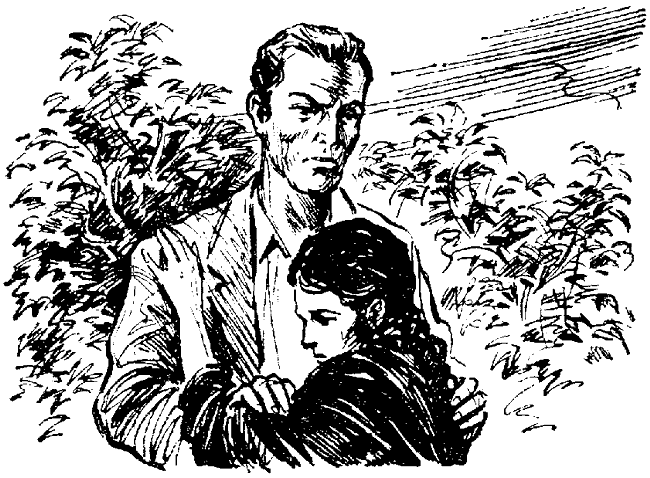
Димитр ПЕЕВ
АБЕРАЦИО ИКТУС[3]

Говорят, что все мертвецы похожи друг на друга: тихие, кроткие, одним словом, покойники. И самое главное — уже безвредные. Но это не совсем так. Подполковник Антонов достаточно видел трупов и убедился, что люди и после смерти так же непохожи, как и при жизни. И не только внешне. Лица, обезображенные прикосновением смерти, и лица людей, заснувших как бы в сладком сне, охваченные едва ли не умилением. Да, кроткие и добрые, уходя из жизни, выглядят примиренными со своей судьбой, а злые делают последние отчаянные попытки отомстить миру даже после того, как потеряли всякую возможность пакостить людям.
Эта женщина явно не была доброй при жизни. А то, что она выглядела красавицей, только подчеркивало в ней какой-то разительный контраст. В самом деле, красивой внешности должна соответствовать и благородная душевность. Ее светло-синие глаза, вероятно, и при жизни были холодными. Застывшие, сейчас они светились, как осколки синеватого льда. Искаженные в агонии черты ее лица походили на гримасу человека, ненавидящего весь мир, а руки конвульсивно стискивали горло, что наводило на мысль: когда уже не было кого душить, она в отчаянии вцепилась в собственное горло…
Антонов сидел на стуле у кровати и сосредоточенно смотрел в лицо умершей. Из опыта он знал, что с сегодняшнего дня и неизвестно на какое время его судьба будет странным образом переплетаться с судьбой этой русоволосой красавицы. Он задумчиво вглядывался в ее лицо, пока у него не мелькнула мысль, что борьба уже началась и что эти холодные глаза неминуемо победят. Он не выдержит их взгляда, отведет глаза в сторону. Она — уже никогда! Глупости. Сила мертвых заключена в том, что они уносят в могилу все свои тайны. Уж он-то хорошо знал, насколько это трудно, а порой и невозможно заполучить секреты мертвых.
Антонов встал и прошел в холл. В прихожей старшина все так же стоял навытяжку. Увидев его, подполковник с облегчением улыбнулся, но ничего не сказал и отправился выкурить сигарету на балкон. Да, только час тому назад он узнал о существовании этой Пенки Василевой Бедросян. Узнал, когда ее уже не было в живых. Что поделаешь, такова работа: знакомиться с погибшими, с убитыми…
Антонова вызвал начальник управления. У него уже находился полковник Бинев. Когда Антонов вошел, они замолчали, видимо, говорили о чем-то, что ему не положено было знать. Потом уже стало ясно и о чем они беседовали и почему его вызвали к двум начальникам сразу для получения такого, в общем-то, ординарного дела. Из городского управления Софии в оперативную группу направляли капитана Консулова, известного там как «трудный человек» и недавно строго наказанного за что-то лично самим министром Полковник Бинев не хотел его брать, а полковник Пиротский хорошо знал, что Антонов с удовольствием работает с Консуловым.
Впрочем, особого удовольствия Антонов не испытывал, хотя, несомненно, ценил его как хорошего и опытного криминалиста, а поэтому прощал крайнее оригинальничанье Консулова и его острый язык.
Кто-то настойчиво позвонил в дверь. Старшина открыл. В дверях возникла знакомая фигура капитана Консулова.
— Здравствуй, Крум, ты немного опоздал.
— Пока соберешь всех… Вы еще не начали?
— Что я могу один?
— Так… А где виновница нашего милого собрания?
Антонов кивнул в сторону спальни.
— Понимаю, понимаю, еще в своем будуаре. За работу, ребята!
«Ребята» были хорошо знакомы Антонову: доктор Теодоси Пырванов, пожилой судебный врач, которого все давно уже фамильярно называли бай Досю, высокий молодой мужчина — эксперт старший лейтенант Людмил Киров. Тот внес с собой большой следственный кофр, через плечо у него висела доверху набитая фотоаппаратурой тяжелая сумка.
Антонов считал, что люди, с которыми он работает, должны быть полностью информированы обо всех обстоятельствах дела, четко знать задачу, которую призваны решить. Поэтому еще до начала расследования он ввел всех в курс дела. Но того, что он услышал в управлении от полковника Бинева и что узнал из протокола дежурного наряда, было очень и очень мало. Итак…
Сегодня, к 13 часам дня дежурного по городскому управлению МВД известила некая Клеопатра Андонова, парикмахерша из косметического салона по бульвару Витоша, и сообщила, что ее коллега и приятельница Пепи Бедросян не явилась на работу. На вопрос, что дало ей повод для беспокойства, она ответила: вчера Пепи была совершенно здорова и не говорила о возможной неявке на работу. Это заставило Андонову во время обеденного перерыва пойти к Пепи домой. Звонила, стучала, звала… Даже пыталась открыть дверь своим ключом. Но в замке изнутри торчал другой ключ. Тогда она испугалась и позвонила в милицию.
Оперативный наряд, посланный на проверку, повторил все снова: звонили, стучали, пытались открыть дверь. Внутри действительно находился ключ. Осматривая квартиру с улицы, установили, что дверь балкона приоткрыта. Тогда оперативный работник перелез через соседний балкон в квартиру и открыл дверь. Он же первым обнаружил труп. В сущности, это было все, что Антонов мог рассказать своим коллегам.
Пора было начинать осмотр. Пока Киров снимал тело с разных ракурсов, они обошли квартиру — маленькую, уютную и полную дорогих вещей. Холл, будуар с двухспальной кроватью, на которой нашли тело, большая ванная комната, облицованная розовым кафелем, столовая с кухонным боксом, маленькая прихожая и балкон.
После фотографа трупом занялся врач. Доктор Пырванов быстро закончил осмотр.
— Никаких следов насилия, она умерла более двенадцати часов назад.
— Значит, вчера ночью. А причины смерти? — спросил Антонов.
— Причин много. После вскрытия…
— Доктор, — начал Консулов, — а что вы скажете о самом трупе?
— Труп как труп.
— Ты далеко не прав. Труп красавицы, а это уже много значит. Или для тебя это уже ничего не значит?
— Я, батенька, человек точной науки. Гаданиями не занимаюсь. Это я оставляю вам. Что нужно еще? Или вызывать машину?
— Вызывайте, — сказал Антонов. — Пока она приедет, мы и погадаем…
— Кто-то сидел около умершей, — кивнул Консулов, показывая на стул в изголовье женщины.
— Знаю, — ответил Антонов. — Даже могу сказать, кто именно.
— Я догадался, ты. А вообще-то, где был стул?
— В прихожей. Сейчас восстановлю ситуацию.
Антонов отнес стул на его место и вернулся в спальню.
— Э, старик, а откуда мы должны начинать, когда ничего не знаем? Даже отчего она умерла. На что смотреть, что искать?
— Ты предлагаешь, чтобы мы ушли, а после вскрытия завершили осмотр?
— Упаси бог! Впрочем, если ты это предлагаешь…
— Я предлагаю, чтобы мы воспользовались редким шансом, поскольку ничего не знаем, и провели бы осмотр без предварительных выводов и без предубеждений.
— Тогда садись и пиши, иначе бай Досю каждый момент может вернуться со своими белыми львами в халатах.
Двухспальное семейное ложе было накрыто плотным темно-красным шелковым покрывалом, отороченным бахромой. На его блестящем фоне ярко выделялись совсем русые рассыпанные пряди волос умершей. Светло-желтая, сверкающе чистая и только что выглаженная кофточка, скрывавшая высокую грудь, и зеленая шерстяная мини-юбка, под которой очерчивалось крутое бедро, дополняли цветовую симфонию.
— Прямо для цветных съемок, — присвистнул Консулов.
— Я снимал на цветную пленку, — отозвался из холла лейтенант Киров.
— Молодец ты, Бисер Киров! Знал, что делал…
И они долго еще разглядывали труп женщины. Можно было подумать, что они просто любуются ею.
— Эй, Крум, что ты на это скажешь?
— Как из футляра вынули. Совсем не случайная работа. Мадам, видимо, кого-то ждала или принимала… В таком виде она и ужинала. Посмотри в холле, на столике, какова закусь. Да и помада у нее на губах совсем съедена. А ужин был приготовлен на кухне. А лак? Совсем недавно положен… Нет, когда она вернулась, то сразу же занялась хозяйством. После этого привела себя в порядок. Спроси — зачем?
— Допустим. — Антонов и сам считал, что одежда и весь вид умершей говорили: она была не одна или ждала гостей. Но когда другой человек высказывал его мысли, он не упускал возможности покритиковать их как бы со стороны. — Только здесь никаких признаков присутствия посторонних. И столик сервирован на одного человека.
— Эй, Бисер Киров, — позвал Консулов. — Иди-ка сюда, спой нам какой-нибудь из своих знаменитых шлягеров.
В дверях появился старший лейтенант Киров.
— Я много раз напоминал вам, товарищ капитан, — он явно подчеркнул слово «капитан», — меня зовут Людмил, и я не хочу иметь другого имени.
[4]
— Ну, хорошо, хорошо, на будущее я могу именовать тебя просто Кочо Мангаловым, лишь бы был мир.
[5] А сейчас, чтобы ты не сидел без дела, сними-ка отпечатки пальцев умершей и проверь, есть ли другие.
— По всей квартире?
— Мне ли тебя учить! Там, где ожидают гостей, остаются и другие отпечатки. И не жалей препарата, ищи!
Старший лейтенант открыл следственный чемодан, достал необходимые принадлежности и осторожно взял руку умершей. На миг он задержался, словно заколебавшись, а нужно ли пачкать эти изящные пальчики, которые, видимо, никогда не знали грубой домашней работы. Он еще не кончил, как появился врач с двумя санитарами в белых халатах и носилками. Когда труп унесли, Антонов почувствовал себя более свободно. Было как-то неприятно работать в чужом доме, где хозяйка лежит с застывшим взглядом, следя за тем, что делают здесь эти непрошеные гости.
Они продолжили утомительную работу по осмотру спальни. В комнате не нашлось никаких мужских вещей — ни одежды, ни обуви. Гардероб был буквально набит платьями, юбками, костюмами, блузками, плащами, нежным дамским бельем. Полки шкафа оказались также заполненными всевозможными женскими принадлежностями и различной «дамской мелочью».
— А этот муж Пепи, уж не предпочитал ли он женскую одежду? — пробормотал Консулов, разглядывая содержимое шкафа. — Почему нет брюк, обуви?
Антонов погрузился в изучение содержимого тумб, что стояли по обе стороны кровати. Правая была набита всевозможными принадлежностями для шитья. А на верхней полочке, кто знает почему, лежала коробочка со шприцем — 10 кубиков — и несколько запасных игл. Встречались нитки всех видов и расцветок, наперстки и бесчисленные пуговицы, сотни пуговиц… Антонов принялся изучать содержимое другого ящика. Это была настоящая аптека — начатые тюбики седалгина-нео, два использованных пакетика димедрола, целый туб алергозана, пустая упаковка от какого-то заграничного антикона, аспирин, пузырьки валерьянки и еще какие-то импортные лекарства.
— Вероятно, она страдала бессонницей, — заметил Антонов, разглядывая эту груду лекарств и классифицируя их.
Консулов тоже обратил внимание на характер аптечного набора:
— У некоторых дам есть обычай травиться этим, — он поднял пинцетом одну из упаковок западного препарата. — Что это такое?
— Как видишь, написано «антикон». Из ФРГ.
— Кажется, противозачаточное средство. Слышал где-то… И его уже использовали! Да, у такой красотки он явно не залеживался…
— О мертвых либо ничего, либо…
— А я разве ж сказал что-нибудь плохое? Комплимент. Интересно, почему она не выбросила пустую упаковку?
— Вероятно, ей нравилось это средство, и она хотела заказать еще. А может, не успела.
— Посмотри-ка, что здесь. — Консулов указал на столик перед зеркалом. — Целый косметический салон!
В самом деле, на зеркальном столике едва ли можно было найти свободное место. Духи, одеколоны, пудры, кремы и какие-то другие косметические принадлежности… И в огромном количестве — несколько десятков — флакончики с лаком для ногтей всех мыслимых и немыслимых цветов: от темно-коричневого, через бесконечные нюансы красного, лилового и зеленого до серебристого и бесцветного оттенков. Антонов и не подозревал, что в жизни может существовать столько расцветок одного лишь лака для ногтей.
— Если бы она была сороконожкой, то и тогда не смогла бы употребить весь свой лак для ногтей. Какова женская ненасытность! Слушай, старик, пока мы одни, — Консулов взял Антонова за локоть, — скажи, ты сам разыскал меня или меня к тебе направили, а?
— А важно ли это?
— Не хочешь говорить. Ясно…
— Ничего тебе не ясно. Если ты подозреваешь меня, то я тебе скажу: полковник Пиротский. Он не только предложил тебя, но и отстаивал твою кандидатуру… Только не заносись! Он тебе это поручил, поскольку ты ему симпатичен, а кроме того, тебя, как осла, позвали на свадьбу
[6]… Одним словом, ты известная личность!
— Лучше скажи по-хорошему — гонимая.
— Не будь мнителен. А то, что ты иногда пожинаешь плоды своей глупости, сам виноват. Привыкай к правилам игры…
— А ты к ним привык?
— В какой-то мере я их знаю и в любом случае спокойно играю… Давай-ка бросим сейчас административно-философские проблемы и посмотрим, что дальше делать.
— Погоди! Ты сказал — «отстаивал». Значит, кто-то был против?
— Ты многого хочешь. Я был против, ты доволен?
— Что-то не верится…
— Вот что я скажу: когда много знаешь, то… Кстати, почему ты величаешь лейтенанта Бисером Кировым? Ему же неприятно, он обижается на тебя.
— А что в этом обидного? Я желаю ему стать известным, как Бисер Киров, чтобы школьницы влюблялись в него пачками. А то сейчас он известен одним лишь мертвецам.
Антонов знал: Консулов готов спорить и теоретизировать до отвращения, и, чтобы положить конец его остротам, предложил начать осмотр холла.
Дорогой гарнитур, состоящий из канапе, двух раковин-кресел и двух стульчиков без спинок. Перед ними — длинный низкий стол с толстым черным стеклом, на котором был сервирован ужин из холодных закусок. У противоположной стены — музыкальный комбайн фирмы «Грюндиг»: радио, магнитофон, проигрыватель. Над ним — цветной телевизор «Филипс». У музыкального блока — стол с четырьмя высокими стульями. Рядом — застекленный буфет, начиненный всевозможными сервизами, бокалами и рюмками из хрусталя.
— А, Крум, как тебе это нравится?
— Интеллигентно и красиво жила рядовой товарищ парикмахер. Если продолжим поиски, наверняка чем-то запахнет…
— Что тут искать, и так все ясно. Гарнитур — из валютного, югославского изготовления. А на этой штучке для производства шума черным по белому ясно написано: «Грюндиг». И его не покупали в Центральном универмаге. Не будем говорить и о телевизорчике… Зато палас наш, отечественный, но дорогой. В общем, экономическая идиллия, так сказать, мирное сосуществование болгарских левов с презренной валютой…
Из кухни вернулся старший лейтенант.
— Ну как, Киров? — спросил Антонов.
— Ничего определенного не могу сказать, товарищ подполковник. Хаос следов — вероятно, все от покойной. Если требуется, то я их все проверю, но пока ничего подозрительного…
— Проверь, пожалуйста, и кнопку звонка. Учти, и ее подруга звонила, и наши тоже.
— А если она умерла от инфаркта? Зачем мы здесь ищем то, чего нет и в помине?
— Инфаркт в таком возрасте?
— Случается.
— Очень редко. Да и вид у нее совсем не как у сердечнобольной. Непохоже…
Пока они разговаривали. Консулов внимательно рассматривал стол. По тарелкам, ручкам вилок, ножа, ложки для раскладывания пищи, кругом проступали пятна от проявителя отпечатков, которым пользовался Киров. Но не на них смотрел Консулов.
— А что скажешь об ужине?
— Аппетитно. Ты не голоден?
— Три куска колбасы, один кусок «кайзера» и два ломтика ветчины, икра. Все.
— Тебе этого мало?
— Совсем мало, если представлю себе эту большую тарелку в ее первоначальном виде. Не допускаю, чтобы она была наполовину пустой. Здесь уместилось бы не менее полукилограмма мяса. Ты посмотри, сколько осталось икры. — Консулов театрально сглотнул слюну. — Нет, старина, здесь работали не менее двух человек! И притом серьезно. Посмотри-ка на ее изящные линии, она не могла одна справиться.
— Ты прав. Едва ли она так изысканно накрыла стол для себя одной. Разве что была влюблена в свою персону.
— Ну, до такой степени едва ли. Нет, здесь еще кто-то был…
— А тогда где его тарелка? — спросил Консулов.
— Темнеет. Не зажечь ли свет? — Киров потянулся к выключателю.
— Стоп! — почти крикнул Консулов.
— Я уже проверил выключатель. Снял отпечатки. Они размазаны напрочь.
— Не в этом дело. Кто погасил в квартире свет?
Они пришли днем, и никому в голову не пришло, что в квартире не горело ни одной лампы. А ведь события разворачивались здесь затемно, после ужина. Кто же погасил свет?
— Возможно, она — самоубийца, — предположил Антонов. — Она торжественно прощалась с жизнью, ужинала…
— В этом сосуде что-то было. — Консулов наклонился над высоким бокалом и со знанием дела втянул воздух носом. — Виски! А где бутылка? Не вижу.
— Она поужинала, приняла две пачки снотворного…
— Но и их нет.
— Потерпи. Найдем позже. Легла одетая. Элегантная. Хотела, чтобы ее нашли в таком виде. Это я могу понять. Но погасила свет, чтобы умереть в темноте. Хм-м…
— А пачки?
— Поищем после вскрытия. Если есть смысл…
— И все-таки я могу включить свет? — спросил Киров.
— Зажги. Я впишу в протокол, что свет был погашен, кроме… — Антонов принялся внимательно изучать протоколы дежурного наряда. — А может, они его погасили, когда пришли сюда после обеда? А в протоколе не отметили? Мелочи…
Осмотр остальных комнат занял еще несколько часов. Ничего, на что следовало бы обратить внимание, ничего подозрительного. Что можно предположить? Пока они действовали вслепую, не зная причин смерти. Конечно, нужно было расспросить свидетелей, поинтересоваться личной жизнью Пенки Бедросян, узнать, где находится ее супруг, и все такое.
Консулов как холостяк, у которого в запасе всегда оставалась масса свободного времени, предложил заскочить на обратном пути в салон, поговорить с ее коллегами или хотя бы обойти соседей. Приближалось время ужина. Соседки, которые обычно рассказывают гораздо больше, нежели знают, наверняка сейчас священнодействовали у плит. Жена Антонова тоже. Как только он представил себе ожидавший его ужин у телевизора, желание Антонова продолжать работу испарилось. Лучше не торопиться.
* * *
Открывая дверь квартиры, он уловил дразнящий запах жареного картофеля, и ему захотелось наесться от души.
— Это ты? — услышал он голос жены из кухни. — Я уже начала беспокоиться, что картошка остынет.
Антонов сунул ноги в домашние шлепанцы, ждавшие его за дверью, и вошел в спальню переодеться. Жена, «сливенская хозяйка», как ее называли и он сам, и его приятели, часто говорила ему: он ест больше, нежели следует, и поэтому толстеет с каждым днем. Готовила она действительно вкусно. Впрочем, не отрицая ее кулинарных способностей, он сознавал, что виноват сам — все приготовленное ею ему очень нравилось.
Антонов бочком проскользнул на кухню. Две тарелки с салом и колбасой, салат из сладкого перца, из свежей капусты, его любимая лютеница с сыром и луком были уже готовы. Он демонстративно несколько раз втянул носом запахи еды.
— Еще не вошел, а уже голоден, а? Подожди, не пришла Дора.
— Не перебарщивает ли она?
— Почему ты меня спрашиваешь об этом? Поговори с ней, чтобы она поняла: у нее есть отец…
— А Антон?
— Уткнулся носом в детектив вместо того, чтобы учить уроки. С ним тоже нелишне поговорить.
Украдкой схватив кусочек колбасы, он быстро вышел из кухни. Уютно устроился в кресле, взялся за газеты. Утренние выпуски Антонов успевал просматривать только вечером. Увлекшись новостями, он не заметил, как в комнату вошел сын.
— Отец, ты видел «Морли»?
— Кто этот Морли?
— Так называется пистолет Арчи Гудвина.
— Нет, Тони, это какой-то американский пистолет, я не знаю.
— А он хорош?
— Откуда мне знать, если я его в глаза не видел.
— А он лучше твоего?
— Я тебе уже говорил: моя работа делается не пистолетом, а головой.
— Но если Арчи начнет палить в тебя, что ты будешь делать со своим ТТ?
— Тогда и подумаю. Во-первых, в этом нет нужды; во-вторых, этот Арчи вымышленный герой; в-третьих, я уже пятнадцать лет работаю следователем, но мне ни разу не приходилось стрелять в кого бы то ни было; в-четвертых, замолчи, я хочу досмотреть газеты!
Ясно, сын читал роман Рекса Стаута «В дверь звонят». Естественно, в двенадцать лет можно увлекаться детективами, особенно когда отец работает в милиции. Вопреки протестам жены он не запрещал Антону читать литературу такого рода. Все равно это было бы бесполезно.
— Отец, а все известные детективы такие толстые?
— Откуда ты это взял? Напротив. Вспомни Шерлока Холмса. И Эркюль Пуаро — ветхий, сухой старик…
— А Ниро Вульф, самый умный из всех. И самый толстый. Почти как ты.
— Ну уж извини. Во-первых, я не толстый…
— А какой ты?
— Полный. В любом случае я не такой толстый, как он. Во-вторых, я не детектив, а следователь.
— А в чем разница? Вы же одинаково ловите преступников.
— Преступники не блохи, чтобы их ловить. Мы раскрываем преступления.
— Отец, а почему у нас нет частных детективов?
— А кому они нужны?
— Не знаю. Но это очень интересно.
— Интересно для них самих, а не для тех, кто им платит. Ты помнишь, сколько долларов отвалила ему эта миллионерша? Только авансом сто тысяч! А если обыкновенному человеку понадобится помощь частного детектива, чем он заплатит? Это привилегия богатых. А у нас для всех все одинаково.
— Как медицинская помощь! Ты мне скажи, почему во всем мире говорят «полиция», а у нас «милиция»? В чем разница?
— Не во всем мире говорят «полиция». В Советском Союзе и в некоторых других социалистических странах тоже «милиция».
— Да, но только у нас она называется «народная милиция». Почему? В Советском Союзе разве она не «народная»?
— Уф, — вздохнул Антонов. — И там, как у нас, и во всех других соцстранах — милиция, даже если она и называется «полиция», как в ГДР, служит народу и потому называется «народной». И вообще отстань от меня со своими бесконечными вопросами. Теперь я тебя начну спрашивать. Как ты подготовил уроки на завтра? Молчишь? Тогда иди и готовь их, а я дочитаю газету.
Но ему так и не удалось досмотреть новости дня — жена позвала к столу. Пока мыли руки, Тони продолжал сыпать вопросами: владеют ли, например, наши оперативники приемами дзюдо и самбо, умеют ли водить самолеты, а если в схватке один из ФБР и один наш, то кто кого победит, и так далее, и все в том же духе. Тони замолчал лишь на кухне, при матери он стеснялся задавать, как она считала, свои «глупые вопросы».
Большое блюдо с жареным картофелем было наполовину опустошено, когда послышался стук входной двери. Появилась Дора — красивая пятнадцатилетняя девочка.
— Добрый вечер, — сказала она и смущенно стала в дверях.
— Еще немного — и ты могла бы пожелать нам спокойной ночи. — Жена внимательно посмотрела на Дору, заметив на ее губах следы помады. Дочь поняла, на что смотрит мать, и покраснела.
— Садись ужинать. А когда Тони ляжет спать, мы серьезно поговорим насчет твоего поведения в последнее время.
* * *
Вопреки категорическому заявлению Консулова он не пришел в «восемь тридцать, ноль ноль секунд» в управление. А он был известен своей пунктуальностью, которой любой немец позавидовал бы.
Первым делом, войдя в своей кабинет, Антонов позвонил доктору Пырванову. Ворчливый эскулап сейчас держал в своих руках все нити следствия. Если это действительно инфаркт либо нечто подобное, то места для расследования, в общем-то, не оставалось. Пырванов обещал зайти сразу же, как только закончит анализы.
Но раньше появился Консулов, причем не один, а с каким-то молодым худощавым парнем с длинными волосами, по виду студентом, который, когда вошел, пугливо остановился у двери, даже забыв поздороваться.
— Как я знаю, один лишь настоящий Крум Консулов никогда не опаздывает, — встретил его Антонов чисто «по-консуловски».
— Прости, но виноват этот «пырле».
[7] Решил взять его с собой, чтобы он увидел свет, человека хотел сделать из него, а он куда-то запропастился. Едва я его нашел… Знакомься — наш новый помощник, Пенчо Хубавеньский. Каково имечко, а! Прямо для детективного романа
[8]… Нет, ты только подумай, едва вылупился из яйца, пороху не нюхал, крови не видел, а уже лейтенант. Ты ничего против не имеешь?
Вот так всегда, совсем в его стиле. Сперва приведет, а потом спрашивает разрешения. Что с ним поделаешь? Антонов встал и поздоровался с новичком. В этот момент появился доктор Пырванов с тоненькой папкой под мышкой.
— А, компания увеличилась. Кто этот молодой господин? Разве вы уже поймали убийцу?
— Лейтенант Пенчо Хубавеньский из городского управления, — смущенно пролепетал вконец оглушенный парень.
— Как звучит, а! Из городского управления МВД, — сказал Консулов. — А мы-то думали, из Федерального бюро расследований.
— Все ли готово, доктор? — прервал его Антонов.
— Тип-топ. С тебя причитается.
— За что причитается, не припомню.
— Яд!
— Причитается за то, что отравлена?
— Нет, за скорую и ювелирную работу бая Досю. Там все описано, но я перескажу вкратце и попроще. Она отравилась или была отравлена, В лаборатории идентифицировали некое ядовитое вещество — фосотион, то есть сравнительно редкий инсектицид, который уже почти не используется в хозяйстве из-за его большой токсичности. Это очень сильный ингибитор. Совсем малая доза, принятая внутрь, может привести к летальному исходу.
— Ого-го… началось! — вскричал Консулов.
— Разве ты что-то понял? Почему же кричишь?
— Как ты его назвал, доктор? — спросил Антонов.
— Фосотион, подполковник. Сожалею, но это название ты должен теперь запомнить.
— Еще что?
— Она ужинала перед тем, как отравиться. Немного ела, но, в общем-то, нормально. Ела то, что мы уже видели на столе: ветчина, колбаса, икра и другое. Приняла и алкоголь, правда, совсем немного… Между прочим, спиртное усиливает действие этого яда.
— Фосотион. Я о нем раньше никогда не слышал.
— Ничего удивительного. Это коммерческое название одного из многих ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, который ты мог раньше найти в любом колхозе, если бы захотел. Его химическое название — диэтил-нитрофенил-тиофосфат и так далее. Но от этого ты умнее не станешь.
— Значит, отравлена?
— Могу сказать, что она действительно приняла яд, а добровольно ли это сделала — устанавливать вам.
Консулов старательно изучал протокол экспертизы. Пырванов посмотрел на него, но ничего не сказал.
— Что еще, по-вашему, доктор, заслуживает внимания? — спросил Антонов. — Может, при осмотре трупа?
— Ничего особенного. Никаких следов насилия, синяков, царапин. Тело чистое…
— А каков характер алкоголя? Не виски ли? — спросил Консулов.
— Ты читай, читай. Не написано, значит, не смогли установить. С уверенностью можно утверждать, что это было не вино, не вермут, однако и не отечественная мастика. Что-то похожее на ракию или водку, но, может быть, и виски. Едва ли она выпила больше ста граммов…
— А что скажешь о времени наступления смерти?
— В протоколе записано: смерть наступила между восемнадцатью и двадцатью часами в ночь на двадцать второе. Но это следует лишь из данных осмотра и вскрытия. Если же учесть все сопутствующие обстоятельства и полную картину случая, я бы уточнил: между двадцатью и двадцатью двумя часами. Она вернулась домой, накрыла на стол, поужинала и приняла яд. Судя по степени развития пищеварительных процессов, смерть наступила вскоре после ужина.
— Что значит «вскоре»? Минуты, часы?
— Скажем, до получаса.
— Это уже что-то. Но после ужина, а не во время ужина, так ли я тебя понял?
— Я так не говорю. Может, в самом конце ужина, но не в его начале. Этот яд действует быстро, а при достаточной дозе — минуту-другую. Может, она хорошо закусила напоследок, приготовила яд в бокале и…
Антонов посмотрел на Консулова. Тот кивнул:
— Ясно! И не только бокал. Он играет такую фатальную роль лишь в сценарии бая Досю, а в действительности никто толком не знает, как все выглядело на самом деле. Мы должны выяснить все о фосотионе, с чем его можно принять: с пищей или с питьем и так далее… Впрочем, доктор, только ли через рот?
— А ты откуда еще ждешь?
— Например, через уши. Встречалась в прошлом и такая практика. Слышал о Гамлете?
— Когда я играл Полония, ты, батенька, мочился еще в штаны.
— Значит, так, доктор. — Антонов вмешался, чтобы прекратить пререкания, которые могли бы еще долго продолжаться. Ни тот, ни другой, как заядлые спорщики, не любили отказываться от последнего слова. По отдельности Антонов терпел остроумничание и Консулова и Пырванова, но вместе — это уж слишком.
— Крум, что ты предлагаешь?
— Как в оперетте, я — на север, ты — на юг. Или я займусь биографией почившей в бозе, а ты напишешь ее некролог. А может, я пойду все же делать укладку волос в салон, где она работала? А там как дела покажут.
— Действуй. Но не забывай о Бедросяне, ее муже. Где он?
— Не беспокойся, разыщем. А с этим лохматым парнем что делать?
Молодой оперативник, которого привел Консулов, молча сидел на стуле и наблюдал за всем происходящим, как студент, ждущий вызова на экзамен.
— Товарищ лейтенант, поедете со мной. Проведем повторный осмотр места происшествия, поищем следы.
— Как прикажете, товарищ подполковник.
Как только Консулов ушел, Антонов оставил лейтенанта читать протоколы и отправился докладывать начальнику отдела. Полковник Бинев, выслушав его краткий отчет, связался с руководством НТО и получил согласие на подключение эксперта Станиловой. Наконец, когда Антонов уже собрался выходить из кабинета, он спросил:
— А этот, дикий петух, как себя держит?
— Нормально. Сейчас изучает биографию умершей. Из городского управления нам прислали молодого оперативника на стажировку…
— Хорошо. Только внимательнее. Они ошиблись, когда направляли его в группу, где Консулов. Тот научит его разным своим словечкам, жаргону, и парень подумает, что у нас все такие…
— Не беспокойтесь, товарищ полковник, я его взял к себе.
— Правильно.
* * *
Когда Антонов позвонил Станиловой, та уже все знала. Они договорились заехать за ней, и через десять минут Антонов вместе с Кировым и Хубавеньским уже были в лаборатории.
Печать на входной двери квартиры была не тронута. Супруг Пепи пока не объявился. Странно, что бы это могло значить? Вошли в холл. Сейчас уже можно было ставить перед экспертами конкретные задачи.
— Ваша цель, — обратился Антонов к Станиловой, — выяснить, с какой пищей или питьем она приняла яд в случае, если кто-то его туда положил. Это вариант убийства. Или же… в каком сосуде находился яд, если взять за основу версию о самоубийстве. В чем-то все-таки содержался он. Где сейчас этот сосуд?
— А вариант случайности исключен? — спросила Станилова.
— Нет, хотя я считаю это маловероятным. В противном случае ваша задача была бы намного проще.
Станилова принялась медленно и внимательно осматривать обстановку квартиры, будто пришла покупать что-то из вещей покойной. Задача Кирова была тоже предельно ясна — он должен работать, так сказать, над вариантом «убийства», еще раз поискать следы возможного присутствия постороннего в квартире. Незанятым оставался только стажер-оперативник. Что с ним делать? Дать ему какую-либо самостоятельную задачу? Но какую?
— Товарищ лейтенант, я пошел к соседям выяснить, что они слышали, видели, что знают. В общем, послушаю их сплетни. Иногда и в нашей работе от них есть польза. А вы подождите.
— А что я буду делать?
— Как что? То, что и все мы делаем. Смотрите, думайте. Представьте себе, что дело поручили вам одному… Когда вернусь, расскажите мне, до чего додумались.
На этаже находилось всего пять квартир. Антонов обошел их все. Его встречали или сдержанно, или гостеприимно, но никто не мог рассказать чего-либо полезного для следствия. Люди уже привыкли жить хоть и рядом друг с другом, но отчужденно.
Когда он позвонил в квартиру, кто-то, прежде чем открыть дверь, внимательно посмотрел через глазок. Оказалось, Хубавеньский. Киров снова действовал на кухне, Станилова продолжала осматривать шкафчики и кровать. Вместе с Хубавеньским они вышли на балкон покурить.
— Что-нибудь придумали?
— Увы, нет, товарищ подполковник. Я старался, смотрел, но, кажется, ничего путного не обнаружил.
— Да-а… Не отчаивайтесь. Только в романах детективы легко работают. У нас, как и повсюду, самое главное — труд, кротовый труд, каждодневный и старательный. Хотя… есть и своя специфика. Пойдемте в холл, я покажу вам кое-что.
Это «кое-что» он заметил еще вчера вечером, а сейчас хотел продемонстрировать своему молодому коллеге.
— Вы сказали, что все осмотрели. А мастерство не в осмотрении, а в умении видеть мелочи. Взгляните внимательнее на этот стол и скажите мне, какое впечатление он на вас производит.
Хубавеньский напряженно всматривался в стол. Его взгляд перескакивал с предмета на предмет, но явно ничего подозрительного не находил.
— Я вам помогу. Что, кроме пищи и питья, было на столе?
— Есть ваза с цветами, две чистые пепельницы, две пачки «Стюардессы», позолоченная газовая зажигалка…
— Горячо!
Хубавеньский удивленно посмотрел на него.
— Я хочу сказать, как в детской игре, — вы близки к цели.
— Отпечатки пальцев на зажигалке…
— Холодно. Это уже сделано. Пепи их оставила. Других нет.
— Тогда?
Хубавеньский продолжал беспомощно смотреть на стол.
— А… букет. Может, «он» его принес?
— Холодно! Может быть, но что из того? На цветах отпечатки не остаются. Да и… в холле есть еще две вазы с цветами. Ясно, что «он» не приносил сюда трех букетов. Значит, она сама их покупала, возможно, она любила цветы…
— Что вы здесь говорите о цветах? — спросила Станилова.
— Я поставил криминологическую задачу нашему коллеге.
— Интересно. Могу ли я участвовать в ее решении?
— О, пожалуйста!
Она опустилась на канапе, достала пачку «ВТ» и закурила. Спичку бросила в пепельницу.
— Стоп! — Антонов осторожно взял спичку. — Вы мне портите задачу. Киров!
— Да, товарищ подполковник, — отозвался из кухни старший лейтенант.
— Пепельницы на столике проверены?
— Конечно. Обе. Они чистые, никаких следов.
— Благодарю. Сейчас уже можно. — Антонов бросил спичку в пепельницу.
— Мне ничего не понятно. Что за фокусы? — удивилась Станилова. — Интересно…
— И мне, товарищ подполковник, — добавил Хубавеньский, осмелевший оттого, что и опытный эксперт не догадывается, в чем дело.
— Не видите очевидного. Покойница была курящей — в ее сумке есть пачка «Стюардессы» и зажигалка. Тоже газовая и дорогая. Еще две пачки и зажигалка на столе. Все неначатые. Она пришла с работы, приготовила ужин, поела. Одна или, что более вероятно, с кем-то вместе. Пила спиртное. Вслед за этим отравилась или была отравлена. Но не курила… Обе пепельницы оказались чистыми, вымытыми, без каких-либо отпечатков. Вам это нравится? Мне — нет! Она что, в день смерти решила бросить курить?
— И вы из этого делаете вывод, — в глазах Хубавеньского загорелся огонек охотничьей собаки, почуявшей дичь, — что кто-то специально помыл их? Видимо, кто-то тоже курил, но не хотел оставлять следов, поэтому и стер отпечатки своих, а заодно и ее пальцев. Убийца?!
— Э-э-э… стоп! Я этого не говорил. В конце концов может оказаться, что по каким-то причинам она просто не успела закурить. Хотя это маловероятно… Но дело не в этом. Важно нам в и д е т ь факт, чтобы не пропустить его. А толкование… для него найдется. Оно придет в ходе расследования. А сейчас давайте послушаем эксперта Станилову.
— Что я могу сказать! Ничего не нашла.
— Люблю отрицательные результаты. Обычно они самые откровенные, самые красноречивые, Так что не стесняйтесь, высказывайтесь.
— Фосотион — коричневатый порошок почти без запаха и вкуса. Однако химически, как фосфорорганическое соединение, его очень легко обнаружить. Но ни в одном из возможных сосудов, в которых он мог бы храниться, я не нашла следов. То же самое и в еде и в бокале, из которого она пила.
— В какой упаковке поступал в продажу этот препарат?
— В железных банках по пяти килограммов, в порошке. Он растворяется в воде с органическими добавками, и им опрыскивают овощные и садовые растения.
— А коробки, пузырьки, конвертики вы проверили?
— Вы такие вопросы задаете! С них я и начала. Искала его и как порошок, и как раствор… Ничего. До сих пор я никогда не слышала о самоубийствах с помощью фосотиона. Несчастные случаи, отравления в деревнях — сколько хочешь… Поэтому его и запретили. А самоубийств — нет, не знаю.
— Хочу спросить вас не как химика, а как женщину. Скажите мне, если вы одна дома, а ваш супруг отбыл в командировку… Такая сервировка стола — скатерть, тарелки, приборы, количество и качество пищи, цветы — только для самой хозяйки или же для какого-то желанного гостя?
— Вы решили сегодня замучить меня, мягко говоря, не слишком деликатными вопросами. Вы сами же видите: стол накрыт как для любовника, перед которым она хотела показать себя в самом лучшем виде. Лично я так думаю… Совсем не для подруги!
— Киров, у вас что нового?
— В некоторых местах я нашел затертые следы, совсем негодные, причем они были тщательно сняты мокрым платком, вероятно, смоченным в одеколоне. Даже чувствуется легкий запах… А в шкафчике для посуды две верхние тарелки — большая и маленькая, как и эти на столике, — также без отпечатков, зато на всех других, под ними, они есть… от рук хозяйки.
— Ого! Вот это уже улика! Значит, кто-то сознательно их уничтожил, помыл тарелки и поставил на место, стараясь не делать отпечатков.
— Так подумал и я, товарищ подполковник. Это же относится и к последнему бокалу в буфете — такому же, что стоит на столе. Помыт, чист, без каких-либо отпечатков.
— Браво, Людмил!
— Кроме того, где бутылка, из которой наливали? Я ее что-то не вижу…
— Гость унес ее с собой, — возбужденно вставил Хубавеньский.
— Я еще не кончил… Осмотрел ящик под раковиной. Так вот, в нем среди мусора совсем не оказалось свежего пепла и окурков. Есть только старые, брошенные туда до ужина. Я обследовал пласт за пластом. Перед каждым ужином она всегда чистила пепельницы. Пепел с окурками располагается слоями, между остатками продуктов. Но на самом верху его нет.
— Она могла бросить окурки в унитаз.
— Прежде она почему-то стряхивала их в мусорный ящик…
— Я доволен. Очень доволен. Ты не нашел каких-либо чужих отпечатков?
— К сожалению, нет. Повсюду, где только можно, их тщательно стерли. Кто-то здесь поработал аккуратно и добросовестно.
* * *
Консулов явился чуть ли не к концу рабочего дня — идеально подстриженный, элегантный, даже надушенный. И явно довольный собой. Впрочем, это было его обычное состояние.
— Привет труженикам криминального фронта! Я принес вам поклон от византийского императора.
Без подковырок и шуток, иногда чрезмерных, но всегда в границах дозволенного, он как-то не мог дышать, не мог жить без юмора и своих «консуловских» номеров.
— Где ты был целый день?
— А ты не видишь, что я как молодожен перед свадьбой? Таким человека могут сделать только в «Инститю дю боте»,
[9] что на бульваре Витоша. Сперва меня побрили. Для этого я специально утром не брился. После этого подстригли, помыли голову. Хотел сделать массаж, однако номер не прошел. Мужчинам массаж не делают… В общем, снискал незавидную репутацию — на меня почему-то стали смотреть подозрительно. Это на меня-то, на стопроцентного мужчину! Ты должен знать, старик, это не люди, а какие-то звери и зверихи. Они подстригают как на конвейере. Остается ощущение, что ты всего лишь овца из стада, которое стригут. Смотрят не как на человека, а как на голову. Пришлось делать маникюр. Видишь?!
Консулов показал руки. И в самом деле, его ногти были в идеальном порядке.
— Понимаешь, не было иного способа проникнуть в дамский салон, — добавил он, как бы извиняясь.
— Все это, я вижу, основательно украсило твой несравненный экстерьер, но чем обогатило твою бессмертную душу?
— Не беспокойся, старик, я напрасно не терял времени. Если бы моя совесть была более сговорчивой, я бы мог назвать стоимость всех этих косметических операций, чтобы включить их в служебный счет. Прежде всего я установил: этот «Инститю дю боте» представляет собой маленький оазис прошлого в нашей суровой социалистической действительности. Там какая-нибудь товарищ Мангалова превращается в мадам Пенку, там лазоревые русалки с белыми руками, осыпанными дорогими перстнями, перед твоими очами превращают простых трудящихся в неземных красавиц. А между русалками леший бродит. Один…
Консулов театрально выпятил грудь.
— Хорошо, что Пушкина нет рядом, чтобы услышал!
— Ну и что, на осовременивании классиков некоторые построили себе дачи… Первое мое открытие было, что Пенка Василева Бедросян, а попросту Пепи, — не парикмахерша, а рангом ниже — только маникюрша. Я сидел за ее столиком и касался коленками ее сменщицы. Поговорили. Чуть было не договорились встретиться вечером… Не было смысла — девушка пришла из другого салона, ничего не знает. Но с лешим я с удовольствием побеседовал. В маленькой комнате на дне салона.
— А кто этот «леший»?
— Как кто — заведующий сменой, шеф Панайот Велев, специалист по женской красоте. Иначе говоря, парикмахер. Сперва он не хотел обращать на меня внимания. Когда же понял, откуда я, стал чересчур услужливым. Предложил даже кофе с коньяком… По его словам, Пепи работала в салоне почти три года и только как маникюрша. Он был доволен ею, за исключением тех случаев, когда она опаздывала или уходила раньше положенного времени, а иногда и вообще не являлась на работу. Ей звонили много мужчин, а супруг был страшно ревнив — проверял каждый час по телефону, чем сильно отвлекал кассиршу. У них там телефон в кассе… Если верить его словам, Пепи была хорошей девушкой, но ее коллеги почему-то не могли ее терпеть. Ко всем она относилась ровно, но никого особенно не любила. У нее была только одна приятельница, парикмахерша Клеопатра Андонова. Их дружба была подозрительна, но больше этого он ничего не мог добавить. О ее связях тоже ничего не мог сказать, но допускал, что они «всякие»… В общем, должен я тебе сказать, этот Панайот Велев производит такое впечатление, что после разговора с ним появляется непреодолимое желание помыть руки лавандовым спиртом… С тонкой бороденкой, он производит вид персонажа, вытащенного из современной болгарской исторической пьесы. Похож на лукавого византийца, посланного императором, дабы обмануть храброго и благородного болгарского царя.
— Поэтому-то ты и принес нам поклон от византийского императора?
— Разумеется. Я его расспрашивал о том, что было за день до смерти Пепи. Он не хотел беспокоить милицию: видите ли, был убежден, что ничего плохого с ней не случилось. Он думал, что Пепи с кем-то уединилась и закрыла дверь изнутри. И до сих пор не верит, что это убийство… А ты чем похвастаешь?
Антонов подробно рассказал о повторном осмотре квартиры, о разговорах с соседями, затем подчеркнул:
— Сейчас есть одно обстоятельство, которое можно считать установленным. В квартире был кто-то, кто ушел после ее смерти. И не просто ушел, а сделал все возможное, чтобы ликвидировать следы своего присутствия. Если он глуп или же считает нас идиотами, то рассчитывает скрыть свой визит. Умный понял бы, что мы как раз по его действиям обо всем и догадаемся…
— А как с погашенным светом?
— И об этом я не забыл. Говорил со следователем оперативной группы, майором Поповым из пятого управления. Он даже обиделся, что мы могли допустить такое. Он категоричен. Когда вошли, никакого света не было… Это еще одна улика. Свет погасил неизвестный, когда уходил из дома. Неизвестный или неизвестная.
— Разве вы допускаете, что это была женщина? — спросил Хубавеньский.
— А почему бы и нет. Я даже сказал бы, что статистически яд — скорее женский способ убийства, хотя это не имеет никакого значения в данном случае.
— А сервировка стола?
— Вполне допустимо, что так можно накрыть стол как для мужчины, так и для женщины. Зависит не от пола, а от привычки или навыка того, кто сервирует, от его желания и настроения «показать себя».
— Правильно, — заметил Консулов. — А это значит, что на данном этапе — первый вопрос, на который мы должны получить ответ: кто был в гостях у Пепи? Ищите это лицо «икс»! Или… лица?
— Лицо было одно. Все характеризует почерк одного человека.
— Хорошо, принимаем, что было одно лицо. Но кто это может быть? — Консулов начал загибать пальцы. — Итак, первое — ревнивый супруг, который еще не вернулся откуда-то, куда он уехал. Второе — дежурный любовник. Третье — бывший любовник, вероятно, тоже ревнивец. Иди ищи ветра в поле! Четвертое — «приятельница», «заклятый друг мой». И пятое — кто-то, кого мы и в голове не держим. Как видите, богатый выбор клиентов!
— Богатый или бедный, но он нас ждет. Итак, из всех названных мы знаем только одного — супруга, а поэтому предлагаю начать с него… Обстановка в квартире меня несколько смущает. Не соответствует предполагаемым
доходам одной парикмахерши и одного телевизионного техника.
— Что ты знаешь о доходах телемастера, да и о ее тоже? — усмехнулся Консулов.
— И все-таки. Запомни мои слова: из этой роскоши что-то да вылезет…
Позвонили из проходной. Явилась гражданка Андонова, та самая подруга Пепи, которая и позвонила в милицию. Антонов распорядился пропустить ее.
Милиционер ввел женщину и ушел. Она остановилась в дверях, внимательно посмотрев на мужчин, и кивнула, ничего не говоря.
Антонов, как и многие другие, верил в свое первое впечатление от людей, но не следовал ему слепо. Он его проверял и был горд, когда наблюдение подтверждалось. Это случалось часто, хотя и не всегда. Сейчас он особенно отдавал себе отчет в том, насколько важно было «попасть в цель»: эта женщина могла бы стать главной свидетельницей, если бы захотела. Может быть, единственным источником информации. Вопрос заключался в том, захочет ли она разговаривать откровенно.
— Вы… — Антонов полистал записи, — товарищ Клеопатра Андонова? Прошу, пожалуйста, садитесь.
— По отцу Ставридис.
Почему она решила, что это нужно сказать? Или она считала, что в милиции должны непременно знать ее девичью фамилию, или была горда своим греческим происхождением? Как и своим типичным акцентам.
О женщинах говорят, что они или есть, или были красавицами. Что можно было сказать о ней? Через некоторое время, когда станут записывать ее данные, он узнает дату рождения, а сейчас было трудно определить: подумал, где-то около сорока. Красивая. Сильно гримированная (наверное, было что скрывать), белолицая, черноволосая красавица. Ее волосы были идеально уложены, в ушах сверкали тонкие золотые обручи. На руках он насчитал шесть золотых перстней. Прекрасно выглаженный вишневый костюм, совсем еще новый, наверное, привлекает внимание мужчин на улице. И женщин тоже… От нее пахло дорогими парижскими духами. Только желтые кончики пальцев говорили о ее профессии. Она так всегда одевается или же сделала это ради них? Едва ли. Да, это была женщина, которая, несомненно, нравилась многим… Только ее глаза — темно-коричневые, теплые — сейчас смотрели холодно и отчужденно. Глаза женщины, видевшей много в жизни. Действительно, с ней будет нелегко!
— Мой коллега пригласил вас сюда, чтобы мы могли поговорить спокойно. Не буду скрывать, мы очень рассчитываем на вас.
Антонов помолчал, следя за ее реакцией, но женщина не воспользовалась паузой и продолжала молча смотреть ему в глаза.
— Что вас заставило позвонить в милицию? Были ли какие-то основания у вас для тревоги?
— Я посла, потому цто подумала, цто с Пепи цто-то слуцилось. Мозет, сломала ногу. Потом разволновалась, когда увидела, цто клюц в дверях. Знацит, дома. И не отвецает…
— Значит, только поэтому?
— Только поэтому.
— Значит, не было ничего, что могло бы вызвать ваше беспокойство за Пепи?
— Ницего.
— А почему она покончила с собой?
— Поконцила?! Не мозет быть. Пепи обыцно радовалась зизни. Она была не такой целовек. Она не поконцила с собой!
— Допустим. Тогда… остается одно: ее убили.
Консулов смотрел и слушал, не вмешиваясь в разговор, но в его глазах Антонов прочел какое-то неодобрение по поводу ведения разговора. Хубавеньский уставился на свидетельницу, явно любуясь ею.
— Скажите, знаете ли вы кого, кто бы ненавидел вашу подругу и имел основания свести с ней счеты или желал ее смерти?
— Такого целовека я не знаю.
— Вы хотите, чтобы мы нашли убийцу?
— Хоцу, конецно, хоцу!
— Тогда вы должны рассказать нам все, что вы знаете о ней.
— А разве она убита? Вы зе сказали, цто она поконцила с собой…
— Слушайте, Клео, так вас, кажется, называют в салоне? — вмешался Консулов. — Вы бывали в гостях у Пепи?
— Много раз. И она у меня.
— Сейчас меня интересует, когда вы были у нее в последний раз. Что вы делали в понедельник двадцать первого, когда ушли с работы? И подробнее, ничего не пропускайте!
Клео посмотрела на Антонова, как бы ожидая от него подтверждения, отвечать ли ей на этот вопрос.
— Он миня обизает. Поцему он спрасивает об этом?
— Ничего обидного в этом не вижу. Отвечайте.
— Хоросо. Я была у Пепи месяц или более того назад.
— А где вы были в понедельник вечером? — снова вмешался Консулов. — Почему уходите от ответа?
— У одной своей приятельницы в хостях.
— Ее имя? Расскажите поподробнее, что вы делали в понедельник.
Вопросы Консулова были вполне законными, но стало ясно, что они ничего не дадут следствию. Сомнений в том, что Клео в тот вечер не навещала Пепи, не было. Тогда почему так настойчиво Консулов спрашивал ее об этом? Единственный смысл заключался, видимо, в том, чтобы внушить ей, что и она может находиться под подозрением. Это могло бы вывести ее из себя, и у нее развязался бы язык. А в том, что язык у Клео длинный и что ей есть о чем рассказать, сомневаться не приходилось…
Разговор закончился тем полуобещанием, полупредупреждением, смысл которого сводился к одному: им вскоре вновь придется встретиться.
— Так всегда получается, когда ничего не знаешь, — заключил Антонов, когда Клео вышла.
— Ницего, ницего, она нам все сказет.
— Крум, не остри, пожалуйста. Сейчас нужно идти к полковнику. Пора докладывать…
— Мне обязательно присутствовать?
— И тебе и Хубавеньскому. Чтобы и вас видели в деле.
— У полковника, полагаю, нет никакого желания видеть меня, а у меня и подавно.
— Это не имеет никакого значения. Ты сам будешь по делам службы, а не в гостях.
Начальник отдела, полковник Кынчо Бинев, так называемый «маленький полковник», в отличие от «большого полковника» — начальника управления Пиротского, — а также из-за своего более чем скромного роста не пользовался особыми симпатиями у подчиненных. Чрезмерно строгий и взыскательный, часто грубый, он никому не прощал ошибок и строго наказывал за все, даже пустячные, провинности. Он сам себя хвалил: «От меня поблажки не жди! Когда я выйду на пенсию, тогда и буду расходовать свою доброту, накопленную за тридцать лет службы в органах». Очевидно, доброту он считал лишним качеством в своей работе…
Антонов представил своих коллег. Бинев предложил всем сесть, не сделав ни одного из своих привычных замечаний. Антонов докладывал только факты и закончил рассказом о беседе с Клеопатрой Андоновой, откровенно признав, что разговор с ней ничего ценного для следствия не дал и что, может быть, он является залогом надежды на будущее, когда им вновь придется встретиться с ней.
— Это все?
— Все, товарищ полковник. Фактический материал еще так беден, чтобы строить какие-нибудь гипотезы…
— Правильно, хотя по вашим глазам и по глазам этой молодой девушки я вижу: ваши головы полны идей.
— Бензин ваш, идеи наши, — не удержался Консулов.
— Какой бензин? Почему ты вмешиваешься, когда тебя не спрашивают? И все-таки я могу сделать два вывода. И без вас! Ясно как день, что кто-то еще был в квартире во время смерти этой… Пепи. Кто-то, который предпочитает, чтобы мы его не узнали. Отсюда следует: первая ваша задача — установить, кто это. Тогда мы сможем разговаривать смелее и, самое главное, быстрее. Уже и так потеряно два дня… Второй вывод — ваши факты, которых вообще нет. Что стоит за этой Пенкой Бедросян, за ее жизнью, окружением и так далее? Факты, факты и снова факты. И прежде всего ее муж. Найдите его! Может быть, он убежал за границу. Убил и убежал.
— Интересная гипотеза, — отметил Консулов.
— Слушай, Консулов, здесь говорят только тогда, когда я спрашиваю, запомни это! А сейчас вы свободны!
Они еще не закрыли дверь, как Консулов сказал:
— Ну что за сучок?
Хорошо, что он этого не ляпнул в кабинете. И все-таки неловко как-то перед Хубавеньским, ведь совсем новый человек…
— Ты не прав, Крум. Винев не сучок, а ты не должен был вмешиваться в разговор. И насчет бензина это было лишнее: он явно не читал «Золотого теленка»…
— Не могу же я оставаться безразличным к проявлениям глупости.
— Бинев не сказал ничего глупого. Ты сам в этом убедишься, он совсем не глупый. Просто он сделан из другого теста. Его недостаток в том, что у него нет чувства юмора.
— Самое ценное качество джентльмена — это чувство юмора.
— Ну хорошо, примирись с тем, что Бинев не джентльмен. А с супругом Пепи действительно нам пора уже познакомиться… Здесь полковник прав.
* * *
Они поделили работу так: Консулов и Хубавеньский должны были изучать связи Пепи, начиная с ее личного дела (если такое имелось на работе) и кончая ее приятелями и приятельницами, родственниками. Параллельно они должны были найти источники, откуда она получала дорогие вещи, находившиеся в квартире. Сейчас попытаться выяснить самим, а если будет трудно, то и при помощи других отделов милиции.
Из морга уже позвонили — спрашивали, как поступить с покойницей. Никто до сих пор не являлся, чтобы забрать тело, поэтому необходимо было начать поиски родственников. И прежде всего мужа. Этим занялся сам Антонов. Странно было исчезновение Бедросяна в день или накануне смерти жены. Если он просто не подозревал, что случилось с супругой, это одно дело, а если он скрылся, сбежал? Но беспокоить пограничные власти было еще рано. Если же его разыскивать, чтобы только уведомить о смерти жены, это было бы слишком накладно…
Согласно справке адресной службы Дикран Таквор Бедросян был зарегистрирован в жилом районе «Молодость» вместе с Пепи. Естественно. Но кого можно найти из родственников Бедросяна, если его самого нет, а супруга мертва? Антонов открыл телефонный справочник. Фамилия была довольно редкой, и ее можно было попытаться разыскать. Бедросянов в книге было четверо. И второй явно имел отношение к тому, кого они искали, хотя он жил и по другому адресу — на улице Раковского. Это было либо случайное совпадение, либо удача. Видимо, нужно идти туда.
…В квартире на улице Раковского он нашел двоих стариков. Да, это были родители Дикрана Бедросяна. Но, кроме того, что в последнее время он жил у них и что в понедельник отправился на своей машине во Врачанский округ, ничего другого Антонов о нем узнать не смог.
* * *
На обратном пути, когда он возвращался, какая-то смутная мысль попыталась всплыть в его сознании. Но шум города, толкотня в автобусе и трамвае, не давали ей возможности проясниться. Только когда он отправился пешком к управлению, до него дошло, что смущало его. Отчужденность! Какое-то странное безразличие к судьбе этой женщины, отсутствие интереса к ее смерти.
Если кто-то умирает, особенно такая молодая и красивая женщина, вокруг сразу же возникает атмосфера сочувствия и переживания. Родные скорбят и плачут, знакомые интересуются и обсуждают. А сейчас? Даже супруг, и тот куда-то подевался, свекор и свекровь не знают, никто не потрудился предупредить их. Как будто все боятся впутаться в эту историю. Там, где она работала, тоже не чешутся. Даже некролога нет.
Войдя к себе в кабинет, Антонов принялся названивать, собирать сведения о Дикране Бедросяне. Дозвонился до районного отделения милиции, где жили его родители, попросил участкового зайти к нему. Заказал сведения из картотеки бюро судимости. Потом спустился в столовую пообедать.
К двум часам появились Консулов и Хубавеньский. Антонов рассказал им о своей встрече с родителями Бедросяна. Не ожидая приглашения, Консулов достал блокнот и доложил результаты их «утренних похождений».
— Первая приятная неожиданность была та, что данное парикмахерское учреждение бюрократически ничем не уступает остальным своим собратьям. В нем есть не только дверь с надписью «Личный состав», но и хранятся дела на каждого мастера ножниц. Так вот, наша красавица родилась в Плевене в одна тысяча девятьсот сорок девятом году.
Гимназию закончить не успела, зато спустя два года после того, как в шестьдесят шестом году переехала в столицу, ухитрилась в качестве дефицитного кадра заполучить софийскую прописку. А знаешь, ведь нашим людям иногда и пяти лет не хватает, чтобы их благословил софийский горсовет. Допускаю, что здесь, возможно, решающую роль сыграли сексуальные мотивы. К сожалению, ее книжнодокументированная биография заканчивается назначением в этот салон маникюршей. Отсюда — ни строки больше. Последний «документ» — рекомендация того самого, «византийца», Панайота Велева. Будто бы он ее «хорошо знал». В каком смысле? Но об этом нет письменных данных…
— Это все?
— Ну да. Это лишь постная увертюра. После мы с нашим молодым человеком разошлись в салоне вовсю. Клео не было, а ее коллеги оказались разговорчивее. Хотя и они ничего существенного не сказали. За исключением… Вот что сказал наш Хубавеньский: «У Пепи нет дома телефона. Единственный способ договориться о свидании с кем-либо — по телефону салона. А он имеется лишь в кабинете кассирши! Значит, она могла слышать, а если разговор был «особый», то и запомнить». Просто и элементарно, как все гениальное. Молодец наш Пенчо! И вот уже через полчаса после окончания работы мы вдвоем и любезно приглашенная нами кассирша сидели в «Бразилии» за чашечкой кофе с коньяком. Быстро нашли общий язык. От нее узнали, что в понедельник Пепи разговаривала по телефону только один раз. Спрашивал ее мужской голос. Разговор был коротким, но содержательным. Приблизительно так: «Да, это я», «Очень рада», «Может быть», «Да», «В семь», «Буду ждать», «Чао».
— Еще что-нибудь удалось узнать о человеке, который ей звонил?
— Старик, не будь алчным. Голос был знаком кассирше в том смысле, что он звонил уже не первый раз. Как ты понимаешь, он не называл ни своего имени, ни точного адреса.
— Я ее спросил, — пояснил Хубавеньский, — не говорил ли мужчина из автомата, то есть не слышала ли она характерного шума улицы, но она не вспомнила. Хотя какое это имеет значение?
— Значение, может, и имеет, и хорошо, что вы ее об этом спросили, — заметил Антонов.
— Вообще сегодня Пенчо проявил себя как мыслящий индивидуум, — добавил Консулов.
Воодушевленный похвалой, Хубавеньский продолжал:
— Из разговора, который нам передала кассирша, можно сделать вывод, что Пепи назначила свидание, видимо, со своим любовником, а не с супругом.
— Почему вы так думаете?
— Потому что вряд ли бы она сказала мужу «я очень рада»
— Смотри, такой молодой, еще не женат, а уже разбирается в семейных делах, — засмеялся Консулов.
— Согласен, это самая вероятная гипотеза, но совсем не исключено, что и супругу иногда она так отвечала. Теоретически возможно, но в данном случае вряд ли. — Антонов повернулся к Консулову: — Неужели никто в салоне не знал приятеля Пепи?
— Я расспрашивал. Не знают или не хотят говорить. Вся надежда на Клео. Нужно будет снова ее вызвать.
— Не слишком ли часто? Какова ее вина, мы не знаем. Какие вопросы ей можно задавать?
— Ничего! Она должна понять, что отделается от нас только тогда, когда скажет все. Если она хочет, чтобы мы ее больше не «таскали», пусть исповедуется как можно быстрее.
— Ты прав, до неизвестного мы можем добраться, вероятно, только через Клео. Но я не убежден, что нужно вызывать ее вторично. Может быть, ты найдешь подход поэффективнее?
— Только не требуй, чтобы я начал ухаживать за ней. Она стара для меня. Да и вообще… чтобы ты потом не сердился, если я вдруг заговорю с «греческим» акцентом.
* * *
На следующий день Антонов пришел на работу рано утром — нужно было подготовиться к допросу Бедросяна. Накануне, около половины шестого, позвонили из Врачанского окружного отделения милиции и попросили Антонова подождать — нужно было передать ему важное сообщение. Через час с ним говорил майор Костов. Он доложил, что лицо, которое их интересует, было замечено около Белого источника. До этого Бедросяна видели день-другой назад в Ботуне и Главаце. И там и там он останавливался у своих знакомых из деревни, а затем шел слух, что из Софии приехал большой мастер, который быстро и качественно чинит всякие телевизоры, радиоприемники, проигрыватели и магнитофоны. По всей видимости, он объезжал этот район не впервые, потому что здесь знали его как хорошего специалиста и клиентов хватало. В машине Бедросяна в достатке имелись запасные части, инструменты и тому подобное. Крестьяне были довольны его работой. Майор Костов хорошо понимал, что интерес следственного управления столицы к Бедросяну носит далеко не случайный характер, как говорится, «не к добру», и в подтексте своего доклада старался представить гастролирующего мастера в самом выгодном свете.
— Что, майор, может, он и ваш телевизор чинил? — задел его Антонов.
— Вовсе нет, товарищ подполковник. Он очень полезный человек. При медлительности наших мастерских, их беспомощности не вижу причин, почему нужно преследовать опытного мастера, который работает честно, помогает людям смотреть программы телевидения.
— Не беспокойтесь, дело, в связи с которым он нам необходим, не имеет ничего общего с телевидением.
Договорились, что завтра утром оперативный работник будет сопровождать Бедросяна до управления милиции, чтобы часам к девяти утра они были в Софии. Если Бедросян согласится, разумеется. Кроме того, майор Костов обещал установить и схему продвижения Бедросяна по их округу по дням и часам, особенно двадцать первого апреля, в понедельник…
Консулов вновь отправился в салон разузнать у Клео связи Пепи, «готовый на любые жертвы», как он выразился накануне вечером. Хубавеньский только бы мешал «их интимному разговору», поэтому лейтенант остался при Антонове вести протокол допроса.
Чуть позже, в девять утра, появился Бедросян в сопровождении оперативного работника. Антонов подписал тому командировку и сразу же освободил его.
…Бедросян оказался сорокапятилетним мужчиной с черными кудрявыми, начавшими седеть волосами, довольно небрежно одетым. У него был вид спокойного и добродушного человека, обеспокоенного внезапным вызовом в милицию Софии. Он явно ожидал объяснения причин задержания, но Антонов начал с того, что предупредил его об ответственности за дачу ложных показаний и приступил к процедуре допроса.
На вопрос «семейное положение» Бедросян ответил: «Разведен». Хубавеньский, прежде чем записать ответ, посмотрел на Антонова, будто ожидая разрешения. Это было лишним. По всей вероятности, Бедросян тоже заметил его колебания. Если подобные проявления эмоций повторятся, нужно будет поговорить с парнем. Впрочем, если они даже не повторятся. Раз тебе сказали «пиши», значит, этим и занимайся!
После официальной части Антонов не стал задавать вопросы, а замолчал. Вообще он больше любил слушать, чем говорить. И Бедросян поспешил воспользоваться паузой.
— А теперь я прошу объяснить, почему мне нужно было так внезапно возвращаться в Софию. И вообще, я под арестом или как?
— Вы, разумеется, не арестованы, и то, что наш работник сопровождал вас сюда, совсем не означает, что вас задержали. Вы же сами добровольно согласились прибыть к нам?
— Ну… добровольно, скажем.
— Как только мы закончим допрос, вы вольны вернуться назад, хотя вряд ли сделаете это…
— Почему?
— Когда закончим, сами поймете. А сейчас расскажите поподробнее, когда уехали из Софии, где были все эти дни и что делали?
— Я ничего преступного не сделал. Чинил людям телевизоры. Разве это преступление! Работаю качественно, более быстро, нежели эти жулики из местных мастерских, да и беру меньше. Что в этом преступного — обслуживать нуждающихся?! Кому я мешаю? Если бы я не работал лучше, меня никто бы не позвал. Не понимаю, почему вы ко мне прицепились?
— Вы где работаете, в каком месте?
— В телевизионной мастерской в Софии. Я — телемастер.
— А деревни объезжаете?..
— У меня с понедельника отпуск. Почему бы не подработать, получить лев-другой за черный труд в свободное время? Кому я мешаю? По встречному плану, так сказать…
— Не будем об этом спорить. А сейчас расскажите о том, о чем я вас спросил. Когда уехали, что делали, где были? Начнем с понедельника.
Бедросян посмотрел на Антонова с досадой, как смотрят на бюрократа, не разбирающегося в элементарных истинах, и нехотя начал рассказывать о том, как рано утром в понедельник отправился во Врачанский округ, как приехал туда к десяти часам утра, у кого остановился, куда его вызывали чинить телевизоры и радиоприемники. Рассказывал он спокойно, как человек, которому нечего скрывать, нечего бояться. Постепенно он даже оживился.
Конечно, все это Врачанское МВД потом проверит на месте. Но Антонову и так стало ясно, что Бедросян не лжет, что он действительно был там в день убийства. Он не тот человек, который звонил Пепи по телефону. Кассирша могла и не разобраться, из автомата звонили или нет, но уж наверняка бы запомнила междугородный телефон. По рассказу Бедросяна, он чинил телевизоры до поздней ночи, пока не закончилась телепрограмма. В это время Пепи была уже мертва. И об этом он пока не знает. А может, притворяется? Однако какое-то внутреннее чувство подсказывало Антонову, что Бедросян об этом действительно не знает.
— Нужно ли дать отчет, сколько левов я получил за сделанную работу? — с вызовом спросил Бедросян.
— Нет, меня это не интересует. Возможно, заинтересует налоговые органы. А сейчас продолжайте рассказывать подобным же образом о последующих днях…
В сущности, Антонова это уже не интересовало. Но пусть говорит. Они все проверят. Антонов уже знал, что его не обманывают, что не могут обманывать так примитивно. Не он был в понедельник вечером у Пепи, не он давал яд, не он заметал следы. А почему именно должен быть он? Только потому, что больше никого другого под рукой не оказалось? Ничего себе, хорош аргумент для следователя! Как бы там ни было, пора было переходить к неприятному моменту разговора, сообщить о смерти Пепи.
— Вы говорили, что разведены. Когда вас развели?
— Это ничего общего не имеет с моей поездкой. Почему вас интересуют мои семейные дела?
— Я вас спрашиваю не из праздного любопытства. Итак…
— Недавно. Решение суда вступило в силу с марта месяца.
— А почему?
— Что почему?
— Почему развелись? Спрашиваю о причинах развода.
— Не понимаю.
— Поймете.
— Не сошлись характерами. По взаимному согласию…
— А после развода? Каковы были ваши отношения с бывшей супругой?
— Вас и это интересует? Самыми наилучшими, мы остались друзьями.
Время настало. Игра становилась нечестной.
— У нее есть близкие родственники — отец, мать, братья, сестры?
— Нет, она совсем одна. Мать умерла несколько лет тому назад, а отец бросил, когда ей было год-два от роду. Ни он не интересовался дочерью, ни она им. Даже не знаю, жив ли он. Почему вы спрашиваете меня о Пепи?
— Потому что… раз вы остались после развода добрыми друзьями, вам полагается исполнить один последний, грустный долг по отношению к ней.
Бедросян посмотрел на Антонова застывшим взглядом. Побелел и стал быстро сглатывать слюну.
— Какой долг?
— Последний. Ваша бывшая супруга скончалась. В понедельник. Вам надо будет позаботиться о похоронах.
Бедросян наклонил голову, взялся за стул, будто боялся упасть, и замер. Потом резко выпрямился.
— Не может быть! — он почти кричал. — Она была совсем здоровой. Не может быть! Это правда?
— Успокойтесь. Хубавеньский, подайте стакан воды.
Бедросян одним глотком выпил воду и стал оглядываться по сторонам, будто искал что-то, что зачеркнуло или подтвердило бы слова Антонова. Наконец его взгляд остановился на нем. Глазами, полными слез, он посмотрел на него, как бы ища поддержки или вопрошая его. Нет, этот взрослый, черствый на вид мужчина, видимо, все еще любил Пепи… либо был хорошим актером. Но ему нужна было успокоиться, с ним следовало о многом поговорить. Именно для этого они и вызвали его сюда, в милицию, чтобы здесь он услышал известие о смерти Пепи… Прошло несколько минут, пока Бедросян пришел в себя.
— Как… отчего… умерла Пепи?
— Ее отравили на квартире, в понедельник вечером.
— Отравили? — Он снова опустил голову и задумался.
Прошло несколько минут. О чем думал Бедросян в этот момент? Может быть, он прикидывал, кто мог совершить это злое дело и зачем? Или же думал о чем-нибудь другом?
— Квартира! — неожиданно воскликнул он. — Что теперь будет с квартирой?
— Какая квартира?
— Та, в которой жила Пепи? Она моя.
— Ну и что из этого?
— Да, но я же записал квартиру на имя Пепи, чтобы сохранить жилую площадь. Это произошло, когда мы разводились. Да мы и развелись отчасти по этой причине. Чтобы осталась за нами квартира…
Ах вот в чем дело! Бывший любящий супруг прежде всего беспокоится о квартире. Увы, теперь ему придется расстаться с нею.
— Квартира на улице Раковского ваша?
— Нет, моего отца. Моя находится на бульваре Георгиева. Но я не живу там. Я сдаю ее «Балкантуристу».
Значит, так. Три квартиры. Может быть, в основе всего лежит «имущественный конфликт»? Возможно, какое-то неудовлетворенное требование этого коллекционера квартир? Нет, скорее всего наоборот. Ведь он должен был знать, что, убив Пепи, теряет одну из квартир. Наверняка это должно было сыграть роль тормоза! Интересно, кто же унаследует квартиру теперь? Может, «таинственный отец»? Стоило бы проверить и эту версию… Выходит, что Бедросян тоже заинтересован в раскрытии преступления. Стало быть, он наш союзник. Только потому, что убийца лишил его одной из квартир?
Бедросян продолжал молчать, терзаемый своими невеселыми мыслями — то ли смертью Пепи, то ли потерей квартиры.
— Как вы думаете, смогу я вернуть квартиру?
— Об этом вам следует поговорить с адвокатом. Меня больше интересуют обстоятельства смерти вашей бывшей супруги. Что бы вы могли рассказать нам по этому поводу? Знаете ли вы кого, кто бы хотел убрать ее?
— Что я могу знать?! Стала бы она мне об этом говорить.
— Может быть, она жаловалась вам на кого-то? Может быть, ее кто-нибудь запугивал?
— Да ни на что она не жаловалась. Она вообще не жаловалась никогда, скрипела зубами, но справлялась сама.
— Что вы знаете о ее родственниках и знакомых? О ее подругах — вы наверняка их знаете… ее приятелей.
— У нее не было подруг. Только Клео, парикмахерша, из салона, где работала Пепи. Но я ее не любил. Она плохо влияла на Пепи.
— В каком смысле?
— В каком… ну… настраивала ее против меня… учила ее делать то, что хочется… одним словом… плохая женщина.
— Послушайте, Бедросян, поговорим откровенно, по-мужски. Мы установили, что в понедельник вечером у Пепи был кто-то… скорее всего мужчина. Вы догадываетесь, кто это мог быть?
Бедросян вновь посмотрел на Антонова затуманенным взглядом, будто тот невзначай прикоснулся к больному месту. Возможно, он знал, а возможно, всего лишь подозревал. Ведь супруг всегда узнает последним…
— Не знаю, кто бы это мог быть. Вокруг нее крутилось столько всяких развратников. Она же была красавицей. Женой пожилого мужа! Да и я частенько выезжал из Софии… Был там один какой-то артист — Асен. А еще за ней увивался Мери — бездельник и хулиган. Да и Велев, ее начальник, не прочь был закрутить с ней. Слышал и о других…
— Знаете ли вы кого, с кем у нее сложились наиболее серьезные отношения?
— Да нет, она все больше флиртовала. Не расспрашивайте меня больше об этом, прошу вас. Лучше у Клео спросите!
— Я понимаю, как вам неприятен весь этот разговор, но войдите в мое положение. Нам нужно выявить все ее связи, без этого нельзя. Вы же сами заинтересованы в раскрытии преступления.
* * *
Из протокола, который вел Хубавеньский, и по заметкам, которые делал сам Антонов, была составлена примерная схема «любовников» Пепи. Было ясно, что в нее могут войти «невиновные» лица, которых Бедросян только подозревал, подозревал без всякого на то основания. Возможно, что многие «виноватые» могли не попасть в схему. Однако сейчас они располагали только этим. Таким образом, из девяти упомянутых человек только двое были доподлинно известны. Остальных Бедросян знал только понаслышке — профессии некоторых из них и места, где они появлялись. И всех их необходимо было найти, идентифицировать и установить, где они находились и что делали в вечер смерти Пепи. С теми же, у кого не оказалось бы алиби, нужно было поработать особо. Для этого необходимы были кадры, троим с заданием быстро не справиться… Прежде чем просить подмоги — хотя бы двух оперативных работников, — следовало дождаться возвращения Консулова, чтобы посоветоваться с ним.
Тот появился к пяти часам вечера, практически к концу рабочего дня. Потирая руки, сказал:
— Ну-с, а теперь посмотрим, что мы имеем!
Антонов пересказал ему содержание допроса Бедросяна, потом указал на «схему любовников». К ней, не смотря в свой блокнот, Консулов сделал ряд новых дополнений. Он явно уже разговаривал в салоне на эту тему и, судя по всему, с людьми, хорошо знавшими интимную жизнь Пепи. Так, артист Асен превратился в эстрадного певца по кличке Коко; «бездельник и хулиган» Мери оказался «мужественным красавцем без определенных занятий»; Велев остался Велевым; зато появилась еще одна фигура — художник из Центра новых товаров и моды, Чавдар Барев. Остальных «подозреваемых» Консулов отбросил как давно «отставленных» либо как «плод фантазии ревнивого армянина».
— Но есть еще один, наиболее интересный тип, — заметил Консулов. — Это, по всей вероятности, «голос, который позвонил», то есть человек, посетивший Пепи в день ее смерти.
— Кто это?
— Дело в том, что никто его не знает. Даже Клео. Это была «новая большая любовь» Пепи и ее тайна.
По таинственному тону, каким начал Консулов, было видно, что он все-таки успел кое-что разузнать и пришел не с пустыми руками. И так как Антонов не торопился задавать вопросы, Консулов начал рассказывать сам.
…Основным источником достоверной информации, как и следовало ожидать, оказалась Клео. Но разговор с ней сложился не сразу. Сначала пришлось напичкать ее сведениями об опасности, грозящей ей в случае сокрытия важных для следствия сведений, а потом разъяснить ценность информации о всех связях Пепи. Консулов для этого пригласил ее пообедать с ним вместе в ресторане Центрального универмага. И только за кофе Клео разболталась как положено. Она рассказала, что в последние несколько месяцев у Пепи появился «новый друг», «человек очень солидный», знакомство с которым могло привести к «неожиданным последствиям». На вопрос: «Под неожиданными последствиями можно ли понимать убийство?» — Клео ответила: «Нет, скорее всего брак». Конечно, первой задачей Консулова было выяснить: «Кто он такой?» Клео принялась уверять, что сама не знает и что в этот раз по непонятным причинам Пепи категорически отказалась назвать его имя. Она только сказала, что это «любитель баров Внешторга». У него есть жена и ребенок, из-за чего Пепи не хотела сообщать его имени. Обещала хранить их связь в глубокой тайне…
— А как ты знаешь, министерство внешней торговли не из малолюдных учреждений в Софии и «любителей баров» с женами и детьми там более чем достаточно… Больше мне ничего не удалось выпытать у нее. Пепи никогда не упоминала даже его имени, называя своего «друга» либо «мой торговец», либо просто «мой». Он часто ездил за границу, главным образом «по второму направлению», и привозил ей подарки. Так бы мы и расстались, если бы в последний момент, уже вставая, Клео не вспомнила, что она тоже получила подарок от этого «завсегдатая баров», хотя и через Пепи.
Консулов вытащил из кармана пиджака маленький коричневый блокнотик и положил его перед собой. Антонов взял его и начал пролистывать. Элегантная вещь — кожаная обложка, листы из хорошей рисовой бумаги. Все наименования и надписи были на греческом языке. В конце — место для телефонов. Там были записаны несколько номеров и имен на болгарском.
— Не смотри телефоны. Их писала Клео после того, как получила записную книжку.
— А что смотреть? Больше читать нечего.
— В том-то и дело! Несколько месяцев назад Пепи подарила блокнотик Клео. Объяснила, что ее приятель дал его для «подруги-гречанки». По всей видимости, она рассказала ему о Клео. Ну я и попросил одолжить мне этот блокнотик на несколько дней. Клео этого очень не хотела. Я обещал, что мы его «не конфискуем». Таким образом, «любитель баров Внешторга», слишком пекущийся о своем инкогнито, сильно подвел себя.
Антонов хотел что-то сказать, но Консулов жестом остановил его:
— Минуту! Маленький эксперимент учебно-дидактического характера. Пенчо, иди сюда, дорогой. Посмотри на это вещественное доказательство и скажи-ка нам, что оно может дать следствию.
Хубавеньский взял записную книжку и стал внимательно рассматривать ее.
— Для ясности я тебе скажу: первое, что я узнал в министерстве, — это то, что он рекламный блокнот греческой фирмы экспорта маслин «Захаридис и Захаридис» в Салониках. Мелкая фирма…
— На нем, возможно, остались отпечатки пальцев друга Пепи.
— Нет, блокнот был завернут в целлофан, и Клео выбросила обертку, поэтому то, что ты держишь в руках, трогала только она сама.
— Тогда… Надо изучить телефоны, записанные в нем.
— Но они Клео. Если тебя, конечно, интересуют ее связи…
Хубавеньский задумчиво листал записную книжку и удрученно молчал.
— Пенчо, Пенчо, забыл ты напутствие старого Петко Славейкова. Знаешь, что тот сказал своему достойному сыну, твоему тезке? Видно сразу, что ты не знаешь классиков. «Пенчо, читай! Пенчо не читает!».
[10] Но это было в прошлом веке. Модернизированный вариант должен звучать так: «Пенчо, думай! Пенчо не думает!»
— Но я думаю…
— Вижу, вижу, как ты думаешь. Вот этот товарищ в молодости как-то надумал вывесить в кабинете лозунг. Оригинальный, хотя и не совсем идейно выдержанный: «Нужно больше думать, и причем качественно!» Однако по некоторым тактическим соображениям лозунг так и не был написан и вывешен, но ты имей его в виду, пока работаешь с нами.
— Понял, — вскричал Хубавеньский, — нужно проверить, кому эта фирма дарила блокнотики!
— Браво, Пенчо, так держать! Эта же блестящая мысль пришла мне в голову сразу после того, как Клео показала блокнот. Она достаточно хорошо знает греческий и прочла мне первую страничку. Слава богу, сказал я себе, что этот блокнот не какого-нибудь там мирового концерна, тысячами раздающего подобные фирменные знаки, а принадлежит всего лишь скромной компании братьев Захаридисов в Салониках. Если бы мне пришлось встретиться с ними, я бы их просто расцеловал.
— Может быть, это отец и сын, — заметил Антонов.
— Пусть они будут даже двоюродными братьями, это не меняет сути дела… Как раз в два часа дня закончился наш обед, и я сразу же помчался в министерство внешней торговли. Быстро нашел нужного мне человека, который переправил меня куда следует. Там хорошо знали эту фирму. Ее представитель приезжал в Софию в конце февраля этого года. Переговоры прошли успешно, так что вскоре можно ожидать появления на прилавках зеленых греческих маслин… Пока все шло легко для меня. Сложности начались тогда, когда потребовалось установить, кому эта масличная фирма дарила свои блокнотики. И сколько их всего было подарено господином Захаридисом — один, два или же десять-двадцать?
— Может быть, он дарил их случайным людям, — подал голос Хубавеньский, — администратору гостиницы, горничной, человеку, сидевшему с ним за одним столом в ресторане, и другим…
— Может быть, но неинтересно. Не забывай, что блокнот Пепи подарил «завсегдатай баров из Внешторга»! Я сконцентрировал все свое внимание на известных «любителях баров» в министерстве. Встретился с начальником отдела, подписавшим договор с фирмой, товарищем Маневым. Человек он очень воспитанный, сдержанный, да и в возрасте, как бы тебе сказать, в общем в том, в котором вряд ли… Встреча с ним оказалась плодотворной. Он тоже получил блокнот, показал мне его. Тот лежал в ящике письменного стола. Переговоры непосредственно вел Петров, Калофер Петров. В меньшей степени в переговорах принимал участие и Генчо Генчев. Допускаю, что блокнот получила и секретарша отдела…
— Ты встречался с этими двоими?
— Да. Но сначала зашел в отдел кадров, просмотрел их дела. У Петрова блокнот оказался на месте. Другое дело Генчев. Он признался, что тоже получил такой же, но не смог найти у себя. Перерыл все ящички, вытащил более десятка разных блокнотов — и больших и маленьких. В конце концов пришел к выводу, что взял из него шариковую ручку, а сам блокнот — «зачем он мне на греческом» — наверняка выбросил. Вот какие дела… Так выглядит на данном этапе операция «Блокнот».
— Может быть, это Генчев? Ты с ним разговаривал, какое у тебя сложилось о нем впечатление? Меня интересует, может ли он быть убийцей Пепи…
— Вполне возможно.
— Это один из вариантов. Второй — Захаридис дал блокнот еще кому-нибудь, кого ты не знаешь.
— Смотри, Пенчо, и учись. Вместо похвал — упреки. Нет, с другими людьми в министерстве он не встречался. У них ведется точный учет, и они знают, кто и сколько раз встречался с господином Захаридисом.
Решили, что операцией «Блокнот» будет заниматься Консулов. Все трое было убеждены в том, что ее возможности исчерпаны еще далеко не полностью. Хубавеньскому же требовалось выехать во Врачанский округ, чтобы убедиться в алиби Бедросяна. Оно действительно выглядело «железным», но все-таки следствие не имело права основывать свое мнение только на одном доверии к «коллекционеру квартир». Антонов решил присутствовать на похоронах Пепи. Иногда на кладбище появляются фигуры, с которыми было бы полезно познакомиться поближе.
* * *
На следующий день утром Антонову пришлось помогать Бедросяну во время исполнения различных процедур, связанных с похоронами, — все-таки после развода тот юридически никем не приходился Пепи. Других же родственников, которые позаботились бы об этом, у покойной не было. Ходили в морг, в районный совет, в квартиру, где жила Пепи, на кладбище. Повсюду разъезжали на «Жигулях» Бедросяна. Обстановка была непринужденной, и Антонов воспользовался случаем для продолжения разговора о Пепи. Видно было, что тот любил и все еще любит Пепи, хотя жизнь с ней была для него совсем не легкой. Постепенно Бедросян расслабился и как будто забыл, что едет с подполковником милиции, стал рассказывать историю их брака.
…Они поженились в 1968 году. По любви, как он сказал. Вопреки большой разнице в возрасте Пепи нашла спокойную пристань, обставленный дом, внимательного и далеко не бедного супруга, потакающего всем ее капризам. Первый их ребенок родился мертвым. В 1970 году. Девочка. В 1972 году родился второй ребенок. На этот раз — мальчик. Какой-то урод, нежизнеспособный. Прожил всего неделю. Домой его так и не привезли. Было страшно смотреть… Пепи переживала все это очень тяжело — впадала то в истерику, то в меланхолию. Обвиняла его в том, что в нем причина неудачного рождения детей. Он пытался разубедить ее в этом — обычно деликатно, а иногда и довольно грубо… Может быть, она сама в этом виновата. Пепи твердо настаивала: причина в нем, она знает, у нее есть для этого веские доказательства. Правда, при этом не говорила, какие именно доказательства…
После этого, как выразился Бедросян, брак их распался. Она все больше и больше отходила от него, вела себя грубо и дерзко. Часто отсутствовала, они беспрерывно ссорились. Он настаивал на ребенке снова, умолял попробовать еще раз, но Пепи с ужасом отказывалась. Она боялась, что опять на свет родится урод. Все повторяла: «Это для меня божье наказание». Вопреки всему Дикран продолжал ее любить. Если бы не закон о гражданской собственности на квартиры, они бы до сих пор были бы женаты. Для «спасения» квартиры он и предложил ей развестись. «Пусть лучше квартира достанется Пепи, чем государство продаст ее за бесценок…» И все-таки о главном, что интересовало Антонова — о ее связях за последние месяцы, — Бедросян не мог сказать ничего определенного. Вновь упомянул о Мери, «этом разгильдяе», и так далее. Бедросян явно был убежден, что Пепи ему изменяла, но не хотел открыто этого признавать. Да и момент был неподходящий…
На похороны пришло мало людей, почти одни женщины, да и те из салона Пепи. Мужчин было трое — Бедросян, Велев, Антонов. Антонов находился в стороне и наблюдал, но не заметил ничего заслуживающего внимания. С черной вуалью на лице была лишь одна Клео. Это ей шло, подчеркивало возраст. К четырем часам все разошлись. В канцелярию кладбища позвонила секретарша отдела — Антонова спрашивал Консулов. Сказал, что ему необходимо срочно увидеться с ним, просил передать одно только слово «эврика». Что еще мог обнаружить Консулов, как не найти того, кто передал блокнот Пепи? Даже если ему это и удалось, то что это давало следствию? Кто «любитель баров из Внешторга»? Ну и что? Означает ли это, что именно он замешан в смерти Пепи, что он убийца?
Антонов нашел Консулова, оживленно болтавшего с секретаршей отдела. Он явно рассказывал ей что-то забавное, потому что смех Марии был слышен даже в коридоре. Хорошо еще, что он не привлек внимания полковника Бинева…
Как ни хотелось ему похвастаться своим открытием, Консулов тем не менее вполне по-консуловски «оставлял вкусное на десерт». Прежде всего он хотел выслушать, что установил сам Антонов, и терпеливо ждал, пока тот расскажет о похоронах.
— А я подвизался в министерстве, искал «наш блокнот», хотя он был у меня в кармане. Рассказывать, как искал, неинтересно. Первое, Генчев нашел свой — у себя дома, случайно. И этим круг замкнулся. Нужно было искать другого человека или…
— …Другой блокнот?
— Так точно, старик. Снова был у Калофера Петрова, и тот вспомнил, что получил, мол, два блокнота, а один из них отдал своему коллеге Сивкову. Я решил: или этот, или никто. Если и он вытащит такую же записную книжку, то наши дела плохи. Блокноты расползаются, как клопы, по всей Софии, попробуй их разыщи. Зашел к Сивкову. Но не тут-то было. Сивкова не оказалось на месте, уехал за границу. Тогда я зашел в отдел кадров, где меня уже знали, хотя особого восторга и не высказали. Установил, что его зовут Стоил Огнянов Сивков, СОС, значит. Тут что-то не так, сказал я себе. Особенно после того, как стало известно, что он женат и имеет одного ребенка. Рассматривал его фото в личном деле, ничего — с большими усами и бакенбардами. А как ты знаешь, вторичные половые признаки часто используются для привлечения внимания особ противоположного пола. Явно — покоритель женских сердец… Сверху его личного дела лежал приказ о его последней командировке. До Берлина и Айзенаха. Что-то в связи с запчастями для автомобилей «Вартбург». И что, ты думаешь, было написано в этом приказе?
«Откомандировать с 21 апреля сего года…» Как раз с 21 апреля, с нашего дня! Это мне решительно не понравилось. Будто нарочно. Если бы это было на прошлой неделе, хорошо. Я бы примирился с этим, даже если бы это было вчера… Но почему именно двадцать первого? Что за совпадение, это же железное алиби!.. Разговаривал с его коллегами, которые работают с ним в одной комнате. «Да, — сказали они, — Сивков уехал в понедельник после обеда в Берлин, а до обеда был в министерстве, готовил документацию по командировке». А меня что-то продолжает внутри беспокоить. Почему именно в этот день, почему?.. Нашел в справочнике его домашний телефон и позвонил из автомата. В трубке откликнулся детский голос, наверное, дочка. Не спрашивая, кто и почему ищет его, она объяснила: «Папы нет, уехал в Германию. Привезет оттуда большого берлинского мишку». — «А когда он уехал, девочка?» — «В понедельник». Вот и все. Тут-то я и зашел в тупик. В понедельник так в понедельник!
— Ну а дальше?
— Дальше сел в автобус, который уезжает с площади. Ты же меня знаешь, когда мне что-нибудь стукнет в голову, то, пока я это не сделаю, не успокоюсь. Еду в аэропорт и думаю: «Глупости! Отбыл человек — и все тут, как говорит Винни-Пух, а ты, Крум, разгуливаешь впустую». Но почему именно двадцать первого, этого-то я и не мог понять.
— Значит, ты из аэропорта кричал «эврика»! Я-то, грешным делом, подумал, из министерства…
— Точно. Этот СОС просто-напросто уехал во вторник, двадцать второго, с первым болгарским самолетом на Берлин. Для всех — на работе и дома — он, однако, отбыл в понедельник.
— За исключением одной только Пепи! Все-таки скажи, Крум, что тебя заставило рыться, сомневаться в очевидных фактах?
— Это несколько странное совпадение: хозяин блокнота, женат, имеет ребенка, из Внешторга, уехал в день убийства. Особенно последнее меня насторожило. Так называемые «очевидные факты» были, приказ — это же лист бумаги! Я знаю, сколько таких приказов не выполняется. А «свидетели» — их можно было обмануть, они же не видели собственными глазами, как он садился в самолет. Но списку пассажиров самолета я никак не могу не доверять…
— Ты изучал его личное дело. Что из себя представляет этот Сивков?
— Просмотрел… Тогда я еще не знал, что это за фрукт. Но это не беда, личное дело не убежит. Он экономист, 35 лет, работает в министерстве вот уже пять лет. Как будто все — и происхождение, и служебная характеристика — у него в порядке. Часто выезжает за границу, и вообще современный законченный внешторговский герой!
— Член партии?
— Естественно. С выездным паспортом в Европу, Азию и Африку. Будем надеяться, что он не воспользуется богатыми возможностями своего паспорта…
— Ты не сомневаешься, что он убил Пепи?
— А ты?
— Представь себе на минуту, что он опоздал на самолет в понедельник и сумел достать место на ближайший рейс, уже двадцать второго апреля.
— Старик, мы с тобой собрались не для того, чтобы обижать друг друга. Ты допускаешь, что я не проверил эту версию? В списках пассажиров ни одного из предшествующих рейсов на Берлин он не значился. Я же видел оторванный талон его билета. Выдан — о'кэй! — на двадцать второе…
— Тебе следовало бы проверить, кто купил ему билет и почему на это число, если командировка у него начинается двадцать первого.
— Я проверю, не беспокойся, все проверю. Только бы он… вернулся.
— Куда он денется?
— На нем убийство. И он успел выскользнуть невредимым. Найдется ли у него смелости вернуться обратно? Говоришь, куда он денется? Ну… а вдруг у него тетя в Бонне?
— Таких, с «тетями в Бонне», в это министерство не берут.
— Не знаю. Если у него нет тети, может, он сам найдет себе «дядю». «Мальчик» знаком с разными там «служебными материалами» и на первое время «устроится»… А потом — и Австралия сойдет, только бы не попасть нам в руки. Я имею в виду нас двоих…
— Неужели мы такие страшные?
— Не мы, а закон. Ему грозит от пятнадцати до двадцати лет тюрьмы… либо смерть!
— Ты как будто не очень любишь этих, из Внешторга?
— Здесь нужно судить по человеку. Одних можно любить, других… держи карман шире. Даже во Внешторге!
— Слушай, Крум, раз мы с тобой вдвоем, скажи мне, что это за история с твоим переходом в угрозыск, с понижением в звании? Наслышался я разных сплетен, хотел бы от тебя знать правду.
— Правда у меня на плечах — на месте одной звезды высыпали сразу четыре.
— Да, но маленькие.
— Ничего, переживу. И Конг Ле весь мир знал, пока он был капитаном. Повысили его до генерала — и ты что-нибудь о нем слышал? В общем… дело простое. Попался мне один гад, тоже внешторговский деятель из экспортного объединения. Продал «туда» информацию, и это нанесло государству ущерб в размере двести тысяч валютных левов. И думаешь, ради чего? Ради белого «мерседеса»? Ничего подобного! Ради одного японского приемника и шести пар дамских колготок! Во столько, скотина, оценил он наши национальные интересы. Когда я это услышал, не выдержал и дал ему по морде. Вот и все!
— А он пожаловался?
— И не подумал. Я сам доложил. Сразу же.
— Ты сам?
— Если ты удивляешься, значит, ты меня просто не знаешь. Я не мог иначе поступить. Его молчание могло бы показаться подкупом. Одним словом, я буду молчать, а ты… И во-вторых, он мог подумать, что мы все тут так… запросто избиваем! А если доложу… Мы не избиваем, это ЧП. И в-третьих, самое главное — я не подлец, как он, чтобы скрывать свои проступки. За любой «оригинальный принцип» нужно платить!
— Ты называешь это «принципом», — спросил Антонов, — причем оригинальным?
— А как бы ты поступил на моем месте?
— Точно так же, как и ты, только без «оригинальных принципов».
— Значит, ты не вкладываешь всю душу в нашу работу.
— Пардон! Не душу, а руки, хочешь сказать. И нужно заметить, что я одобряю наказание, которое на тебя наложили.
— Я его тоже одобряю. Но вместе с тем заявляю: если еще раз встречу подобного гада, с ним случится то же самое. Пока не кончатся звездочки на моих погонах.
— Ну ладно, не кипятись! Мне однажды, очень давно, один подследственный плюнул в лицо. Но я только умылся. Даже не стал его «топить». В заключение подчеркнул и все возможные смягчающие его вину обстоятельства. А такие были. Этим я ему показал разницу между нами.
— Ну, не все могут быть такими христосиками, как ты. Жизнь без щепотки соли становится безвкусной.
— Ладно, мы поняли друг друга — вы будете «соль земли», а в нас станут плевать… Сейчас же надо посмотреть, что нам делать с Сивковым. Ждать, пока он сам изволит вернуться, или же предпринять что-либо?
— Если еще не поздно!
* * *
Антонов отправился сам докладывать полковнику Биневу. Консулов идти не захотел, да и Антонов не настаивал. Ему было неприятно постоянно находиться между молотом и наковальней. А с Биневым он всегда находил общий язык.
Полковник выслушал его внимательно. И он, как и Консулов, не усомнился в том, что Сивков убийца. Поэтому решил: «Нечего с ним церемониться». Бинев сказал, что он сам позаботится о том, чтобы пограничники ГДР не позволили тому покинуть страну в «западном направлении», если он сделает такую попытку. Тогда можно отправлять его «по этапу» в Болгарию, а можно и дождаться возвращения. Полковник сказал, что он свяжется с нашим представительством «Балкан» в Берлине, дабы они уведомили их, когда Сивков сядет в самолет. «Из аэропорта — прямо к нам!» Антонов возразил, что более целесообразно позволить ему возвратиться самостоятельно и некоторое время понаблюдать за ним в Софии. Но Бинев был непреклонен. Он вообще любил действовать «прямолинейно и решительно». «Нечего за ним наблюдать, — ответил он на предложение Антонова, — забирайте его в аэропорту и сразу же, пока не опомнился, — на допрос. Так он сразу поймет, что нам уже известно все и отступать ему некуда, а затем и расколется», «Не так уж все нам и известно», — подумал Антонов, но спорить не стал. Полковник редко когда менял свое решение, а в данном случае оно, по его мнению, наверняка было самым правильным. И все-таки Антонов не удержался, чтобы не задать колкий вопрос:
— Вы что же, даете ордер на его задержание? А если он не пожелает идти с нами, тогда каким образом мы его доставим?
— Пойдет как миленький. Увидишь. Это будет первым сигналом его вины.
— Если он виновен, то, возможно, уже на Западе…
— Я же тебе сказал: приму необходимые меры.
* * *
На следующий день перед обедом Бинев неожиданно вызвал Антонова и сообщил, что Сивков вылетел из Берлина в Софию на болгарском самолете. Хорошо, что Консулов был с Антоновым. Ему было бы неприятно идти одному на встречу с Сивковым и препровождать его в управление, тем более что Сивкова он не знал. Консулов же видел его фотографию в отделе кадров.
На пути к аэродрому в машине они молчали. Даже словоохотливый Консулов не произнес ни слова. Этот поворот дела его явно не устраивал. Он ожидал более сенсационного развития событий — бегство в Западную Германию или хотя бы задержание виновника и принудительное возвращение в Болгарию. Однако Сивков сразу же после завершения своей работы в Айзенахе поспешил вернуться на родину. Как всякий человек с чистой совестью.
— Ты узнаешь его, Крум?
— Будь спокоен. Когда мы к нему подойдем?
— Сразу же после таможенного досмотра. На выходе. Как это и положено встречающим. Или нет, там может случиться скандал. Лучше после проверки паспортов.
— Скандал может произойти в любом месте. Но его не будет…
Когда еще шел таможенный досмотр. Консулов показал Антонову Сивкова. Это был высокий, крупный и красивый мужчина с густыми длинными бакенбардами и еще более длинными усами. В коричневой шляпе и плаще того же цвета, он выглядел элегантно и самоуверенно. А через несколько минут, подумал Антонов, между ними начнется борьба, как говорится, не на жизнь, а на смерть, борьба вокруг погребенного уже трупа, в которой Сивков будет отстаивать свою свободу, а возможно, и саму жизнь, а он, Антонов, — закон. Нет, не только закон, но и справедливость. И прежде всего — правду!
Сивков появился только с одним чемоданом. Таможенник отметил декларацию, не заглядывая в чемодан. После этого Сивков вышел из здания аэропорта и начал высматривать такси. Однако свободных машин не оказалось. Консулов приблизился к нему сзади и сделал знак их водителю. Когда машина остановилась перед ними, Консулов открыл дверь почти перед Сивковым и любезно сказал:
— Пожалуйста, товарищ Сивков, мы вас отвезем.
Только сейчас Сивков его заметил. И посмотрел удивленным взглядом.
— Кто вы?
— Капитан Консулов из милиции. А это подполковник Антонов. За вами мы и прибыли.
Сивков заметно побледнел.
— Но… что это значит?
— Садитесь в машину и не бойтесь. Чтобы не разговаривать нам на людях. Давайте-ка ваш чемодан.
Сивков как-то безвольно протянул чемодан. Водитель взял его и поместил в багажник. После этого все трое сели в машину, позади шофера, Сивков в середине. Если это игра, то уж пусть идет по всем правилам. Психологически сейчас это было оправдано.
Все трое молчали. Едва выехали на бульвар Ленина, Сивков проглотил слюну и спросил:
— И все-таки объясните мне, куда мы едем и что все это значит?
— Не беспокойтесь, без объяснений не обойдемся, — сказал Консулов. — И мы вам объясним, и вы нам объясните… только потерпите немного.
Больше никто не сказал ни слова до самого управления.
Когда они вышли и перед Сивковым предстали мрачные каменные стены, внутри его что-то взбунтовалось. Отчаянно оглядываясь, он как бы обдумывал возможность бежать, а может быть, думал о чем-то совсем другом — о своей погубленной жизни, через которую он сейчас перешагнет и которая сразу же кончится за порогом караульного помещения. Да, контраст был разительным — из Берлина сразу за решетку! Он автоматически взял протянутый водителем чемодан и сделал первый шаг.
Сивкова посадили на привинченный к полу стул перед столом следователя. Он было поставил рядом чемодан, но Консулов сразу же взял его и перенес в один из углов комнаты, будто хотел этим сказать: «Нет, дорогой, не думай, что сейчас ты встанешь и пойдешь домой». После этого Консулов расположился сбоку от стола, рядом с Антоновым.
— А сейчас вы мне скажите, что все это означает? — Сивков уже взял себя в руки, и его голос обрел былое спокойствие, хотя в нем и проскальзывали неуверенные нотки.
— У нас принято, что первыми задаем вопрос мы, а если есть возможность, то и отвечаем.
— Хорошо, спрашивайте.
Антонов начал с обычной формулы — кто он, где работает, чем занимается, где был, по каким делам, когда уехал… На первый взгляд все выглядело легко и непринужденно: нет ничего более простого в том, чтобы задавать вопросы. Спрашиваешь, а подследственный отвечает тебе. Однако это совсем не значит, что следователь может спрашивать все, что ему взбредет в голову, не говоря уже об этической стороне вопросов. Например, не следует удовлетворять нездоровое любопытство. Все вопросы должны быть целенаправленными, ведущими к раскрытию истины и только истины, которая интересует следствие. С другой стороны, вопросы не должны быть и слишком «открытыми», как говорится, «лобовыми». Хотя из-за внезапного возвращения Сивкова Антонов не успел как следует продумать план допроса, его богатый опыт подсказывал, что в данном случае он должен заставить его «потонуть» в своей лжи, а после этого эффектно разоблачить и «переломить». А уж он-то знал, что Сивков будет лгать, изворачиваться. Но он никак не ожидал, что тот скажет, будто уехал в понедельник двадцать первого.
Сивков закончил свой рассказ, и когда Консулов записал последнее его слово, Антонов сказал:
— А сейчас прочтите протокол и, если все записано правильно и верно отражает ваши слова, то подпишитесь.
Сивков прочел и расписался.
— А теперь я второй раз вас спрашиваю: когда вы выехали в Берлин? Дата и день отлета.
— Я уже сказал вам. — Сивков заколебался, но в тот же миг овладел собой и повторил: — Двадцать первого апреля этого года, в понедельник.
— Так и запишем: «На повторный вопрос я отвечаю — в Берлин улетел в понедельник, двадцать первого апреля сего года». Распишитесь заново.
— Под каждой строчкой ли я должен расписываться?
— Под каждой ложью. Так что я прошу вас расписаться…
— Отказываюсь расписываться!
— Почему, так сразу? Впрочем, и от этого есть лекарство, и притом очень эффективное. Запишем: «Свидетель отказался расписаться».
— Разве я свидетель?
— А в какой роли вы себя видите? Если вы будете продолжать нам лгать, то действительно превратитесь в обвиняемого. Вас с самого начала предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. Или вы полагали, что это пустая формальность, не заслуживающая внимания?
Сивков расписался в протоколе.
— Дайте мне ваш паспорт, Сивков, увидим, что там написано.
Сивков нехотя подчинился и вытащил из внутреннего кармана толстый кожаный бумажник, извлек желтоватый служебный паспорт. Антонов взял его, нашел нужную страницу.
— Так, так. Что здесь написано? Оказывается, двадцать второго. А сейчас потрудитесь мне объяснить, почему вы нас обманули. Вы же вылетели в Берлин во вторник, двадцать второго, утром, с болгарским самолетом и отмечены в списке пассажиров, как об этом свидетельствует копия вашего билета.
Сивков опустил голову.
— Почему вы не отвечаете? Разве вы до сих пор не придумали ответа?
— Дело очень простое… Я пропустил свой рейс, и мне пришлось переоформлять билет…
— Дайте-ка этот билет!
Сивков покорно вытащил из кармана пиджака синий авиабилет. Антонов раскрыл его и предложил Сивкову:
— Посмотрите здесь. Он не перерегистрирован, а отмечен за двадцать второе, сразу же…
— Да, верно, это так. Но… видите ли… за этот вечер…
— Минуточку, мы не записали ваши показания.
— Но я от них отказываюсь.
— И все же мы должны их записать, как и то, что вы от них отказались. Таков у нас порядок. Вот здесь, распишитесь…
Сивков отчаянно махнул рукой — а, была не была! — и заново расписался.
— А сейчас продолжайте. Но теперь думайте, что вы будете говорить и за что расписываться.
— Вот, — сказал Сивков после краткого колебания, — в этот вечер я условился с друзьями встретиться на нашем мальчишнике. Но моя жена ужасно ревнива. Поэтому я воспользовался случаем, как уже делал это не раз… Я ей сказал, что уезжаю в понедельник, чтобы освободить себе вечер, а вылетел во вторник…
— А эти, ваши приятели, вы их предупредили?
— О чем?
— Как о чем? Что вы все вместе были в понедельник вечером.
Сивков замолчал, не зная, что ответить.
— Эх, Сивков, Сивков… Вы должны нам назвать имена этих ваших «друзей». Мы спросим их сейчас же по телефону, пока вы не успели их предупредить, и тем самым сэкономим время на проверке вашего очередного лжесвидетельства.
— Готово, можно расписываться, — сказал Консулов, ведший протокол допроса.
Но Сивков не пошевелился, будто ничего не слышал. Затем он как-то сразу, в состоянии транса, механически начал расписываться в протоколе.
— Перестаньте расписываться под каждой строчкой. Сивков, что вы делаете, опомнитесь, возьмите себя в руки!
— Я знал, что наш Внешторг не укомплектован одними только гениями, — не удержался Консулов, — но настолько… элементарные интеллекты я не ожидал там встретить. Вы… дурак или нас считаете дураками?
— Хорошо, — тяжело вздохнул Сивков. — Я вам расскажу правду. — Он помолчал еще немного, как бы собираясь с силами. — Я был, ну… у одной женщины, хорошей моей знакомой. Не хотел вам об этом говорить. Поверьте, только из чувства мужского достоинства я обманул вас… В общем, мы уговорились встретиться в понедельник вечером у нее. Она была одна.
— Когда вы с ней условились об этом?
— Когда узнал о командировке. Так мы делали много раз.
— Когда же вы сообщили ей об этом?
— Еще в пятницу. А в понедельник, после обеда, я вновь позвонил ей: нет ли каких изменений в ее планах?
— Имя этой женщины?
— Нельзя ли без имени?
— Нельзя, Сивков, нельзя!
— Пенка Бедросян, но все ее зовут Пепи… Я с ней познакомился несколько месяцев тому назад. В парикмахерской, что на бульваре Витоша. Я туда хожу подстригаться и бриться. Это мне по пути на работу. Однажды перед очередным отъездом за рубеж я решил сделать себе маникюр. Оказался у нее. Так мы и познакомились. Начали встречаться… Жене и коллегам говорил, что отбываю после обеда. Потом выходил из дома с чемоданом и шел к ней… Ну а в случае, если бы жена позвонила в министерство, там никто ничего не знал…
— Жена настолько ревнива?
— А что здесь особенного, как и всякая женщина, понимаете. Вы ведь и сами…
— И мы, и мы сами… умеем хранить тайны.
— Благодарю вас.
— Не за что. Продолжайте.
— На этот раз мы условились о семи часах вечера… Я вышел из министерства в два часа дня. Нужно было целых пять часов бродить по городу. Я зашел на вокзал и сдал чемодан в камеру хранения, чтобы не нести его с собой… С четырех пошел в кино. Смотрел «Американскую ночь». После этого заново отправился на вокзал, взял чемодан и на тринадцатом автобусе отправился в жилой район «Молодость». Она там живет. Пришел несколько ранее, чем условились. Она что-то готовила на кухне. Так мы договорились — будем ужинать вместе и… я останусь у нее до утра. Я тоже кое-что принес с собой в портфеле — бутылку виски «Тичэр» и большую коробку конфет. Ужинали вместе. После этого она включила магнитофон, чтобы потанцевать. Мы слегка выпили, были навеселе, в хорошем настроении. И тогда…
Сивков замолк, задумался, будто вспомнил нечто неприятное. После этого продолжал глухим голосом:
— Сразу кто-то позвонил. Раз, второй, третий. Продолжительно и настойчиво. Пепи испуганно замолкла. Выключила магнитофон. После этого погасила свет. Так в темноте мы сидели молчали минут пять. Это было где-то в половине девятого. Ужасно перепуганная, она шепнула мне, что, наверное, внезапно вернулся ее муж…
— Она разве замужем?
— Разведена, но фиктивно.
— Как это так, фиктивно?
— Ну… развод, так сказать, по закону о гражданской собственности, чтобы сохранить квартиру. Ее муж заезжал к ней, но у него не было ключа. Она очень испугалась — он был ужасный ревнивец, готовый не только к шумному скандалу, но и к вульгарной драке… Я совсем не хотел скандала, в моем-то положении… Поэтому решили, что я уйду… Мне хотелось остаться у нее — в надежде, что он больше не вернется. Но она настояла. «С тех пор, как мы развелись, — сказала она, — он стал еще ревнивей. Он может меня убить. А так он подумает, что я опоздала или где-то задержалась. Но он непременно вернется снова — проверить, а уж если я тогда ему не открою, поднимет на ноги весь этаж, соседей…» Перед уходом она положила мне в сумку и бутылку виски и конфеты, чтобы не осталось следов моего пребывания. Выходил я с большим страхом — опасался встречи с мужем где-нибудь на лестнице или в подъезде. Но никого не встретил. Благополучно сел в автобус и… что делать? Вернуться домой было нельзя, а договориться с каким-нибудь приятелем я не догадался. Ночь провел на вокзале — пока не наступило время моего рейса. Так и улетел… Это все, товарищи, стыдно или не стыдно мне признаваться. Вы не сердитесь на меня за обман в начале нашего разговора. Сейчас мне стало легко.
Перевел с болгарского Г. Еремин
Окончание в следующем выпуске


Примечания
1
Повесть печатается с сокращениями.
(обратно)
2
Окончание. Начало в предыдущем выпуске.
(обратно)
3
Роман печатается с сокращениями.
(обратно)
4
Бисер Киров — популярный эстрадный певец Болгарии (здесь и далее примеч. пер.).
(обратно)
5
Шутливое словообразование: Кочо (баран) и Мангалов (черный, вымазанный в углях и золе, черный, как цыган).
(обратно)
6
Перифраза известной болгарской пословицы, которая звучит примерно так: «И на свадьбу осла приглашают для работы».
(обратно)
7
«Пырле» — простонародное «сосунок».
(обратно)
8
«Хубав» — красивый, то есть «Пенчо Красавчик».
(обратно)
9
Институт красоты (франц.).
(обратно)
10
Речь идет о стихотворении «Пенчо» известного болгарского поэта, деятеля эпохи болгарского Возрождения, П. Р. Славейкова (вторая половина XIX — начало XX века).
(обратно)
Оглавление
ИСКАТЕЛЬ № 4 1981
Станислав ТОКАРЕВ
ФУТБОЛ НА ПЛАНЕТЕ РУССО[1]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Виктор ВУЧЕТИЧ
СИРЕНЕВЫЙ САД[2]
9
10
11
12
13
14
15
Димитр ПЕЕВ
АБЕРАЦИО ИКТУС[3]
*** Примечания ***