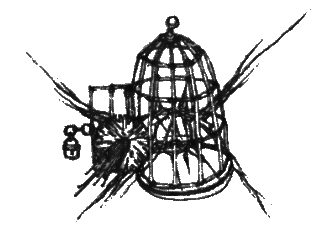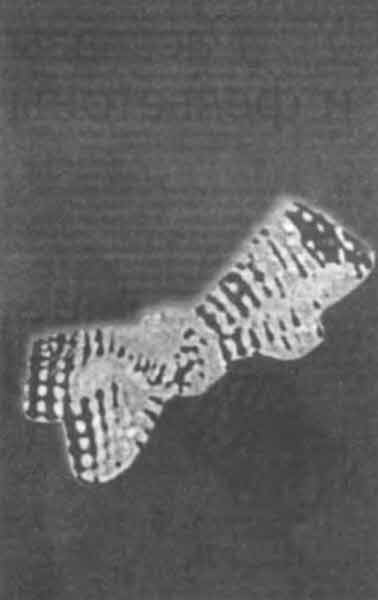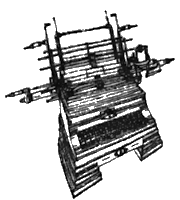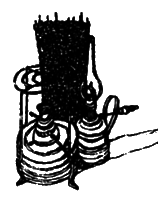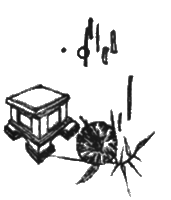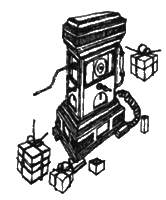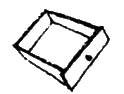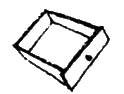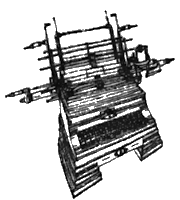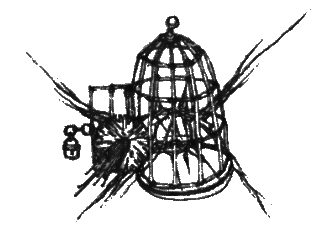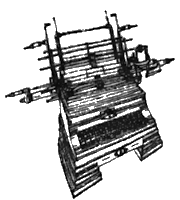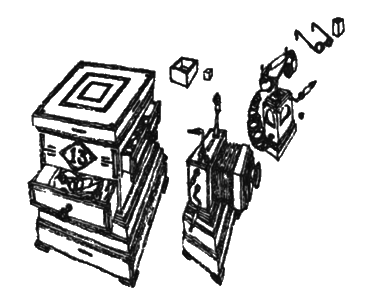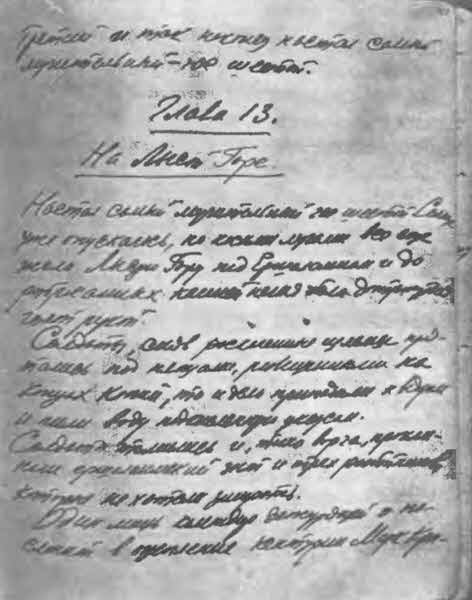МИХАИЛ БУЛГАКОВ

*
Серия основана в 2000 году
*
Редколлегия:
Аркадий Арканов, Никита Богословский, Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков, Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Тыаченко, академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович
Главный редактор, автор проекта
Юрий Кушак
Составители тома — Эльвина Мороз, Юрий Кушак
Оформление тома — Лев Яковлев
Рисунки Андрея Н. Бондаренко
Рисунок на обложке А. Лукьянова
Подготовка макета — творческое объединение
«Черная курица» при Фонде Ролана Быкова
О Шкловский С. С., наследие
© Мороз Э. С., составление, примечании, 2000
© Кушак Ю. Н., составление, 2000
© Яковлев Л. Г., оформление, 2000
Мир Михаила Булгакова
Лакшин Владимир Яковлевич (1933–1999) —
автор вступительной статьи.
Писатель, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии образования. В шестидесятые — семидесятые годы — член редколлегии и заместитель главного редактора журнала «Новый мир», руководимого А. Т. Твардовским.
Автор книг: «Толстой и Чехов», «Судьбы: от Пушкина до Блока», «Открытая дверь», «Булгакиада» и др.
_____
В жизни всякого человека, тем более писателя, и тем более писателя крупного, бывают такие моменты, когда он ходом внутреннего развития или внешними событиями приведен к необходимости оглянуться на себя и свой труд, подумать, что он значит для людей, ради чего живет и во что ценит свет.
Таким драматическим моментом самосознания был для Булгакова конец марта 1930 года, когда оставшийся безработным литератором, лишенный, по выражению Ахматовой, «огня и воды», уничтоженный критикой и растоптанный цензурой Булгаков держал в ящике стола револьвер, подумывая о самоубийстве. Чувствуя себя на краю, в настроении решительного выбора, он написал и разослал в семь адресов письмо «Правительству СССР». Письмо это не было жалобой, еще менее — покаянием или льстивой просьбой. Булгакову надо было решить свою судьбу — твердо и бесповоротно. Он хотел разрубить туго затянувшийся узел и прежде всего понять — сможет ли он работать в своей стране или для него остается один путь— в эмиграцию. Если же обе эти дороги закрыты — а молчание для него равносильно «погребению заживо», — он готов был и к окончательному расчету с жизнью.
В ТАКОМ письме не могло быть ни слова неточного или фальшивого. Булгаков хотел предстать перед возможными читателями письма без всяких уловок и экивоков, таким, каков есть.
Он понимал и то, что в любом случае его письмо может сохраниться для будущего (а Булгакову было в высшей степени свойственно чувство исторического присутствия) и приобрести вид завещания или исповедания веры. И потому в этом письме, помимо указаний на крайность своего положения и просьб так или иначе определить его судьбу, содержались дорогие писателю мысли, которые вернее было бы назвать убеждениями, поскольку они были оплачены суровым и горьким опытом.
Эти убеждения, высказанные откровенно и жарко, с риском быть вовсе непонятым возможным адресатом и окончательно погубить себя, были таковы. Во-первых, Булгаков резко отметал попытки представить его пасквилянтом Великой Революции, но честно говорил, что предпочитает Великую Эволюцию, мирный и постепенный ход развития, более естественный, на его взгляд, в отсталой стране. Во-вторых, он называл лучшим слоем в отечестве русскую интеллигенцию, с которой чувствовал кровную связь, и, подобно своему «учителю» Салтыкову-Щедрину, считал себя вправе изображать «страшные черты моего народа», глубоко страдая от его темноты и невежества. В-третьих, с прямотой, которая могла почесться вызовом, он называл себя «мистическим писателем», признавал, что язык его пропитан сатирические «ядом», объявлял свободу слова высшим благом для любого писателя, а цензуру — своим злейшим врагом.
И все это — не забудем — как раз в разгар «раскулачивания» в деревне, когда в том же 1930-м высланную семью Твардовского, подобно тысячам других крестьянских семей, выбросили из эшелонов в снег на Северном Урале; когда готовился процесс Промпартии и в каждом спеце-интеллигенте готовы были видеть вредителя; когда лозунг классовой борьбы в литературе трансформировался в практику групповой и классовой ненависти и Маяковский, не признанный РАППом «своим», был на пороге самоубийства.
Похоже, что, изумленный непривычной и отчаянной отвагой письма отверженного писателя, а кроме того, преследуя, несомненно, свои политические расчеты, 18 апреля 1930 года Сталин позвонил на квартиру Булгакову. Он не предлагал ему вернуться к литературе, не обещал возвращения на сцену его пьес. (Булгаков не знал, что в недавнем письме к В. Билль-Белоцерковскому Сталин отозвался о «Беге» как об «антисоветском явлении», а «Багровый остров» назвал «макулатурой»
[1].) В телефонном разговоре Сталин не возразил ни словом на горькое предположение Булгакова, высказанное в письме, что его «обрекут на пожизненное молчание в СССР». Он удовлетворенно отметил вырвавшийся у Булгакова возглас, что русский писатель не может жить вне родины. И одобрил бедственный, по существу, выход, подсказанный самим писателем: дать ему режиссерскую работу в Художественном театре, дабы несостоявшийся драматург и литератор, утверждавший, что его ждут «нищета, улица и гибель», в самом деле не пропал с голоду.
Таким образом, практический результат булгаковского письма был сомнителен, успех его невелик. Но для самого Булгакова оно было крупнейшей вехой. Самохарактеристики, обдуманные и запечатленные здесь, убеждения, с прямотой почти вызывающей выраженные в письме правительству, были им выстраданы и пронесены через всю оставшуюся жизнь. Среди них главные — верность правде, чувство чести и стоическое выполнение, вопреки немилостям судьбы, своего писательского долга.
В 1920–1921 годах во Владикавказе Булгаков окончательно понял, что он не актер, не лектор и даже не врач, а прежде всего литератор. Литератор по призванию, по склонностям, так сказать, по «составу крови»…
Оказавшись в конце 1921 года в Москве без службы, жилья и денег, Булгаков пошел по знакомому с Владикавказа следу: он разыскал Лито (Литературный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе) и устроился туда секретарем. Однако век этого учреждения, рожденного, как многое другое, сгоряча в пору военного коммунизма, был недолог. С наступлением нэпа Москва перешла «к новой, не виданной в ней давно уже жизни — яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т. д.». «Вне такой жизни жить нельзя, — писал Булгаков матери, — иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю». Москва переживала, по выражению Булгакова, «приспособление к новым условиям жизни». И слова о «бешеной борьбе за существование», которые он адресовал городу, можно отчасти отнести и к нему самому.
Бегая в поисках заработка по Москве, перебиваясь чаем с сахарином и картошкой на постном масле, Булгаков твердо знал, чего хочет. Для начала он мечтал начать жить по-людски, «восстановить норму — квартиру, одежду и книги». Но еще более мечтал получить литературное имя и в покое продолжить писание большого романа, начатого им еще во Владикавказе.
В эпоху «уплотнений» и жилищного кризиса укорениться в Москве было нелегко. После скитаний по общежитиям и чужим комнатам ему удалось получить право на жилье в большой коммунальной квартире дома на Садовой, принадлежавшего некогда табачному фабриканту
[2]. Нравы квартиры № 50 и ее обитателей множество раз отзовутся в его рассказах, фельетонах («Трактат о жилище», «Дом Эльпит-Рабкоммуна» и др.), дойдя далеким эхом и до страниц «Мастера и Маргариты» — в описании подъезда дома, где живет Степа Лиходеев и шныряет по лестнице Чума-Аннушка.
Прежде чем стать московским журналистом. Булгакову пришлось поработать конферансье, редактором хроники в частной газете, занимать должность инженера в Научно-техническом комитете, сочинять проект световой рекламы. Однако уже с весны 1922 года Булгаков плотно входит в столичный журнальный мирок — печатается в «Рабочем», «Рупоре», «Железнодорожнике», «Красном журнале для всех». «Красной ниве» и т. п. С помощью знакомого журналиста А. Эрлиха он устраивается в 1923 году литобработчиком в газету «Гудок», а вскоре становится постоянным фельетонистом этой газеты. Годом ранее он начинает печатать в берлинской русской газете «Накануне», литературное приложение к которой редактирует еще не вернувшийся из эмиграции А. Н. Толстой, принесшие ему первое признание московские очерки.
О работе в «Гудке» Булгаков отзовется потом довольно саркастически: «…сочинение фельетона в строк семьдесят пять — сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой. — 8 минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон каким-нибудь глупым псевдонимом или иногда зачем-то своей фамилией и нес его…» («Тайному другу»). Сочиняя очерки для «Накануне», молодой автор мог «несколько развернуть свои мысли», и эта работа была во всех отношениях крупнее и серьезнее.
Хотя Булгаков рано осознал, что творчество его «разделяется резко на две части: подлинное и вымученное»
[3], в лучшем, что написано им как журналистом в 1922–1924 годах, есть внимательное вглядывание и вслушивание в современность.
В пору нэпа, при полном отсутствии симпатий к нэпманам-буржуа, Булгаков чутко ловил звуки возрождающейся жизни, восстановления хозяйства и быта, различал поступь близкой ему Великой Эволюции и искренне радовался этому. Его картины с натуры, печатавшиеся в «Накануне», лишены слащавости, лести советской власти. Но с ревнивым участием он отмечает всякое движение жизни, возвращение мирного быта, в особенности если это напоминает близкие ему формы.
О Москве: «Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с нею вставать. В постройке наше спасение…» («Шансон д’Этэ»). «Москва — котел, в нем варят новую жизнь. Это очень трудно» («Столица в блокноте»). И о Киеве то же: «Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город» («Киев-город»).
Булгаков по крохам набирает отрадные впечатления, сулящие надежду на возрождение жизни: вот мальчик с ранцем за спиной бежит в школу, вот в фойе оперного театра появился «фрачник», вот открылись кондитерские, стал гулять по столице Бог Ремонт и воздвигся на пустыре неслыханный «золотистый город» — выставка. Своим скептическим берлинским читателям, эмигрантам с Фридрихштрассе, Булгаков возражает: «Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что «все образуется» и мы еще можем пожить довольно славно» («Столица в блокноте»).
Значит ли это новое настроение Булгакова, что он, оставаясь симпатиями и убеждениями в прошлом, попросту приспособился к обстоятельствам? Нет ничего обиднее для Булгакова и дальше от существа дела, чем думать так. Что такое приспособленчество, писатель показал в самых неприятных ему героях: Тальберге из «Белой гвардии». надевшем после революции красный бант, а при гетмане учившем украинскую грамматику, Аметистове из «Зойкиной квартиры», которого, когда он не при деньгах. «на социализм тянет»: и, может быть, наиболее саркастично — в литераторе Пончике-Непобеде из пьесы «Адам и Ева», сочинителе романа «Красные зеленя».
Булгаков не менял своих взглядов по моде или из выгоды. Но он напряженно думал обо всем, что видел перед собой. И мысль его, «острая как лезвие», по выражению одного из мемуаристов, была наклонна к анализу живого, не заморочена догмами или предвзятостью и подкреплена ответственностью свидетеля и летописца великих и трагических событий в жизни родины. На всех перекатах судьбы Булгаков оставался верен законам достоинства: «Цилиндр мой я с голодухи на базар снесу. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну» («Записки на манжетах»). Вопреки тому, что приписывала потом Булгакову подозрительная рапповская критика, он отнюдь не был затаившимся монархистом и тайным белогвардейцем. Всегда и везде оставался прежде всего
художником, и художником думающим. Он вглядывался в текущую на его глазах жизнь — одно отрицал, к другому присматривался, на третье надеялся.
Слов нет, литературная поденщина иссушает мозг, подтачивает силы и отнимает время, приводит порой к смертельной усталости. И далеко не все, что написано Булгаковым в те годы, заслуживает называться литературой. А между тем инстинкт художника заставляет его все бережнее относиться к своему литературному имени: еще из Владикавказа он писал сестре, чтобы та безжалостно уничтожала его ранние черновики и наброски, резко отзывался о своих скороспелых и незрелых драмах, которые, похоже, сам сжег. «Аутодафе», «В печку! В печку!» — таков его обычный девиз. Точно так же далеко не обо всем, вышедшем из-под его пера в периодике начала 20-х годов — к примеру, о фельетонных заметках под псевдонимом или без подписи, — он хотел бы потом вспоминать: не попавшие в печь, они сгорели в его памяти.
В «Записках на манжетах» передан момент внезапного прозрения, осознания ответственности за слово: «Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что… сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь… от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо».
В 1921 году Булгаков осознал, а чем дальше, тем понимал полнее и глубже, что существует крепчайшая тайная связь автора с каждой созданной им страницей. Даже то, что написано случайно, по безденежью и впопыхах, конвульсивно и полусознательно, томит и печет потом самим фактом существования на типографской бумаге или на сцене, в устах актеров, то есть вне тебя, и, как брошенное дитя, требует отцовской ответственности.
Но та же мысль имеет и оборотную сторону: рядом с максимой «написанное нельзя уничтожить» возникает девиз «рукописи не горят». Создав нечто ценное, мысль, образ или целый художественный мир, автор как бы сообщает им прочность несокрушимой реальности. Частным практическим следствием этого закона служит то, что рукопись, не нужная современности, случается, сохраняет значение для людей будущего. Другой вывод отсюда, что великое создание, важная книга входит в мир уже в момент рождения.
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт
До опыта приобрели черты.
(О. Мандельштам)
То. что созрело, высказано, запечатлено в образах, — неустранимо. Реальный же путь книги к людям — это уже дело социальных условий и возможностей типографского станка. До создания «Мастера и Маргариты» было еще далеко, но начинающий автор уже определял высокий уровень требований к себе.
В пору, когда Булгаков обосновался в Москве, ему исполнилось 30 лет. Больше половины жизни было за плечами. Он понимал, что не имеет права попусту терять время. Но что делать, если нужда брала за горло? Во всей линии поведения Булгакова, едва он становится на ноги как литератор, поражает его целеустремленность: будто он точно знал теперь, к чему призван, и ценой лишений и утрат выполнял явившуюся ему как ненарушимый завет задачу. Энергия, работоспособность и небрезгливость к любой газетной работе были как бы выкупом за возможность писать то, что необходимо душе.
Неверно, однако, считать, что рассказы и фельетоны Булгакова начала 20-х годов означали лишь погубленное время, досадное отвлечение от важных художественней трудов.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
То, что подмечено Ахматовой, — не исключение, а скорее закон: извлечение новой поэзии не из обработанного традицией образца, а из неприглядной прозы жизни, сора будней, мгновений дня. И, окунувшись во впечатления репортера и газетчика, уйдя с головой в будни «красной столицы», Булгаков, как наблюдательный художник, немало извлек для себя.
Не только зоркость на подробности, чуткость ко всему живописному и странному обогащают его перо. Сам принцип повествования, способ рассказа определяется в эти годы. И дело не в темах («Мадмазель Жанна», «Говорящая собака»), которые аукнутся в его главном романе. В стиле «Мастера и Маргариты» и «Записок покойника» будет присутствовать, но только в очищенном и сублимированном виде, эта «сиюминутность» впечатления, иллюзия репортажа с места, мнимая импровизационность фельетона. Так же как в лучших пьесах Булгакова взамен готовой театральности зазвучит «нескладная» живая речь, появится вдохновенная легкость репетиции, почти «капустника».
Очищенная от штампа и пошлости стремительная «газетность» речи убивала велеречивую книжность и вошла как важная краска в обаяние языка Булгакова. Живые восклицания, словечки улицы и коммунальной квартиры не роняли достоинства слога. Впрыснув в язык фермент жизни, Булгаков как бы включал просторечие в литературный поток, оставаясь как автор на некоторой дистанции. Выделенные своей новизной и непривычностью, ходовые речения и домашние словечки становились объектом иронического созерцания, придавая вместе с тем оттенок антикнижности авторской речи.
Другой эксперимент, важный ему в дальнейшем, Булгаков произвел в «Записках на манжетах» — вещи почти дневниковой, плотно прилегающей к биографии. Вступая в литературу, Булгаков не имел опыта, но имел достаточно вкуса, чтобы понять: прежде чем выдумывать, надо научиться писать натуру, как пишет ее в мастерской художник. Иначе сказать, надо уметь передать то, что пережил сам. К «Запискам на манжетах» примыкали или являлись осколками полного их текста, не дошедшего до нас. автобиографические рассказы «Богема» и «Необыкновенные приключения доктора». (Напротив, «Ханский огонь» (1923) был школой чистого вымысла.)
Что имел в виду Булгаков, придвигая художественное зеркало вплотную к своей судьбе? Запечатлеть себя? Нет, он рисовал время. Интуиция художника подсказала ему, что опыт его неоценим, потому что он живет во время разломное, коренное для эпохи, историческое в своих ускользающих мгновеньях, и каждая подробность может стать интересной или, по меньшей мере, заслуживает того, чтобы быть отмеченной и осмысленной…
Когда в 1930 году Булгаков отважно и даже с некоторым нажимом заявил: «Я — мистический писатель», — он, несомненно, имел в виду прежде всего свои фантастико-сатирические повести и сожженный им в ранней редакции «роман о дьяволе».
Первая, и, по существу, единственная, книга его прозы называлась по заглавной повести — «Дьяволиада» (1925). Это, впрочем, не значило, что внимание писателя безраздельно захватили демоны, ведьмы, черти — и как там еще называют эту публику, слетающуюся на Лысую гору и не поминаемую к ночи добрыми людьми. Его мистицизм был связан не столько с интересом к нечистой силе как таковой (хотя область таинственного, магического, странного оказалась сильным магнитом для воображения), сколько к мистике каждодневного быта и шире — к мистике социального бытия. Именно на этом перекрестке мистицизм Булгакова, унаследованный отчасти от Гоголя, повстречался с сатирой.
В повести «Дьяволиада» мистико-фантастический сюжет зарождается в вихре бюрократической карусели, метельном шелесте бумаг по столам, призрачном беге людей по коридорам. Чуть подновленный департаментский герой Гоголя, маленький чиновник, делопроизводитель Коротков гоняется по этажам и комнатам за мифическим заведующим Кальсонером, который то раздвоится, то «соткется» перед ним (булгаковское словцо!), то вновь исчезнет. Коротков взлетает на лифтах, сбегает с лестниц, врывается в кабинеты, но в этой неустанной погоне за тенью он лишь постепенно дематериализуется, теряет себя и свое имя. Утрата бумажки, документа, удостоверяющего, что он — это он, делает его беззащитным, как бы вовсе не существующим.
Ненавистная и, казалось, поверженная, старая бюрократия возникает в каком-то обновленном, гиперболизированном и пародийно-уродливом виде, так что «маленькому человеку» Короткову с психикой гоголевского чиновника остается одно — расхлопать себе голову, бросившись с крыши московского «небоскреба» Нирензее. (В этом доме в Гнездниковском переулке помещалась редакция «Накануне», и вид с крыши, где был устроен летний ресторан. Булгаков наблюдал не раз.)…
Критика сердилась на Булгакова — между тем не материализовано ли по сути это предостережение в метафоре смерти Короткова? Герой, разумеется, безумен — но разве не безумен быт, где существуют учреждения, которые расплачиваются с сотрудниками сотнями коробков спичек, которые к тому же не горят?
Среди откликов на повесть был один, важный для Булгакова. Евгений Замятин, отметивший «быструю, как в кино, смену картин» в этой повести и «фантастику, корнями врастающую в быт», заключал, что хотя абсолютная ценность этой вещи «невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ»
[4]. Замятин не был лишен прозорливости.
Кое-что в повести прямо предвещало появление на московских улицах Воландовой шайки. И когда Булгаков описывает, как Кальсонер, «обернувшись в черного кота с фосфорными глазами», «вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине», кажется, что мы присутствуем при черновой репетиции фокусов кота Бегемота.
Пусть повесть в целом не удалась — но значит ли это, что она писалась напрасно? У серьезного автора ничего напрасным не бывает. Этот «неуспех» был крайне важен как первое приближение к своему стилю и материалу: «перелет» оказался нужен, чтобы затем точно накрыть цель. Всего год-полтора отделяют «Дьяволиаду» от следующей повести Булгакова «Роковые яйца», но какой путь проделала мысль писателя-сатирика, насколько емкая, прозрачная проза стала выходить из-под его пера!
Веселая, свежая, молодая фантазия царит в этой повести. Когда Дуня, воодушевленная намерением Рокка вырастить несметное количество кур, скликает у оранжереи разбежавшихся неведомо куда проворных цыпляток — а мы-то уж знаем, что из разбитой скорлупы расползлись чудовищные гады, — хочется от души расхохотаться над озорным вымыслом Булгакова. Повесть весела, но не только.
Александр Семенович Рокк, человек эпохи военного коммунизма, с маузером в желтой битой кобуре на боку, реквизирует у профессора Персикова сенсационное научное изобретение в самых благих целях — возместить последствия куриного мора в стране. Но обычное невежество, хаос и халатность, из-за которых куриные яйца перепутаны с теми, что назначались для научных опытов, приводят к неизбежной беде. От захваченного, силком отнятого добра удачи не бывает. То, что в теплице совхоза «Красный луч» вместо ожидаемого изобилия цыплят выводятся чудовищные гады, — в сущности, не случайное недоразумение, а месть бытия. «Луч жизни», открытый профессором Персиковым, в чужих, неумелых руках становится лучом смерти.
Протест против невежественных «кавалерийских» наездов в науку — лишь первый слой мысли Булгакова. Профессор Персиков находит, что из Рокка вышел бы «очень смелый экспериментатор», и это можно понимать шире, чем авантюру с курами. При отсталости, невежестве масс социальный эксперимент всегда грозит дать противоположный ожидаемому результат. Опыт с малиновыми яйцами, проведенный неумелыми руками, плодит гадов, которые способны пожрать самого благомыслящего теоретика. И речь не о случайной ошибке, а о своего рода роке, что удостоверено заглавием. Погибает отставной кавалерист, но и профессору грозит быть растерзанным гневной толпой, ради благосостояния которой было отнято его изобретение.
Сатира констатирует — сатирическая фантастика предупреждает. В начале 20-х годов Булгаков писал и рассказы, подобные «Похождениям Чичикова» (1922). Писатель изображал гоголевских героев, приспособившихся к жизни в красной столице: его Чичиков устраивал себе и родственникам академические пайки и продавал Коробочке за бесценок здание Манежа. Это была сатира на настоящее. В «Роковых яйцах» он беспокоился о будущем.
Такова уж природа сатирической утопии, что, узнавая в описанном то, что случится позднее, читатели новейших времен с почтительным удивлением обращают свой взор на автора, как удалось ему столь многое угадать? Не угадал ли он, в частности, авантюрные опыты Лысенко? Если эти попадания антиутопии метки, но случайны, то совсем не случайно предупреждение Булгакова людям нового общества — не оказаться, как это не раз случалось с человечеством, жертвами «иронии истории».
Тему ответственности науки (и шире — теории) перед живой жизнью Булгаков по-новому повернул в «Собачьем сердце». Эту повесть, написанную в 1925 году, автор так и не увидел напечатанной
[5]. В ней снова шла речь о непредсказуемых последствиях научных открытий, о том, что эксперимент, забегающий вперед и имеющий дело с неадекватным человеческим сознанием, опасен.
Профессор Преображенский, который так и сыплет острыми доморощенными афоризмами старорежимного толка («Террор совершенно парализует нервную систему»; «разруха не в клозетах, а в головах»; «…не читайте до обеда советских газет»), мог бы показаться махровым контрреволюционером, если бы не был столь открыт и прямодушен. Во всех своих суждениях он исходит, по существу, из простого здравого смысла
[6].
Научная интуиция и здравый смысл профессора Преображенского дают рискованный сбой лишь однажды, когда он пытается пересадить уличной дворняжке гипофиз человека. Кто мог предполагать, что человеком этим окажется люмпен-пролетарий Клим Чугункин? В «Роковых яйцах» по ошибке экспериментатора выводились гады. В операционной Преображенского по прихоти науки возникает чудовищный гомункулус с собачьим нравом и замашками хозяина жизни.
Булгаков с большим скептицизмом смотрел на попытки искусственного и ускоренного воспитания «нового человека» и подал свою сатирическую реплику в споре. Еще в одном из ранних его фельетонов встречается образ «быстроходного электрического поезда» — как символа будущего, вполне заслуживающего сочувствия. Но альтернативой ему служат… семечки — как примета дикости, грязи, бескультурья. Булгаков предлагал изгнать из жизни семечки. «В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится, и все к черту». Заведующий подотделом очистки Шариков — та же Дунька. К этому наглому и чванливому существу с пролетарской анкетой можно отнести слова, которые профессор Ефросимов в пьесе «Адам и Ева» произносит по поводу «художеств» пекаря Маркизова: «Я об одном сожалею, что при этой сцене не присутствовало советское правительство… чтобы я показал ему. с каким материалом собирается оно построить бесклассовое общество».
Стоящий в «Собачьем сердце» на втором плане председатель домкома Швондер не в меньшей мерс, по Булгакову, несет ответственность за человекообразного монстра. Профессор Преображенский создал его психобиологию, Швондер же поддержал социальный статус и вооружил «идейной» фразой. Швондер — идеолог Шарикова, его духовный пастырь. Диалектика социальных отношений — большая шутница. Усмешка жизни состоит в том, что, едва встав на задние конечности. Шариков готов утеснить и загнать в угол породившего его «папашу» — профессора. Но, осознав это, сам Преображенский, страдающий от утеснений воинственной пары Шарикова со Швондером, называет преддомкома человеком «глупым»: помогая утвердиться существу с «собачьим сердцем», вооружив его «теорией», почти как Иван Карамазов Смердякова, он и себе копает яму. Следующей жертвой Шарикова неизбежно падет он сам.
Таковы невеселые раздумья сатирика о возможных результатах взаимодействия в исторической практике трех сил: аполитичной науки, агрессивного социального хамства и сниженной до уровня домкома духовной власти, претендующей на святость прав, огражденных теорией. Сатирическая фантастика Булгакова предупреждала общество о том, что мало кто в те годы столь зорко видел. И в этом смысле его «мистицизм» не был областью совпадений, предзнаменований и чудес, как не был и царством происков «лукавого»…
…Булгаков улавливал непредсказуемые, и в этом смысле «мистические», черты исторического процесса. Рациональное знание тяготело к тому, чтобы разложить по полочкам, что и как случилось, где причина, а где следствие происходящих событий, да еще с неизбежной добавкой оптимизма, бросавшего розовый свет на ближайшее и более отдаленное будущее.
…В 30-е годы прозу Булгакова не печатали. Не издавали и его сатирические повести. Но, сохраняя нить связи со сценой, театрами, Булгаков пробует транспонировать свой интерес к сатирической фантастике в драматическую форму. Так одна за другой появляются пьесы: «Адам и Ева» (1931), «Блаженство» (1934), «Иван Васильевич» (1934–1936).
…Если в «Блаженстве» Булгаков отправлял своих героев на 300 лет вперед, то теперь аппарат, способный «пронзить время», перенес в наши дни тех, что жили 400 лет назад. При всей архаичности речей и одежд, кое-что в эпохе Ивана Грозного оказалось неожиданно актуальным.
Неудивительно, что в 1936 году пьеса «Иван Васильевич», доведенная в Театре сатиры до генеральных репетиций, была снята накануне премьеры. В то время как Сталин все откровеннее склонялся к идеализации Ивана Грозного с его опричниной, Булгаков осмелился сочинить пьесу, бурлескно осмеивавшую легендарного своей жестокостью царя. Он лишил фигуру Ивана Васильевича величавости, придал ей даже нечто легковесно-опереточное, и это окрасило пьесу в тона шутовские, выдававшие непочтение к власти и силе. О кровавом царе автор решился говорить с усмешкой, и это уничтожало страх.
То и дело забывая о лексиконе XVI века, Грозный у Булгакова выражался как охотнорядец: «Им головы отрубят, и всего делов». Да и в устах других героев звучали довольно едкие современные репризы. «…Уж мы воров и за ребра вешаем, а все извести их не можем», — вздыхал, к примеру, царев дьяк и слышал ответную реплику квартирного вора Милославского: «Это типичный перегиб». Тот же Милославский рассуждал об опричниках: «Без отвращения вспомнить не могу. Манера у них сейчас рубить, крошить! Секиры эти… Бандиты они, Федя! Простите. ваше величество, за откровенность, но опричники ваши просто бандиты». На пороге 1937 года это выглядело по меньшей мере рискованно.
Изобретатель Рейн в пьесе «Блаженство» и Кока Тимофеев в «Иване Васильевиче» оказали автору большую услугу, создав свои аппараты, способные совместить современность с прошлым и будущим. Но когда из волшебного сна Тимофеев возвращался в привычный быт, он оказывался в окружении все тех же пошлых существ — грозящей уйти от него жены Зинаиды и ее любовника Якина, знающего одно заветное присловье: «…клянусь кинофабрикой».
Во что остается веровать, чем клясться людям, потерявшим честь. — это продолжает волновать Булгакова, как только из волшебного мира фантазии автор возвращает героев в мир будничный и реальный.
Проза и драматургия Булгакова имели одну почву: драматизм времени и личной судьбы художника.
…Стоическое мужество его работы было невероятным. Любой мало-мальски опытный литератор знает: сравнительно легко собраться с силами для нового труда после одной неудачи, можно не дать себе раскиснуть после второй и, сжав зубы, работать после третьей. Но ведь Булгаков, не имея, за ничтожным исключением, ни одной публикации, ни одной воплощенной театром оригинальной пьесы с 1928 по 1936 год, не устает задумывать и осуществлять одну работу смелее и заманчивее другой — ив седьмой, и в восьмой, и в шестнадцатый раз! Напомним этот творческий мартиролог: пишется «Бег» — и не ставится; созданное в нескольких редакциях «Собачье сердце» лежит в столе; биография Мольера, написанная по предложению Горького для «Жизни замечательных людей», не печатается; от пьесы «Адам и Ева» отказывается театр; зазря сочиняется «Блаженство»; «Ивана Васильевича» снимают, расклеив афиши по городу, а «Мольер» в Художественном театре пройдет всего семь раз… Что сказать после этого о судьбе художника?
Именно этот автобиографический сюжет — злосчастная судьба драматурга — занимал Булгакова и в неоконченном романе «Записки покойника», и, несколько ранее, в пьесе «Багровый остров» (1928).
…Намеченная в «Багровом острове» пунктиром, эта тема получит развитие, станет глубже и лиричнее, ближе к биографии автора в неоконченном «Театральном романе» (1936–1937). Роман этот пророс из автобиографического письма-конспекта «Тайному другу» (1929), адресованного Е. С. Булгаковой в разгар увлечения автора ею, и обогащен перипетиями сложных отношений с Художественным театром. В него вошла и стихия шуток, театральных анекдотов, передразниваний («Хотите я его покажу?» — говорят актеры), бытовавших за кулисами.
У Булгакова никогда не возникало желания отшутиться от крупных тем и больных вопросов. Но вечная угрюмая серьезность на лице — примета неглубокого человека. Юмор для автора «Театрального романа» — всегда спасение. Он видит в жизни праздничную сторону, ставит на место тоску и печаль, разрушает пошлость будничного поведения, в том числе и сентиментального нытья, и создает необходимую дистанцию между душой автора и невеселой реальностью.
Драматург Максудов проходит тернистым путем познания тайн Независимого театра, которым руководят два враждующих между собою корифея — Иван Васильевич и Аристарх Платонович. (Посвященные мгновенно узнавали в них Станиславского и Немировича-Данченко, да и другие лица и обстоятельства были переданы очень смешно и близко к натуре.)
Но по мере движения действия «Театрального романа» который точнее было бы назвать романом литературно-театральным, нарастало ощущение одиночества героя — ив кругу писателей, и в театральной среде, — горькое непризнание нового, желавшего выразить себя: «Я новый,
я пришел!..» Как и в пьесах о Мольере и о Пушкине, но уже на современном материале, здесь возникала тема судьбы Мастера, опередившего талантом свое время, — новый извод старой притчи о поэте-пророке, не признанном толпой и побиваемом каменьями. Самая веселая книга Булгакова должна была кончаться траурно — самоубийством Максудова, бросившегося в родной Днепр с Цепного моста.
Основные романы Булгакова роковым образом остались незавершенными
[7], подобно некоторым другим великим созданиям литературы — например, «Мертвым душам» Гоголя, если вспомнить лишь книгу наиболее Булгакову близкую. Может быть, так происходило потому, что задача перерастала творца. С увлечением работой горизонты ширились, хотелось вместить и объять все явившееся взору богатство жизни — и любой финал казался бы искусственным и узким в свете понимания, открывшегося художнику.
Булгаков умер от нефросклероза 10 марта 1940 года в своей московской квартире на улице Фурманова. Жития ему было, как говорилось в старых книгах, неполных 49 лет. Под ключом в старинном шкафу осталось лежать два неизданных романа, повесть, биография Мольера, три шедших недолго и к тому времени забытых и девять никогда не видевших сцены пьес.
Владимир Лакшин
Автобиографии[8]
Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием.
Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве, в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось.
В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.
В берлинской газете «Накануне» в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны.
Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу «Записки на манжетах». Эту книгу у меня купило берлинское издательство «Накануне», обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе.
Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен.
Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде.
Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей.
Москва, октябрь 1924 г.
Сын профессора Киевской духовной академии, родился 3 мая 1891 года в Киеве.
В 1909 году окончил Киевскую первую гимназию, а в 1916 году — Киевский университет по медицинскому факультету.
В 1916-17 годах служил в качестве врача в земстве Смоленской губернии.
В 1918-19 годах проживал в Киеве, начинал заниматься литературой одновременно с частной медицинской практикой.
В 1919 году окончательно бросил занятие медициной.
В 1920 году проживал в г. Владикавказе, работал в подотделе искусств, сочиняя первые пьесы для местного театра.
В 1921 году приехал в Москву на постоянное жительство.
В 1921-24 годах в Москве служил в Лито Главполитпросвета, работал в газетах в качестве хроникера, а впоследствии — фельетониста (газета «Гудок» и другие), начал печатать в газетах и журналах первые маленькие рассказы.
В 1925 году был напечатан мой роман «Белая гвардия» (журнал «Россия»
[9]) и сборник рассказов «Дьяволиада» (изд-во «Недра»).
В 1926 году Московским Художественным театром была поставлена моя пьеса «Дни Турбиных», в том же году Театром имени Вахтангова в Москве была поставлена моя пьеса «Зойкина квартира».
В 1928 году Камерным московским театром была поставлена моя пьеса «Багровый остров».
В 1930 году Московским Художественным театром был принят на службу в качестве режиссера-ассистента.
В 1932 году Московским Художественным театром была выпущена моя пьеса по Гоголю «Мертвые души» при моем участии в качестве режиссера-ассистента.
В 1932-36 годах продолжал работу режиссера-ассистента в МХАТе, одно время работая и в качестве актера (роль председателя суда в спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу).
В 1936 году МХАТом была поставлена моя пьеса «Мольер» при моем участии в качестве режиссера-ассистента. В том же году Театром сатиры в Москве была подготовлена к выпуску пьеса моя «Иван Васильевич» и снята после генеральной репетиции.
В 1936 году, после снятия моей пьесы «Мольер» с репертуара, подал в отставку в МХАТе и был принят на службу в Государственный академический Большой театр Союза ССР в Москве на должность либреттиста и консультанта, в каковой должности нахожусь и в настоящее время.
Для Государственного академического Большого театра в том же году сочинил либретто оперы «Минин и Пожарский», подготовляемой в настоящее время к постановке при моем участии.
В 1937 году для ГАБТ сочинил либретто оперы «Черное море».
Помимо вышеперечисленных пьес, автор пьес: «Бег», «Александр Пушкин» и других. Переведен на французский, английский, немецкий, итальянский, шведский и чешский языки.
Москва, 20 марта 1937 года
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Впервые: часть 1-я — «Литературное приложение» I, газ. «Накануне», 1922. 18 июня (с большими купюрами, отмеченными точками, с эпиграфом: «Плавающим, путешествующим и страждущим писателям русским»); «Возрождение», 1923, т. 2 (с купюрами, с некоторыми разночтениями по сравнению с «Накануне», без эпиграфа, с подзаголовком «Часть первая»);
часть 2-я — «Россия», 1923, № 5. Отрывки из 1-й части печатались: газ. «Бакинский рабочий», 1924, 1 января.
Печатается по тексту «М. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах», т. 1., М., «Художественная литература», 1989
Часть первая

I
Сотрудник покойного Русского слова»
[10], в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.
Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой: «Фью-ю!»
Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:
До Тифлиса сорок миль…
Кто продаст автомобиль?
Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».
И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингель:
— Тэкс. Тэкс!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну что ж1 В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito Italiano. Что? Шесть… И, в сущности, я итальянский офицер! Да-с. Flnlta la
comedia!
И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.
— Стойте! — завопил я, опомнившись. — Стойте! Какое Credito? Finito?! Что? Катастрофа?!
Но он исчез.
Хотел выбежать за ним… но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолока? Нет, не то… Ах да. Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть… Лишь бы не заболеть!..
Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая… Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну…
— Мишуня, поставьте термометр!
— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет…
Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять… да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?!. А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно… Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану как ни в чем не бывало!
Тридцать девять и пять!
— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман…
— Да, да… Туман. Дышите, голубчик… Глубже… Так!..
— Доктор, мне нужно по важному делу… Ненадолго. Можно?
— С ума сошли!..
Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь. только приложишь голову — а уж она горячая. Ничего… и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустяшная инфлюэнца… Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать… А сейчас так хочется… Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие… Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится… Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. Вмиг полегчало бы… А потом — голым кинуться в сугроб… Леса! Сосновые, дремучие… Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже… Какое хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:
Взбранной воеводе победительная!..
Ах нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..
— Ла-рисса Леонтьевна, где мо-наш-ки?!
— …Бредит… бредит, бедный!..
— Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монашки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон. вон. с третьей полки. Мельников-Печерский…
— Мишуня, нельзя читать!..
— Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!
— Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.
Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там. в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские.
Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки…
— Ларисса Леонтьевна… Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей… Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я дол-жен был быть у него… Пой-мите!
— Понимаю, понимаю, молчите!
Туман. Жаркий красноватый туман. Леса, леса… и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная Хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься — и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня.
— Гос-по ди! Что это за простыня… Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пи-ить!
Сейчас сейчас!..
— А-ах, теплая, дрянная!
— …ужасно. Опять сорок и пять!
— …пузырь со льдом…
— Доктор! Я требую… Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России… Если не отправите, извольте дать мне мой бра… браунинг! Ла-рочк-а-а! Достаньте!..
— Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..
Тьма. Просвет. Тьма… просвет. Хоть убейте, не помню…
Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Го-ло-ва!..
Просвет… тьма. Проев… нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все-все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна………………………………….
II
Что мы будем делать?!
Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная ТЬеном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызенный, и под мышкой — дыра. На ногах — серые обмотки. Одна — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.
— Что же те-перь бу-дет с на-ми? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.
— Что? Что?
Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:
— Сегодня ночью ингуши будут грабить город…
Слезкин дернулся в кресле и поправил:
— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.
Нервно отозвались флаконы за стеной.
— Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!
— Ка-кая разница?
— Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши когда грабят, то… они грабят. А осетины — грабят и убивают…
— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.
— Ах, боже мой! Какой вы странный! Не всех… Ну, кто вообще… Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.
Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.
— Я не вол-нуюсь…
— Пустяки, — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!
— Что? Пустяки?
— Да это… Осетины там и другое. Вздор. — Он выпустил клуб дыма.
Изнуренный мозг вдруг запел:
Мама! Мама! Что мы будем делать…
[11]
Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение:
— Подотдел искусств откроем!
— Это… что такое?
— Что?
— Да вот… подудел?
— Ах нет. Под-от-дел!
— Под?
— Угу!
— Почему под?
— А это… Видишь ли, — он шевельнулся, — есть отнаробраз, или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!
Взметнулась хозяйка:
— Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет…
— Вздор! — строго сказал Юра. — Вздор! И все эти мингрельцы, имери… Как их? Просто дураки!
— Ка-кие?
— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить..
— А что с нами? Бу-дет?
— Пустяки. Мы откроем…
— Искусств?
— Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тeo.
— Не по-ни-маю.
— Мишенька, не разговаривайте! Доктор…
— Потом объясню! Все будет! Я уж заведывал. Нам что? Мы аполитичны. Мы — искусство!
— А жить?
— Деньги за ковер будем бросать!
— За какой ковер?..
— Ах, это у меня в том городишке, где я заведывал, ковер был на стене. Мы. бывало, с женой, как получим жалованье, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.
— А я?
— Ты завлито будешь. Да.
— Какой?
— Мишуня! Я вас прошу!..
III
Лампадка
Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет: лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.
Мама! Мама!! Что мы будем делать?!
Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тeo. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито — литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..
— О-o! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду…
— Молчите, Мишенька, милый, молчите!
После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:
— Ма-а-ма. Ма-а-ма!
IV
Вот он — подотдел
Солнце. За колесами пролеток — пыльные облака… В гулком здании ходят, выходят… В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами: колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами, то на машинках громко стучат, то курят.
Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него и денег требуют.
После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.
— Завподиск. Наробраз. Литколлегия.
Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни глянет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням — ничего! Барышням страх не свойственен.
Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!
Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно:
— Завлито?
— Зав. Зав.
Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.
Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута. и чулки винтом. Стихи принесла.
Та, та, там, там.
В сердце бьется динамо-снаряд.
Та, та, там.
Стишки ничего. Мы их… того… как это… в концерте прочитаем.
Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но почему чулки не подвяжет?
V
Камер-юнкер Пушкин
Все было хорошо. Все было отлично.
И вот пропал из-за Пушкина. Александра Сергеевича. Царствие ему Небесное!
Так было дело.
В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках; да. с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи, и еще несколько человек.
Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк, в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень…
Это было эффектно!
Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами…
Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей?
— Выступайте оппонентом?
— Не хочется!
— У вас нет гражданского мужества.
— Вот как? Хорошо, я выступлю!
И я выступил, чтобы меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.
…Ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума…
Говорил он:
Клевету приемли равнодушно.
Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.
И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое: «Дожми его! Дожми!
…………………………………………
О, пыльные дни! О, душные ночи!..
И было в лето, от Р. X. 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскурант вин. В книжечке — его стихи:
Ландыш. Рифма: гадыш.
С ума сойду я, вот что!..
Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4-я полоса, 4-я колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть…
А я пропаду, как червяк.
VI
Бронзовый воротник
Что это за проклятый город Тифлис!
Второй приехал! В бронзовом воротничке. В брон-зо-вом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!
В бронзовом, поймите!..…………………….
VII
Мальчики в коробке
Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать…
Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор. в чужом городе, в игрушечной тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:
«M-me Marie. Modes et Robes».
И он скулит в коробке.
Бедный ребенок!
Не ребенок. Мы бедные!
Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко-далеко. на севере, бескрайние равнины… На юг — ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе — море. Над ним светит Золотой Рог…
…Мух на tangle-foot’e
[12] видели?!
Когда затихает писк, идем в клетку.
Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь — и легче.
И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.
До бледного рассвета мы шепчемся…………….
Только через страдание приходит истина… Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.
VIII
Сквозной ветер
Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря, проездом в Петербург.
Где-то на севере был такой город.
Существует ли теперь? Писатель смеется; уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.
Братья писатели, в вашей судьбе…
Без денег сидел. Вещи украли…
…А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.
Евреинов — находчивый человек:
— А вот «Музыкальные гримасы»…
И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва… Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и. наконец, полька.
Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал…
…Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..
Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:
— Вот не доедем, да и только!
Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!
Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву:
— В Москве лучше.
Доездился до того, что однажды лег у канавы:
— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!
Произошло: случайно знакомый подошел к канаве — и обедом накормил.
Другой поэт. Из Москвы в Тифлис:
— В Тифлисе лучше.
Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:
— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?
— …Но денег не пла… — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда…
Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.
— В Ростове лучше?
— Нет, я отдохнуть!!
Оригинал — золотые очки.
Серафимович — с севера.
Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.
— Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой платок… Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул, сверху другое поставил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза как кованая… Теперь пишут… Необыкновенно пишут!.. Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону…
Местный цех in corpora под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!
Уехал Серафимович… Антракт.
IX
История с великими писателями
Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.
Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.
Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно.
В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то. что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:
— Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали — и тут голову морочат!..
Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол, за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.
Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:
— Пиши вторую программу!
Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».
Любовно с Юрием составляли программу.
— Этот болван не умеет рисовать, — бушевал Слезкин, — отдадим Марье Ивановне!
У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке… Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого N. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.
Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер… Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет: «А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!»
Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась:
— Вам, по-видимому… э… не нравится?
— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень… мило. Мило очень… Только вот… бакенбарды…
— Что?.. Бакенбарды? Ну. так вы, значит. Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что ж, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!
— Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!
— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!
— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!
— А-ах… та-ак!
Бросила кисть. От двери:
— Я на вас пожалуюсь в подотдел!
Что было! что было… Лишь только раскрылся занавес и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»… В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев. и чудилось, что он бормочет мне: «Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!»
Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло crescendo… Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта, театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками «Bis!!!»
Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию…
Так я и знал!.. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе:
ОПЯТЬ ПУШКИН!
Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..
О, чертова напудренная кукла Изо!
Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили…
…Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу — что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!
X
Портянка и черная мышь
Голодный, поздним вечером иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:
— Александр Пушкин. Lumen coeli. Sancta rosa. И как гром его угроза.
Я с ума схожу. что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди…
Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь…
XI
Не хуже Кнута Гамсуна[13]
…………………………………………
XII
Бежать, бежать!
— Сто тысяч… У меня сто тысяч!..
Я их заработал!
Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:
— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее…
Я тупо посмотрел на него и ответил:
— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще, я ничего не могу писать. Я устал, и. кажется, у меня нет способности к литературе.
Он ответил:
— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.
С того вечера мы стали писать. У него была круглая, жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу…
И мы писали.
Он нежился у печки и говорил:
— Люблю творить!
Я скрежетал пером…
Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленой комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной, чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь… от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..
В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.
В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:
— Ва! Подлец! Так ему и надо!
И вслед за подотдельскими барышнями вызывали:
— Автора!
За кулисами пожимали руки:
— Пирикрасная пыеса!
И приглашали в аул…
…Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море и Францию — сушу — в Париж!
…Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке. я бежал переулками в последний раз — домой…
…Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн. Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале…
XIII
…………………………………………
Сгинул город у подножия гор. Будь ты проклят… Ци-хидзири, Махинджаури, Зеленый Мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения.
Чаква. Цихисдзири. Зеленый Мыс.
Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?!
На обточенных соленой водой голышах лежу как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь — на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса — трехъярусные огни.
«Полацкий» идет на Золотой Рог………………..
…………………………………………
Слезы такие же соленые, как морская вода.
Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.
Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. И он три дня не ел… Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?
Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведывающий».
Он вошел и заявил:
— По иному пути пойдем! Не надо нам больше этой порнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сочиним!
Затем сел в автомобиль и уехал.
Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.
Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..
Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так… значит… значит…
XIV
Домой
Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!..
…………………………………………
Прощай, Цихисдзири. Прощай, Махинджаури, Зеленый Мыс!
Часть вторая
Московская бездна. Дювлам
Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.
На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты:
C’est la lu-u-utte fina-a-ale!
… L'Intemationa-a-alel!
И здесь — так же хрипло и страшно:
Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон…
Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..
Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли… потекли…
Женский голос:
— Ах… не могу!
Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она скорчившись трое суток проехала рядом со мной.
— Позвольте, я возьму.
На мгновенье показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?
— Три пуда… Утаптывали муку.
Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.
От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.
Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец на путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Виду нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.
Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще… В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!
Голос медички:
— А вы куда?
— А не знаю.
— То есть как?..
…Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устроитесь…
— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.
Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.
На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули в тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?
Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.
Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподи-ска! Куда ж, к черту. Ан Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю… знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан Дойл. Любимая опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.
Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Иваныча Иванова. У дома, в котором в темноте от страху показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?., папа, а сало?., папа, а белая?»
Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало… так. масло… так, белая, черная… так».
Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.
Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!
Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь.
Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7
В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.
В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.
Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщина в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».
— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.
Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая — не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. «Ли». А, слава богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: «Ду-ду-ду…»
Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь — вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да. Горький Максим: «На дне», «Мать». Больше кому же? «Ду-ду-ду…» Разговаривают… А вдруг это Брюсов с Белым?..
И я легонько стукнул в дверь. «Ду-ду-ду» прекратилось, и глухо: «Да!» Потом опять — «ду-ду-ду». Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять постучал. «Да! Да!»
— Не могу войти! — крикнул я.
В замочной скважине прозвучал голос:
— Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли… Вправо, влево, мягко подалась и…
После Горького я первый человек
Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами — был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами.
Потухшим взором я обвел лицо, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Тout!! Как-то косноязычно:
— Это… Лито?
— Да.
— Нельзя ли видеть заведующего?
Старик ласково ответил:
— Это я.
Затем взял со стола огромный лист московской газеты. отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:
— Нет ли спичечки?
Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.
Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть… Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.
Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.
Старик:
— Так вы?..
Я ответил:
— Я хотел бы должность в Лито.
Молодой восхищенно крикнул:
— Великолепно!.. Знаете…
Подхватил старика под руку. Загудел шепотом:
— Ду-ду-ду.
Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:
— Пишите заявление.
Заявление у меня за пазухой. Я подал.
Старик взмахнул ручкой. Она сделала «крак!» и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.
— Нет ли карандашика?
Я вынул карандаш, и заведующий косо написал: «Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.
Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.
Молодой дернул меня за рукав:
— Идите наверх, скорей, пока он не уехал. Скорей.
И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн. секр.». Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.
В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало: «Мейерхольд. Октябрь театра…»
Молодой бушевал вокруг старого и хохотал:
— Назначил? Прекрасно. Мы устроим! Мы все устроим!
Туг он хлопнул меня по плечу:
— Ты не унывай! Все будет.
Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:
— Но столы… стулья… чернила, наконец!
Молодой крикнул в азарте:
— Будет! Молодец! Все будет!
И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:
— Деловой парняга. Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!
«Назн. секр.». Господи! Лито. В Москве. Максим Горь-кий… На дне. Шехерезада… Мать.
Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху:
— Это вам. 1 /4 пайка.
Я включаю Лито
Историку литературы не забыть.
В конце 21-го года литературой в Республике занимались 3 человека: старик (драмы: он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не писал).
Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.
И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней
я нашел старый пожелтевший золотообрезный картон со словами: «…дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами: гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва 1899 г.».
И запах — нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.
По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.
Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.
Я спросил:
— Чего вы плачете?
В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:
— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бандита.
Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после двух этих лет. Но тут… тупо посмотрел на барышню…
— Не плачьте. Бывает.
И попросил рассказать.
Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.
— Мо-мент, — говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.
— Удрал он? Ну и плюньте.
Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня…
Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.
У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.
По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «В Изо».
— А в Лито?
Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом «секретарь».
Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.
— А ведь верно. Лито… — сказала первая.
Вторая отозвалась:
— Им, Лидочка, есть бумага.
— Почему же вы ее не прислали? — спросил я ледяным тоном.
Посмотрели они напряженно:
— Мы думали — вас нет.
Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь.
Написал бумагу в хозяйственный отдел: дайте машину. Через два дня пришел человек, пожал плечами:
— Разве вам нужна машина?
— Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в этом здании.
Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидал машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:
— В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.
Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалованье. Лито зацепилось за общий ход.
Моему будущему биографу: это сделал я.
Первые ласточки
Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал:
— Шторн.
— Чем могу вам служить?
— Я хотел бы получить место в Лито.
Я развернул листок с надписью «Штаты». В Лито полагается 18 человек.
Смутно я лелеял такое распределение.
Инструктора по поэтической части:
Брюсов, Белый… и т. д.
Прозаики:
Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев. Серафимович… и т. д.
Но никто из перечисленных не являлся.
И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: «Пр. назн. инстр. За завед.». Буква. Завитушка.
— Идите наверх, пока он не уехал.
Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.
— Идите наверх, пока он не уехал.
Из Сибири приехал необыкновенно мрачный, в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.
— Идите наверх…
Но он ответил:
— Никуда я не пойду.
Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.
Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.
Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул зачем-то в шкаф. Вздохнул.
Подсел ко мне — конфиденциально:
— Деньги будут?..
Мы развиваем энергию
За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя — король репортеров. Король явился на другое утро, после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:
— Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?
И поступил на службу к нам.
История лозунгов была такова.
Сверху пришла бумага:
Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.
Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только предполагалось — есть писатели. Лозунги должны были посылаться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е. печальная жена разбойника) составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.
Но это теория.
На практике же:
1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.
2) Исключалось первым; никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.
3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла к 1 ч. 26 мин. этого самого такого-то числа.
4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но —
У старика была маленькая заветная сумма: на разъезды. Поэтому:
а) Лозунги в срочном порядке писать всеми находящимся налицо.
в) Комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо.
с) За лозунги уплатить по 15 т. за штуку, выбрав наилучшие.
Сели в 1 ч. 50 м., а в 3 ч. лозунги были готовы. Каждый успел выдавить из себя по 5–6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.
Комиссия была справедлива и строга.
Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.
В результате принято:
У старика — 3 лозунга.
У молодого — 3 лозунга.
У меня — 3 лозунга.
И т. д. и т. д.
Словом, каждому 45 тысяч.
У-у, как дует… Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.
Обогнал Штерна. Он тоже что-то жевал.
Неожиданный конец
…Клянусь, это сон!! Что же это, колдовство, что ли?!
Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.
Ввернул ручку, открыл, вошел и увидал: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки… не было даже электрических проводов. Ничего.
Значит, это был сон… Понятно… понятно…
Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера… Впрочем, черт, почему вчера? Сто лет назад… в вечности… может быть, не было вовсе… может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача!
Значит, добрый старик… молодой… печальный Шторн… машинка… лозунги… не было?
(Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!)
Ну так куда же оно делось?..
Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную, комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:
«1836
МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ…»
Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:
— Скажите, вы не видели, куда делось Лито?
Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:
— Ах, какое Лито… Я не знаю.
Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:
— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.
Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного.
Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестиэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые не экономические лампочки. Встречались озабоченные люди. которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил в тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство… Глупо. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд…
…Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.
2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, ком. 40
Огненная надпись:
«ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА ВОВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ. КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО. ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ…»
Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось: немного яснее в голове.
Логически: все же было оно? Ну было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось… Ну так, значит, нужно его найти. Ну а как же рядом-то женщины? На Волхонке… А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.
Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.
6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36.36 раз по 2 квартиры = 72. 72 раза по 6 комнат = 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда — да. Конец.
У 2-го подъезда носом к носу — Шторн!
Боже ты мой! Родному брату…
Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.
На наше же место придет секция Музо.
— Зачем?
— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.
— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.
— Да мы думали — вам скажут…
Я скрипнул зубами:
— Вы видели этих женщин? Что рядом…
Шторн сказал:
— Это верно.
Полным ходом
…Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. «Пр. назн. делопроизв.».
Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. «Пр. назн. секрет, бюро художествен, фельетонов».
Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.». Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.
Деньги! Деньги!
12 таблеток сахарину, и больше ничего…
…Простыня или пиджак?..
О жалованье ни слуху ни духу.
…Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.
— Позвольте нашу ведомость проверить.
— Зачем вам?
— Хочу посмотреть, все ли внесены.
— Обратитесь к madame Крицкой.
Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала, побледнев:
— Она затерялась.
Пауза.
— И вы молчали?
Madame Крицкая плаксиво:
— Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается — уму непостижимо. Семь раз писала ведомость — возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.
Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридор. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.
— Кто у нас не проведен приказом?!
Ответ:
— Ни один не проведен.
Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито, старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!
— Вы, вероятно, не писали анкету?
— Я не писал? Я написал у вас четыре анкеты. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет — 113 анкет.
— Значит, затерялась. Пишите наново.
Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.
Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.
…Вон! Помелом!
Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок
[14].
Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде 2-й день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.
Простыню продал.
Денег не будет раньше чем через две недели.
Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.
Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.
Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.
Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы… Там утвердят. Вернут. Тогда деньги…
Сегодня я получил деньги. Деньги!
За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:
— Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.
Не помню точно, что произошло. Туман.
Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:
— Вы издеваетесь надо мной?
Женщина раскрыла рот:
— А-ах, вы так…
Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Закорючка.
В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.
Потом опомнился: деньги!
С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.
Дома — чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.
О том, как нужно есть
Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул…
Видел во сне. как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:
— Пожалуйте обедать.
А я боюсь сойти. И так дурацки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:
— Иди. Вегетарианский обед.
И вдруг я рассердился:
— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.
Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:
— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович!
— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора.
Скандал какой-то произошел.
Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.
Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.
Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите взаймы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день — бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.
Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.
Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и 1/4 фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.
Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу — горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.
Наконец хозяйка говорит:
— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?
— Благодарю вас. С удовольствием.
Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.
Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина…
Гадость так думать, а
я думал.
Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гомсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.
Гроза. Снег
Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.
Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:
— Против меня интрига.
Лишь это я услыхал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину… На 5–6 дней.
Старик вошел шумно и радостно.
— Я разбил их интригу, — сказал он.
Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:
— Которые тут? Распишитесь.
Я расписался.
В бумаге было:
С такого-то числа Лито ликвидируется.
…Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела — Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники, стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и 'вьйпел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.
В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.
Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.
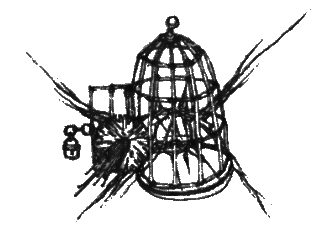
РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ
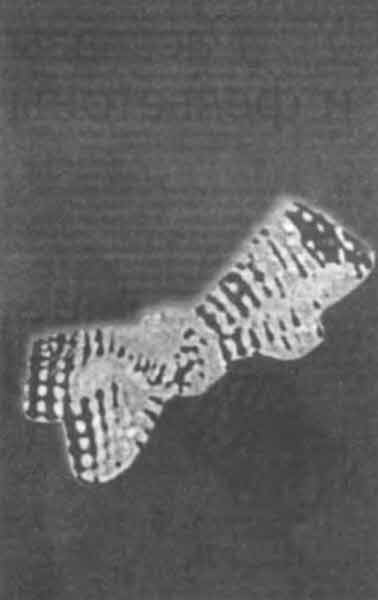
Необыкновенные
приключения доктора

Впервые — журн. «Рупор», 1922, № 2.
Доктор, мой друг, пропал.
По одной версии его убили, по другой — он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей — он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе.
Как бы там ни было, чемодан, содержавший в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры.
Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно…» (Дальше — женские рассуждения на тему «о пользе чтения», пересыпанные пятнами от слез.)
Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно — некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), — тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их.
Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там.
I
Без заглавия — просто вопль
За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: «Зато вам будет что порассказать вашим внукам!»
Болван такой! Как будто единственная мечта у меня — это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе!..……
И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что, если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени………..
К черту внуков. Моя специальность — бактериология. Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.
У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии.
А между тем…
Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллезных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть.
…………………………………………
II
Йод спасает жизнь
Вечер… декабря.
Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился… К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это — «ихние». На западной пулеметы — «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут…»
«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть… Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:
— Держи его! Держи!
Я оглянулся — кого это?
Оказывается — меня!
Тут только я сообразил, что надо было делать, — просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать.
Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я — на забор.
Те кричат:
— Стой!
Но как я ни неопытен во всех этих войнах, а понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах! И вот откуда-то — злобный, взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с йодом (200 gr.). Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой…
…До сих пор не могу отдышаться!
…Ночью стреляли из пушек на юге. но чьи это — уж не знаю. Безумно йода жаль.
III
Ночь со 2-го на 3-е
Происходит что-то неописуемое… Новую власть тоже выгнали. Хуже ее ничего на свете не может быть. Слава богу. Слава богу. Слава…
Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я — доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса, притаившись, в чужом дворе! Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я убежден, что, попадись эти мои заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал.
Под утро стреляли из пушек.
IV
Итальянская гармоника
15 февраля.
Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На сопках Маньчжурии»), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон…
Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово!
17 февраля.
Спал сегодня ночью — граммофон внизу сломался.
Достал бумажки с 18 печатями (о) том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.
21 февр.
Меня уплотнили…
22 февр.
…И мобилизовали.
…марта.
Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение!
Из пушек стреляли под утро…
V
…………………………………………
…………………………………………
VI
Артиллерийская подготовка и сапоги
…………………………………………
…………………………………………
VII
Кончено. Меня увозят.
…………………………………………
…………………………………………
…Из пушек………………………………….
…и………………………………………..
VIII
Ханкальское ущелье
Сентябрь.
Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наворотил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезах гор — грозовые тучи. И бурно плещет по камням
…мутный вал.
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.
Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизляро-гребенские казаки стали на левом фланге, гусары — на правом. На вытоптанных кукурузных полях — батареи. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках.
Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят водой.
Пулеметы гремят дружно целой стаей.
Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где уж им с двумя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты…
С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптанными, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских казачков.
Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли.
Ночь.
Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственные тени. Потом — бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает, безграничная, черная, ползучая. Шалит, ругает. Ущелье длинное. В ночных бархатах — неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут… И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом, и… аминь!
Тьфу, черт возьми!
— Поручиться нельзя, — философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзности этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок, — заскочуть с хлангу. Бывало.
Ах, типун на язык! «С хлангу»! Господи боже мой! Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок — в огненных отблесках. «Поручиться нельзя»! Туманы — в тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле…
Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности. При чем здесь я!!
Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеватых листах, стены кабинета… Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкалвеком ущелье…
Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками… Ах!.. Напали!
…Да нет! Это чудится… Все тихо. Пофыркивают лошади, рядами лежат черные бурки — спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет…
Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь — свинец. Пропадает из глаз умирающий костер… Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница…
Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете — золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. «Тебя я, вольный сын эфира». Склянка-то с эфиром лопнула на солнце… Мягче, мягче, глуше, темней. Сон.
IX
Дым и пух
Утро.
Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал.
Взяли Чечен-аул…
И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым уличкам метет пламенная вьюга, отдельные дымки свиваются в одну тучу, и ее тихо относит на задний план, к декорации оперы «Демон».
Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси.
У нас на стоянке с утра идет лукулловский пир. Пятнадцать кур бухнули в котел. Золотистый, жирный бульон — объедение. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев.
А там, в таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Уэун со всадниками.
Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом — не жги аулов.
Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный.
Я всегда говорил, что фельдшер Голендрюк — умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство. Начальство приказало мне «произвести расследование». С удовольствием. Силу на ящике с медикаментами и произвожу. Результат расследования: фельдшер Голендрюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка.
X
Достукался и до чеченцев
Жаркий сентябрьский день.
…Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый, здесь все может произойти. Что угодно. Коротко говоря: нет отряда.
Над головой — раскаленное солнце, кругом — выжженная травка. Забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке — я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное — ни души. Ну ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейса — ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками, и чеченцы. Если б не дымок от догорающего в верстах пяти Чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало.
Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180°, посмотрел и направо, и назад, и вперед, и вверх и слез со словами:
— Паршиво.
Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили пять аулов, предсказать нетрудно. Для этого не нужно быть пророком
…………………………………………
Что же, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно.
Поехали наобум.
…Ворон взмыл кверху. Другой — вниз. А вон и третий. Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом. Голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги голые. Кинжала нет. Патронов в газырях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа:
— И веревочка пригодится.
Под левой скулой — черная дыра, от нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Раздраженные вороны вьются невысоко, покрикивают…
Дальше!
…Цейс галлюцинирует! Холм, а на холме, на самой вершине, — венский стул! Кругом пустыня! Кто на гору затащил стул? Зачем?..
…Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит.
Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил.
Под вечер.
Готово! Налетели. Вот они. горы, в двух шагах. Вон ущелье. А из ущелья катят. Кони-то. кони! Шашки в серебре… Интересно, кому достанется моя записная книжка? Так никто и не прочтет! У Шугаева лицо цвета зеленоватого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет! Шугаев дернулся. Хотел погнать лошадей и замер.
Глупости. Кони у них — смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложится, и кончен бал.
— Э-хе-хе, — только и произнес Шугаев.
Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали.
Зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свидания, солнышко…
…И чудеса в решете!.. Наскакали, лошади кругом танцуют. Не хватают, галдят:
— Та-ла-га-га!
Черт их знает, что они хотят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел. Схватят — суну в рот. Так оно лучше. Так научили.
А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают вдаль:
— А-ля-ма-мя… Болгатоэ-э!
— Шали-аул! Го-го-гыр-гыр.
Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке:
— Шали, говоришь. Так, так. Наша Шали-аул пошла? Так, так. Болгатоэ. А наши-то где? Там?
Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают.
Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.
— Мирные! Мирные, господин доктор! Замирили их. Говорят, что наши через Болгатоэ на Шали-аул пошли. Проводить хотят! Да вот и наши! С места не сойти, наши!
Глянул — внизу у склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейса видит.
У чечен лица любовные. Глаз с Цейса не сводят.
— Понравился бинок, — хихикнул Шугаев.
— Ох, и сам я вижу, что понравился. Ох. понравился. Догнать бы скорей колонну!
Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает:
— Не извольте беспокоиться. Тут не тронут. Вон они наши! Вон они! Но ежели бы версты две подальше. — Он только рукой махнул.
А кругом:
— Гыр… гыр!
Хоть бы одно слово я понимал! А Шугаев понимает и сам разговаривает. И руками, и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем…
XI
У костра
Горит аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджавши ноги и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренные, покорившиеся. Наши союзники. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше…
XII
…………………………………………
XIII
Декабрь.
Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18°. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью глубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же, в самом деле, людям! Колыхнулась теплушка, залязгало, застучало внизу. Покатились.
Не помню, как я заснул и как я выскочил. Но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливало, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд…
Шугаева жалко. Ногу переломил.
До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых…
Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо. Посмотрел кругом…
Тень фельдшера Голендрюка встала передо мной… Но куда, к черту! Я интеллигент.
XIV
Великий провал
Февраль.
Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку… Безумие какое-то.
И сюда накатилась волна…………………
…………………………………………
Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голендрюк! Довольно глупости, безумия. В один год
я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на десять томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом…
Довольно!
Все ближе море! Море! Море!
…………………………………………
Проклятие войнам отныне и вовеки!

Красная корона
(Historia morbi)[15]

Впервые — «Литературное приложение»
к газете «Накануне», 22 октября 1922 г.
Воскресный день начинался прекрасно.
Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора № 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь был причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).
В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:
— Господин генерал, вы — зверь. Не смеете вешать людей.
Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет; я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам. чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди… Это отвратно.
* * *
Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним — желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей — огромный ржавый квадрат. Вывеска. «Зуботехническая лаборатория». Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и, если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих, важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.
* * *
Старуха мать сказала мне:
— Я долго так не проживу. Я вижу — безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.
Я молчал.
Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль:
— Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.
Она лгала. Разве она отпустила бы его опять? Я молчал.
— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.
Я не выдержал и сказал, пряча глаза:
— Хорошо.
Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо:
— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.
Как можно дать такую клятву?
А я, безумный человек, поклялся:
— Клянусь.
* * *
Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему 19 лет.
После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах, у речонки. Необыкновенно был яркий день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.
— Коля, Коля! — Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве.
Он дрогнул. В шеренге хмурые, потные солдаты повернули головы.
— А… брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда — брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой. Стой здесь, — продолжал он, — у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.
У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.
И я шептал ему:
— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда, и навсегда.
— Что ты, брат?
— Молчи. — говорил я, — молчи. Я знаю.
Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.
Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.
* * *
Через час
я увидел его. Так же, рысью, он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них — правый — то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца,
я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос, и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-клочьями.
Всадник — брат мой, в красной лохматой короне, — сидел неподвижно на взмыленной лошади, и, если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.
Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там. где час назад светились ясные глаза…
Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.
И голос сказал:
— Эх, вольноопределяющего нашего… осколком. Санитар, зови доктора…
Другой охнул и ответил:
— С-с… что ж, брат, доктора. Туг давай попа.
Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор…
* * *
Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз. еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне — значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью.
Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:
— Брат, я не могу оставить эскадрон.
И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке, с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же. Честь. Затем:
— Брат, я не могу оставить эскадрон.
Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит — значит, я сошел с ума.
* * *
Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной — портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке, с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой:
— Брат, идем ко мне в комнату. Что
я тебе покажу!..
В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав «иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.
* * *
Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил говорить мне вечно.
Я решил положить конец. Сказал ему с силой:
— Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя, за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.
Господин генерал, он промолчал и ушел. Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены так же, как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.
Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя, Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в № 27-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:
— Безнадежен.
* * *
Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна — старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.
Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:
— Я не могу оставить эскадрон.
Да, я безнадежен. Он замучит меня.

Богема

Впервые — журн. «Красная нива», 1925. № 1.
I
Как существовать при помощи литературы.
Верхом на пьесе в Тифлис
Как перед истинным богом, скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.
Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.
Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!., «грозный призрак»… Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю — грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев — светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.
Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически:
— Что ж это вы так приуныли? (Это Гензулаев.)
— Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе…
— Не спорю. Владикавказ — паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?
— Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в Особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.
— За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно. Хотят посадить — значит, я подозрительный.)
— За насмешки.
— Ну-у. вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что…
И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев назубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.
Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.
— Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.
— Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.
Мы ее написали в 7,5 дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.
Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, впрочем… впрочем… вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921–1924 годов и начинаю сомневаться…), ну, не первую — вторую или третью.
Словом: после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо, и единственно, на что я надеюсь, — это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто — мне. Сто — Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи «Да здравст…» и полос тумана.
Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.
Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:
1) В Тифлисе открыты все магазины.
2) — «— есть вино.
3) — «— очень жарко и дешевы фрукты.
4) — «— много газет, и т. д., и т. д.
Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество — одеяло, немного белья и керосинку.
В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 году. Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом: «Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?»
Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал куда следует заявление и в графе, в которой спрашивается: «А зачем едешь?» — написал с гордостью: «В Тифлис для постановки моей революционной пьесы».
Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял как пришитый у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.
Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным:
— Зачем едете?
— Для постановки моей революционной пьесы.
Тогда юноша запечатал ордер в конверт и конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив:
— В Особый отдел.
— А зачем? — спросил я.
На что юноша не ответил.
Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:
— Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать, Грех выйдет.
— Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю, — ответил я совершенно искренно.
И угостил его папиросой.
Дружески покуривая, мы пришли в Особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось — три.
1) В 1907 году, получив 1 руб. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф.
2) В 1913 году женился вопреки воле матери.
3) В 1921 году написал этот знаменитый фельетон.
Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.
Для сведения лиц, не бывавших в Особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом — маленький человек в военной форме, с очень симпатичным лицом.
Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.
Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее.
— Э, нет. Это не я. — поспешно заявил я.
— Усы сбрить можно, — задумчиво отозвался симпатичный.
— Да, но вы всмотритесь, — заговорил я, — этот черный как вакса, и ему лет сорок пять. А я блондин, и мне двадцать восемь.
— Краска? — неуверенно сказал маленький.
— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос.
Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.
— Верно. Не похож.
Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.
— Вы бухгалтер?
— Боже меня сохрани.
Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.
— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, — скороговоркой проговорил маленький.
— Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я.
Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.
— Пьесы сочиняете?
— Да. Приходится.
— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?
В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:
— Да, хорошую.
Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед Особым отделом, я должен был бы ответить так: «Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис».
Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.
Маленький сказал тому с винтовкой:
— Проводи литератора наружу.
_____
Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в Особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.
Но забудь!!!
II
Вечные странники
В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе — и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.
Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот. на седьмом пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку».
— Возьмите меня с собой, — попросил я.
— Не возьму. — ответил бородатый.
— Пожалуйста, для постановки революционной пьесы, — сказал я.
— Не возьму.
Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.
— А какая пьеса? — спросила она.
— Вот.
Я развязал одеяло и вынул пьесу.
— Сами написали? — недоверчиво спросил владелец теплушки.
— Еще Гензулаев.
— Не знаю такого.
— Мне необходимо уехать.
— Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из политпросвета.
— Я не буду выкомаривать, — сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное, — на полу могу.
Бородатый сказал, сидя на нарах:
— У вас провизии нету?
— Денег немного есть.
Бородатый подумал:
— Вот что… Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?
— Все что угодно, — уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.
— Даже фельетон? — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.
— Фельетон — моя специальность.
Три лица появились в тени нар и одни босые ноги Все смотрели на меня.
— Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын, — басом сказали ноги, — я пущу товарища фельетониста.
— Ну, пусти, — растерянно сказал Федор с бородой. — А какой фельетон вы напишете?
— Вечные странники.
— Как будет начинаться? — спросили нары. — Да вы полезайте к нам чай пить.
— Очень хорошо — вечные странники. — отозвался Федор, снимая сапоги. — вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.
_____
Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ!

Москва краснокаменная

Впервые — газ. «Накануне», 1922 г., 30 июля.
I
Улица
Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа.
Хорошо у храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.
За храмом, там. где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.
Гуляй — не хочу.
Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — «Ява» рассыпная!» — скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у храма, ступени у пьедестала пусты. Молчат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходило. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы — вали в магазин.
У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли — во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе
[16]. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисеев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:
— Э… э… два фунта…
Приказчик в белом фартуке:
— Слуш…с-с…
И чирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а оттого, что рядом, где подозрительнее.
— В кассу прошу…
Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сто.
Одна настоящая, с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками, — фальшивая.
В Эм-пе-о-елисеевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры-гроздья, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18-го по 22-й год!
А мимо, по избитым торцам, — велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На «автоконьяке» ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь — за автомобилем сизо-голубой удушливый дым столбом.
Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в стомиллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.
Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. АРА
[17].
Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 году, и такие, как будут в 2022-м, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется, наглы, с «лимонными» людьми — угодливы:
— Вас возил, господин!
Обыкновенная совпублика — пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название: граждане (ударение на втором слоге), — ездит в трамваях.
Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещет в Москве. Большею частью — ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон «Аннушка» заворачивает под часы у Пречистенских ворот. Внутри — кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а «лезут». Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите повисните! Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.
— Граждане, нельзя с вещами.
— Да что вы… маленький узелочек…
— Гражданин! Нельзя!!! Как вы понятия не имеете!! Звонок. Стоп. Выметайтесь.
И:
— Граждане, получайте билеты. Граждане, продвигайтесь вперед.
Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей — омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадается уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.
Катит пестрый маскарад в трамвае.
На трамвайных остановках гвалт, гомон. Чревовещательные сиплые альты поют:
— Сиводнишняя «Известия-а».. Патриарха Тихххх-а-а-ана… Эсеры… «Накану-у-уне»… Из Бирлина только што па-а-алучена.
Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В Центр.
Летит мимо Московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего-чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей.
Цупвоз. Цустран. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство «сандаль». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и «мальчиковая». Врывсельпромгвиу. Униторг, Мосторг и Главлесторг. Центробумтрест.
И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура-скелет руки к небу тянет. Помоги! Голод. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых. обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься, представишь себе, и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо стен, не оглядываются…
До поздней ночи улица шумит. Мальчишки — красные купцы — торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Взвизгивают скрипки в кафе «Куку». Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках… Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником…
…Ночью спец, укладываясь, неизвестному Богу молится:
— Ну что тебе стоит? Пошли назавтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.
И мечтает:
— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет…
И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время — ночью. А наутро на небе — ни пылинки!
И баба бабе у ворот говорит:
— На небе-то, видно, за большевиков стоят…
— Видно, так, милая…
В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.
С двухцветными эскадронными значками — разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.
Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает — никому не известно… Ночью транспаранты горят. Звезды…
…И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.
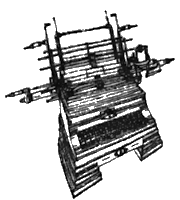
Похождения Чичикова
Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом

Впервые — «Литературное приложение» № 19
к газете Накануне», 1922 г., 24 сентября.
_____
— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.
— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.
Пролог
— Диковинный сон… Будто вы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.
Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже. Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка. Фетинья…
А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.
И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты…
I
Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:
— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в два счета выкинут, к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни Бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне…
И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.
Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось. но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие № такой-то», и. само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.
— Комнату!
— Ордер пожалте!
Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.
— Управляющего!
— Трах! — управляющий — старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку». а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович чем бог послал и полетел устраиваться на службу.
II
Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.
— Пишите анкету.
Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..
Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.
«Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что я за сокровище, и…»
И ничего ровно не случилось.
Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.
Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.
III
А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, оглянулся Чичиков и видит: куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:
— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!
Глянул — Собакевич.
Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Слопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех христопродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек — делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!
Дали академический.
Чичиков, лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху мать, которой на свете не было. И всем — академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.
А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения — получать места.
Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал.
Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным, коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И наконец до того доврался, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.
Когда же зять его Мижуев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.
Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.
Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.
IV
Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать — и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева: бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.
И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсинов капиталу.
Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.
В учреждении только рты расстегнули — выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — «Пампуш на Твербуле». Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.
— Подайте техническую смету.
У Чичикова смета уже за пазухой. Дали в аренду.
Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует:
— Аванс пожалте.
— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.
Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.
За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря — Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей.
— Верно. Получите ордер.
Кассир только крякнул, глянув на итог. Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.
А затем в другое учреждение:
— Пожалте подтоварную ссуду.
— Покажите товары.
— Сделайте одолжение. Агента позвольте.
— Дать агента!
Тьфу! И агент знакомый: Ротозей Емельян.
Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.
— М-да… И все ваше?
— Все мое.
— Ну, — говорит Емелин, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не мильонщик, а трильонщик!
А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь.
— Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.
А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:
— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы. — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?
И вертит его во все стороны.
Так что Емельян взмолился:
— Верю! Вижу… только отпусти душу на покаяние.
Поехали обратно в учреждение. Там спрашивают:
— Ну что?
Емельян только рукой махнул.
— Это. — говорит, — неописуемо!
— Ну, раз неописуемо — выдать ему n+1 миллиардов.
V
Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все разрешено», пожелала недвижимость приобрести: он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.
И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире».
VI
Но вдруг произошел крах.
Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Го-голь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.
Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва.
А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж — казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.
А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловещее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания… Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в Наркомздрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т. д
[18].
Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам.
Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов, и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу. Ноздрев ответил, что это правда и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.
После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один.
Правда, Гоголя он тоже, как и все. в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла. Он и воскликнул: «А знаете, кто такой Чичиков?» И когда все хором грянули: «Кто?!» — он произнес гробовым голосом: «Мошенник».
VII
Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регистраторше.
— Откуда я знаю? У Иван Григорьича.
К Иван Григорьичу:
— Где?
— Не мое дело. Спросите у секретаря, и т. д… и т. д.
И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг— она.
Стали читать — и обомлели.
Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому— неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает.
Собственноручная подпись? Обмакни!!
Прочитали и окаменели.
Крикнули инструктора Бобчинского:
— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!
Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.
— Чрезвычайное происшествие!
— Ну!!
— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а АРА.
Туг все взвыли:
— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича ловить его надо!
И стали ловить.
VIII
Пальцем в кнопку ткнули:
— Кульера.
Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.
— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.
Петрушка сказал:
— Слушаю-с.
Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.
Позвонили Селифану в гараж:
— Машину. Срочно.
— Чичас.
Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел. загудел и полетел.
Какой же русский не любит быстрой езды?!
Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной терции времени избрал второе, от трамвая увернулся и как вихрь с воплем «Спасите!» въехал в магазин через окно.
Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:
— Уволить обоих, к свиньям!
Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь. А дело тем временем кипело дальше!
— Авансовую ведомость!
— Извольте.
— Попросить сюда Неуважая-Корыто.
Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.
— Кувшинное Рыло?
Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.
Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!
Прицепились к машинистке:
— Вы?!
— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизаветъ с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот…
И в слезы. Оставили в покое.
А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.
И напрасно гоняли машину по адресу: поворотя направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось. а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.
Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.
IX
Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкусу не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева — с электрификацией, Коробочкина покупка — с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян, и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то панама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!
Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц), и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт: миллиарды были и исчезли. Наконец встал какой-то Дядя Митяй и сказал:
— Вот что, братцы… Видно, не
миновать нам следственную комиссию назначить.
X
И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:
— Поручите мне.
Изумились:
— А вы… того… сумеете?
А я:
— Будьте покойны.
Поколебались. Потом красным чернилом:
«Поручить».
Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!). Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов:
— Не угодно ли чего?
А я им:
— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.
Набрал воздуху и гаркнул так. что дрогнули стекла:
— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!
— Так что подать невозможно… Телефон сломался.
— A-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!
Батюшки! Что тут началось!
— Помилуйте-с… что вы-с… Сию… хе-хе… минутку… Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!
В два счета починили и подали. И я рванул дальше:
— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его. прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, кто их назначил, — тоже. Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку — в учетное отделение! Ноздрева — в подвал… В минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!! Со дна моря достать!!
Гром пошел по пеклу…
— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!
А я:
— Чичикова мне сюда!!
— Н…н…невозможно сыскать. Они скрымшись…
— Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его место.
— Помил…
— Молчать!!
— Сию минуточку… Сию… Повремените секундочку. Ишут-с.
И через два мгновения нашли!
И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.
— Мать?! — гремел я. — Мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!
Вскрыли его. Тут они.
— Все?
— Все-с.
— Камень на шею — ив прорубь!
И стало тихо и чисто. И я по телефону:
— Чисто.
А мне в ответ:
— Спасибо. Просите чего хотите.
Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:
«Брюки… фунт сахару… лампу в 25 свечей…»
Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:
— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.
И… бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь! Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул:
— Ура!
И…
Эпилог
…конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя…
«Э-хе-хе», — подумал
я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.

№ 13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна

Впервые — Красный журнал для всех, 1922, № 2, (декабрь).
Речь идет о пятиэтажном доходном доме на Большой Садовой, 10, который московский миллионер Пигит выстроил в 1906 году. С 1921-го по лето 1924 года М. А. Булгаков с женой, Т. Н. Лаппа, жили в квартире № 50. описанной в этом рассказе, а затем переехали в квартиру № 34.
В первые послереволюционные годы из дома Пигита были «выселены классово чуждые элементы. Взамен исчезнувших жильцов появились новые — рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся — это интеллигенты из тех, кто либо сразу приняли революцию, либо постепенно осваивались с ней» (Левшин В. Садовая. 302-бис. — Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 172).
_____
Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит…
Однажды, например, в десять вечера стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.
В квартире № 3 генерала от кавалерии Де-Баррейн он до трех гостил.
До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон Венгерской рапсодии, сарпссюко, — то цыганские буйные взрывы:
Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю-эх!
Раз… еще раз…
До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у Де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.
Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.
А в № 2 Христи, да что Христи… Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли. каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком… Да что говорить. Был дом… Большие люди — большая жизнь.
В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы… В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов… Ковры… В кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми. не то больными, не то уголовными, глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще… И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам…
Большое было время…
И ничего не стало. Sic transit gloria mundi
[19].
Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, господи?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!
Да… А вещи остались. Вывезти никому не дали.
Эльпит сам ушел в чем был.
Вот тогда у ворот рядом с фонарем (огненный «№ 13») прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них — сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:
— Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!
В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты… Да, впрочем, что тут рассказывать…
Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.
Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался… Христи.
Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери Де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой — «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.
И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатушках на другом конце Москвы.
— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! — страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. — Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!
Христа верил, кивал стриженой седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.
А главное — топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.
— Ну, хорошо… Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О нет, нет! Ни на минуту…
Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.
— Нилушкина Егора туда вселить…
— Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.
В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но… Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христа до лучших дней.
И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет… Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:
— А. чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.
И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:
— Мань! А Ма-ань! Где ты?
Опять к монтеру ходили:
— Сво-о-лочь ты! Пяндрыга. Христа пожалуемся.
И от одного имени Христа свет волшебно загорался.
Да-с, Христа был человек.
Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий>. Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:
— Которые тут гадют, всех в двадцать четыре часа!
И с уличенных брал дань.
И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:
— Дадим через неделю.
Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:
— Ой… Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?
И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замученные глаза. У стального Христи.
Эльпит страстно ответил:
— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом, к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция… Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Иванычу.
В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:
— Ну что ж… Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек…
И правление соглашалось:
— Конешно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.
И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржуек, не вывели бы труб в отверстия, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.
И Нилушкин Егор ходил:
— Ежели мне которые… Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.
На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:
— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают — самогон лакают. А как обзаботиться топить — их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету — не дозволять! Косой черт! (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоптить… Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..
И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:
— Ах, зануда баба… Ну и зануда ж!
Но все же оборачивался и гулко отстреливался:
— Я те затоплю! В двадцать четыре…
Сверху:
— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!
Не осуждайте. Пытка — мороз. Озвереет всякий…
…В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комнате 5, стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.
— Ах, тяга хороша! — восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой. то на черное кольцо, уходившее в отверстие. — Замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.
И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть… А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком… Да на чердак.
…………………………………………
Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской… Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску…
— Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!!
Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели — змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, вперебой…
— Барышня! Ох, барышня!! Один — ох — двадцать два… восемнадцать. Восемнадцать… Краснопресненскую даешь!..
…Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.
— По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!
Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-кровавых шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром. гром. На двадцатой минуте Го-родская, с искрами, с огнями, с касками…
Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!
…Еще много, много раз…
А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не cappriccio, а страшно — brioso. Сретенская с переулка — да-е-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока — ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.
Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49-м номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И. взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. «Скорую помощь»! 1-22-311! Кровавую лепешку лечить! Угодники Божии! Ванюшка сгорел. Ванюшка!! ГД. е папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!
Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило и третьему перебило позвоночный столб.
С самоваром в одной руке, в другой — тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят гремят. Осади!!. Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.
И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные, — бенц! Бенц!
Трубники в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что — резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут…
…………………………………………
В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел не отрываясь туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.
Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:
— Ну, что уж больше… Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.
Но Христи еще раз качнул головой:
— Поезжайте… Я сейчас.
Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь…
…На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С затушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.
То шептала чепуху какую-то:
— Засудят… Засудят, головушка горькая…
То всхлипывала.
Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу… так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.
Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.
Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков…»
Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.
А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться, туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.
И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 — дом Эльпит-Рабкоммуна.
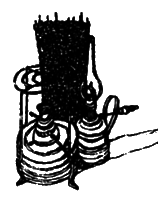
Сорок сороков

Впервые — газ. «Накануне», 1923 г., 15 апреля.
_____
Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица как Москва.
Панорама первая.
Голые времена
Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921 года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо. что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва-мать, Москва — родной город. Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.
Затем Москва показалась при дневном освещении, сперва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.
Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рожденный ползать, — и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие «чижиков», трудгужналог и тому подобные напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской.
К героям нечего было и идти. Герои были сами голы как соколы и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов.
Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью — смерть. Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня, при первом же взгляде на мой костюм, в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то, во всяком случае, его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокоротной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце — железным, глаза — зоркими. Я — закален.
Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель М…». Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала:
— Заперто, заперто, и никого, товарищ, нетути!
И после этого провалилась в какой-то люк.
Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.
Панорама вторая.
Сверху вниз
На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее
[20], а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.
— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.
— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.
— Брось ты это чертово слово — ответил я. — Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.
На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.
Внизу было занятно и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.
И, спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.
Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла, в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.
Это был апрель 1922 года.
Панорама третья.
На полный ход
В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и, глухо, вперебой, с бульвара неслись звуки оркестров.
На вышке трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набежавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей-девицей в сарафане, — пел частушки:
У Чичерина в Москве
Нотное издательство!
Пианино рассыпалось каскадами.
— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами. — Бис!
Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов.
— Бис! — кричал нэпман, потоптал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:
— Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.
С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.
Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом — в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.
На Тверской звенели трамваи, и мостовая была навороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.
Это был душный июль 1922 года.
Панорама четвертая.
Сейчас
Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронтоне бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками, с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд.
Другой — такой: в излюбленный час театральной музы, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне — ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне — волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше.
В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактового действа нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьеры ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь партер, сложа руки рупором:
— Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!
Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. «Мюр и Мерилиз», лишь начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: «Государственный универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром
[21] две огненные строчки, то гаснут, то вспыхивают: «Сегодня банкноты 251». В Столешниковом на экране корявые строчки: «Почему мы советуем покупать ботинки только в…». На Страстной площади на крыше экран — объявления, то цветные, то черные, вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет «Реклама».
Все больше и больше этих зыбких, цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильней. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение a glotno
[22]. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.
Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз.
С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, ползут по разъезженному, рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под старой зубчатой стеной они один за другим валят под уклон вниз к «Метрополю». Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельма сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар Госкино-11. Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов
[23] и высунул в подъезде карточку: «Крестьянский суп». В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.
Часовню, что была на маленькой площади, там. где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.
Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот — сквер, простор, далеко видно… Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре, в дыму, в грохоте, рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:
Пойдем, пойдем, ангел милый,
Польку танцевать с тобой.
С-с-с-с-слышу, с-с-слышу, с-с-сл…..
Польки звуки неземной!!
Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет…
И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки — готовят Всероссийскую выставку.
И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом взлезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва-мать.

Самоцветный быт
Из моей коллекции
Впервые — «Литературное приложение» № 61
к газ. «Накануне», 1923 г., 15 июля.
_____
Все правда, за исключением последнего: «прогрессивный аппетит».
1. В волнах азарта
Знакомый журналист сообщил мне содержание следующего документа:
«Гражданину директору казино Капельмейстера З.
Заявление
Имею честь заявить, что в вашем уважаемом «Монако» я проиграл: бесценные мои наследственные золотые часы, пять тысяч рублей дензнаками 23 г. и 16 инструментов вверенного мне духового оркестра, каковой вследствие этого закрылся 5 числа.
Ввиду того что я нахожусь теперь в ожидании пролетарского суда за несдачу казенного обмундирования, выразившегося в гимнастерке, штанах и поясе, прошу для облегчения моей участи выдать мне хотя бы три тысячи».
На заявлении почерком ошеломленного человека написано: «Выдать».
2. Средство от застенчивости
Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты:
«Товарищ редактор,
Пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова (отчество и фамилия). Означенный Яков (отчество и фамилия) омрачил наш Международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика как зюзя пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и оборвав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работниц, которая дружно, как один, заполнила клуб.
Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содокладом от страха, ввиду того что он с женским полом застенчив. Позор Якову (отчество и фамилия). Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно».
3. Сколько Брокгауза может вынести организм
В провинциальном городишке В. лентяй библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.
Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза.
Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы — А.
Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер).
Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдельской грымзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, «много ли осталось». В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидел на улице В. у входа в мастерские Бана Абуль Абас-Ахмет-Ибн-Магомет-Отман-Ибн-Аль, знаменитого арабского математика, в белой чалме.
Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего «Тальме-Амаль-Аль-Хисоп», догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло его от 2-х визитов в молчании бессонной ночи — сперва развитого синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Димитрия Николаевича Бантыш-Каменского.
День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Бньюмас, Боньер де-Бигир и через два Боньякавало, человека и город.
Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.
Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря.
— Читаю, читаю, — рассказывал слесарь корреспонденту, — слова легкие: Мечислав, Богуслав. и хоть убей, не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю. Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.
У него на глазах были слезы.
Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его безголовым моллюском и барсучьей шкурой.
4. Иностранное слово «мотивировать»
На Н… заводе в провинции нэпман совместно с администрацией отвоевали у рабочего квартиру, зажав его с семьей в сыром и вонючем подвале.
Бедняга долго барахтался в сетях юридических кляуз, пока наконец не пришел в отчаяние и не написал в московскую газету послание, предлагая «заплатить последнее», лишь бы его напечатать.
Газета письмо напечатала. Через две недели пришло второе:
«Не знаю, как вас и благодарить. Дали квартиру. Только администрация мотивировала меня разными словами в оправдание своих доводов как кляузника».
5. «Работа среди женщин»
Ответственный работник из центра, прямо с поезда сорвавшись, обрушился в провинциальное учреждение типа просветительного.
— Как, товарищ, у вас работа среди женщин? — скороговоркой грянул столичный, типа — time is money
[24].
— Ничего. — добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой, — у нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу.
6. Р.У.Р.
«Мы вам не Рур», — было написано на плакате.
— Российское управление Романовых, — прочитала моя знакомая дама и прибавила: — Это остроумно. Хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия.
7. Курская аномалия
— А много ее действительно, — спросил квартхоз, возвращая мне газету, — или так, очки втирают. Ежели много, можно было бы англичанам продать…
— Вот именно, — согласился я, — пускай подавятся!
8. Прогрессивный аппетит
Подоходный налог. Одного обложили в 10 миллиардов. Срок 10-го числа в 4 час. дня. Он 9-го утром принес деньги и не протестовал и не подавал заявлений. Молча уплатил.
«Мы его мало обложили», — смекнул инспектор и обложил дополнительно в 100 миллиардов. Срок 15-го, 4 час. дня.
14-го в 10 ч. утра принес.
— Эге-ге! — сказал инспектор.
Обложили в триллион. 20-го, 4 час. дня.
20-го в 4 час. дня обложенный привез на ломовике печатный станок.
— Печатайте сами, — сказал он растерянно.
Анекдот сочинен московскими нэпманами, изъязвленными налогом.
Самогонное озеро
Повествование

Впервые — газ. «Накануне», 1923 г., 29 июля.
Действие рассказа происходит в кв. 50 в доме на Большой Садовой, 10. (См. коммент, к рассказу «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна»).
_____
В десять часов вечера под Светлое Воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки.
Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О, миг блаженный, светлый час!..
…Ив десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.
Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50. не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то
обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух — не соловей и в довоенное время пел на рассвете.
— Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены.
Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовый вой в до-диез, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.
Захлопали все двери, загремели шаги. Твена я бросил и кинулся в коридор.
В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался и, не закрывая рта, испускал этот самый исступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (ферма-то) сменилась речитативом.
— Так-то, — хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами, — Христос Воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!! А-а-а-а!!
И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.
Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного.
Павловна, Шурка, шофер. Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.
Квартхоз квартиры № 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.
— Иван Гаврилович! Побойся бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах. — Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под Светлое Христово Воскресение! Иван Гаврилович, приди в себя!
Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.
Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка. И пусть я заведу себе своих Шурок» и ем их с кашей. «Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за истязание ребенка», — помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст «заявку» в правление, чтобы меня выселили. «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные».
Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки вывели на лестницу. Неизвестный шел багровый, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой (atropa belladonna).
Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.
Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:
— Пошел мой сукин сын (читай «квартхоз» — муж Катерины Ивановны), как добрый, за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Йизрилыча пригласил — идем, говорит, попробуем. Все люди как люди, а они налакались, прости, Господи, мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе. Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми и взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха моего хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, Господь его ведает!..
В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену — и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал:
— Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч. Глава дома — и не можешь с бабой совладать.
Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, причем он порезал себе руку (Василь Иваныч, после слов председателя, вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну. «Так я ж ей покажу»).
Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, и Василь Иваныч заснул со словами:
— Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит.
Председатель ушел со словами:
— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь самогон.
В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование,
я не могу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.
— Драсс… гражданин жури…лист, — сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром. — Як вам.
— Очень приятно.
— Я насчет эсперанто…
— ?
— Заметку бы написа… статью… Желаю открыть общество… Так и написать. Иван Сидорыч, эсперантист, желает, мол…
И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык).
Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.
— Впрочем… Извин… С… я завтра.
— Милости просим, — ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену).
— Его нельзя выгнать? — спросила по уходе жена.
— Нет, детка, нельзя.
Утром в девять праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна), и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.
В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии). Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре.
В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:
— Самогоном торгуют. Желаю арестовать.
— А ты не путаешь? — мрачно спросили его где следует. — По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.
— Нету? — горько усмехнулся Василий Иванович. — Очень даже замечательны ваши слова.
— Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше проспись. Завтра подашь заявление, которые с самогоном.
— Так-с… понимаем, — сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иваныч. — Стало быть, управы на их нету? Пущай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть.
Четверть оказалась с «явно выраженным запахом сивушных масел».
— Веди! — сказали тогда Василию Ивановичу.
И он привел.
Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:
— Сбегай к Сидоровне за четвертью.
— Очнись, окаянная душа, — ответила Катерина Ивановна, — Сидоровну закрыли.
— Как? Как же они пронюхали? — удивился Василий Иванович.
Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича, через два дома от Сидоровны. В 7 час. вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи («Не сметь бить!!», «Моя жена» И т. д.).
В 8 час. вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала:
— Больше я не могу. Сделай что хочешь, но мы должны уехать отсюда.
— Детка, — ответил я в отчаянии. — Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит двадцать миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.
— Я не о себе, — ответила жена. — Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий.
При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был полон металла:
— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко.
Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре
[25].
Заключение
У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы если не полностью, то на 90 %.
Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалованье им нужно положить очень высокое (рублей 400 золотом. Дело оправдает). 100 человек. Мне — квартиру в три комнаты с кухней и единовременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене, в случае если меня убьют.
Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедля. Судебное разбирательство в течение 24 часов, и никаких замен штрафом.
Я произведу разгром всех Сидоровн и Макеичей и отраженный попутный разгром «Уголков», «Цветков Грузии», «Замков Тамары» и тому подобных мест.
Москва станет как Сахара, и в оазисах под электрическими вывесками «Торговля до 12 час. ночи» будет только легкое красное и белое вино.

День нашей жизни
Повествование

Впервые — газ. «Накануне», 1923 г., 2 сентября.
_____
— А вот угле-ей… углееееей!..
— Вот чертова глотка.
— …глей… глей!!.
— Который час?
— Половина девятого, чтоб ему издохнуть.
— Это значит, я с шести не сплю. Они навеки в отдушине поселились. Как шесть часов, отец семейства летит и орет как сумасшедший, а потом дети. Знаешь, что я придумала? Ты в них камнем швырни. Прицелься хорошенько, и попадешь.
— Ну да. Прямо в студию, а потом за стекло два месяца служить.
— Да, пожалуй. Дрянные птицы. И почему в Москве такая масса ворон… Вон за границей голуби… В Италии…
— Голуби тоже сволочь порядочная. Ах, черт возьми! Погляди-ка…
— Боже мой! Не понимаю, как ты ухитряешься рвать?
— Да помилуй! При чем здесь я? Ведь он сверху донизу лопнул. Вот тебе твой ГУМ универсальный!
— Он такой же мой, как и твой. Сто миллионов носки на один день. Лучше бы я ромовой бабки купила. На зеленые.
— Ничего,
я булавочкой заколю. Вот и незаметно. Осторожнее, ради бога!..
— Ты знаешь. Сема говорит, что это не примус, а оптамус.
— Ну и что?
— Говорит, обязательно взорвет. Потому, что он шведский.
— Чепуху какую-то твой Сема говорит.
— Нет, не чепуху. Вчера в шестнадцатой квартире у комсомолки вся юбка обгорела. Бабы говорят, что это ее Бог наказал за то, что она в комсомол записалась.
— Бабы, конечно… они понимают…
— Нет, ты не смейся. Представь себе, только что она записалась, как — трах! — украли у нее новенькие лаковые туфли. Комсомолкина мамаша побежала к гадалке. Гадалка пошептала, пошептала и говорит: взяла их, говорит женщина, небольшого росту, замужняя, на щеке у ей родинка…
— Постой, постой…
— Вот то-то ж. Ты слушай. То-то я удивляюсь, как ни прохожу, все комсомолкина мамаша на мою щеку смотрит. Наконец потеряла я терпение и спрашиваю: что это вы на меня смотрите, товарищ? А она отвечает: так-с, ничего. Проходите, куда шли. Только довольно нам это странно. Образованная дама, а между тем родинка. Я засмеялась и говорю: ничего не понимаю! А она: ниче-го-с, ничего-с, проходите. Видали мы блондинок!
— Ах, дрянь!
— Да ты не сердись. Прилетает комсомолка и говорит мамаше: дура ты, у ей муж по 12-му разряду, друг Воздушного Флота, захочет, так он ее туфлями обсыпет всю. Видала чулки телесного цвета? И надоели вы мне, говорит, мамаша, с вашими гадалками и иконами! И собиралась иконы вынести. Я, говорит, их на Воздушный Флот пожертвую. Что тут с мамашей сделалось! Выскочила она и закатила скандал на весь двор. Я, кричит, не посмотрю, что она комсомолка, а прокляну ее до седьмого колена! А тебе, орет, желаю, чтоб ты со своего Воздушного Флота мордой об землю брякнулась!
Баб слетелось видимо-невидимо, и выходит наконец комендант и говорит: вы немного полегче, Анна Тимофеевна, а то за такие слова, знаете ли… Что касается вашей дочери, то она заслуживает полного уважения со стороны всего пролетариата нашего номера за борьбу с капиталом Маркса при помощи Воздушного Флота. А вы, Анна Тимофеевна, извините меня, но вы скандалистка, вам надо валерьянкины капли пить! А та как взбеленилась и коменданту: пей сам, если тебе самогонка надоела!
Ну тут уж комендант рассвирепел: я, говорит, тебя, паршивая баба, в 24 часа выселю из дома, так что ты у меня как на аэроплане вылетишь, к свиньям! И ногами начал топать. Топал, топал, и вдруг прибегает Манька и кричит: Анна Тимофеевна, туфли нашлись!
Оказывается, никакая не блондинка, а это Сысоич, мамашин любовник, снес их самогонщице, а Манька…
— Да! Да! Войдите! В чем дело, товарищ?
— Деньги за энергию пожалуйте, тридцать пять лимонов.
— Однако! Пять, десять.
— Это что. В следующем месяце сто будет. МОГЭС
[26] по банкноту берет. Банкнот в гору. И коммунальная энергия за ним. До свиданьи-ус. Виноват-с. Вы к духовному сословию не принадлежите?
— Помилуйте! Кажется, видите… брюки…
— Хе-хе. Это я для порядку. Контора запрашивает для списков. Так я против вас напишу — трудящий элемент.
— Вот именно. Честь имею…
Отцвели уж давно-о-о хризантемы в саду-у!
— Точить ножжжи-ножницы!..
Но любовь все живет в моем сердце больном!
— Брось ты ему пять лимонов, чтоб он заткнулся.
— А за ним шарманка ползет…
— Ну, я полетел… Опаздываю… Приду в пять или в восемь!..
— Молочка не потребуется?.. Дорогие братцы, сестрички, подайте калеке убогому… Клубника. Нобель замечательная… Булочки — свежие французские… Папиросы «Красная звезда». Спички… Обратите внимание, граждане, на убожество мое!
— Извозчик! Свободен?
— Пожалте… Полтора рублика! Ваше сиятельство! Рублик! Господин!! Я катал!! Семь гривен! Я даю! На резвой, ваше высокоблагородие! Куда ехать? Полтинник!
— Четвертак.
— Три гривенничка… Эх, ваше сиятельство, овес.
— Ты куда? Я т-тебе угол срежу!
— Вот оно, ваше превосходительство, житье извозчичье.
— Эх, держи его! Так его. Не сигай на ходу!
— Вор?
— Никак нет. В трамвай на скаку сиганул. На пятьдесят лимонов штрахують.
— Здесь. Стой! Здравствуйте, Алексей Алексеич.
— Праскухин-то… Слышали? двадцать пять червонцев позавчера пристроил! Прислало отделение, а он расписался и. конечно, на бега. Вчера является к заведывающему пустой, как барабан. Тот ему говорит — даю вам шесть часов сроку, пополните. Ну, конечно, откуда он пополнит. Разве что сам напечатает. Ловят его теперь.
— Помилуйте, я его только что в трамвае видел. Едет с какими-то свертками и бутылками…
— Ну так что ж. К жене на дачу поехал отдыхать. Да вы не беспокойтесь. И на даче словят. И месяца не пройдет, как поймают.
— Allo… Да, я… Не готово еще. Хорошо… На отношение ваше за № 21580 об организации при губотделе фонда взаимопомощи сообщаю, что ввиду того, что губкасса… Машинистки свободны?.. На заседании губпроса было обращено внимание цекпроса на то, запятая… написали?.. что изданное, перед «что» запятая, а не после «что», изданное Моно циркулярное распоряжение, направленное в роно и уоно и губоно… а также утвержденное губсоцвосом…
[27] Allo! Нет, повесьте трубку…
— А я тут к вам поэта направил из провинции.
— Ну и свинство с вашей стороны… Вы. товарищ? Позвольте посмотреть…
Но если даже люди
Меня затопчут в грязь,
Я воскликну, смеясь…
Видите ли, товарищ, стихи хорошие, но журнал чисто школьный, народное образование… Право, не могу вам посоветовать… журналов много… Попробуйте… Переутомился я, и денег нет… Сколько, вы говорите, за мной авансу? Уй-юй-юй! Ну, чтоб округлить, дайте еще пятьсот… Триста? Ну, хорошо. Я сейчас поеду по делу, так вы рукописи секретарю передайте… Извозчик! Гривенник!..
— Подайте, барин, сироткам…
— Стой! Здравствуйте, Семен Николаевич!
— В кассе денег ни копейки.
— Позвольте… Что ж вы так сразу… Я ведь еще и не заикнулся…
— Да ведь вы сегодня уже пятый. Капитан за капитаном. Юрий Самойлович за Юрием Самойловичем…
— Знаю, знаю… А патриарх-то? А?
— Капитан поехал его интервьюировать…
— Это интересно… Кстати о патриархе — сколько за мной авансу?.. Двести? Нет. триста… извозчик! Двугривенный… Стой! Нет, граждане, ей-богу, я только на минуту. по делу. И вечером у меня срочная работа… Ну, разве на минуту… Общее собрание у них… Ну, мы подождем и их захватим… Стой!..
Во Францию два гренадера
Из русского плена брели!
Ого-го!.. А мы сейчас два столика сдвинем… Слушс… Раки получены… Необыкновенные раки… Граждане, как вы насчет раков? А?.. Полдюжины… И трехгорного полдюжины… Или, лучше, чтоб вам не ходить — сразу дюжину!.. Господа! Мы же условились… на минуту…
Позвольте… Позвольте… что ж это он поет?..
В плену… полководец… в плену-у-у…
А! Это другое дело. Ваше здоровье. Братья писатели!.. Семь раз солянка по-московски!
И выйдет к тебе… полководец!
Из гроба твой ве-е-рный солдат!
Что это он все про полководцев?.. Великая французская… Раки-то, раки! В первый раз вижу…
Bis! Bis!! Народу-то! Позвольте… что ж это такое? Да ведь это Праскухин! ГЦе?! Вон, вуглу. С дамой сидит! Чудеса!.. Ну. значит, еще не поймали!.. Гражданин! Еще полдюжинки!
Вни-и-из по ма-а-а-тушке по Во-о-о-лге!..
Эх, гармония хороша! Еду на Волгу! Переутомился я! Билет бесплатный раздобуду, и только меня и видели, потому я устал!
По широкому-у раздолью!..
Батюшки! Выводят кого-то!
— Я не посмотрю, что ты герой труда!!! А…а!!
— Граждане, попрошу неприличными словами не выражаться…
— Граждане, а что, если нам красного напараули?
А?.. Поехали! На минуту… Сюда! Стоп! Шашлык семь раз…
Был душой велик! умер он от ран!!
…Да на трамвае же!.. Да на полчаса!.. Плюньте, завтра напишете!..
— Захватывающее зрелище! Борьба чемпиона мира с живым медведем… Bis!!. Что за черт! Что он, неуловимый, что ли?! Вон он! В ложе сидит!.. Батюшки, половина первого! Извозчик! Извозчик!..
— Три рублика!..
— …Очень хорошо. Очень.
— Миленькая! Клянусь, общее собрание. Понимаешь. Общее собрание, и никаких. Не мог!
— Я вижу, ты и сейчас не можешь на ногах стоять!
— Деточка. Ей-богу, что бишь я хотел сказать? Да. Проскухин-то?.. Понимаешь? Двадцать пять червонцев, и, понимаешь, в ложе сидит… Да бухгалтер же… Брюнет…
— Ложись ты лучше. Завтра поговорим. — Это верно… Что бишь я хотел сделать? Да, лечь… Это правильно. Я ложусь… но только умоляю разбудить меня, разбудить меня непременно, чтоб меня черт взял, в десять минут пятого… нет. пять десятого… Я начинаю новую жизнь… Завтра…
— Слышали. Спи.

Псалом

Впервые — газ. «Накануне», 1923 г., 23 сентября.
Т. Н. Лаппа вспоминала в связи с рассказом «Псалом» о быте квартиры № 50 на Большой Садовой, 10: «Вообще дом был знаменитый… Кого только в нашей квартире не было! По той стороне, где окна выходят на двор, жили так: хлебопек, мы, дальше Дуся — проститутка: к нам нередко стучали ночью: «Дуся, открой!» Я говорила: «Рядом!» Вообще же она была женщина скромная, шуму от нее не было: тут же и муж ее где-то был недалеко… Дальше жил начальник милиции с женой, довольно веселой дамочкой… Муж ее часто бывал в командировке: сынишка ее забегал к нам…» (Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 166).
По мнению В. Левшина, в рассказе описана драма, разыгравшаяся в кв. № 34 дома № 10 на Б. Садовой.
_____
Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:
— Мозно зайти?
— Можно, пожалуйте.
Поют дверные петли.
— Иди и садись на диван!
(От двери.) — А как я по паркету пойду?
— А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?
— Нициво.
— Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?
(Тягостная пауза.) — Я ревел.
— Почему?
— Меня мама наслепала.
— За что?
(Напряженнейшая пауза.) — Я Сурке ухо укусил.
— Однако.
— Мама говорит, Сурка — негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.
— Все равно, таких декретов нет, чтоб из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.
(Обида.) — Я с тобой не возусь.
— И не надо.
(Пауза.) — Папа приедет, я ему сказу. (Пауза.) Он тебя застрелит.
— Ах так. Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелят…
— Нет, ты цай делай.
— А ты выпьешь со мной?
— С конфетами? Да?
— Непременно.
— Я выпью.
На корточках два человеческих тела — большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джерома Джерома.
— Стихи-то ты, наверное, забыл?
— Нет, не забыл.
— Ну, читай.
— Ку…куплю я себе туфли…
— К фраку.
— К фраку, и буду петь по ноцам…
— Псалом.
— Псалом… И заведу… себе собаку…
— Ни…
— Ни-ци-во-о…
— Как-нибудь проживем.
— Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.
— Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.
(Глубокий вздох.) — Пра-зи-ве-ем.
Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.
— Ты одинокий.
Джером падает на паркет. Страница угасает.
(Пауза.) — Это кто же тебе говорил? (Безмятежная ясность.) — Мама.
— Когда?
— Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присивает, присивает и говорит Натаске…
— Так-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю… Ух!..
— Горяций, ух!
— Конфету какую хочешь, такую и бери.
— Вот я эту больсую хоцу.
— Подуй, подуй и ногами не болтай.
(Женский голос за сценой.) — Славка!
Стучит дверь. Петли поют приятно.
— Опять он у вас. Славка, иди домой!
— Нет, нет, мы с ним чай пьем.
— Он же недавно пил.
(Тихая откровенность.) — Я… не пил.
— Вера Ивановна. Идите чай пить.
— Спасибо, я недавно…
— Идите, идите, я вас не пушу…
— Руки мокрые… Белье я вешаю…
(Непрошеный заступник.) — Не смей мою маму тянуть.
— Ну, хорошо, не буду тянуть… Вера Ивановна, садитесь…
— Погодите, я белье повешу, тогда приду.
— Великолепно. Я не буду тушить керосинку.
— А ты. Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.
— Я не месаю. Я не салю.
Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.
— Ты уже спать хочешь?
— Нет, я не хоцу. Ты мне сказку расскази.
— А у тебя уже глаза маленькие.
— Нет. Не маленькие. Расскази.
— Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?
— Про мальчика, про того…
— Про мальчика? Это. брат, трудная сказка. Ну, для тебя, так и быть…
Ну-с, так вот. жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.
— Как меня?
— …Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды по лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.
— Она сама дерется…
— Погоди. Это не о тебе речь идет.
— Другой Славка?
— Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да… Ну. натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, недолго думая, хвать его зубами за ухо, и пол-уха как не бывало. Гвалт тут поднялся. Шурка орет. Славку порют, он тоже орет… Кой-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили… И вдруг — звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я Славка». — «Ну, вот что, — говорит, — Славка, я — надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, — говорит, — что дрался, я и на лестнице играл в копейки, а маме бессовестно наврал, сказал, что не играл… Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». — «Ну, — говорит надзиратель, — это — другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, чего твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл…
(Сладкий, сонный бас.) — Велосипет?
— Да, да, вспомнил — велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед, и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят. Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит…
— Уже?..
Петли поют. Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.
— Боже мой. Давайте, я его раздену.
— Приходите же. Я жду.
— Поздно…
— Нет, нет… И слышать не хочу…
— Ну, хорошо.
Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен — лежит на полу. В слюдяном окне керосинки — маленький, радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни— пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит — она говорила тогда в коридоре Наташке: Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, и три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть…
Как радостно спели петли…
Конусов нет. В слюдяном окошке — черная мгла. Давно замолк чайник.
Свет лампы тысячью маленьких звуков глядит сквозь реденький сатинет.
— Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.
— Вот поеду в Петербург, опять буду играть…
— Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго…
— Не целуйте меня… Не целуйте… Мне нужно уходить… Поздно…
— Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.
— Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?
— Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска… тоска…
— Что я делаю… Что вы делаете…
Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.
Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.
Тайны мадридского двора

Впервые — газ. «Гудок», 1923 г., 1 ноября.
_____
В комнате, освещенной керосиновой лампой, сидел конторщик 2-й восстановительной организации Угрюмый и говорил своему гостю, конторщику Петухову:
— Хорошо вам, чертям! Живете в Киеве. Там у вас древности всякие, святыни, монастыри, театры и кабаре… а в этом паршивом Полоцке ничего нет, кроме грязи и свиней. Правда, что у вас эти самые… купола обновляются?
— Врут, — басом ответил Петухов, — ходил я смотреть на сенной базар. Купол как купол. Это бабы выдумали.
— Плохо! — вздохнул Угрюмый. — Храмы разваливаются, а Бог и ухом не ведет… Вон Спасский монастырь… Совершенно рассыпался. Совзнаков нету на небе, вот главная беда.
Угрюмый вздохнул, поболтал ложечкой в мутном чае и продолжал:
— Кстати о совзнаках. Нету, нету, а то бывает — бац! — и свалятся они тебе на голову. У нас, например, изумительная история с этими знаками произошла. Сделали мы заявку на май на четыре миллиона двести одна тысяча с копейками из расчета на две тысячи семьсот рабочих, а центр возьми да и дай четыре миллиона семьсот тридцать тысяч на фактически бывшие восемьсот семнадцать человек.
— Bpe!!. — крикнул Петухов.
— Вот тебе и «вре»! — ответил Угрюмый. — Чтоб я с этого места не сошел!
— Так это, стало быть, остаток получается?
— А как же. Но тут, понимаешь ли, задача в том, чтобы денежки эти без остатка в расход запихнуть.
— Это как же? — изумился Петухов.
Угрюмый оглянулся, прислушался и таинственно зашептал:
— А на манер нашего начальника механических мастерских. У него, понимаешь ли, такой обычай — выпишет материалов на заказ в пять раз больше, чем нужно, и все в расход и загонит! Ему уж говорили: смотрите, как бы вам по шапке не попало. Ну да, говорит, по шапке… Руки коротки! У меня уважительная причина — кладовой нет. Способный парень!
— А не сядет? — восторженно спросил Петухов.
— Обязательно сядет. Вспомни мое слово. И сядет из-за мастерских. Не клеится у него с мастерскими, хоть ты плачь. Дрова вручную пилит, потому что приводная пила бездействует а тридцатисильный двигатель качает один вентилятор для четырех кузнечных горнов!
Петухов захохотал и подавился.
— Тише ты! — зашептал Угрюмый — Это что?.. А вот потеха была недавно с заклепками, — Угрюмый хихикнул. — Зачем, говорит, нам закупать заклепки, когда у нас своя мастерская есть? Я, говорит, на всю Россию заклепок наворочаю! Ну, и наворочал… триста восемь пудов. Красивые замечательно: кривые, с утолщением и пережженные. Сто двадцать восемь пудов пришлось в переработку пустить, а остальные и до сих пор на складе стоят.
— Ну, дела! — ахнул Петухов.
— Это что, — оживился Угрюмый, — ты послушай, что у нас с отчетностью творится! У тебя волосы дыбом станут. Есть у нас в механической мастерской Эр-ка-ка
[28], и есть инструментальщик Белявский, — сипел Угрюмый, — он же и член Эр-ка-ка. Так он, представь себе, все заказы себе забрал. Сам расценивает, сам же исполняет и сам деньги получает.
Инженер Гейнеман в целях упрощения всяких формальностей по счетно-финансовой части завел такой порядок. Смотрю я однажды и вижу: счет № 91 на сдельные работы, исполненные сдельщиком Кузнецовым Михаилом с товарищами, на сумму 42 475 р. Выдал артельщик такой-то, получил Кузнецов. И больше ничего!
— Постой, — перебил Петухов, — а может, у него товарищей никаких не было?
— Вот то-то и есть!
— Дай как же это?
— Наивный ты парень. — вздохнул Угрюмый, — у него ж, у Гейнемана этого, весь штат в конторе состоит из родственников. Заведующий Гейнеман, производитель работ — зять его, Марков, техник — его родная сестра Эмма Маркова, конторщица — его дочь родная Гейнеман, табельщик — племянник Гейнеман, машинистка — Шульман, племянница родной жены!
— Внуков у Гейнемана нету? — спросил ошеломленный Петухов.
— Внуков нету, к сожалению.
Петухов глотнул чаю и спросил:
— Позволь, друг, а куда ж Эр-ка-и смотрит?
Угрюмый свистнул и зашептал:
— Чудак! Эр-ка-и!
[29] У нас Эр-ка-и — Якутович Тимофей. Славный парнишка, свой человек. Ему что ни дай — все подпишет.
— Добродушный? — спросил Петухов.
— Ни черта не добродушный, а болтают у нас (Угрюмый наклонился к растопыренному уху Петухова), будто получил он десять возов дров из материалов мостов Западной Двины, четыре с половиной пуда муки и сорок три аршина мануфактуры. Дай тебе мануфактуры, и ты будешь добродушный.
— Тайны мадридского двора! — восхищенно воскликнул Петухов.
— Да уж это тайны, — согласился Угрюмый, — только, понимаешь ли, вышли у нас с этими тайнами уже явные неприятности. Приезжают в один прекрасный день два каких-то фрукта. Невзрачные по виду, брючишки обтрепанные, и говорят: «Позвольте ваши книги». Ну, дали мы. И началась тут потеха. По-нашему, если отчетность на год отстала — пустяки! А по-ихнему — преступление. По-нашему — кассовые книги заверять и шнуровать не надо, а по-ихнему — надо! По-нашему— нарезать болты вручную продуктивно, а по-ихнему — нужно механически! Клепку мостовой фермы на мосту, по-нашему, нужно вручную производить, а по-ихнему — это преступно! Так и не столковались. Уехали, а у нас с тех пор никакого спокойствия нет. Не наделали б чего-нибудь эти самые визитеры? Вот и ходим кислые.
— М-да, это неприятности… — согласился Петухов.
Оба замолчали. Зеленый абажур окрашивал лица в зеленый цвет, и оба конторщика походили на таинственных гномов. Лампа зловеще гудела.

Сильнодействующее средство
Пьеса в 1-м действии

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 3 января.
_____
Если К. Войтенко не уплатят жалованья, пьеса будет отправлена «Гудком» в Малый театр в Москву, где ее и поставят.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Алавдия Войтенко. учительница неопределенного возраста. В шубке и шапочке, в руках какие-то бумаги.
Арымский культотдельщик. среднего возраста, симпатичный. Одет в рыжий френч и такие же штаны.
Аурьер из культотдела. 50 лет.
Сцена представляет кабинет крымского культотдела. Накурено, тесно и паршиво. Одна дверь. На первом плане стол с телефоном и чернильницей. Над столом три плаката: «Если ты пришел к занятому человеку — ты погиб». «Кончил дело — гуляй смело», «Рукопожатия отменяются раз навсегда».
Культотдельщик сидит за столом и задумчиво смотрит в зрительный зал. У двери на стуле курьер. Полдень.
Курьер. О-хо-хо…
(Кашляет.)
Пауза. Дверь открывается, и входит Войтенко.
Куды? Куды? Вам кого?
Войтенко. Мне его.
(Указывает пальцем на культотдельщика.)
Курьер. Они заняты, нельзя.
Войтенко(застенчиво). Ну, я подожду.
Курьер. Сядьте тут, только не шумите.
Войтенко садится на стул. Пауза.
Войтенко(шепотом). Чем же он занят? Никого нету. Курьер. Это нам неизвестно. Может, они думают…
Что к чему…
Пауза.
Войтенко. Мне, голубчик, на поезд надо. Опоздаю я. Может, ты б сказал ему…
Курьер. Ну, ладно. Доложу.
(Идет к столу и кашляет. Пауза. Кашляет.)
Культотдельщик(очнулся) Уйди, Афанасий, ты мне надоел.
(Задумался)
Курьер(вернулся). Ну вот… я ж говорил… а ну вас к богу.
Войтенко(волнуется). Мне в Евпаторию надо, я опоздаю.
(Идет к столу, кашляет.)
Культотдельщик(рассеянно). Уйдешь ли ты, Афанасий?
(Поднял глаза.) Пардон! Вы ко мне?
Войтенко. К вам, извините…
Культотдельщик. С кем имею честь?
Войтенко(приседает). Позвольте представиться: учительница школы ликбеза на ст. Евпатория Южных железных дорог Клавдия Войтенко, урожденная Манько.
Культотдельщик. Тэк-с. Что же вам угодно, урожденная Манько?
Войтенко(волнуется). Изволите ли видеть, я еще за август сего года жалованья не получала.
Культотдельщик. Ой… Какая история! Вы. наверное, списков не прислали.
Войтенко(устало): Какое там не прислали! Присылали.
(Вертит какие-то бумаги.) Список прислали, и профуполномоченному нашему сенаторскому я говорила… двадцать раз.
Культотдельщик. Пл… Аф-фанасий.
Курьер. Чего изволите?
Культотдельщик. Потрудись узнать, где список на жалованье урожденной Манько!
Пауза. Курьер возвращается.
Курьер. Нету урожденной… (Кашляет.)
Культотдельщик. Ну, вот видите!
Войтенко. Позвольте, чтож я вижу?
(Волнуется.) Это вы должны видеть! Если у вас пропадает…
Культотдельщик. Виноват-с… Прошу быть осторожнее. Это вам не Евпатория.
Войтенко(начинает плакать). С… августа… месяца… сего бегаешь… ходишь… ходишь…
Культотдельщик (растерялся). Прошу не плакать в присутственном месте.
Курьер. Наплачут полные комнаты, а вытирать мне… Только и делаешь, что с тряпкой бегаешь.
(Ворчит неразборчиво.)
Войтенко рыдает.
Культотдельщик. Прошу вас успокоиться!
Войтенко рыдает.
Подайте другие списки!
Войтенко (сквозь
бурные рыдания). Я на вас жалобу подам в КаКа.
Культотдельщик(обиделся). П-пожалуйста… Хоть в КаКа, хоть в РеКаКа. Не испугаете!
Войтенко. В «Гудок» напишу!! Как вы…
Культотдельщик(бледный как смерть). Виноват. Хе-хе. Зачем же так? Э… Спешить? Афанасий!! Стакан воды урожденной Манько. Присядьте, прошу вас. Хе-хе, экая вы горячка!.. Сейчас… Фрр! Фрр! «Гудок»! Афанасий! Сбегай к Марь Ивановне. Скажи, чтоб был список. Со дна моря чтоб его достала. Хе-хе. Знаете ли, бумаг целая гибель, голова кругом идет.
Войтенко просыхает, вытирает глаза платочком.
Курьер(входит). Нашлось.
(Протягивает бумагу.)
Культотдельщик(с торжеством). Ну, вот видите, и нашлось. Хе-хе. А вы сейчас плакать… «Гудок»!.. Вот мы вам сейчас резолюцийку напишем… Чирк перышком, и готово… Выдать деньги.
Войтенко(совсем высохла). Я уж надежду потеряла!
Культотдельщик. Что вы! Что вы! Никогда не следует терять надежду!.. Вот с этой резолюцией прямо, потом направо, потом опять направо, потом налево, там отдадите…
Войтенко(сияет). Благодарю вас, благодарю вас!
Культотдельщик. Что вы, помилуйте, это мой долг! А «гудок»-это, знаете, ни к чему. Ну зачем раздувать факты. Аф-фанасий! Проводи!
(Приятно улыбается.)
Воспоминание…

Впервые — журн. «Железнодорожник», 1924, № 1, 2 (январь — февраль).
История написания рассказа связана с трудностями прописки Булгакова и его первой жены.
_____
У многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер, лишь только серые гармонии труб нальются теплом и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая кацавейка Надежды Константиновны…
Как расстанешься, если каждый вечер, лишь только нальются нити лампы в пятьдесят свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать, в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при восемнадцати градусах мороза.
Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок — низкий, закопченный и треснувший. но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не восемнадцать градусов, а двести семьдесят один — и все они ниже нуля. А для того чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины — двенадцать выше нуля, свет, и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара — и я жив.
Но расскажу по порядку.
Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном
чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни.
Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за моими плечами восхищенный шепот:
— Вот это полушубочек!
Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: также давали крупу и также жалованье платили в декабре за август. И я начал служить.
И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос… о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.
Я отправился в жилотдел и простоял в очереди шесть часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.
В двух месяцах приблизительно шестьдесят ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза — на стульях и один раз — на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре. — это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал.
* * *
Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер.
Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате.
Он сказал:
— Ночуй. Но только тебя не пропишут.
Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство.
Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел растопырив локти и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя.
— Пожалуйста, пропишите меня, — говорил я, — ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы
я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду…
— Нет, — отвечал председатель, — не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.
— Но где мне жить, — спрашивал я, — где? Нельзя мне жить на бульваре.
— Это не касается, — отвечал председатель.
— Вылетайте как пробка! — кричали железными голосами сообщники председателя.
— Я не пробка… я не пробка, — бормотал я в отчаянии. — куда же я вылечу. Я — человек. Отчаяние съело меня.
Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что, если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция.
Тогда я впал в остервенение.
* * *
Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: «Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину». Все, все я написал на этом листе — и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при двухстах семидесяти градусах над храмом Христа, и как мне кричали: «Вылетайте как пробка!»
Ночью, черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидал во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.
— Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.
Слезы обильно струились из моих глаз.
— Так… так… так… — отвечал Ленин.
Потом он звонил:
— Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство.
Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал:
— Я больше не буду…
* * *
Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.
— Вы не дойдете до него, голубчик, — сочувственно сказал мне заведующий.
— Ну, так я дойду до Надежды Константиновны. — отвечал я в отчаянии. — мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду.
И я дошел до нее.
В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.
— Вы что хотите? — спросила она. разглядев в моих руках знаменитый лист.
— Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.
И я вручил ей мой лист.
Она прочитала его.
— Нет. — сказала она, — такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?
— Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку.
Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:
«Прошу дать ордер на совместное жительство». И подписала: «Ульянова».
Точка.
Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.
Забыл.
Криво надел шапку и вышел.
Забыл.
* * *
В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.
— Как? — вскричали все. — Вы еще тут?
— Вылета…
— Как пробка? — зловеще спросил я. — Как пробка? Да?
Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова.
Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался.
Три минуты.
Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза.
— Улья?.. — спросил он суконным голосом.
Опять в молчании тикали часы.
— Иван Иваныч, — расслабленно молвил барашковый председатель, — выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство.
Друг Иван Иваныч взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании.
* * *
Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения — лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба, а за ним — в тоске и отчаянье седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами
Ульянова.
Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.
Вот оно неудобно как…
Благодарю вас, Надежда Константиновна.

Площадь на колесах
Дневник гениального гражданина Полосухина
Впервые — журн. «Заноза», 1924, № 9.
21 ноября.
Ну и город Москва, я вам доложу.
Квартир нету. Нету, горе мое! Жене дал телеграмму — пущай пока повременит, не выезжает. У Карабуева три ночи ночевал в ванне. Удобно, только капает. И две ночи — у Щуевского на газовой плите. Говорили в Елабуге у нас — удобная штука, какой черт! — винтики какие-то впиваются, и кухарка недовольна.
23 ноября.
Сил никаких моих нету. Наменял на штрафы мелочи и поехал на «А», шесть кругов проездил — кондукторша пристала: «Куда вы, гражданин, едете?» — «К чертовой матери, — говорю, — еду». В сам деле, куды еду? Никуда. В половине первого в парк поехали. В парке и ночевал. Холодина.
24 ноября.
Бутерброды с собой взял, поехал. В трамвае тепло — надышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувствовали.
27 ноября.
Пристал как банный лист — почему с примусом в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не петь, есть параграф, я и не пою. Напоил его чаем — отцепился.
2 декабря.
Пятеро нас ночует. Симпатичные. Одеяла расстелили— как в первом классе.
7 декабря.
Пурцман с семейством устроился. Завесили одну половину — дамское — некурящее. Рамы все замазали. Электричество — не платить. Утром так и сделали: как кондукторша пришла — купили у нее всю книжку. Сперва ошалела от ужаса, потом ничего. И ездим. Кондукторша на остановках кричит: «Местов нету!» Контролер влез— ужаснулся. Говорю, извините, никакого правонарушения нету. Заплочено, и ездим. Завтракал с нами у храма Спасителя, кофе пили на Арбате, а потом поехали к Страстному монастырю.
8 декабря.
Жена приехала с детишками. Пурцман отделился в 27-й номер. Мне, говорит, это направление больше нравится. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил, картины известных художников. Мы попроще. Одну печку поставил вагоновожатому — симпатичный парнишка попался, как родной в семье. Петю учит править. Другую — в вагоне, третью кондукторше — симпатичная — свой человек — на задней площадке. Плиту поставил. Ездим, дай бог каждому такую квартиру!
11 декабря.
Батюшки! Пример-то что значит. Приезжаем сегодня к Пушкину, выглянул я на площадку — умываться, смотрю — в 6-м номере с Тверской поворачивает Щуевский!.. Его, оказывается, уплотнили с квартирой, то он и кричит — наплевать. И переехал. Ему в 6-м номере удобно. Служба на Мясницкой.
12 декабря.
Что в Москве делается, уму непостижимо. На трамвайных остановках — вой стоит. Сегодня, как ехали к Чистым прудам, читал в газете про себя, называют — гениальный человек. Уборную устроили. Просто, а хорошо, в полу дыру провертели. Да и без уборной великолепно. Хочешь — на Арбате, хочешь — у Страстного.
20 декабря.
Елку будем устраивать. Тесновато нам стало. Целюсь переехать в 4-й номер двойной. Да, нету квартир. В американских газетах мой портрет помещен.
21 декабря.
Все к черту! Вот тебе и елка! Центральная жилищная комиссия явилась. Ахнули. А мы-то, говорит, всю Москву изрыли, искали жилищную площадь. А она тут…
Всех выпирают. Учреждения всаживают. Дали 3-дневный срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурцману школа I ступени имени Луначарского.
23 декабря.
Уезжаю обратно в Елабугу…

Повесили его или нет?

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 21 мая.
В тексте встречается ряд железнодорожных сокращений, которыми злоупотребляли в «Гудке». Лишь некоторые сегодня поддаются расшифровке, например: ДС — начальник станции, ШТ — старший телеграфист, ПЧ — начальник участка пути.
_____
Знaeтe ли вы, что такое волокита?
Нет, вы не знаете.
Бумага Копосопа и Когоксиса
Началось с того, что машинистка нахлопала на отвратительной машинке и отвратительной бумажке нижеследующее:
«Юзово, ПЧ-17, ДС, МС. ШТ.
Местком ст. Юзово просит Вас срочно озаботиться затребовать и вывесить во всех помещениях мастерских, депо, конторах и проч, генерального коллективного договора. Кодекса законов о труде, нового локального договора и правил внутреннего распорядка для широкого и ежедневного ознакомления с ними рабочих и служащих Ваших служб, причем предупреждает, что через некоторое время охрана труда месткома, будет произведена проверка настоящего исполнения и на лиц администрации, не выполнивших данного перед союзом обязательства, будут составлены акты».
Во как! Акты будут составлены.
Кстати об актах: почему у нас все считают своим долгом подписываться неразборчиво? Ведь вы же не министры, товарищи! Под бумажкой две подписи. Верхнюю вовсе нельзя было бы разобрать, если бы не то, что ее повторила машинистка: Нечаев. А нижнюю можно читать двояко: ежели считать, что она писана латинскими буквами, выйдет Когоксис, а ежели русскими — то Копосоп.
Впрочем, не важно. Приятно то, что на бумажке разборчивый штемпель: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Это было 18 октября 1923 г.
Ехидный вопрос
«ДС Юзово.
А где же те экземпляры Кодекса законов о труде 1922 г. и правил внутреннего распорядка, которые были высланы вам управлением дороги. Они уже висели в конторах станции. Нового колдоговора еще не рассылалось. Он объявлен в «1Удке» за № 1022.
Подписи будем писать так, как они написаны, ничего не поделаешь.
За нач. 2 отдел, ел. эксплоатац.
А. Пулплу».
Договор даешь!
«ДН-2.
При сем отношение месткома Юзово, прошу выслать мне по 3 экземпляра генерал, коллективдоговора, Кодекса законов о труде, правил внутреннего распорядка.
Нач. ст. Юзово Козакил. 21 ноября 1923 г.».
Даешь, говорю!
«ДН-2 на № 18999.
Местком требует, чтоб было в товар, кассе, билет, кассе. канцелярии и тех. конторе, а у меня получилось по 1 экземпляру, почему я и прошу еще по 3 экземпляра», — отчаянно пишет начальник станции Юзово и от страху превращается в подписи из Козакила в Козелкова.
И это через месяц, 19 нояб. 1923 г.
Поддержка пришла
«ДС.
Ходатайствую об удовлетворении просьбы ДС Юзово».
Подписал А. Пурлис (быв. Пулплу). И скрепил бывший Кешевлент, а нынешний Конвой.
Чудеса, товарищи!
«ДС Юзово.
По разъяснению Д № 396444 от 4 декабря с. г. дорогой получено из центра всего лишь 60 экземпляров колдоговоров, вследствие чего выслать больше не может, а рекомендуется обращаться с ходатайством в местный местком».
Крышка! Нету…
Кто ж так разочаровал бедного начальника станции Козакила? Представьте, тот самый Пулплу, который за него ходатайствовал. Для разнообразия подписался А. Пулит…
Это было уже за 2 дня до Рождества, 23 декабря.
Что ж таперича делать Козакилу?
Делать ему больше ничего не остается, как опять податься в местком.
Он и подался.
«Местком Юзово на № 807.
…прилагая… за №…» и т. д., «прошу прислать… такое количество, какое вы находите нужным» и т. д.
24 декабря, в сочельник.
Прислали?
Неизвестно.
Местком пишет под Новый год…
Вывесить требуется, «но снабжением должным количеством ведает хозорган».
Засыпался Козакил! Больше некуда.
* * *
На сем переписка обрывается. При всей переписке — бумага неизвестного человека.
В редакцию газеты «Гудок».
При сем учкультран посылает вам материал (9 января 1924 г.).
Мерси.
Повесили ли, в конце концов, колдоговор?
Может быть, и повесили. И висит он, и улыбается своими бесчисленными параграфами:
— Повесили-таки, черт меня возьми!
А может быть, и не повесили.
И даже вернее, что нет.
Потому что в толстой пачке-переписке есть несколько штучек документов, в коих вопль, что молока не дают. А в колдоговоре сказано ясно, что молоко давать нужно.
Вот оно какие дела…

Москва 20-х годов

Впервые — газ. «Накануне», 1924 г., 27 мая («Вступление», «Вопрос о жилище»); 12 июня («О хорошей жизни»). Подпись: «Михаил Булгаков».
_____
Вступление
Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921–1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа; в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне нее решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:
— Ишь домина! Позвольте, да ведь я в нем был! Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету
[30] и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в 6 этаж, комната №…» Позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Не важно… Одним словом: «Идите и получите объявление в Главхиме»… или в Центрохиме? Забыл. Ну, не важно… «Получите объявление, я вам 25 %». Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите объявление получите», — я бы ответил: «Не пойду». Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда… О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает. мороз. Я влез на 6-й этаж, нашел эту комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.
Кстати о 6-х этажах. Позвольте, кажется, в этом доме сеть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверениями о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком в 6-й этаж.
Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело! На Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в 6-й этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидал висящий, весело освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:
— Расстрелять их надо, мерзавцев!
На лестнице стоял человек швейцарского вида, с ним рядом — другой, в замасленных штанах, по-видимому механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.
— Экая оказия, — говорил механик и ошеломленно улыбался.
Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.
Бог знает, существует ли сейчас этот Центро- или Главхим, или его уже нет! Может быть, там какой-нибудь Химтрест, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы, и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня, с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает «Тарзана». Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу ни пешком, ни в лифте!
Да, многое изменилось на моих глазах.
Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом дворе, на Старой площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, правда скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Льнотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю, инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.
Но довольно. Читателю, конечно, неинтересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так!
На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.
I
Вопрос о жилище
…Эй, квартиру!
2-й акт «Севильского цирюльника»
Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже. Лондоне и прочих местах — квартир в Москве нету.
Как же там живут?
А вот так-с и живут.
Без квартир.
* * *
Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира» и словом этим наивно называют что попало. Так, например, недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)». Подпись и круглая жирная печать.
Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем — его жена, а рядом с женой — брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала «Терзана».
Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.
— Маня! (Из крайней картонки.)
— Ну? (Из противоположной крайней.)
— У тебя есть сахар? (Из крайней.)
— В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами… (Из соседней правой.)
— Конфеты есть… (Из противоположной крайней.)
— Свинья ты! (Из соседней левой.)
— В половине восьмого вместе пойдем!
— Вытри ты ему нос, пожалуйста…
Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, — просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести!
— Как же вы сюда попали? Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса… Ну?! Вот тебе и «ну»! Благодарю вас, я пил… С конфетами?.. Ну их к чертям! Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Иокогаме… Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!!
Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.
Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина — это великая вещь, дар богов, и рай — это есть тишина. А между тем дверь у меня всегда одна (равно как и комната), и выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.
* * *
Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце! Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной как крышка гроба.
Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В. И. направлены в ущерб его ближним, и в Кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в Кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю — играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О нет, чудаки из Берлина: он ее пропил.
Словом, он немыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я не прав.
* * *
И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем, и сколько еще проживу — неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!
Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.
Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем:
— Зачем я не женился?!
В устах его. первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.
Оказалось: домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:
— Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело…
А третьего дня доктор явился и сказал:
— Ну, слава богу, что я не женился… Ты с женой ссоришься?
— Гм… иногда… как сказать… — ответил я уклончиво и вежливо, поглядывая на жену, — вообще говоря… бывает иногда… видишь ли…
— А кто виноват бывает? — быстро спросила жена.
— Я, я виноват, — поспешил уверить я.
— Кошмар. Кошмар. Кошмар, — заговорил доктор, глотая чай, — кошмар! Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: «Ты где был?» — «На Николаевском вокзале». — «Врешь.» — «Ей-богу…» — «Врешь!» Через минуту опять: «Ты где был?» — «На Нико…»— «Врешь!» Через полчаса: «Где ты был?» — «У Ани был». — «Врешь!!!»
— Бедная женщина, — сказала жена.
— Нет, это я бедный, — отозвался доктор, — и я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери!
— Кого? — спросила жена подозрительно.
— Эту… клинику.
* * *
Он в Орехово-Зуеве, а знакомая Л. Е. в Италии. Увы, ей нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим.
И Василий Иванович останется, а она уедет! А Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках, а Петр Сергеич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, ан прислуга никуда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) — член жилищного товарищества и занимает площадь и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеич, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бравшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеичу!
А некий молодой человек, у которого в «квартире» поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами: «Надоела ты мне, божья старушка». И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев или случаев подобных я знаю за последнее время целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически — нет. Ибо прекрасно чувствую, что, посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.
А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну… Впрочем, довольно.
* * *
Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного — от тесноты. Факт, в Москве тесно.
Что же делать?!
Сделать можно только одно: применить мой проект, и этот проект я изложу, предварительно написав еще главу «О хорошей жизни».
II
О хорошей жизни
Юрий Николаевич заложил ногу за ногу и, прожевывая кекс, спросил:
— Вот не совсем понимаю, почему вы, человек довольно благодушный, как только начинаете говорить о квартире. впадаете в ярость?
Я тоже сунул в рот кусок кекса (прекрасная вещь с чаем, но отнюдь не в 5 часов дня, когда человек приходит со службы и нуждается в борще, а не в чае с кексом. Вообще. московские граждане, бросим мы эти файф-о-клоки, к чертям!) и ответил:
— Потому и впадаю в ярость, что я на этом вопросе собаку съел. Высокий специалист.
— Может быть, вы еще чаю хотите? — осторожно предложила хозяйка.
— Нет, благодарю вас, чаю не хочется. Сыт, — со вздохом ответил я, чувствуя какое-то странное томление. Обломки кекса плавали внутри меня в чайном море и вызывали чувство тоски.
— Вам хорошо говорить, — продолжал я, закуривая, — когда у вас прекрасная квартира в две комнаты.
Юрий Николаевич тотчас судорожно засмеялся, торопливо проглатывая изюм, и полез в карманы. В нем он ничего не нашел. В другом тоже. И в третьем. Тогда он кинулся к столу, нырнул в ящики, нырнул в какие-то груды — и там не нашел.
Вместо искомого нашел позапрошлый понедельничный номер «Накануне», полюбовался на него и сказал:
— Пропала куда-то. Ну, ладно.
С этими словами он стал на колени на пол и ухватился за ножки кресла в углу. Лохматый пес обрадовался суете, начал скакать и хватать его за штаны.
— Пошел вон! — закричал, краснея, Юрий Николаевич.
Кресло отъехало в сторону, и в огромнейшей лохматой дыре, аршин в диаметре, оказался купол соседней церкви на голубом фоне неба.
— Однако.
— До ремонта ее не было, — пояснил счастливый обладатель двух комнат с дырой, — а вот сделали ремонт и дыру.
— Так ее же можно заделать.
— Нет, уж я ее заделывать не буду. Пусть тот, кто мне бумажку прислал, сам и заделывает.
Он опять похлопал по карманам, но бумажки так и не нашел.
— Бумажку прислали, чтобы я вытряхнулся из этой квартиры.
— Куда?
— В бумажке написано: не касается.
Каюсь: на душе у меня полегчало. Не один, стало быть, я.
* * *
В самом деле: как это так «вытряхайтесь»?! Ведь месту пусту не быть? Юрий Николаевич вытряхнется, но ведь на его место «втряхнется» Сидор Степаныч? А Юрий Николаевич, оказавшись на панели, ведь тоже пожелает войти под кров? А если под этим кровом сидит уже Федосей Гаврилович? Стало быть, Федосей Гавриловичу вы-тряхательную бумажку? Федосей на место Ивана, Иван на место Ферапонта, Ферапонт на место Панкратия…
Нет. граждане, это чепуха какая-то получается!
* * *
В лето от Рождества Христова… (в соседней комнате слышен комсомольский голос: «Не было его!!») Ну, было или не было, одним словом, в 1921 году, въехав в Москву, и в следующие года, 1922-й и 1923-й, страдал я, граждане, завистью в острой форме. Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Трудкнижку в три дня добыл, всего лишь три раза по 6 часов в очереди стоял, а не по 6 месяцев, как всякие растяпы. На службу пять раз поступал, словом, все преодолел, а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни в две и даже ни в одну. И как сел в знаменитом соседстве с Василием Ивановичем, так и застрял.
(Голос Юрия Николаевича за сценой: «Да у вас отличная комната!!»)
Хор греческой трагедии. Бескомнатные:
— Эт-то возмутительно!!!
Ладно, не будем спорить. Факт тот, что бывают лучше. Итак, застрял. Тьма событий произошла в это время в подлунном мире, и одним из них, по поводу которого я искренне ликовал, была посадка на скамью подсудимых всего этого, как он бишь назывался?.. Центрожил… ну, одним словом, те, что в 21—22-м годах комнаты раздавали по ордерам. По сколько лет им дали, не помню, но жалею, что не вдвое больше. После этого и вовсе их, как он?., «жил» этот, кажется, упразднили. И уже появились в «Известиях» объявления: «Ищу… Ищу… Ищу…», а я так и сижу.
Сидел и терзался завистью. Ибо видел неравномерное распределение благ квартирных.
Не угодно ли, например. Ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж, Манюшка готовит котлеты на газовой плите, и у Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений — каким образом могли уцелеть эти комнаты?
Ведь это же сверхъестественно!!
Четыре комнаты — три человека. И никого посторонних.
И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку: «Вытряхайтесь»!! А она взяла и… не вытряхнулась.
Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры. Зина, ты орел, а не женщина!
Эпоха грузовиков кончилась, как кончается все на этом свете. Сиди, Зинуша.
Николай Иванович отыгрался на двух племянницах. Написал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?
Не умен-с, а гениален.
Шесть комнат остались у Николая Иваныча. Приходили и с портфелями, и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две.
* * *
На днях прославился Яша. Яша никаких племянниц не выписывал. Яша ухитрился в 5 (пяти) комнатах просидеть один, наклеив на дверь полусгнивший от времени (с 1918 года, кажется) ордер, из которого явственно, что у означенного Яши студия.
Яша — ты гений!
* * *
А Паша…
Довольно!
* * *
С течением времени я стал классифицировать. И классификация моя проста, как не знаю что. Два сорта, живущих хорошей жизнью:
1) Имели и сумели сохранить (Зина, Николай Иваныч. Яша, Паша и др….).
2) Ничего не имели, приехали и получили. Пример: приезжает из Баку Нарцисс Иоаннович, немедленно становится председателем треста, получает две комнаты (газовая плита и т. д.) в казенном доме Затем неизменно идут неприятности на сердце от трефовой дамы, засим неприятности в казенном доме, засим дальняя дорога, и в заключительном аккорде — бубновый туз (десять, по амнистии — две, в общем восемь). На место Нарцисса садится Сокиз. На место Сокиза — Абрам, на Абрамово место Федор… Довольно…
Проект
Так же, конечно, немыслимо! В воздухе много проектов: в числе их бумажки о выезде в 2-х такой-то срок, хитрые планы о том, как Федула потеснить, а Валентина переселить, а Василия выселить.
Все это не то.
Действителен лишь мой проект.
Москву надо отстраивать
Когда в Москве на окнах появятся белые билетики со словами «Сдаеца», — все придет в норму.
Жизнь перестанет казаться какой-то колдовской маетой у одних на сундуке в передней, у других в 6 комнатах в обществе неожиданных племянниц.
Экстаз
Москва! Я вижу тебя в небоскребах!

Рассказ Макара Девушкина
Впервые — газ. «гудок», 1924 г., 11 июня.
_____
Жизнь наша хоть и не столичная, а все же интересная, узловая жизнь, и происшествий у нас происходит невероятное количество, и одно другого изумительнее.
Брюки и выборы
Был, например, такого рода факт: купил себе наш секретарь месткома Фитилев новые брюки шевиот в полоску. Удивительного тут ничего нет для такого города мирового, как, например, Москва. — там у каждого брюки в полоску, а в наших палестинах это обновка!
Понятное дело, всякому лестно посмотреть на Фитилевы штаны. Но только Фитилев аккуратный человек — не объявляет штанов до поры до времени. И вот расклеивается совершенно неожиданно повестка знаменитого общего собрания всех до единого членов нашей станции. И в повестке стоят такие вопросы, как доклад предучкпрофсожа, доклад УДР и в заключительном аккорде отчет месткома с перевыборами, в чем самый главный гвоздь и есть.
Кроме того, все говорят, что на торжественном собрании выступит и знаменитый наш Фитилев. секретарь, в новой покупке. Так что зал заполнился до невыносимых пределов духоты, и действительно, появился Фитилев со складками, и штаны как чугунные на памятнике поэта Пушкина, в Москве, до того сшиты отлично.
Нуте-с, отлично. Ровно в шесть часов встал председатель и объявил собрание открытым, и вышел наш величественный предучкпрофсож, кашлянул и врезал собранию речь. Начал докладывать про дорожный съезд, и докладывал с 6 часов до 9 часов, а по новому стилю до 21-го часа, выпив всего полграфина воды из первого класса. Что было в зале, выразить я не могу, за исключением того, что неожиданно заснул весь первый ряд, а за ним второй, как на поле сражения. И даром председатель звонил и призывал к сознательности. Какая же сознательность у человека, ежели он спит?
Но разразилась, нарушив течение профессиональной жизни собрания, гроза в лице ремонтного рабочего Васи Данилова. Из ряда поднялся Вася и заплакал так, словно утратил дорогого спутника жизни — жену, — обратившись громовым голосом к докладчику, сказал:
— Ежели ты не закроешь задвижку, я удавлюсь! Больше не могу после восьмичасового рабочего дня слышать про твои факты.
И произошло волнение в сплоченных рядах, и исключили Васю из заседания впредь до успокоения.
Тогда Вася, плача до самой двери, вышел, соблазнив многих, говоря:
— Иду, дорогие товарищи, в пивную, потому что без пива второй речи не выдержу.
И с ним ушли некоторые. В смятении по поводу кворума, председатель первого докладчика ликвидировал, а выпустил второго, и второй про работу правления говорил до 23 часов, с лишком 2 часа про разные цифры. Никакие брюки ничего не помогли, и сам Фитилев пал лицом на белые руки и, притворяясь, что слушает, на самом деле заснул. Барышни, любовавшиеся на красавца Фитилева, все ушли, потому что хоть Фитилев холостой, но невозможно.
И наконец около полуночи кончилось все, и лучше всех убил наповал сам Фитилев, оживившись по окончании речи.
Встал Фитилев, прищурился на трибуне и заявил:
— От имени Российской коммунистической партии большевиков…
Весь зал проснулся, потому что думали, что он радио объявит международной важности, а он дальше:
— …ячейки нашей станции и от имени укома предлагается список кандидатов в местком. И чтоб, товарищи, никаких отводов и замен, потому как мне поручено провести и я не допущу.
Вася Данилов вернулся к перевыборам со своими спутниками бодрый, собираясь навести рабочую здоровую критику на кандидатов, и даже открыл рот.
— Вот так клюква! — вскричал Вася и без всякой критики проголосовал рукой. А за ним все.
Но когда разошлись, червь мне сердце источил, и я не вытерпел. Спросил у нашего партийного Назар Назарыча — развитого человека:
— Это правда, что вот, мол, от имени российской и не сметь шевельнуть языком?
А тот и говорит:
— Ничего подобного!.. Жалко, что я больной лежал, а я б его разъяснил. Безобразие! Хлестаков в полосатых штанах. Это не живое дело, а гнусный бюрократизм!
И пошел, и пошел.
Вот оно какие бывают оригинальные заседания у нас в захолустной жизни.

Охотники за черепами

Впервые — газ. «гудок», 1924 г., 18 июня.
_____
Начохраны ст. Москва М.-Б.-Белорусской дороги гр. Линко издал приказ по охране, которым предписывает каждому охраннику обязательно запротоколить четырехзлоумышленников. В случае отсутствия таковых нарушители приказа увольняются.
— Ну, мои верные сподвижники, — сказал начальник транспортной охраны ст. Москва-Белорусская, прозванный за свою храбрость Антил Скорохват, — докладайте, что у нас произошло в истекшую ночь?
Верные сподвижники побренчали заржавленным оружием и конфузливо скисли. Выступил вперед знаменитый храбрец — помощник Скорохвата:
— Так что ничего не произошло…
— Как? — загремел Антил. — Опять ничего? Пятая ночь, и ничего! Поч-чему нет злоумышленников?
— Сказывают, сознательность одолела, — извиняющимся тоном доложил помощник.
— Так-с, — заныл зловеще Антил, — одолела! Вагоны с мануфактурой целы? Никакой дьявол не упер вновь отремонтированного паровоза серии Ща? И никто не покушался на кошелек и жизнь начальника славной станции Москва-Белорусская? Дак это же что же. Я, что ли, за них, чертей, воровать буду сам?!
Сподвижники тоскливо молчали.
— Это, братцы, так нельзя. — продолжал ныть Антил. — Ведь это выходит, что вы даром бремените землю. Какого черта вы лопаете белорусско-балтийский хлеб? Кончится все это тем, что вас всех попрут в шею со службы, а вместе с вами и меня. Огромная такая станция, и никаких происшествий! А ежели начальство спросит: сколько, Антил, ты поймал злоумышленников за истекший месяц? Что я ему покажу? Шиш? Вы думаете, меня за шиш по головке погладят?
— Нету их, — тоскливо запел помощник, — откуда же их взять? Не родишь их!
— Роди! — взвыл Антил. — Попирая законы природы. Гляди! Посматривай! Идет человек по путям, ты сейчас к нему. Какие у тебя мысли в голове? Ты не смотри, что у него постная рожа и глаза как у педагога. Может, он только и мечтает, как бы пломбу с вагона сковырнуть. Одним словом, вот что: в советском государстве каждая козявка выполняет норму, и чтоб вы выполняли! Чтоб каждый мне по 4 злоумышленника в месяц представил. Как это может быть, я спрашиваю, без происшествий?
— А ведь было происшествие ночью-то, — захрипел один из транспортных воинов, — мастера Щукина пес чуть штаны не порвал Хлобуеву, когда мы под вагонами лазили.
— Вот! — вскричал предводитель. — Вот! А говорит — нету! А дикие звери на белорусской территории, вверенной нам, — это не происшествие? Поймать и убить! Убить на месте.
— Кого — мастера или пса?
— Мозгами думайте! Пса. И мастера ущемить: покажи мандат на предмет засорения станции хищными зверями. Одним словом — марш!..
_____
У мастера Щукина была счастливая звезда в жизни, и поэтому пуля проскочила у него между коленями.
— Что вы, взбесились, окаянные?! — закричал ошалевший Щукин. — Чего же вы божью собачку обстреливаете?
— Бей его! Заходи. Штыком его! Убег, проклятый! А ты, борода, покажи мандат, какой ты есть человек.
— А ты знаешь, Хлобуев, — засипел, зеленея, Щукин, — допьешься ты до чертей. Ты погляди мне в лицо…
— Нечего мне в лицо глядеть. Достаточно мне твое лицо известно. Показывай удостоверение.
— Отлезь от меня, фиолетовый черт.
— A-а. Отлезь? Ладно. Бикин, бери его. Пущай покажет основание, по которому находится на путях.
— Кара-ул!!
— Поори, поори…
— Кара!..
— Покричи мне…
— Кр… кр…
— Покаркай.
_____
Вторым засыпался член коллегии защитников Ламца-Дрицер, вернувшийся в дачном поезде из подмосковной станции Пшлые Корешки и избравший кратчайший путь через линию.
— Это вопиющее нарушение! — кричал заступник, конвоируемый Антиповым воинством, — я подам заявление в малый Совнарком, а если не поможет, то в большой!
— Хучь в громадный, — пыхтели храбрецы, — Совнарком разбойникам не потатчик.
— Я разбойник?! — вспыхивал и угасал Дрицер, как свеча.
— Ладно, бывают алистократы с портфелями — карманы вырезают…
_____
…Третьей — теща начальника станции с лукошком.
— Отцы родные! Сыночки! Куда ж вы меня тащите?!
_____
…И четвертой — целая артель временных рабочих полностью. С лопатами, с кирками и твердыми краюхами черного хлеба. Артельный староста, похожий на патриарха, стоял на коленях, ослепленный блеском оружия Антиповой гвардии, и бормотал:
— Берите, братцы, все. Лопаты и рубашки. Скидайте штаны, только отпустите христианские душеньки на покаяние.
_____
Неизвестно, чем бы кончились Антиповы подвиги, если бы всевидящее начальство не прислало ему телеграмму:
«Антипу.
Антил! Ты поставлен, чтобы злоумышленников ловить, но, ежели их нету, благодари судьбу и сам их не выдумывай!
Наш идеал именно в том и заключается, чтобы злоумышленников не было. Стыдись, Антил! Любящее тебя начальство».
Получил Антил телеграмму, заплакал и подвиги прекратил. Отчего и наступила на белорусской территории тишь и гладь.

Приключения покойника

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 27 июня.
_____
— Кашляните, — сказал врач 6-го участка М.-К.-В. ж. д.
Больной исполнил эту нехитрую просьбу.
— Не в глаза, дядя! Вы мне все глаза заплевали. Дыхайте.
Больной задышал, и доктору показалось, что в амбулатории заиграл граммофон.
— Ого! — воскликнул доктор. — Здорово! Температура как?
— Градусов семьдесят, — ответил больной, кашляя доктору на халат.
— Ну, семьдесят не бывает, — задумался доктор, — вот что, друг, у вас ничего особенного — скоротечная чахотка.
— Ишь как! Стало быть, помру?
— Все помрем, — уклончиво отозвался медик. — Вот что, ангелок, напишу я вам записочку, и поедете вы в Москву на специальный рентгеновский снимок.
— Помогает?
— Как сказать, — отозвался служитель медицины, — некоторым очень. Да со снимком как-то приятнее.
— Это верно, — согласился больной, — помирать бут дешь, на снимок поглядишь — утешение. Вдова потом снимок повесит в гостиной, будет гостей занимать: «А вот, мол, снимок моего покойного железнодорожника, Царство ему небесное!» И гостям приятно.
— Вот и прекрасно, что вы присутствия духа не теряете. Берите записочку, топайте к начальнику Зерново-Кочубеевской топливной ветви. Он вам билетик выпишет до Москвы.
— Покорнейше благодарю.
Больной на прощанье наплевал полную плевательницу и затопал к начальнику. Но до начальника он не дотопал, потому что дорогу ему преградил секретарь.
— Вам чего?
— Скоротечная у меня.
— Ito! Чудак! Ты что ж, думаешь, что у начальника санатория в кабинете? Ты, дорогуся, топай к доктору.
— Был. Вот и записка от доктора на билет.
— Билет тебе не полагается.
— А как же снимок? Ты, что ль. будешь делать?
— Я тебе не фотограф. Да ты не кашляй мне на бумаги.
— Без снимка, доктор говорит, непорядок.
— Ну, так и быть, ползи к начальнику.
— Драсьте. Кхе… кх!.. Акха, кха!
— Кашляй в кулак. Чего? Билет? Не полагается. Ты прослужил только два месяца. Потерпи еще месяц.
— Без снимка помру.
— Пойди на бульвар да снимись.
— Не такой снимок. Вот горе в чем.
— Пойди потолкуй с бухгалтером.
— Здрасьте.
— Стань от меня подальше. Чего?
— Билет. За снимком.
— Голова с ухом! У меня касса, что ль? Сыпь к секретарю.
— Здра… тьфу. Кха. Ррр!..
— Ты ж был у меня уже. Мало оплевал? Иди к начальнику.
— Здравия жела… кха… хр…
— Да ты что, смеешься? Курьер, оботри мне штаны. Катись к доктору!
— Драсьти… Не дают!
— Что ж я сделаю, голубчик? Идите к начальнику.
— Не пойду… помру… Урр…
— А я вам капель дам. На пол не падай. Санитар, подними его.
Через две недели
— С нами крестная сила! Ты ж помер?!
— То-то и оно.
— Так чего ты ко мне припер? Ты иди. Царство тебе небесное, прямо на кладбище!
— Без снимка нельзя.
— Экая оказия! Стань подальше, а то дух от тебя тяжелый.
— Дух обыкновенный. Жарко, главное.
— Ты б пива выпил.
— Не подают покойникам.
— Ну, зайди к начальнику.
— Здрав…
— Курьеры! Спасите! Голубчики родненькие!!
— Куда ты с гробом в кабинет лезешь, труп окаянный?!
— Говори, говори скорей! Только не гляди ты на меня, ради Христа.
— Билетик бы в Москву… за снимком…
— Выписать ему! Выписать! Мягкое место в международном. Только чтоб убрался с глаз моих, а то у меня разрыв сердца будет.
— Как же писать?
— Пишите: от станции Зерново до Москвы скелету такому-то.
— А гроб как же?
— Гроб в багажный!
— Готово, получай.
— Покорнейше благодарим. Позвольте руку пожать.
— Нет уж, рукопожатия отменяются!
— Иди, голубчик, умоляю тебя, иди скорей! Курьер, проводи товарища покойника!

Заседание в присутствии члена

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 17 июля.
_____
Новость в два мгновенья облетела всю станцию Ново-Бахмутовка: будет заседание не простое, а в присутствии члена Авдеевского учкпрофсожа. И в назначенный час зал клуба заполнился пролетарскими лицами членов профсоюза. Возбуждая общее внимание и симпатию, за столом президиума красовался член учкпрофсожа.
Началось честь честью: избрали председателя, и тот, качнувшись, как былинка, и конфузясь, заявил:
— Пл… ТЬперича, стало быть, секретаря надо…
— Верно! — подтвердили мозолистые голоса в зале. — Васю Гузина!
— Васю так Васю, — сказал председатель и обратился к члену: — Васю хочут.
— Ну и что ж, — ответил член. — пускай. Я против Васи ничего не имею.
— Итак, большинством голосов Васю… — начал председатель.
— Товарищи, — раздался Васин голос, — я покорнейше прошу отказаться, в силу причины малограмотности, так как я только что кончил ликбез.
— Вася, не дрефь! — загремел зал. — Неужто, Вася, ты не можешь скребнуть пером раз пять для общего блага?
И под гром рукоплесканий Вася занял место за столом.
— Первым вопросом у нас стоит, на каком основании поперли со службы дорогих товарищей Дзюбу, Душебу и Самиську без всякого ведома профсоюзов? — заявил председатель. — Предлагаю высказывать.
Зал немедленно высказал негодование бурным ропотом.
— Ша. — молвил председатель, — который-нибудь один.
Но встали сразу двое и вперебой высказались:
— Это все мастер!
— ПД-девять, чтоб ему ни дна ни покрышки!
— Он говорит, ваш, говорит, профуполномоченный на шесть месяцев, а я мастер навсегда!
— Ловко загнул! — грянул зал.
— Прочтите акт номер один…
— Правильно! — крикнул кто-то.
— За номер десять уволили!
— Как это так — правильно?!
— Тише! — погибая в волне народного гнева, взвыл председатель. — Кто за? Я голосую — прошу поднять руки! Вася, пиши.
Лес рук поднялся и тотчас же. как подрубленный, опустился.
Вася макнул перо и написал:
«Прочтите акт № 1 заслушали за № 10 воздержавшие 6 человек неправильное сокращение ПД-9 Федоренко».
Потом подумал и приписал:
«Разъяснение подтверждено за № 8 Гавриков и Филонов».
— За что я голосовал?
— Сначала!!
— Объясни, председатель, за что руки поднимать?!
— Ну, сначала, — бледнея, сказал председатель.
— Это что ж такое. — заговорил некто. — разгрузка земли производилась в праздничный день… Сверхурочные, а вместо отдыха шиш с маслом?
— Этого мастера в цистерне утопить!!
— Не допускается убийство! — надрываясь, крикнул председатель.
— Халатный.
— Бузотер!
— Керосин получен, а мы его и в глаза не видали.
— А на перегоне сидели без воды три месяца.
— А где профуполномоченный?
— А мастер говорит — его во взятке уличил пять пудов картофелю!
— Кто кого уличил?!
— Тиш-ше! — кричал председатель, утирая пот. — Вася. пиши.
Бледный Вася начал строчить:
«Слушали: «Получен материал керосин и другие предметы ПД-9 околодка не отказались».
«Постановили: «Керосина не получали недопустимо предъявлено ПД-9 ок. Федоренкова».
— Его из союза надо вышибить?
— Кого?!
— Камыш восемь дней на водокачке косили, а он на месте остался.
— Исплоатация труда!
— Горячие у вас парни. — растерявшись, сказал член председателю, — беда!
— Что ж таперича делать? — спросил председатель.
— Ты голосуй, — посоветовал член, — они, может, заткнутся.
— Голосую, товарищи! — заныл председатель.
— За кого? — гремело в зале.
— Ясное дело. Духу чтоб не было!
— Кого?!
— Кто за — тот руку!
— Наоборот, вон его, к свиньям!
— Которого?
— Федоренкова мастера!
— Ага!
— Кто за то. чтобы его исключить? Раз, два. три. Вася, пиши…
«Исключить за 15 голосов», — написал Вася.
— Ура! Выкинули, — ликовал зал.
— Потрудились, зато очистили союз!
— А теперь что? — спросил председатель у члена.
— Закрывай ты заседание, — ответил тот, — ну их к богу.
— Объявляю закрытым! — облегченно крикнул председатель.
— Правильно, — ответил бахмутовский народ. — ко щам пора.
И с грохотом зал разошелся. Вася подумал и написал «Заседание закрыто 7 часов».
— Молодец, Вася, — сказал председатель и спрятал протокол.
Примечание «Гудка»
В основе фельетона — копия протокола заседания членов профсоюза на ст. Н.-Бахмутовка от 19 июня. Протокол этот — верх бестолковщины.
Совершенно непонятно, как могло идти таким образом заседание, на котором присутствовал член авдеевского учкпрофсожа?

Как школа провалилась в преисподнюю
Транспортный рассказ Макара Девушкина

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 1 августа.
_____
— Это что! — воскликнул известный московско-белорусско-балтийский железнодорожник Девушкин, сидя в пивной в кругу своих друзей, — а вот у нас на Немчиновском посту было происшествие, так это действительно номер!
Девушкин постучал серебряным двугривенным по мраморному столику, и на стук прикатил член профессионального союза работников народного питания в белом фартуке. Добродушная профессиональная улыбка играла на его лице.
— Дай нам, милый человек, еще две парочки, — попросил его Макар Девушкин.
— Больше чем по парочке не полагается, — ответил нарпитовец с сожалением.
— Друг! — прочувственно воскликнул Макар. — Мало ли что не полагается, а ты как-нибудь сооруди. — И при этом Макар еще раз постучал двугривенным.
Нарпитовец вздохнул, искоса глянул на надпись на стене:
«Берущий на чай не достоин быть членом профессионального союза».
Еще раз вздохнул, порхнул куда-то и представил две парочки.
— Молодец! — воскликнул Макар, приложился к кружке и начал: —Дачу бывшего гражданина Сенет знаете?
— Не слыхали, — ответили друзья.
— Замечательная дачка. Со всеми неудобствами. Ну-с, забрали, стало быть, эту дачку под школу первой ступени. Травное — местоположение приятное: лесочек, то да се… нужник, понятное дело, имеется. Одним словом, совершенно пригодная дача на девяносто персон школьников. Но вот водопровода нету! Вот оказия…
— Колодец можно устроить.
— Именно — пустое дело. Вот из-за колодца-то все и произошло, и пропала дачка, к свиньям собачьим. Был этот колодец под самым крыльцом, и вот о прошлом годе произошло печальное событие — обвалился сруб… Нуте-с, заведующий школой бьет тревогу по всем инстанциям нашего аппарата. Туда-сюда… Пишет ПЧ-первому: так, мол, и так, — чинить надо. ПЧ посылает материал, рабочих. Специальных колодезников пригнали. Ну, те, разумеется, в два момента срубили новый сруб, положили его на венец, и оставалось им, братцы, доделать чистые пустяки — раз плюнуть.
Ан не тут-то было: вместо того чтобы тут же взять и работу закончить, а ее взяли да и оставили до весны. Отлично-с.
Весной, как начала земля таять, поползло все в колодец, а колодец восемнадцать саженей глубины! Поехала в колодец земля и весь новый деревянный сруб. И в общем и целом провалилось все это… Получилась, друзья мои, глубокая яма более чем в три сажени шириной, и под самой стеной школы.
Школьный фундамент подумал-подумал, треснул и полез вслед за срубом в колодец. Дальше — больше: р-раз! — треснула стена. Из школы все, понятное дело, куда глаза глядят. Прошло еще два дня — и до свидания: въехала вся школа в колодец. Приходят добрые люди и видят: стоит в стороне нужник на девяносто персон и на воротах вывеска: «Школа первой ступени», и больше ничего — лысое место!
Так и прекратилось у нас просвещение на Немчиновском посту Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги… За ваше здоровье, товарищи!
Как истребляя пьянство,
председатель транспортников истребил
Плачевная история
Впервые — газ. «гудок», 1924 г., 20 августа.
_____
Из комнаты с надписью на дверях «Без доклада не входить» слышался треск.
Это председатель учкпрофсожа ломал себе голову, размышляя о вреде пьянства.
— Ты пойми, — говорил он, крутя за пуговицу секретаря, — что все наши несчастья от пьянства. Оно разрушает союзную дисциплину, угрожает транспорту, в корне подрывает культурно-просветительную работу как таковую и разрушает организм! Верно я сказал?
— Совершенно верно, — подтвердил секретарь и добавил: — До чего вы умны, Амос Федорович, даже неприятно!
— Ну, вот видишь. Стало быть, перед нами задача, как эту гидру пьянства истребить.
— Трудное дело, — вздохнул секретарь, — как ее, проклятую, истребишь?
— Нужно, друг! Не беспокойся: я вырву наших транспортников из когтей пьянства и порока, чего бы мне это ни стоило! Уж я придумаю.
— Вас на это взять, — льстиво сказал секретарь, — вы хитрый.
— Вот то-то.
И, сев думать, председатель подумал каких-нибудь 16 часов, но зато придумал изумительную штуку.
* * *
Через несколько дней во всех погребках, пивных и тому подобных влажных заведениях появилось объявление:
«Хозяева, имейте в виду, что транспортники не кредитоспособны. Так чтоб им ничего не отпускать».
Эффект получился действительно неожиданный.
* * *
— Здравствуй.
— Здравствуй, — хмуро ответил хозяин.
— Чего ж это у тебя такая кислая физия? Ну-ка сооруди нам две парочки.
— Нету парочек.
— Как нету? Ну, ты что, очумел?
— Ничего я не очумел. Деньги покажи.
— Ты смеешься, что ли? Завтра жалованье получу, отдам.
— Нет. Может быть, у тебя никакого жалованья нету.
— Ты спятил?.. У меня нету?! Да ты что. меня не знаешь?
— Очень хорошо знаю. Ты не кредитоспособный.
— А вот я как тебе по уху дам за эти слова…
— Ухо в покое оставь. Читай надпись…
Транспортник прочитал — и окаменел…
* * *
— Бутылочку пива!
— А вы кто?
— Тю! Не узнал. Помощник начальника станции.
— Тогда нету пива.
— Как нету, а это что в корзинах?
— Это касторка.
— Да что ты врешь. Вот двое твоей касторки напились, песни поют.
— Это не такие.
— Какие ж они?
— Они почище. Древообделочники.
— Ах ты, гадюка! Какое же ты имеешь право нас, транспортников, оскорблять…
— Объявление прочитайте
* * *
— Здравствуй, Абрам. Материю принес. Сшей ты, мой друг, мне штаны.
— Деньги вперед.
— Какие деньги? У тебя ж объявление висит: «Членам союза широкий кредит».
— Это не таким членам. Транспортникам — шиш с маслом.
— Пач-чему???
— А вон ваш председатель развесил объявление в пивнушках…
— Манька! Беги в лавочку, возьми керосину на книжку… Ну, что?
— Хи-хи. Не дают.
— Как — не дают?
— Так говорят: транспортникам, говорят, не даем. Они, говорят, не способны…
* * *
— Дай, Федос Петрович, пятерку до среды, в субботу отдам.
— Не дам…
— На каком основании отказываешь лучшему другу?
— Ты не кредитоспособный.
* * *
Через две недели по всей территории учкпрофсожа стоял вой транспортников. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из дорпрофсо-жа не прислали в учкпрофсож письмо:
«Дорогой Амос Федорович! Уберите ваши объявления, к свиньям. Против пьянства они не помогают, а только жизнь портят.
Подпись».
Смутился Амос Федорович и объявления снял.

Три копейки
Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 3 сентября.
_____
Старший стрелочник станции Орехово явился получать свое жалованье.
Плательщик щелкнул на счетах и сказал ему так:
— Жалованье: вам причитается — 25 р. 80 к. (щелк!). Кредит в ТПО с вас 12 р. 50 к. (щелк!), «гудок» — 65 коп. (щелк). Кредит Москвошвей — 12 р. 50 к. На школу— 12 коп.
Итого вам причитается на руки… (щелк! щелк!)
Т-р-и к-о-п-е-й-к-и.
По-лу-чи-те.
Стрелочник покачнулся, но не упал, потому что сзади него вырос хвост.
— Вам чего? — спросил стрелочник, поворачиваясь.
— Я — МОПР
[31], — сказал первый.
— Я — друг детей, — сказал второй.
— Я — касса взаимопомощи, — третий.
— Я — профсоюз, — четвертый.
— Я — Доброхим, — пятый.
— Я — Доброфлот, — шестой.
— Так-с, — сказал стрелочник. — Вот, братцы, три копейки, берите и делите как хотите.
И тут он увидал еще одного.
— Чего? — спросил стрелочник коротко.
— На знамя, — ответил коротко спрошенный.
Стрелочник снял одежу и сказал:
— Только сами сшейте, а сапоги — жене.
И еще один был.
— На бюст! — сказал еще один.
Голый стрелочник немного подумал, потом сказал:
— Берите, братцы, вместо бюста меня. Поставите на подоконник.
— Нельзя, — ответили ему, — вы — непохожий…
— Ну, тогда как хотите, — ответил стрелочник и вышел.
— Куда ты идешь голый? — спросили его.
— К скорому поезду, — ответил стрелочник.
— Куцы ж поедешь в таком виде?
— Никуды я не поеду, — ответил стрелочник, — посижу до следующего месяца. Авось начнут вычитать по-человечески. Как указано в законе.
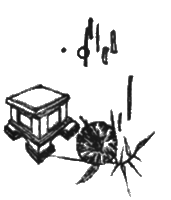
Египетская мумия
Рассказ члена профсоюза

Впервые — журн. «Смехач». 1924, № 16, 10 сентября.
_____
Приехали мы в Ленинград, в командировку, с председателем нашего месткома.
Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель:
— Знаешь что, Вася? Пойдем в Народный дом.
— А что, — спрашиваю, — я там забыл?
— Чудак ты. — отвечает мне наш председатель месткома, — в Народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь, согласно 98-й статье Кодекса труда (председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы).
Ладно. Мы и пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98-ю статью. Первым долгом мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо, и посредине палка. Причем колесо, от неизвестной причины, начинает вертеться с неимоверной скоростью, сбрасывая с себя, ко всем чертям, каждого члена союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева, со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель месткома — человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя Свободы, и, наоборот, кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой.
Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате, председатель же перенес.
Но когда мы вышли, я сказал ему:
— Друг. Отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения номер девяносто восемь!
А он сказал:
— Раз мы уже пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию.
И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил:
— Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества — подлинную египетскую мумию, привезенную две тысячи пятьсот лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и. секретно, беременным.
Все ахнули от восторга и ужаса, и действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая, как не может быть человек не только 2500 лет, но и даже в 100 лет.
Молодой человек вежливо пригласил:
— Задавайте ей вопросы. Попроще.
И тут председатель вышел и спросил:
— А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю.
Молодой человек, не смущаясь, отвечает:
— Спрашивайте по-русски.
Председатель откашлялся и задал вопрос:
— А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?
И тут мумия побледнела и сказала:
— Я училась на курсах.
— Так-с. А скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти, и если не была, то почему?
Мумия заморгала глазами и молчит. Молодой человек кричит:
— Что ж вы, гражданин, за пятнадцать копеек мучаете мумию?
А председатель начал крыть беглым:
— А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?
Мумия заплакала. Говорит:
— Я была сестрой милосердия.
— А что б ты сделала, если б ты увидела коммунистов в церкви? А кто такой тов. Стачка?
[32] А где теперь живет Карл Маркс?
Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса:
— Он умер!
А председатель рявкнул:
— Нет! Он живет в сердцах пролетариата.
И тут свет потух, и мумия с рыданием исчезла в преисподней, а публика крикнула председателю:
— Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии.
И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качанья, и мы выехали из Народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.

Игра природы

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 13 сентября.
_____
А у нас есть железнодорожник с фамилией Врангель…
Из письма рабкора
Дверь, ведущую в местком станции М., отворил рослый человек с усами, завинченными в штопор. Военная выправка выпирала из человека.
Предместком, сидящий за столом, окинул вошедшего взором и подумал: «Экий бравый…»
— А вам чего, товарищ? — спросил он.
— В союз желаю записаться, — ответил визитер.
— Тэк-с… А вы где же работаете?
— Да я только что приехал, — пояснил гость. — весовщиком сюды назначили…
— Тэк-с. Ваша как фамилия, товарищ?
Лицо гостя немного потемнело.
— Да, фамилия, конечно… — заговорил он, — фамилия у меня… Врангель.
Наступило молчание. Предместком уставился на посетителя, о чем-то подумал и вдруг машинально ощупал документы в левом кармане пиджака.
— А имя и, извините, отчество? — спросил он странным голосом.
Вошедший горько и глубоко вздохнул и вымолвил:
— Да, имя… ну, что имя, ну, Петр Николаевич.
Предместком привстал с кресла, потом сел, потом опять привстал, глянул в окно, с окна на портрет Троцкого, с Троцкого на Врангеля, с Врангеля на дверной ключ, с ключа косо на телефон. Потом вытер пот и спросил сипло:
— А скудова же вы приехали?
Пришелец вздохнул так густо, что у предместкома шевельнулись волосы, и молвил:
— Да вы не думайте… Ну, из Крыма…
Словно пружина развернулась в предместкома. Он вскочил из-за стола и мгновенно исчез.
— Так я и знал! — кисло сказал гость и тяжко сел на стул.
Со звоном хлопнул ключ в дверях. Предместком, с глазами, сияющими как звезды, летел через зал III класса, потом через I класс и прямо к заветной двери. На лице у предместкома играли краски. По дороге он вертел руками и глазами, наткнулся на кого-то в форменной куртке и ему взвыл шепотом:
— Беги, беги в месткоме дверь покарауль! Чтоб не убег!..
— Кто?!
— Врангель!
— Сдурел!!
Предместком ухватил носильщика за фартук и прошипел:
— Беги скорей дверь покарауль!..
— Которую?!
— Дурында… Награду получишь!..
Носильщик выпучил глаза и стрельнул куда-то вбок… За ним — второй.
Через три минуты у двери месткома бушевала густая толпа. В толпу клином врезался предместкома, потный и бледный, а за ним — двое в фуражках с красным верхом и синеватыми околышами. Они бодро пробирались в толпе, и первый звонко покрикивал:
— Ничего интересного, граждане! Прошу вас очистить помещение!.. Вам куда? В Киев? Второй звонок был. Попрошу очистить!
— Кого поймали, родные?
— Кого надо, того и поймали, попрошу пропустить…
— Деникина словил месткомщик!..
— Дурында, это Савинков убег… А его залопали у нас!
— Я обнаружил по усам, — бормотал предместком человеку в фуражке, — глянул… Думаю, батюшки. — он!
Двери открылись, толпа полезла друг на друга, и в щели мелькнул пришелец.
Втянув на входящих, он горько вздохнул, кисло ухмыльнулся и уронил шапку.
— Двери закрыть!.. Ваша фамилия?
— Да Врангель же… да я ж говорю…
— Ага!
Форменные фуражки мгновенно овладели телефоном. Через пять минут перед дверьми было чисто от публики, и по очистившемуся пространству проследовал кортеж из семи фуражек. В середине шел, возведя глаза к небу, пришелец и бормотал:
— Вот, твоя воля… замучился… В Херсоне водили… В Киеве водили… Вот горе-то… В Совнарком подам, пусть хоть какое хочут название дадут…
— Я обнаружил. — бормотал предместком в хвосте, — батюшки, думаю, усы! Ну, у нас это, разумеется, быстро по-военному: р-раз — на ключ. Усы — самое главное…
* * *
Ровно через три дня дверь в тот же местком открылась, и вошел тот же бравый. Физиономия у него была мрачная.
Предместком встал и вытаращил глаза.
— Э… Вы?
— Я, — мрачно ответил вошедший и затем молча ткнул бумагу.
Предместком прочитал ее, покраснел и заявил.
— Кто ж его знал… — забормотал он… — Гм… да, игра природы… Главное, усы у вас, и Петр Николаевич…
Вошедший мрачно молчал…
— Ну что ж… Стало быть, препятствий не встречается… Да… Зачислим… Да вот усы сбили меня…
Вошедший злобно молчал.
* * *
Еще через неделю подвыпивший весовщик Карасев подошел к мрачному Врангелю с целью пошутить.
— Здравия желаю, ваше превосходительство, — заговорил он, взяв под козырек и подмигнув окружающим. — Ну как изволите поживать? Каково показалось вам при власти Советов и вообще у нас в Ре-Се-Фе-Се-Ре?
— Отойди от меня, — мрачно сказал Врангель.
— Сердитый вы, господин генерал, — продолжал Карасев, — у-у, сердитый! Боюсь, как бы ты меня не расстрелял. У него это просто, взял пролетария…
Врангель размахнулся и ударил Карасева в зубы так, что с того соскочила фуражка. Кругом засмеялись.
— Что ж ты бьешься, гадюка перекопская? — сказал дрожащим голосом Карасев. — Я шутю, а ты…
Врангель вытащил из кармана бумагу и ткнул ее в нос Карасеву. Бумагу облепили и начали читать:
«…Ввиду того, что никакого мне проходу нету в жизни, просю мою роковую фамилию сменить на многоуважаемую фамилию по матери — Иванов…»
Сбоку было написано химическим карандашом: «Удовлетворить».
— Свинья ты… — заныл Карасев. — Что ж ты мне ударил?
— А ты не дражни, — неожиданно сказали в толпе. — Иванов, с тебя магарыч.

Рассказ про Поджилкина и крупу

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 1 октября.
_____
В транспосекцию явился гражданин, прошел в кабинет, сел на мягкую мебель, вынул из кармана пачку папирос «Таис», затем связку ключей и переложил все это в другой карман.
Затем уже достал носовой платок и зарыдал в него.
— Прошу вас не рыдать, молодой человек, в учреждении, — сказал ему сурово сидящий за столом, — рыдания отменяются.
Но гражданин усилил рыдания.
— У вас кто-нибудь умер? Вероятно, ваша матушка? Так вы идите в погребальный отдел страхкассы и рыдайте им сколько угодно. А нам не портите ковер, м-молодой ч'эк!
— Я не молодой чек, — сквозь всхлипывания произнес гость. — Я, наоборот, председатель железнодорожного первичного кооператива Поджилкин.
— Оч-чень приятно, — изумился транспосекщик, — чего ж вы плачете?
— Из-за крупы плачу, — утихая, ответил Поджилкин. — Дайте, ради всего святого, крупы!
— Что значит… дайте? — широко улыбнулся транспосекщик, — да берите сколько хочете! Сейчас нам предложил Центросоюз три вагона крупы-ядрицы. Эх вы, ры-дун, рыдайло… рыдакса печальная!
— Почем? — спросил, веселея, Поджилкин.
— По два двадцать.
Поджилкин тяжко задумался.
— Эк-кая штука, — забормотал он, — ведь вот оказия! Вы тово, крупу минуточку придержите… а я сейчас.
И тут он убежал.
— Чудак, — сказали ему вслед. — То ревет как белуга, то бегает…
Поджилкин же понесся прямо в комиссию по регулированию цен при МСПО.
— Где комиссия Ме-Сс-Пе-О?
— Вон дверь. Да вы людей с ног не сбивайте! Успеете…
— Вот что, братцы… крупа тут подвернулась… ядрица… Да по два рубля двадцать копеек, а вы установили обязательную цену для розничной продажи в кооперативах тоже по два рубля двадцать копеек.
— Ну? Установили. Дык что?
— Дык разрешите немного дороже продавать. А то как же я покрою провоз, штат и теде?..
— Ишь какой хитрый. Нельзя.
— Почему?
— Потому что нельзя.
— Что же мне делать?
— Пи… Слетайте на Варварку в Наркомвнуторг.
Поджилкин полетел на трамвае № 6. Прилетел.
— Вот… ядрица… упустить боюсь… два двадцать, понимаете… а цена розничная установлена… понимаете… тоже два двадцать… Понимаете…
— Ну?
— Повысить разрешите.
— Ишь ловкач. Нельзя.
— Отчего?
— Оттого что оттого.
— Что же мне делать? — спросил Поджилкин и полез в карман.
— Нет, вы это бросьте. Вон плакат — «Просят не плакать».
— Как же не плакать?..
— Идите в Ме-Се-Пе-О.
Поджилкин поехал обратно на 4-м номере.
— Опять вы?
— Дык к вам послали…
— Ишь умники. Иди обратно…
— Обратно?
— Вот именно.
Поджилкин вышел. Постоял, потом плюнул. И подошел милиционер.
— Три рубля.
— За что?
— Мимо урны не плюй.
Заплатил Поджилкин три рубля и пошел к себе в кооператив. Взял картонку и на ней нарисовал:
«Крупы нет!»
Подходили рабочие к картонке и ругали Поджилки-на, а рядом частный торговец торговал крупой по 4 рубля. Так-то-с.
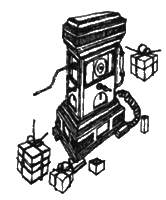
Смуглявый матершинник

Впервые — газ. «Гудок», 1924 г., 28 октября.
_____
Распроклятый тот карась
Поносил меня вчерась
Да при всем честном собранье
Непечатной разной бранью!
Из «Конька-Горбунка»[33]
Прекратите, товарищи, матерщину раз и навсегда. Это — позор-с!
Лозунг фельетониста
Ругаются у нас здорово, как известно, на станции Ново-Алексеевка Южных ж. д., но так обложить, как обложил трех безбилетных 24 сентября 1924 года по новому стилю старший агент охраны поезда № 31, еще никто не обкладывал в жизни человеческой!
Вся публика сбежала в ужасе, не говоря уже о женщинах, даже сторож удрал.
Я считаю это явление позорным на транспорте и написал стихи:
Сопровождая тридцать первый.
Охраны агент — парень смелый —
Трех безбилетных зацепил.
К ДС в контору потащил.
Все это так, но на перроне
Его смуглявое лицо
Заволокло вдруг тучей черной
И передернуло всего.
«Я… вашу мать, в кровь, в Бога, в веру!!! —
Сей агент начал тут кричать, —
Я покажу вам для примеру,
Как зайцем ездить… вашу мать!!»
А женщин много. Вот беда!
И от стыда бежать… куда?!
*В кровь, боженят!! Я вас сгребу!!» —
Ревет наш агент, как в трубу,
О, агент! Выслушай совет:
Лови ты зайцев беспощадно.
Но не позорь ты белый свет
Своею бранию площадной!
Обмен веществ
Записная книжка
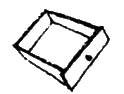
Опубликован практически одновременно в журн. «Заноза», 1924, № 19 (октябрь); «Смехач», 1924, № 19 (октябрь).
_____
15-го числа.
В Одессе на каустической соде сделал 1000 червей. Сего числа прибыл в Москву. Поселяюсь. Хватит? Хи-хи! Я думаю…
16-го числа
У которого человека деньги есть, тот может легко иметь квартиру в Москве. Уже нашел. Правление сдает за 28 червей в месяц ослепительную комнату с гобеленом, телефоном и клозетом. Остальное в доме — рвань коричневая живет.
18-го числа
Контракт на год подписал. Переехал. Гобелен зеленый. Сегодня по двору шел, какие-то бабы смотрели, пальцами показывали на меня. Пущай покланяются. Председатель говорит: «Вы у нас единственный богатый человек». Хи-хи. Приятно. Что говорить, деньги — сила. Черви козыри!
19-го числа.
Мебель купил — 80 червей.
Крова — 20.
Пружи матра —15.
Расходов, черт ее возьми, комната эта требует.
20-го числа.
Позвольте… Явился с окладистой бородой. Лицо неприятное. Сколько, спрашивает, за комнату платите? Вам какое дело? Оказывается, фининспектор!..
21-го числа.
Да что, он взбесился?!. Квартира, говорит, 1/5 часть бюджета, стало быть, говорит, зарабатываете вы в месяц 28 х 5 = 140 червей. Стало быть, в год 1680 червей!! Стало быть, налогу
с вас… Считал, считал и насчитал 120 червей!
Э, не… платить не буду!
28- го числа.
Заплатил, будь он проклят, с пеней.
29-го числа.
Лопнул водопровод в доме. Обложили пропорционально квартирной плате. С меня двадцать червей.
31-го числа.
Ремонт лестниц. С меня пропорционально — 18 червей.
Воздушн. Дети — 1 червь.
Флот беспризорн. — 1 червь.
(Вы, кричат, «богатый».)
Доброхим… Доброзем…
На туберкулез пролетариям дал пятнадцать копеек.
3-го числа.
Двор асфальтом заливали, со всех по целковому, с меня 5 червей. Да ну вас к черту! Хотел бросить комнату… нельзя, неустойка 500 червей.
9-го числа.
Уму непостижимая вещь… Весь дом на мой счет содержится. Стекла вставили всюду, детскую площадку устроили, на председателе правления новые брюки (ему жалованье положили).
10-го числа.
Явился фин и обложил дополнительно, как «исключительно богатого человека». Единовременно 500 червей. Я даже завизжал. Ничего не понимаю. Со двора асфальтом пахнет. Кричу: «Я разорился», — а он говорит: «Попробуйте не заплатить».
15-го числа.
Описали мебель, гобелен, телефон, чемоданы, девять костюмов, кой-что из золота.
Еду в Одессу содой работать.

Заколдованное место

Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 9 января.
На ст. Бобринская Юго-Зап. есть кооперативный ларек. Кого бы ни посадили в него работать, обязательно через два месяца растрата и суд.
Из письма рабкора
1
Гражданин Еалдыкин сидел в кругу приятелей и
слушал. Гражданина Талдыкина лицо сияло, приятели чокались с Талдыкиным.
— Поздравляем тебя, Талдыкин. Покажи себя в должности заведующего ларьком.
2
Через два месяца гр. Талдыкин сидел на скамье подсудимых и, тихо рыдая, слушал речь члена коллегии защитников, стоящего сзади него, с пальцами, заложенными в проймы жилета.
— Товарищи судьи! — завывал член коллегии. — Прежде чем говорить о том, растратил ли мой подзащитный 840 р. 15 коп. золотом, зададим себе вопрос — существовали ли эти 840 р. 15 коп. золотом вообще на свете? Внимательное рассмотрение шнуровой книги № 15 показывает, что этих денег нет. Спрашивается, что ж тогда растратил гр. Талдыкин? Ничего он не тратил, ибо каждому здравомыслящему человеку понятно, что нельзя растратить того, чего нет! С другой стороны, шнуровая книга № 16 показывает, что 840 р. 15 к. золотом существуют, но раз так, раз они налицо, значит, и растраты нет!..
Судьи, совершенно ошеломленные, слушали защитника, и с них капал пот.
А с Талдыкина — слезы.
3
Судья стоял и читал:
— «…но принимая во внимание… условным в течение трех лет».
Слезы высыхали на лице Талдыкина.
4
Члены правления ТПО сидели и говорили:
— Вот свинья Толдыкин! Нужно другого назначить. Видно, Бинтову придется поработать в ларьке. Бинтов, получай назначение.
5
Гр. Бинтов сидел на скамье подсудимых и слушал защитника.
А защитник пел:
— Я утверждаю, что, во-первых, этих 950 р. 23 к. вовсе не существует; во-вторых, доказываю, что мой подзащитный Бинтов их не брал; а в-третьих, что он их в целости вернул!
— «…принимая во внимание, — мрачно говорил судья и покачивал головой по адресу Бинтова, — считать условным».
6
В ТПО:
— К чертям этого Бинтова, назначим Персика.
7
Персик стоял и, прижимая шапку к животу, говорил последнее слово:
— Я больше никогда не буду, граждане судьи…
8
За Персиком сел Шумихин, за Шумихиным — Козлодоев.
9
В ТПО сидели и говорили:
— Довольно. Назначить ударную тройку в составе 15 товарищей для расследования, что это за такой пакостный ларек! Кого ни посадишь, через два месяца — нарсуд! Так продолжаться не может. На кого ни посмотришь — светлая личность, хороший честный гражданин, а как сядет за прилавок — моментально мордой в грязь. Ударная тройка, поезжай!
10
Ударная тройка села и поехала. Результаты расследования нам еще неизвестны.

Круглая печать

Впервые — газ. «гудок», 1925 г., 11 января.
_____
На ст. Валдай рабочий службы пути остался без продуктов, потому что в вагоне-лавке не выдали продуктов без круглой печати. А пока жена рабочего искала печать, лавка уехала.
Рабкор
Глава 1-я
Вагон-лавка приехала на некую станцию.
Глава 2-я
Жена рабочего службы пути Ферапонта Родионова, законная Секлетея, явилась в лавку с заверенной на пять рублей книжкой.
Глава 3-я
Приказчик порхал как бабочка, вешал, мерил, сыпал, резал, заворачивал, упаковывал. Отвесив, отмерив, отсыпав, отрезав, завернув и упаковав, взял книжку Секлетеи, поглядел в нее, распаковал, развернул, обратно ссыпал и сказал:
Глава 4-я
— Не могу-с!
Глава 5-я
— Почему? — спросила пораженная Секлетея.
Глава 6-я
— Круглой печати у вас нету.
Глава 7-я
— Где ж они потеряли свои бесстыжие глаза? — спросила Секлетея, неизвестно на кого намекая — не то на помощника начальника участка, подписывавшего книжку, не то на артельного старосту-ротозея.
Глава 8-я
— Дуй, тетка, в местком или к другому помощнику начальника участка или начальнику станции, — посоветовал приказчик.
Глава 9-я
Тетка дунула, все время ворча что-то про сукиных сынов…
Глава 10-я
— Приложите мне круглую печать, да поскорее, — попросила она в месткоме.
— С удовольствием бы, тетка, и печать у нас есть, да не имеем права, — ответили ей местком и начальник станции.
Глава 11-я
— А я имею право, я бы и приложил тебе, тетка, но у меня печати нет, — ответил ей другой помощник начальника участка.
Глава 12-я
Тетка взвыла и кинулась в лавку.
Глава 13-я
А та взяла и уехала.
Глава 14-я
А контора, составляя списки на жалованье, вычла с Ферапонта Родионова пять рублей за якобы взятые продукты.
Глава 15-я
А Ферапонт Родионов ругался скверными словами, узнав про это. И был совершенно прав.
Глава последняя
В общем и целом, безобразники и волокитчики сидят на некоей станции и в ее окрестностях.

Они хочуть свою образованность показать…

Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 15 февраля.
_____
…и всегда говорят о непонятном!
А. П. Чехов
Какие-то чудаки наши докладчики! Выражается во время речи иностранными словами, а когда рабочие попросили объяснить — он. оказывается, сам не понимает!
Рабкор Н. Чуфыркин
В зале над тысячью человек на три сажени стоял пар. И пар поднимался от докладчика. Он подъезжал на курьерских к концу международного положения.
— Итак, дорогие товарищи, я резюмирую! Интернациональный капитализм в конце концов и в общем и целом довел свои страны до полной прострации. У акул мирового капитализма одно соображение, как бы изолировать Советскую страну и обрушиться на нее с интервенцией! Они использовывают все возможности, вплоть до того, что прибегают к диффамации, то есть сочиняют письма, якобы написанные тов. Зиновьевым! Это, товарищи, с точки зрения пролетариата, — моральное разложение буржуазии и ее паразитов и камер-лакеев из Второго Интернационала!
Оратор выпил полстакана воды и загремел как труба:
— Удастся ли это им, товарищи? Совершенно наоборот! Это им не удастся! Капиталистическая вандея, окруженная со всех сторон волнами пока еще аморфного пролетариата, задыхается в собственном соку, и перед капиталистами нет другого исхода, как признать Советский Союз, аккредитовав при нем своих полномочных послов!
И моментально оратор нырнул вниз, словно провалился. Затем выскочила из кресла его голова и предложила:
— Если кто имеет вопросы, прошу задавать.
В зале наступила тишина. Затем в отдалении зашевелилась в самой гуще и вышла голова Чуфыркина.
— Вы имеете, товарищ? — ласково обратился к нему с эстрады совершенно осипший оратор.
— Имею, — ответил Чуфыркин и облокотился на спинку переднего стула. Вид у Чуфыркина был отчаянный. — Ты из меня всю кровь выпил!
Зал охнул, и все головы устремились на смельчака Чуфыркина.
— Сижу — и не понимаю, жив я или уже помер, — объяснил Чуфыркин.
В зале настала могильная тишина.
— Виноват. Я вас не понимаю, товарищ! — Оратор обидчиво скривил рот и побледнел.
— В голове пузыри буль-буль, как под водой сидишь, — объяснил Чуфыркин.
— Я не понимаю, — заволновался оратор. Председатель стал подниматься с кресла.
— Вы, товарищ, вопрос имеете? Ну?
— Имею, — подтвердил Чуфыркин, — объясни — «резюмирую».
— То есть как это, товарищ? Я не понимаю, что объяснить?..
— Что означает, объясни!
— Виноват, ах да… Вам не совсем понятно, что значит «резюмирую»?
— Совершенно непонятно, — вдруг крикнул чей-то измученный голос из задних рядов. — Вандея какая-то. Кто она такая?
Оратор стал покрываться клюквенной краской.
— Сию минуту. М-м-м… Тык вы про «резюмирую». Это, видите ли, товарищ, слово иностранное…
— Оно и видно, — ответил чей-то женский голос сбоку.
— Что обозначает? — повторил Чуфыркин.
— Видите ли, резю-зю-ми-ми… — забормотал оратор. — Понимаете ли, ну вот, например, я, скажем, излагаю речь. И вот выводы, так сказать. Одним словом, понимаете?..
— Черти серые, — сказал Чуфыркин злобно.
Зал опять стих.
— Кто серые? — растерянно спросил оратор.
— Мы, — ответил Чуфыркин, — не понимаем, что вы говорите.
— У него образование высшее, он высшую начальную школу кончил, — сказал чей-то ядовитый голос, и председатель позвонил. I^e-то засмеялись.
— «Интервенцию» объясните, — продолжал Чуфыркин настойчиво.
— И «диффамацию», — добавил чей-то острый пронзительный голос сверху и сбоку.
— И кто такой камер-лакей? В какой камере?!
— Про Вандею расскажите!!
Председатель взвился, начал звонить:
— Не сразу, товарищи, прошу по очереди!
— «Аккредитовать» не понимаю!
— Ну, что значит «аккредитовать»? — растерялся оратор. — Ну, значит послать к нам послов…
— Так и говори!! — раздраженно забасил кто-то на галерее.
— «Интервенцию» даешь!! — отозвались задние ряды.
Какая-то лохматая учительская голова поднялась и, покрывая нарастающий гул, заявила:
— И, кроме того, имейте в виду, товарищ оратор, что такого слова — «использовывать» — в русском языке нет! Можно сказать — использовать!
— Здорово! — отозвался зал. — Вот так припаял! Шкраб, он умеет!
В зале начался бунт.
— Говори, говори! Пока у меня мозги винтом не завинтило! — страдальчески кричал Чуфыркин. — Ведь это же немыслимое дело!!
Оратор, как затравленный волк, озираясь на председателя, вдруг куда-то провалился. Багровый председатель оглушительно позвонил и выкрикнул:
— Тише! Предлагается перерыв на десять минут. Кто за?
Зал ответил бурным хохотом, и целый лес рук поднялся кверху.
Мадмазель Жанна

Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 25 февраля.
_____
У нас. в клубе на ст. 3.. был вечер прорицательницы и гипнотизерки Жанны. Угадывала чужие мысли и заработала 150 рублей за вечер.
Рабкор
Замер зал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами, в лиловом платье и красных чулках. А за нею бойкая, словно молью траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице пиджака. Личность швырнула глазом вправо и влево, изогнулась и шепнула даме на ухо:
— В первом ряду лысый, в бумажном воротничке, второй помощник начальника станции. Недавно предложение делал — отказала. Нюрочка. (Публике громко.) Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!
Зал побледнел.
(Жанне.) Сделай загадочное лицо, дура. (Публике.) Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. (Жанне.) Сто раз тебе говорил, чтоб браслетку надевать на вечер. (Публике.) Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. (Жанне.) Под лозунгом сбоку с ридикюлем, ей муж изменяет на соседней станции. (Публике.) Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну… Прошу вас сесть, мадмазель… По очереди, граждане! (Жанне.) Раз, два, три — и вот вас начинает клонить ко сну! (Делает какие-то жесты руками, как будто тычет в глаза Жанне.) Перед вами изумительный пример оккультизма. (Жанне.) Засыпай, что сто лет глаза таращишь? (Публике.) Итак, она спит! Прошу…
В мертвой тишине поднялся помощник начальника, побагровел, потом побледнел и спросил диким голосом от страху:
— Какое самое важное событие в моей жизни? В настоящий момент?
Личность (Жанне):
— На пальцы смотри внимательней, дура.
Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что обозначало «раз-би-то-е».
— Ваше сердце, — заговорила Жанна как во сне, гробовым голосом. — разбито коварной женщиной.
Личность одобрительно заморгала глазами. Зал охнул, глядя на несчастливого помощника начальника станции.
— Как ее зовут? — хрипло спросил отвергнутый помощник.
— Эн, ю, эр. о, ч… — завертела пальцами у лацкана пиджака личность.
— Нюрочка! — твердо ответила Жанна.
Помощник начальника станции поднялся с места совершенно зеленый, тоскливо глянул во все стороны, уронил шапку и коробку с папиросами и ушел.
— Выйду ли я замуж? — вдруг истерически выкликнула какая-то барышня. — Скажите, дорогая мадмазель Жанна!
Личность опытным глазом смерила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантемы условный шиш.
— Нет, не выйдете, — сказала Жанна.
Зал загремел, как эскадрон на мосту, и помертвевшая барышня выскочила вон.
Женщина с ридикюлем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне.
— Брось, Дашенька, — послышался сзади сиплый мужской шепот.
— Нет, не брось, теперь я узнаю все твои штучки-фокусы. — ответила обладательница ридикюля и сказала: — Скажите, мадмазель, что, мой муж мне изменяет?
Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец крючочком, что означало «да».
— Изменяет, — со вздохом ответила Жанна.
— С кем? — спросила зловещим голоском Дашенька.
«Как, черт, ее зовут? — подумала личность. — Дай бог памяти… да, да, да, жена этого… ах ты, черт… вспомнил — Анна».
— Дорогая Ж…анна, скажите, Ж…анна, с кем изменяет ихний супруг?
— С Анной, — уверенно ответила Жанна.
— Так я и знала! — с рыданием воскликнула Дашенька. — Давно догадывалась. Мерзавец!
И с этими словами хлопнула мужа ридикюлем по правой гладко выбритой щеке.
И зал разразился бурным хохотом.
О пользе алкоголизма

Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 15 апреля.
_____
На собрание по перевыборам месткома на станции N член союза Микула явился вдребезги пьяный. Рабочая масса кричала: «Недопустимо!», но представитель учка выступил с защитой Микулы, объяснив, что пьянство — социальная болезнь и что можно выбирать и выпивак в состав месткома…
Рабкор 2619
Пролог
— К черту с собрания пьяную физию! Это недопустимо! — кричала рабочая масса.
Председатель то вставал, то садился, точно внутри у него помещалась пружинка.
— Слово предоставляется! — кричал он, простирая руки. — Товарищи, тише!.. Слово предоставля… товарищи, тише!.. Товарищи!.. Умоляю вас выслушать представителя учка…
— Долой Микулу! — кричала масса. — Этого пьяницу надо изжить!
Лицо представителя появилось за столом президиума. На учкином лице плавала благожелательная улыбка. Масса еще поволновалась, как океан, и стихла.
— Товарищи! — воскликнул представитель приятным баритоном.
Я — председатель! И если он —
Волна! А масса вы — Советская Россия.
То учк не может быть не возмущен.
Когда возмущена стихия!
Такое начало польстило массе чрезвычайно.
— Стихами говорит!
— Кормилец ты наш! — восхищенно воскликнула какая-то старушка и зарыдала. После того как ее вывели, представитель продолжал:
— О чем шумите вы, народные витии?!
— Насчет Микулы шумим! — отвечала масса.
— Вон его! Позор!
— Товарищи! Именно по поводу Микулы я и намерен говорить.
— Правильно! Крой его, алкоголика!
— Прежде всего перед нами возникает вопрос: действительно ли пьян означенный Микула?
— Ого-го-го-го! — закричала масса.
— Ну, хорошо, пьян, — согласился представитель. — Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос: на каком таком основании пьян уважаемый член союза Микула?
— Именинник он! — ответила масса.
— Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он… болен.
Масса застыла, как соляной столб. Багровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя.
— Да-с, милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобная туберкулезу, сифилису, чуме, холере, и… прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что такое пьянство и откуда оно взялось?.. Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к спиртным напиткам Красным Солнышком, воскликнул: «Наше веселие есть пити!»
— Здорово загнул!
— Здоровее трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать по малости, восклицая при этом: «Пьян, да умен — два угодья в нем!»
— А с князем что было? — спросила масса, которую заинтересовал доклад секретаря.
— Помер, голубчики. В одночасье от водки сгорел, — с сожалением пояснил всезнайка-секретарь.
— Царство ему Небесное! — пискнула какая-то старушечка. — Хуть и совецкий, а все ж святой.
— Ты религиозный дурман на собрании не разводи, тетя. — попросил ее секретарь. — тут тебе Царств Небесных нету. Я продолжаю, товарищи. После чего в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд всякий и каждый, не щадя младенцев и сирот. «Пей, да дело разумей», — воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составился ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма, как-то: «Пьяному море по колена», «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «Не вино пьянит человека, а время», «Не в свои сани не садись», — и какие бишь еще?..
— «Чай не водка, много не выпьешь»! — ответила крайне заинтересованная масса.
— Верно, мерси. «Разве с полведра напьешься?», «Курица и та пьет», «И пить — умереть, и не пить — умереть», «Налей, налей, товарищ, заздравную чару!..».
— «Бог зна-е-ет, что с нами случится…» — подтянул пьяный засыпающий Микула.
— Товарищ больной, попрошу вас не петь на собрании, — вежливо попросил председатель, — продолжайте, товарищ оратор.
— «Помолимся, — продолжал оратор, — помолимся, помолимся творцу, мы к рюмочке приложимся, потом и к огурцу», «господин городовой, будьте вежливы со мной, отведите меня в часть, чтобы в грязь мне не упасть», «неприличными словами прошу не выражаться и на чай не давать», «февраля двадцать девятого выпил штоф вина проклятого», «ежедневно свежие раки», «через тумбу, тумбу раз»…
— Куда?! — вдруг рявкнул председатель.
Пять человек вдруг крадучись вылезли из рядов и шмыгнули в дверь.
— Не выдержали речи, — пояснила восхищенная масса, — красноречиво убедил. В пивную бросились, пока не закрыли.
— Итак, — гремел оратор, — вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь. товарищи. Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов восемнадцатого века в высшей степени любил поставить банку, а, однако, вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания университета на Моховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу… Я заканчиваю, и приступаем к выборам…
Эпилог
«…после чего рабочие массы выбрали в кандидаты месткома известного алкоголика, и на другой же день он сидел пьяный как дым на перроне и потешал зевак анекдотами, рассказывая, что разрешено пить, лишь бы не было вреда».
Из того же письма рабкора.
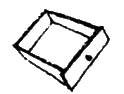
Смычкой по черепу

Впервые — газ. «гудок», 1925 г., 27 мая.
_____
В основе фельетона — истинное происшествие,
описанное рабкором № 742
Дождалось наконец радости одно из сел Червонного, Фастовского района, что на Киевщине! Сам Сергеев, представитель райисполкома, он же заместитель предместкома, он же голова охраны труда ст. Фастов, прибыл устраивать смычку с селянством.
Как по радио стукнула весть о том, что сего числа Сергеев повернется лицом к деревне, селяне густыми косяками пошли в хату-читальню. Даже 60-летний дед Омелько (по профессии — середняк), вооружившись клюкой, приплелся на общее собрание.
В хате яблоку негде было упасть; дед приткнулся в уголочке, наставил ухо трубой и приготовился к восприятию смычки.
Гость на эстраде гремел, как соловей в жимолости. Партийная программа валилась из него крупными кусками, как из человека, который глотал ее долгое время, но совершенно не прожевывал.
Селяне видели энергичную руку, заложенную за борт куртки, и слышали слова:
— Больше внимания селу… Мелиорации… Производительность… Посевкампания… середняк и бедняк… дружные усилия… мы к вам… вы к нам… посев, материал… район… это гарантирует, товарищи… семенная ссуда… Наркомзем… движение цен… Наркомпрос… тракторы… кооперация… облигации…
Тихие вздохи порхали в хате. Доклад лился как река. Докладчик медленно поворачивался боком и наконец совершенно повернулся к деревне. И первый предмет, бросившийся ему в глаза в этой деревне, было огромное и сморщенное ухо деда Омельки, похожее на граммофонную трубу. На лице у деда была напряженная дума.
Все на свете кончается, кончился и доклад. После аплодисментов наступило несколько натянутое молчание. Наконец встал председатель собрания и спросил:
— Нет ли у кого вопросов к докладчику?
Докладчик горделиво огляделся: нет, мол, такого вопроса на свете, на который бы я не ответил!
И вот произошла драма. Загремела клюка, встал дед Омелько и сказал:
— Я просю, товарищи, чтоб товарищ смычник по-простому рассказал свой доклад, бо я ничего не понял.
Учинив такое неприличие, дед сел на место. Настала гробовая тишина, и видно было, как побагровел Сергеев.
Прозвучал его металлический голос:
— Это что еще за индивидуум?..
Дед обиделся:
— Я не индююм… Я дед Омелько.
Сергеев повернулся к председателю:
— Он член комитета незаможников?
— Нет, не член, — сконфуженно отозвался председатель.
— Ага! — хищно воскликнул Сергеев. — Стало быть, кулак?!
Собрание побледнело.
— Так вывести же его вон!! — вдруг рявкнул Сергеев и, впав в исступление и забывчивость, повернулся к деревне не лицом, а совсем противоположным местом.
Собрание замерло. Ни один не приложил руку к дряхлому деду, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не выручил докладчика секретарь сельской рады Игнат. Как коршун налетел секретарь на деда и, обозвав его «сукиным дедом», за шиворот поволок его из хаты-читальни.
Когда вас волокут с торжественного собрания, мудреного нет, что вы будете протестовать. Дед упирался ногами в пол и бормотал:
— Шестьдесят лет прожил на свете, не знал, что я кулак… а также спасибо вам за смычку!
— Ладно, — пыхтел Игнат, — ты у меня поразговариваешь. Ты у меня разговоришься. Я тебе докажу, какой ты элемент.
Способ доказательства Игнат избрал оригинальный. Именно, вытащив деда во двор, урезал его по затылку чем-то настолько тяжелым, что деду показалось, будто бы померкло полуденное солнце и на небе выступили звезды.
Неизвестно, чем доказал Игнат деду. По мнению последнего (а ему виднее, чем кому бы то ни было), это была резина.
На этом смычка с дедом Омелькой и закончилась.
Впрочем, не совсем. После смычки дед оглох на одно ухо.
* * *
Знаете что, тов. Сергеев? Я позволю себе дать вам два совета (они также относятся и к Игнату). Во-первых, справьтесь, как здоровье деда.
А во-вторых: смычка смычкой, а мужиков портить все-таки не следует.
А то вместо смычки произойдут неприятности.
Для всех.
И для вас в частности.

Двуликий Чемс
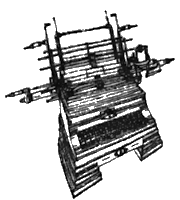
Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 2 июня.
_____
На ст. Фастов ЧМС[34] издал распоряжение о том, чтобы ни один служащий не давал корреспонденции в газеты без его просмотра. А когда об этом узнал корреспондент, ЧМС испугался и спрятал книгу распоряжений под замок.
Рабкор 742
— Я пригласил вас, товарищи — начал Чемс, — с тем, чтобы сообщить вам пакость: до моего сведения дошло, что многие из вас в газеты пишут?
Приглашенные замерли.
— Не ожидал я этого от моих дорогих сослуживцев, — продолжал Чемс горько. — Солидные такие чиновники… то бишь служащие… И не угодно ли… Ай, ай, ай, ай, ай!
И Чемсова голова закачалась, как у фарфорового кота.
— Желал бы я знать, какой это пистолет наводит тень на нашу дорогую станцию? То есть ежели бы я это знал…
Тут Чемс пытливо обвел глазами присутствующих.
— Не товарищ ли это Бабкин?
Бабкин позеленел, встал и сказал, прижимая руку к сердцу:
— Ей-богу… честное слово… клянусь… землю буду есть… икону сыму… Чтоб я не дождался командировки на курорт… чтоб меня уволили по сокращению штатов… если это я!
В речах его была такая искренность, сомневаться в которой было невозможно.
— Ну, тогда, значит, Рабинович?
Рабинович отозвался немедленно:
— Здравствуйте! Чуть что, сейчас — Рабинович. Ну, конечно, Рабинович во всем виноват! Крушение было — Рабинович. Скорый поезд опоздал на восемь часов — тоже Рабинович. Спецодежду задерживают — Рабинович! Гинденбурга выбрали — Рабинович? И в газету писать — тоже Рабинович? А почему это я, Рабинович, а не он, Азеберджаньян?
Азеберджаньян ответил:
— Не ври, пожалста! У меня даже чернил нету в доме. Только красное азербейджанское вино.
— Так неужели это Бандуренко? — спросил Чемс.
Бандуренко отозвался:
— Чтоб я издох!..
— Странно. Полная станция людей, чуть не через день какая-нибудь этакая корреспонденция, а когда спрашиваешь: «кто?» — виновного нету. Что ж, их святой дух пишет?
— Надо полагать, — молвил Бандуренко.
— Вот я б этого святого духа, если бы он только мне попался! Ну, ладно. Иван Иваныч, читайте им приказ, и чтоб каждый расписался!
Иван Иваныч встал и прочитал:
— «Объявляю служащим вверенного мне… мною замечено… обращаю внимание… недопустимость… и чтоб не смели, одним словом…»
* * *
С тех пор станция Фастов словно провалилась сквозь землю. Молчание.
— Странно, — рассуждали в столице, — большая такая станция, а между тем ничего не пишут. Неужели там у них никаких происшествий нет? Надо будет послать к ним корреспондента.
* * *
Вошел курьер и сказал испуганно:
— Там до вас, товарищ Чемс, корреспондент приехал.
— Врешь, — сказал Чемс, бледнея, — не было печали! То-то мне всю ночь снились две большие крысы… Боже мой, что теперь делать?.. Гони его в шею… То бишь проси его сюда… Здрасьте, товарищ… Садитесь, пожалуйста. В кресло садитесь, пожалуйста. На стуле вам слишком твердо будет. Чем могу служить? Приятно, приятно, что заглянули в наши отдаленные палестины!
— Як вам приехал связь корреспондентскую наладить.
— Да господи! Да боже ж мой! Да я же полгода бьюсь, чтобы наладить ее, проклятую. А она не налаживается. Уж такой народ. Уж до чего дикий народ, я вам скажу по секрету, прямо ужас. Двадцать тысяч раз им твердил: «Пишите, черти полосатые, пишите!» Ни черта они не пишут, только пьянствуют. До чего дошло: несмотря на то. что я перегружен работой, как вы сами понимаете, дорогой товарищ, сам им предлагал: «Пишите, говорю, ради всего святого, я сам вам буду исправлять корреспонденции, сам помогать буду, сам отправлять буду, только пишите, чтоб вам ни дна ни покрышки». Нет, не пишут! Да вот я вам сейчас их позову, полюбуйтесь сами на наше фастовское народонаселение. Курьер, зови служащих ко мне в кабинет.
Когда все пришли, Чемс ласково ухмыльнулся одной щекой корреспонденту, а другой служащим и сказал:
— Вот, дорогие товарищи, зачем я вас пригласил. Извините, что отрываю от работы. Вот товарищ корреспондент прибыл из центра просить вас, товарищи, чтобы вы, товарищи, не ленились корреспондировать нашим столичным товарищам. Неоднократно я уже просил вас, товарищи…
— Это не мы! — испуганно ответили Бабкин, Рабинович, Азеберджаньян и Бандуренко.
«Зарезали, черти!» — про себя воскликнул Чемс и продолжал вслух, заглушая ропот народа:
— Пишите товарищи, умоляю вас, пишите! Наша союзная пресса уже давно ждет ваших корреспонденций, как манны небесной, если можно так выразиться? Что же вы молчите?..
Народ безмолвствовал.
Работа достигает 30 градусов

Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 4 июня.
_____
Общее собрание транспортной комячейки ст. Троицк Сам. — Злат. не состоялось 20 апреля, так как некоторые партийцы справляли Пасху с выпивкой и избиением жен. Когда это происшествие обсуждалось на ближайшем собрании, выступил член бюро ячейки и секретарь месткома и заявил, что пить можно, но надо знать и уметь как.
Рабкор Зубочистка
Одинокий человек сидел в помещении комячейки на ст. Икс и тосковал.
— В высшей степени странно. Собрание назначено в пять часов, а сейчас половина девятого. Что-то ребятишки стали опаздывать.
Дверь впустила еще одного.
— Здравствуй, Петя, — сказал вошедший, — кворум изображаешь? Изображай. Голосуй, Петро!
— Ничего не понимаю, — отозвался первый. — Банки-на нету, Кружкина нет.
— Банкин не придет.
— Почему?
— Он пьян.
— Не может быть!
— И Кружкин не придет.
— Почему?
— Он пьян.
— Ну, а где ж остальные?
Наступило молчание. Вошедший стукнул себя пальцем по галстуку.
— Неужели?
— Я не буду скрывать от себя русскую горькую правду, — пояснил второй, — все пьяны. И Горошков, и Соси-скин, и Мускат, и Корнеевский, и кандидат Горшаненко. Закрывай, Петя, собрание!
Они потушили лампу и ушли во тьму.
* * *
Праздники кончились, поэтому собрание было полноводно.
— Дорогие товарищи! — говорил Петя с эстрады. — Считаю, что такое положение дел недопустимо. Это позор! В день Пасхи я лично сам видел нашего уважаемого товарища Банкина, каковой Банкин вез свою жену…
— Гулять я ее вез, мою птичку, — елейным голосом отозвался Банкин.
— Довольно оригинально вы везли. Банкин! — с негодованием воскликнул Петя. — Супруга ваша ехала физиономией по тротуару, а коса ее находилась в вашей уважаемой правой руке!
Ропот прошел среди непьющих.
— Я хотел взять локон ее волос на память! — растерянно крикнул Банкин, чувствуя, как партбилет колеблется в его кармане.
— Локон? — ядовито спросил Петя. — Я никогда не видел, чтобы при взятии локона на память женщину пинали ногами в спину на улице!
— Это мое частное дело, — угасая, ответил Банкин, ясно ощущая ледяную руку укома на своем билете.
Ропот прошел по собранию.
— Это. по-вашему, частное дело? Нет-с, дорогой Банкин, это не частное! Это свинство!!
— Прошу не оскорблять! — крикнул наглый Банкин.
— Вы устраиваете скандалы в публичном месте и этим бросаете тень на всю ячейку! И подаете дурной пример кандидатам и беспартийным! Значит, когда Мускат бил стекла в своей квартире и угрожал зарезать свою супругу, — и это частное дело? А когда я встретил Кружкина в пасхальном виде, то есть без правого рукава и с заплывшим глазом?! А когда Горшаненко на всю улицу крыл всех встречных по матери — это частное дело?!
— Вы подкапываетесь под нас, товарищ Петя, — неуверенно крикнул Банкин.
Ропот прошел по собранию.
— Товарищи. Позвольте мне слово, — вдруг звучным голосом сказал Всемизвестный (имя его да перейдет в потомство), — я лично против того, чтобы этот вопрос ставить на обсуждение. Это отпадает, товарищи. Позвольте изложить точку зрения. Тут многие дебатируют: можно ли пить? В общем и целом пить можно, но только надо знать, как пить!
— Вот именно!! — дружно закричали на алкогольной крайней правой.
Непьющие ответили ропотом.
— Тихо надо пить, — объявил Всемизвестный.
— Именно! — закричали пьющие, получив неожиданное подкрепление.
— Купил ты. к примеру, три бутылки, — продолжал Всемизвестный, — и…
— Закуску!!
— Тиш-ше!!
— …Да, и закуску…
— Огурцами хорошо закусывать…
— Тиш-ше!..
— Пришел домой, — продолжал Всемизвестный, — занавески на окнах спустил, чтобы шпионские глаза не нарушили домашнего покоя, пригласил приятеля, жена тебе селедочку очистит, сел, пиджак снял, водочку поставил под кран, чтобы она немножко озябла, а затем, значит, не спеша, на один глоток налил…
— Однако, товарищ Всемизвестный! — воскликнул пораженный Петя. — Что вы такое говорите?!
— И никому ты не мешаешь, и никто тебя не трогает. — продолжал Всемизвестный. — Ну, конечно, может у тебя выйти недоразумение с женой, после второй бутылки, скажем. Так не будь же ты ослом. Не тащи ты ее за волосы на улицу! Кому это нужно? Баба любит, чтобы ее били дома. И не бей ты ее по физиономии, потому что на другой день баба ходит по всей станции с синяками — и все знают. Бей ты ее по разным сокровенным местам! Небось не очень-то пойдет хвастаться.
— Браво!! — закричали Банкин, Закускин и К°.
Аплодисменты загремели на водочной стороне. Встал Петя и сказал:
— За все свое время я не слыхал более возмутительной речи, чем ваша, товарищ Всемизвестный, и имейте в виду, что я о ней сообщу в «Гудок». Это неслыханное безобразие!!
— Очень я тебя боюсь, — ответил Всемизвестный. — Сообщай!
И конец истории потонул в выкриках собрания.

По поводу битья жен

Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 18 июля.
_____
Лежит передо мною замечательное письмо. Вот выдержки из него:
«Я — семьянин, а потому знаю, что большая часть семейных сцен разыгрывается на почве материальной необеспеченности. Жена пищит: «Вот-де, посмотри на таких-то знакомых, как они живут!»… Подобного рода аргументация доводит до белого каления. Беда, если глава семьи слаб на руку и заедет в затылок!..
Вот в этом случае, по моему мнению, до некоторой степени полезно обратиться в местком, но не с жалобой, а за советом, и не с тем, чтобы проучить драчуна, а с тем, чтобы устранить причину, вызывающую семейные ссоры… Местком — не судья, но. как союзный орган, на обязанности которого лежит, между прочим, забота о благосостоянии членов, может изыскать средства, помочь угнетаемой возбуждением, например, ходатайства о предоставлении угнетателю службы, более обеспечивающей его существование…»
* * *
Дорогой товарищ семьянин! Позвольте вам нарисовать картину в месткоме после проведения в жизнь вашего проекта.
Является некий семьянин в местком.
— Вам что?
— Жену сегодня изувечил.
— Так-с, чем же вы ее?
— Тарелкой фабрики бывшего Попова.
— Э, чудак! Кто ж тарелками дерется? Посуда денег стоит. Взяли бы кочергу. Ведь, чай, расхлопали тарелку?
— Понятное дело. Голову тоже.
— Ну, голова дело десятое. Голова и заживет, в крайнем случае. Ведь вы, надеюсь, не насмерть уходили вашу супругу?
— Ништо ей!
— Ну вот, а тарелочка не заживет. Бесхозяйственная вы личность. По какому же поводу у вас с супругой дискуссия вышла? На какую вы тему ее били?
— Да… кха… Жалованье нам вчера выдавали. Ну, понятное дело, зашли мы с кумом…
— В пивную?
— Конечно. Ну, спросили парочку… Затем еще парочку… Потом еще парочку…
— Вы дюжинками считайте, скорее будет.
— М-да… выпили мы, стало быть… Пошли опять…
— Домой?
— То-то, что к Сидорову… Мадеру у него пили…
— Так-с… Дальше…
— Дальше я где-то был, только, хоть убейте, не помню— где. Утром сегодня являюсь, а эта змея пристает…
— Виноват, это кто ж змея?
— Жена моя, понятно. Где, говорит, жалованье, пьяница? Слово за слово… ну, не стерпел я…
— Да… Что ж нам с вами делать? Вы по какому разряду?
— По девятому.
— Ну, ладно, получайте десятый!
— Покорнейше благодарю!!.
* * *
Из десятого, после того как он своей змее руку сломал, — в 12-й. Тогда он ей ухо откусил — в 16-й. Тогда он ей глаза выбил сапогом — в 24-й разряд тарифной сетки. Но в сетке выше разряда нету. Спрашивается, ежели он ей кишки выпустит, куда ж его дальше?
— Персональную ставку давать?
Ну нет, это слишком жирно будет!
* * *
Был человек начальником станции, сломал три ребра жене, его сделали ревизором движения! Тогда он ее и вовсе насмерть ухлопал. Ан все высшие должности заняты.
Спрашивается, как его наградить? Придется деньгами выдать!
* * *
Нет, семьянин! Ваш проект плохой. Бьют жен вовсе не от необеспеченности. Бьют от темноты, от дикости и от алкоголизма, и никакие разряды туг не помогут. Хоть начальником тяги сделай драчуна, все равно он будет работать кулаками.
Иные средства нужны для лечения семейных неурядиц!
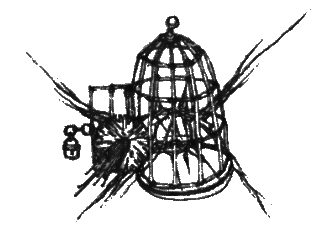
«Вода жизни»

Впервые — газ. «Гудок», 1925 г., 18 декабря.
_____
Станция Сухая Канава дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек.
Все, что здесь доступно оку (как говорится).
Спит, покой ценя…
В это-то время к железнодорожной лавке подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел:
— Ванька, не будь сволочью, дай руль шестьдесят две!..
— Отпрыгни от меня моментально! — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.
Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила:
— Соскучились, ребятишки?
Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл:
— Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать?
— Агародами… Там сугробы. — начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке.
С победоносным криком: «Номер первый — ура!!!!» — он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил:
— Чтоб ты сдох! Ну куда тебя несет? Вторым номером встанешь! Успеешь! Фаддей — первый, он дежурил два дня.
Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал:
— Братцы, очишшанное привезли!..
Калитки захлопали.
Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке. на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на полкорпуса местного дьякона (шестой номер). Седьмым пришла в красивом финише жена Сидорова, восьмым — сам Сидоров, девятым — Пелагеин племянник, бросивший на пять саженей десятого — помощника начальника станции Колочука, показавшего 32 версты в час, одиннадцатым — неизвестный в старой красноармейской шапке, а двенадцатого личность в фартуке высадила за дверь, рявкнув:
— Организуй на улице!
* * *
Поселок оказался и люден, и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросалась с фланга на организованную очередь повторными атаками.
— Анафемы! Мне ваша водка не нужна, мяса к обеду дайте взять! — кричала она, как кавалерийская труба.
— Какое тут мясо! — отвечала очередь. — Вон старушку с мясом!
— Плюнь, Пахомовна, — говорил женский голос из оврага, — теперь ничего не сделаешь! Теперича, пока водку не разберут…
— Глаз, глаз выдушите, куда ж ты прешь!
— В очередь!
— Выкиньте этого, в шапке, он сбоку залез!
— Сам ты мерзавец!
— Товарищи, будьте сознательны!
— Ох, не хватит…
— Попрошу не толкаться, я — начальник станции!
— Насчет водки — я
сам начальник!
— Алкоголик ты, а не начальник!
* * *
Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий с счастливым лицом и с двумя бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги.
— Две бутылочки.
— Три двадцать четыре! — вопил фартук. — Что кроме?
— Сельдей четыре штуки…
— Сельдей нету!
— Колбасы полтора фунта…
— Вася, колбаса осталась?
— Вышла!
— Колбасы уже нет, вышла!
— Так что ж есть?
— Сыр русско-швейцарский, сыр голландский…
— Давай русско-голландский, полфунта…
— Тридцать две копейки! Три пятьдесят шесть! Сдачи сорок четыре копейки! Следующий!
— Две бутылочки…
— Какую закусочку?
— Как-то хочешь. Истомилась моя душенька…
— Ничего, кроме зубного порошка, не имеется.
— Давай зубного порошка две коробки!
— Не желаю я вашего ситца!
— Без закуски не выдаем.
— Ты что ж, очумел, какая же ситец закуска?
— Как желаете…
— Чтоб ты на том свете ситцем закусывал!
— Попрошу не ругаться!
— Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы! Нельзя же, нельзя ж, в самом деле, народ ситцем кормить!
— Товарищ, не задерживайте!
Двести пятнадцатый номер получил две бутылки и фунт синьки, двести шестнадцатый — две бутылки и флакон одеколону, двести семнадцатый — две бутылки и пять фунтов черного хлеба, двести восемнадцатый — две бутылки и два куска туалетного мыла «Аромат девы», двести девятнадцатый — две и фунт стеариновых свечей, двести двадцатый — две и носки, да двести двадцать первый — получил шиш.
Фартуки вдруг радостно охнули и закричали:
— Вся!
После этого на окне выскочила надпись «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном…
* * *
Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура и тихо пела, покачиваясь:
Все, что здесь доступно оку.
Спит, покой ценя…

Чемпион мира
Фантазия в прозе

Впервые — газ. «Гудок». 1925 г., 25 декабря.
_____
Прения у нас на съезде были горячие. УДР в заключительном слове обозвал своих оппонентов обормотами…
Из письма рабкора № 2244
Зал дышал, каждая душа напряглась, как струна. Участковый съезд шел на всех парусах. На эстраде стоял Удэер и щелкал, как соловей весной в роще:
— Дорогие товарищи! Подводя итоги моего краткого четырехчасового доклада, я должен сказать, положа руку на сердце… (тут Удэер приложил руку к жилетке и сделал руладу голосом)… что работа на участке у нас выполнена на… 115 процентов!
— Ого! — сказал бас на галерке.
— Я полагаю… (и трель прозвучала в горле у Удэера)… что и прений по докладу быть не может. Чего, в самом деле, преть понапрасну? Я кончил!
— Бис, — сказал бас на галерке, и зал моментально засморкался и закашлялся.
— Есть желающие высказаться по докладу? — вежливым голосом спросил председатель.
— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!
— Виноват, не сразу, товарищи… Зайчиков?.. Так! Пеленкин?.. Сейчас, сию секунду, всех запишем, сию минуту!..
— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!
— Эге, — молвил председатель, приятно улыбаясь, — работа кипит, как говорится. Отлично, отлично. Кто еще желает?
— Меня запиши — Карнаухов!
— Всех запишем!
— Это что же… Они по поводу моего доклада разговаривать желают? — спросил Удэер и обидчиво скривил рот.
— Надо полагать, — ответил председатель.
— Ин-те-рес-но. О-чень, очень интересно, что такое они могут выговорить, — сказал, багровея, Удэер, — чрезвычайно любопытно.
— Слово предоставляется тов. Зайчикову, — продолжал председатель и улыбнулся, как ангел.
— Выскажись, Зайчиков, — поощрил бас.
— Я хотел вот чего сказать. — начал смельчак Зайчиков, — как это такое замороженные платформы с балластом оказались? На какой они предмет? (Удэер превратился из багрового в лилового.) Оратор говорит, что все на сто пятнадцать процентов, между тем такой балласт выгружать нельзя!
— Вы кончили? — спросил председатель, довольный оживлением работы.
— Чего ж тут кончать? Что ж мы, зубами будем этот балласт грызть?..
— Бис, бис, Зайчиков! — сказал бас.
— Вы каждому оратору в отдельности желаете возразить или всем вместе? — спросил председатель.
— Я в отдельности, — зловеще улыбнувшись, молвил Удэер, — я каждому в отдельности, хе-хе-хе, скажу.
Он откашлялся, зал утих.
— Прежде чем ответить на вопрос, почему заморожен балласт, зададим себе вопрос, что такое Зайчиков? — задумчиво сказал Удэер.
— Интересно, — подкрепил бас.
— Зайчиков — известный всему участку болван, — звучно заметил Удэер, и зал охнул.
— Распишись, Зайчиков, в получении, — сказал бас.
— То есть как это? — спросил Зайчиков, а председатель неизвестно зачем сыграл на колокольчике нечто похожее на третий звонок к поезду, еще более этим оттенив выступление Удэера.
— Может быть, вы объясните ваши слова? — бледно-голубым голосом осведомился председатель.
— С наслаждением, — отозвался Удэер, — что, у меня в ведении небесная канцелярия, что ли? Я, что ль, мороз послал на участок? Ну, значит, и вопросы глупые, не к чему задавать.
— Чисто возражено, — заметил бас. — Зайчиков, ты жив?
— Слово предоставляется следующему оратору — Пеленкину, — выкрикнул председатель, растерянно улыбаясь.
— На каком основании рукавицы не выдали? И что мы, голыми руками этот балласт будем сгружать? Все. Пущай он мне ответит.
— Каверзный вопрос, — прозвучал бас.
— Вам слово для ответа предоставляется, — заметил председатель.
— Много я видал ослов за сорок лет моей жизни, — начал Удэер…
— Вечер воспоминаний, — заметил бас.
— …но такого, как предыдущий оратор, сколько мне припоминается, я еще не встречал. В самом деле, что я, Москвошвея, что ли? Или я перчаточный магазин на Петровке? Или, может, у меня фабрика есть, по мнению Пеленкина? Или, может быть, я рожу эти рукавицы? Нет! Я их родить не могу!
— Мудреная штука, — заметил бас.
— Стало быть, что ж он ко мне пристал? Мое дело — написать, я написал. Ну, и больше ничего.
— И Пеленкина угробил захватом головы, — отметил бас.
— Слово предоставляется следующему оратору.
— Вот чего непонятно, — заговорил следующий оратор, — я насчет ста пятнадцати процентов… Сколько нас учит арифметика, а равно и другие науки, каждый предмет может иметь только сто процентов, а вот как мы переработались на пятнадцать процентов, пущай объяснит.
— Ей-богу, интереснее, чем на борьбе в цирке, — заметил женский голос.
— Передний пояс, — пояснил бас.
Все взоры устремились на Удэера.
— Я с удовольствием бы объяснил это жаждущему оратору. — внушительно заговорил Удэер, — если б он не производил впечатления явно дефективного человека. Что ж я буду дефективному объяснять? Судя по тому, как он тупо смотрит на меня, объяснений он моих не поймет.
— Его надо в дефективную колонию отдать, — отозвался бас, который любил натравливать одного борца на другого.
— Именно, товарищ! — подтвердил Удэер. — В самом деле, если работу выполнить всю целиком, так и будет работа на сто процентов. Так? А если мы еще сверх этого что-нибудь сделаем, ведь это лишние еще проценты пойдут? Ведь верно?
— Апсольман! — подтвердил бас.
— Ну, вот мы, значит, сверх ста процентов, которые нам полагалось, еще наработали! Удовлетворяет это вас. глубокоуважаемый сэр? — осведомился Удэер у дефективного оратора.
— Да что вы дефективного спрашиваете? — ответил бас. — Ты с ним и не разговаривай, ты меня спроси. Меня удовлетворяет!
— Следующий оратор Фиусов, — пригласил председатель.
— Нет, я не хочу, — отозвался Фиусов.
— Почему? — спросил председатель.
— Так, чего-то не хочется, — отозвался Фиусов, — снимаю.
— Сдрефил парень?! — спросил вездесущий бас.
— Сдрефил!! — подтвердил зал.
— Ну, тогда Каблуков!
— Снимаю!
— Пелагеев!
— Не надо. Не хочу.
— И я не хочу! И я! И я! И я! И я! И я! И я!
— Список ораторов исчерпан, — уныло сказал растерявшийся председатель, недовольный ослаблением оживления работы. — Никто, стало быть, возражать не желает?
— Никто!! — ответил зал.
— Браво, бис, — грохнул бас на галерке, — поздравляю тебя, Удэер. Всех положил на обе лопатки. Ты чемпион мира!
— Сеанс французской борьбы окончен. — заметил председатель, — то бишь… заседание закрывается!
И заседание с шумом закрылось.
Пьяный паровоз
Впервые — газ. «Гудок», 1926 г., 12 июня.
_____
Станция пьет всем коллективом, начиная от стрелочника до ДСП[35] включительно, за малым исключением…
Из газеты «Гудок»
Скорый поезд подходил с грозным свистом. При самом входе на стрелку мощный паровоз его вдруг вздрогнул, затем подпрыгнул, потом стал качаться, как бы раздумывая, на какую сторону ему свалиться. Машинист в ужасе визгнул и дал тормоз так, что в первом вагоне в уборной лопнуло стекло, а в ресторане пять пассажиров обварились горячим чаем. Поезд стал. И машинист с искаженным лицом высунулся в окошко.
На балкончике стрелочного здания стоял растерзанный человек в одном белье, с багровым лицом. В левой руке у него был зеленый грязный флаг, а в правой — бутерброд с копченой колбасой.
— Ты что ж, сдурел?! — завопил машинист, размахивая руками.
Из всех окон высунулись бледные пассажиры. Человек на балкончике икнул и улыбнулся благодушно.
— Прошибся маленько, — ответил он и продолжал: — поставил стрелку, а… потом гляжу… тебя нечистая сила в тупик несет! Я и стал передвигать. Натыкали этих стрелок, шут их знает зачем! Запутаишьсси. Главное, что ежели б я спец был…
— Ты пьян, каналья, — сказал машинист, вздрагивая от пережитого страха, — пьян на посту?! Ты ж народ мог погубить!!
— Нич…чего мудреного, — согласился человек с колбасой, — главное, что если б я стрелочник был со специальным образованием… А то ведь
я портной…
— Что ты несешь?! — спросил машинист.
— Ничего я не несу, — сказал человек, — кум я стрелочников. На свадьбе был. Сам-то стрелочник не годен стал к употреблению, лежит. А мне супруга ихняя говорит: иди, говорит. Пафнутьич, переставь стрелку скорому поезду…
— Это ужас!1 Кош-мар!1 Под суд их!! — кричали пассажиры.
— Ну уж и под суд, — вяло сказал человек с колбасой, — главное, если б вы свалились, ну, тогда так… А то ведь пронесло благополучно. Ну, и слава богу!!
— Ну. дай только мне до платформы доехать, — сквозь зубы сказал машинист, — там мы тебе такой протокол составим.
— Доезжай, доезжай, — хихикнул человек с колбасой, — там, брат, такое происходит… не до протоколу таперича. У нас помощник начальника серебряную свадьбу справлял!
Машинист засвистел, тронул рычаг и, осторожно выглядывая в окошко, пополз к платформе. Вагоны дрогнули и остановились. Из всех окон глядели пораженные пассажиры. Главный кондуктор засвистел и вылез.
Фигура в красной фуражке, в расстегнутом кителе, багровая и радостная, растопырила руки и закричала:
— Ба! Неожиданная встреча! К-каво я вижу? Если меня не обманывает зрение… ик… Это Сусков, главный кондуктор, с которым я так дружил на станции Ржев-Пассажирский?! Братцы, радость, Сусков приехал со скорым поездом!
В ответ на крик багровые физиономии высунулись из окон станции и закричали:
— Ура! Сусков, давай его к нам!
Заиграла гармоника.
— Да, Сусков… — ответил ошеломленный обер, задыхаясь от спиртового запаха, — будьте добры нам протокол и потом жезл. Мы спешим…
— Ну вот… Пять лет с человеком не видался, и вот на тебе! Он спешит! Может быть, тебе скипетр еще дать? Свинья ты, Сусков, а не обер-кондуктор!.. Пойми, у меня радостный день. И не пущу… И не проси!.. Семафор на запор, и никаких! Раздавим по банке, вспомним старину… Проведемте, друзья, эту ночь веселей!..
— Товарищ десепе… что вы?.. Вы, извините, пьяны. Нам в Москву надо!
— Чудак, что ты там забыл, в Москве? Плюнь: жарища, пыль… Завтра приедешь… Мы рады живому человеку. Живем здесь в глуши. Рады свежему человеку…
— Да помилуйте, у меня пассажиры, что вы говорите?!
— Плюнь ты на них. делать им нечего, вот они и шляются по железным дорогам. Намедни проходит скорый… спрашиваю: куда вы? В Крым, отвечают… На тебе! Все люди как люди, а они в Крым!.. Пьянствовать, наверно, едут.
— Это кошмар! — кричали в окна вагонов. — Мы будем жаловаться в Совнарком!
— Ах… так? — сказала фигура и рассердилась. — Ябедничать? Кто сказал — жаловаться? Вы?
— Я сказал, — взвизгнула фигура в окне международного вагона, — вы у меня со службы полетите!
— Вы дурак из международного вагона, — круто отрезала фигура.
— Протокол! — кричали в жестком вагоне.
— Ах, протокол? Л-ладно. Ну, так будет же вам шиш вместо жезла, посмотрю, как вы уедете отсюда жаловаться. Пойдем, Вася! — прибавила фигура, обращаясь к подошедшему и совершенно пьяному весовщику в черной блузе, — пойдем, Васятка! Плюнь на них! Обижают нас московские столичные гости! Ну, так пусть они здесь посидят, простынут.
Фигура плюнула на платформу и растерла ногой, после чего платформа опустела.
В вагонах стоял вой.
— Эй, эй! — кричал обер и свистел. — Кто тут есть трезвый на станции, покажись!
Маленькая босая фигурка вылезла откуда-то из-под колес и сказала:
— Я, дяденька, трезвый.
— Ты кто будешь?
— Я, дяденька, черешнями торгую на станции.
— Вот что, малый… ты, кажется, смышленый мальчуган, мы тебе двугривенный дадим. Сбегани-ка вперед посмотри, свободные там пути? Нам бы только отсюда выбраться.
— Да там, дяденька, как раз на вашем пути, паровоз стоит совершенно пьяный…
— То есть как?
Фигурка хихикнула и сказала:
— Да они, когда выпили, шутки ради в него вместо воды водки налили. Он стоит и свистить…
Обер и пассажиры окаменели и так остались на платформе. И неизвестно, удалось ли им уехать с этой станции.

Воспаление мозгов

Впервые — сб.: Булгаков Михаил. «Смехач» № 15. «Юмористическая иллюстрированная библиотека». Илл. Н. Радлова. Л., 1926. С. 5—14.
_____
Посвящается всем редакторам
еженедельных журналов
В правом кармане брюк лежали 9 копеек — два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.
Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.
А копейки — брень-брень.
У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд — 1 рубль».
Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:
— Спасибо от адмирала морских сил. Ура!
Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:
Ата-цвели уж давно-о!
Хэ-ри-зан-темы в саду!..
Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.
Тут за мной пошли многие и говорили со мной:
— Гуманный иностранец, пожалуйте и мне девять копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.
— Профессор, окажите любезность…
А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:
У Калацкой заставы
Жил разбойник и вор — Камаров!
Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:
— Предположим, так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик…
«И в фартуке», — вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом».
«Дураки». — ответил я мозгам.
«Ты сам дурак. Бесталанный, — ответили мне мозги, — посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»
«Не в фартуке, а в халате…»
«Почему он в халате, ответь, кретин?» — спросили мозги.
«Ну, предположим, что он только что работал, например — делал перевязку ноги больной девочке, и вышел купить папирос «Трест», тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит: «Мальчик, мальчик…» А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ: «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия».
«Па-аршивенький рассказ, — весело бухнуло под фуражкой, — и тем более что мы где-то уже это читали!»
«Молчать, я погибаю!» — приказал я мозгам и открыл глаза.
Передо мною не было адмирала и Черномора, и не было моих часов в кармане брюк.
Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.
— У меня часы украли сейчас, — сказал я.
— Кто? — спросил он.
— Не знаю, — ответил я.
— Ну, тогда пропали, — сказал милиционер.
От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.
— Сколько стоит один стакан сельтерской? — спросил я в будочке у женщины.
— Десять копеек, — ответила она.
Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.
«Предположим — милиционер. И вот подходит к нему гражданин…»
«Нуте-с?» — осведомились мозги.
«Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой!! Ты украл, подлец». Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба».
«Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове.
«Все».
«Замечательно, прямо-таки гениально, — рассмеялась голова и стала стучать, как часы, — но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, то есть кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городовой. Нес-па?
[36] товарищ Бенвенутто Челлини».
Дело в том, что мой псевдоним — Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.
«Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».
«Мы этого извозчика помним, — сказали, остервенясь, воспаленные мозги, — еще по приложениям к марксовской «Ниве». Раз пять мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел. Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»
По шаткой лестнице
я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая:
И за Сеню я!
За кирпичики
Полюбила кирпичный завод.
В редакции, зеленея от жары, в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.
— Кирпичики кирпичиками. — сказал заведующий. — а вот где обещанный рассказ?
— Представьте, какой гротеск, — сказал я, улыбаясь весело, — у меня сейчас часы украли на улице.
Все промолчали.
— Вы мне обещали сегодня дать денег, — сказал я и вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем.
— Нету денег, — сухо ответил заведующий, и по лицам я увидал, что деньги есть.
— У меня есть план рассказа. Вот чудак вы. — заговорил я тенором, — я в понедельник его принесу к половине второго.
— Какой план рассказа?
— Хм… В одном доме жил священник…
Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.
— Ну?
— И умер.
— Юмористический? — спросил редактор, сдвигая брови.
— Юмористический, — ответил я, утопая.
— У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал, — сказал редактор. — Дайте что-нибудь авантюрное.
— Есть, — ответил я быстро, — есть, есть, как же!
— Расскажите план, — сказал, смягчаясь, заведующий.
— Кхе… Один нэпман поехал в Крым…
— Дальше-с!
Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:
— Ну, и у него украли бандиты чемодан.
— На сколько строк это?
— Строк на триста. А впрочем, можно и… меньше. Или больше.
— Напишите расписку на двадцать рублей, Бенвенутто, — сказал заведующий, — но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.
Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.
Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворечный голос:
— Не дам я вашему Чинизелли
[37] ничего. Он и так перебрал уже шестьдесят целковых.
— Дайте, дайте, — приказал заведующий.
И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.
Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт, — говорил
я кружке, — если они не оживут после пива — значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс».
Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.
— Живы? — спросил я.
— Живы, — ответили они шепотом.
— Ну, теперь сочиняйте рассказ!
В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью: «Граждане, помогите глухонемому».
На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:
— Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!
«Предположим, так, — начал я, пламенея. — «Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!..»
«Здорово пошло дело, — заметили выздоровевшие мозги, — спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше… Вдохновенье, вдохновенье».
Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта — Таузига,
[38] под хлопанье тарелок, под звон серебра.
Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:
Что, сеньор мой.
Вдохновенье мне дано?
Как ваше мнение?!
Жара! Жара!

Три вида свинства

Впервые — журнал «Красный перец», 1924. № 21.
_____
В наших густонаселенных домах отсутствуют какие-либо правила и порядок общежития.
Из газет
1. Белая горячка
Пять раз сукин сын Гришкана животе, по перилам, с 5-го этажа съезжал в «Красную Баварию» и возвращался с парочкой. Кроме того, достоверно известно: с супругами Болдиными со службы возвратилось 1 1/2 бутылки высшего сорта нежинской рябиновки приготовления Госспирта, его же приготовления нежно-зеленой русской горькой 1 бутылка, 2 портвейна московского разлива.
— У Болдиных получка, — сказала Дуська и заперла дверь на ключ.
Заперся наглухо квартхоз, пекарь Володя и Павловна, мамаша.
Но в 11 часов они заперлись, а ровно в полночь открылись, когда в комнате Болдиных лопнуло первое оконное стекло. Второе лопнуло в двери. Затем последовательно в коридоре появился пестик, окровавленная супруга Болдина, а засим и сам супруг в совершенно разорванной сорочке.
Не всякий так может крикнуть «караул», как крикнула супруга Болдина. Словом, мгновенно во всех 8 окнах квартиры 50, как на царской иллюминации, вспыхнул свет. После «портвейного разлива» прицелиться как следует невозможно, и брошенный пестик, проскочив в одном дюйме над головой квартхоза, прикончил Дуськино трюмо. Осталась лишь ореховая рама. Тут впервые вспыхнуло винтом грозовое слово:
— Милиция!
— Милиция, — повторили привидения в белье. То не Фелия Литвин
[39] с оркестром в 100 человек режет резонанс театра страшными криками «Аиды», нет, то Василий Петрович Болдин режет свою жену.
— Милиция! Милиция!
2. Законным браком
Когда молодой человек с усами в штопор проследовал по коридору, единодушно порхнуло восхищенное слово:
— Ах, молодец мужчина!
Ай да Павловнина Танька!
Подцепила жениха!
Молодец мужчина за стыдливой Таней, печатницей, последовал прямо в комнату № 2 и мамаше Павловне сказал такие слова:
— Я не какой-нибудь супчик, мамаша. Беспартийная личность. Я не то, чтобы поиграть с невинной девушкой и выставить ее коленом. А вас. мамаша, будем лелеять. Ходите к обедне, сам за вас буду торговать.
Пошатнулась суровая Павловна, и поехал мерзавец Шурка по перилам в Моссельпром за сахарным песком.
Обвенчался молодец мужчина в церкви Св. Матвея, что на Садовой ул., и видели постным маслом смазанную голову молодца мужчины рядом с головой Тани, украшенной флердоранжем.
А через месяц сказал молодец мужчина мамаше Павловне:
— И когда вы издохнете, милая мамаша, с вашими обеднями. Тесно от вас.
Встала Павловна медленно, причем глаза у нее стали как у старого ужа:
— Я издохну? Сам сдохнешь, сынок. Ворюга. Обожрал меня с Танькой. Царица небесная, да ударь же ты его, дьявола, громом!
Но не успело ударить громом молодца мужчину. Он медленно встал из-за чайного стола и сказал так:
— Это кто же такой «ворюга»? Позвольте узнать, мамаша? Я ворюга? — спросил он, и голос его упал до шепота. — Я ворюга? — прошептал он уже совсем близко, и при этом глаза его задернулись пеленой.
— Караул! — ответила Павловна, и легко и гулко взлетело повторное: — Караул!
— Милиция! Милиция!
Милиция!
3. Именины
В день святых Веры, Надежды и Любови и матери их Софии (их же память празднуем 17-го, а по советскому стилю назло 30-го сентября) ударила итальянская гармония в квартире № 50, и весь громадный корпус заходил ходуном. А в половине второго ночи знаменитый танцор Пафнутьич решил показать, как некогда он делал рыбку. Он ее сделал, и в нижней квартире доктора Форточкера упала штукатурка с потолка, весом в шесть с половиной пудов. Остался в живых доктор лишь благодаря тому обстоятельству, что в тот момент находился в соседней комнате.
Вернулся Форточкер, увидал белый громадный пласт и белую тучу на том месте, где некогда был его письменный стол, и взвыл:
— Милиция! Милиция!
Милиция!
Михаил Булгаков, литератор с женой, бездетный, непьющий, ищет комнату в тихой семье.

Английские булавки

Впервые — журнал «Бузотер», 1926, № 11.
_____
1
Принимать бокс за классовую борьбу — глупо. Еще глупей — принимать классовую борьбу за бокс.
2
Не каждый, не делающий своего дела, забастовщик.
3
«Время — деньги». Принимай поэтому деньги вовремя.
4
«Английская болезнь» не всегда консерватизм. Иногда это — просто рахит.
5
Если ты бездейственен по натуре, не вступай в Совет Действия.
6
Совет короля плюс Совет Действия не создают еще советской системы.
7
Объявить забастовку незаконной — нельзя. Можно — просто объявить забастовку,
8
Водить массы за нос — еще не значит быть вождем.
9
Туманными фразами Лондона не удивишь: в нем и без того туманно.
10
Не объясняй лондонского томским — тебе не поверят.
11
Если в палате лордов темно — не удивляйся: «высший свет» — одно, а электрический свет — другое.
12
Не суди забастовщиков за «нарушение тишины». Из-за них ведь затихла вся Англия.
13
Конституция — как женщина. Ей не следует хвастать старостью.
14
Присягая королю, можешь покраснеть. Присяга твоя от этого не станет красной присягой.
15
Входя в Букингемский дворец, не говори: «Мир хижинам». Это совершенно неуместно.
16
На Бога надейся, а с епископом Кентерберийским не спорь.
17
Не бойся политики. Она отнюдь не жена Пол-лита.
18
Не говори «дело в шляпе», если знаешь, что дело в кепке.
19
Если ты джентльмен, не входи в парламент в короне: головные уборы снимать обязательно.
20
Снявши парик, по голове не плачут.
Ол. Райт
«Бузотер», 1926, № 11
ДЬЯВОЛИАДА
Повесть о том,
как близнецы погубили делопроизводителя

Впервые — альм. «Недра», 1924. кн. 4. Затем — в сб.: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1925; то же. М… 1926; в сб.: Булгаков М. Роковые яйца. Рига, 1928, изд. П. Нильского.
I
Происшествие 20-го числа
В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.
Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он — Коротков — будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так…
20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополуночи.
Вернулся же кассир в 4 1/2 часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку — портфель и сказал:
— Не напирайте, господа.
Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку и молвил:
— Денег не будет.
— Завтра? — хором закричали женщины.
— Нет, — кассир замотал головой, — и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.
— Как? — вскричали все, и в том числе наивный Коротков.
— Граждане! — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. — Я же прошу!
— Да как же? — кричали все. и громче всех этот комик Коротков.
— Ну, пожалуйста, — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.
Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:
«Выдать. За т. Субботникова — Сенат». Ниже фиолетовыми чернилами было написано:
«Денег нет. За т. Иванова — Смирнов».
— Как? — крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.
— Ах ты, господи! — растерянно заныл тот. — При чем я тут? Боже ты мой!
Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — и. проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.
За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.
И в комнате осталась она — босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.
II
Продукты производства
Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:
— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.
— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстые колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришпилил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:
«Выдать продуктами производства.
За т. Богоявленского — Преображенский.
И я полагаю. — Кшесинский».
Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него были 4 большие желтые пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.
Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:
— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.
Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.
— Войдите, — глухо отозвалось в комнате.
Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.
— Сорок шесть, — сказала она и повернулась к Короткову.
— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, — вымолвил пораженный Коротков.
— Церковное вино, — всхлипнув, ответила соседка.
— Как, и вам? — ахнул Коротков.
— И вам церковное? — изумилась Александра Федоровна.
— Нам — спички, — угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.
— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.
— Как это так не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.
— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку. Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.
— Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет! вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.
…американский индивидуальный пакет… — В начале 1920 г. действовала «Американская администрация помощи» голодающим (АРА), поставлявшая продукты и медикаменты в Советскую Россию.
Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.
— Врет дура, — ворчал Коротков, — прекрасные спички.
Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.
III
Лысый появился
На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.
Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, — будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.
И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.
Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.
«Т-типик», — подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.
— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недальновидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало, — обиделся.
— Гм… довольно странно. Я иду с бумагой… А позвольте узнать, кто вы так…
— А вы видите, что на двери написано?
Коротков посмотрел на дверь и увидал давно знакомую надпись: «Без доклада не входить».
— Я и иду с докладом, — сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.
Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.
— Вы, товарищ. — сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, — настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще туту вас много интересного, например эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну ничего, это мы все приведем в порядок. («А-a!» — ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!
И с последними словами неизвестный
вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее. вытащил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.
— Ступайте! — рявкнул он и ткнул бумагу Короткову так. что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении, — в кабинете Чекушина не было.
Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т. Чекушина.
— А-ах! — ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.
— Что это у вас?
— Спички! — раздраженно ответила Лидочка — Проклятые.
— Кто там такой? — шепотом спросил убитый Коротков.
— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка. — Новый.
— Как? — пискнул Коротков. — А Чекушин?
— Выгнали вчера, — злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: — Ну и гy-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! — добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.
— Как фа…
Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:
— Ай, яй, яй… Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять… «Неразвиты»… Хм… Нахал… Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.
И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».
— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедля вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:
«Телефонограмма.
Заведующему подотделом укомплектования точка В ответ на отношение ваше за № 0,15015 (б) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».
Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:
— Заведующему на подпись.
Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел. Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3 1/2 часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:
— Уехали на машине.
Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.
IV
Параграф первый — Коротков вылетел
На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и. запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир — словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание и все потупились.
— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил удивленный Коротков.
Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке.
Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый ошеломляющий туман.
«ПРИКАЗ № 1
§ 1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».
Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:
«Заведующий Кальсонер».
Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.
— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал. — Его фамилия Кальсонер?
При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.
— Ай, яй, яй, — загудел в отдалении, выглядывая из гроссбуха, Скворец, — как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?
— Я ду-думал, думал, — прохрустел осколками голоса Коротков, — прочитал вместо «Кальсонер» «кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!
— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! — хрустально звякнула Лидочка.
— Тсс? — змеей зашипел Скворец. — Что вы? — Он нырнул, спрятался в гроссбухе и прикрылся страницей.
— А насчет лица он не имеет права! — негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горностай. — Я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!
— Тише! — пискнул побледневший Гитис, — что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.
Д-р-р-р-р-р-ррр, — неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью… и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилось по коридору.
— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.
— Товарищ Пантелеймон, — заговорил беспокойно Коротков. — Ты меня, пожалуйста, пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку…
— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, — захрипел Пантелеймон и страшным запахом лука затушил решимость Короткова, — нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет…
— Пантелеймон, мне же нужно, — угасая, попросил Коротков, — тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ… Пусти меня, милый Пантелеймон.
— Ах ты ж, господи… — в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, — говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!
В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:
— Еду! Сейчас!
Пантелеймон и Коротков расступились: дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.
— Товарищ Кальсонер, — забормотал он прерывающимся голосом, — позвольте одну минуточку сказать… Тут я по поводу приказа…
— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. — Вы же видите, я занят? Еду! Еду!..
— Так я насчет прика…
— Неужели вы не видите, что я занят? Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.
Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».
— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившись потом, визгнул Коротков. — Выслушайте меня, товарищ Кальсонер!
— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и. на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул: — Примите меры, чтоб меня не задерживали!
— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелеймон. — Что ж вы задерживаете?
И, не зная, какую меру нужно принять, принял такую — ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действенной — Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.
Пит! Питт! — закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и. закрыв дымом окна, исчезла.
Туг только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:
— Бе-да!
— Пантелеймон… — трясущимся голосом спросил Коротков, — куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли…
— Кажись, в Центроснаб.
Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.
V
Дьявольский фокус
Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стукаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси. упал, ушиб колено, поднял кепку и, под носом автомобиля, поспешил в вестибюль.
Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке. когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком «Дортуаръ пепиньерокъ», другая черным по белому без твердого «Начканцуправделснаб». Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидал стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки — там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов — женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись. Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках:
— Не видели ли вы Кальсонера?
Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:
— Да. но он сейчас уезжает. Догоняйте его.
Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидал открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, — догнал… пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.
— Товарищ Кальсонер, — прокричал Коротков и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, — что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая — это что же такое?»
А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:
— Поздно, товарищ, в пятницу.
«Голос тоже привязной», — стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка — гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и. нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:
— У вас, товарищ, порок сердца?
— Нет, ох нет, товарищ. — выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке, — не задерживайте меня.
— Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, — сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.
— Я не хочу! — плаксиво вскричал Коротков. — Товарищ! Я спешу. Что вы?
Но женщина осталась непреклонной и печальной.
— Ничего не могу сделать, вы сами знаете, — сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.
— Пустите меня! — взвизгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены, под надписью вверху серебром по синему «Дежурные классные дамы» и внизу пером по бумаге «Справочное». Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не подалась.
Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись: «Кругом, через 6-й подъезд».
Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.
— Где шестой? Где шестой? — слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.
— Что? Все ходите? — зашамкал он. — Ей-богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.
— Откуда вычеркнули? — остолбенел Коротков.
— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком — чирк, и готово — хи-кхи. — Старичок сладострастно засмеялся.
— Поз…вольте… Откуда же вы меня знаете?
— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.
— Я — Варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, — Петрович.
Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка. Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.
— Что ж вы путаете меня? Вот он — Колобков, В. П.
— Я — Коротков, — нетерпеливо крикнул Коротков.
— Я и говорю: Колобков, — обиделся старичок. — А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера — Чекушин.
— Что?.. — не помня себя от радости, крикнул Коротков. — Кальсонера выкинули?
— Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.
— Боже! — ликуя, воскликнул Коротков. — Я спасен! Я спасен! — И, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.
— Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?
— Обязательно, — подтвердил старичок, — тут и сказано — в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.
Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидал, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.
— Голубчик, — бросился к нему Коротков, — бумажник мой. желтый…
— Неправда это, — злобно ответил мальчишка, — не брал я, врут они.
— Да нет, милый, я не то… не ты… документы.
Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.
— Ах, боже мой! — в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.
Но, когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.
Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький с черными, словно приклеенными, усиками.
— Ах, беда-то, вот уж беда, — бормотал Коротков, — это уж всем бедам беда.
Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:
— Куда ты лезешь?
— Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы… Все до единого… Меня забрать могут…
— И очень просто, — подтвердил человек на крыльце.
— Так вот позвольте…
— Пущай Коротков самолично и придет.
— Так я же, товарищ, Коротков.
— Удостоверение дай.
— Украли у меня его только что, — застонал Коротков, — украли, товарищ, молодой человек с усиками.
— С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. ТЬ1 его теперь по чайным ищи.
— Товарищ,
я не могу, — заплакал Коротков, — мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.
— Удостоверение дай, что украли.
— От кого?
— От домового.
Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.
*В Спимат или к домовому? — подумал он. — У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».
В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег летел с неба.
«Поздно, — подумал Коротков, — домой».
VI
Первая ночь
В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее:
«Дорогой сосед!
Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье — его никто не хочет покупать. Они в углу.
Ваша А. Пайкова».
Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был, в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.
— Вот! Вот! Вот! — провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.
При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.
— Позвольте… как же это так?.. — прошептал он и провел рукой по глазам. — Это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он. в самом деле?
Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обриваясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.
Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.
— Позвольте… — вдруг пробормотал он, — чего же это я плачу, когда у меня есть вино?
Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, — мучительно заболел левый висок и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы…» — шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.
VII
Орган и кот
В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти свидетельства не выдаются».
— Ах ты господи, — досадливо воскликнул Коротков, — что же это за неудачи на каждом шагу. — И добавил: — Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.
Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом — никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», — подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на такую милую надпись: «Делопроизводитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено стуча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.
— Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворковал он фальцетом.
Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:
— Кхм… я, товарищ, здешний делопроизводитель… То есть… Ну да, ежели помните приказ…
Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.
— Извиняюсь, — вежливо ответил он. — здешний делопроизводитель — я.
Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:
— А как же? Вчера то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.
Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:
— Коротков, припомни-ка, какое сегодня число? — И сам же себе ответил: — Вторник, то есть пятница. Тысяча девятьсот. — Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорные лампочки, и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.
— Хорошо! — грохнул таз, и судорога свела Короткова. — Я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.
С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.
— Штат я разверстал, — быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. — Трое там, — он указал на дверь в канцелярию. — и, конечно, Манечка. Вы — мой помощник, Кальсонер — делопроизводитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегаю в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех, и в особенности насчет этого, как его… Короткова. Кстати, вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.
— Я. Нет, — сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, — я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.
— Все? — выкрикнул Кальсонер. — Вздор. Тем лучше. — Он впился в руку тяжело дышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съежился и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник — двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий номер 0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на пэ, и пятница на пэ, и воскресенье… вскрссс… на эс, как и среда…»
Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:
— Ага! Так. Так. Сию минуту приеду. — Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:
— Ждите меня у Кальсонера.
Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:
«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно. Кальсонер».
— О-о! — простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку. — Что же это такое делается?
В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.
— Кальсонер уже удрал? — тоненько и ласково спросил он у Короткова.
Свет кругом потух.
— А-а-а-а-а… — взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы.
Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:
— Курьер! Курьер! На помощь!
— Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ… — опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.
Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.
— Буду стрелять. Буду стрелять! — пронесся ее истерический крик.
Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.
— Боже… — начал Коротков и не кончил. В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя, и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:
Шумел, гремел пожар московский…
В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг — и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так. словно в них был поднос с чашками.
Ды-ым расстилался по реке-е.
— Что я наделал? — ужаснулся Коротков. Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно,
293 тысячеголосым львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.
А на стенах ворот кремлевских…
Сквозь вой и грохот колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, — Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвившись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке, полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:
Стоял он в сером сюртуке…
На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.
— Господи! Господи! — бурно зарыдал Коротков. — Опять он! Да что же это?
Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:
— Гони! Гони, негодяй!
Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны вьющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:
— Езжай! Езжай! Я заплачу.
Извозчик, выкрикнув отчаянно:
— Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? — пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.
Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:
— Довольно. Я так не оставлю! Я его разъясню. — Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:
— Где бюро претензий, товарищ?
— Восьмой этаж, девятый коридор, квартира сорок первая, комната триста два, — ответил чайник женским голосом.
— Восьмой, девятый, сорок первая, триста… триста… сколько бишь… триста два, — бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. — Восьмой, девятый, восьмой, стоп, сорок… нет, сорок два… нет, триста два, — мычал он, — ах, боже, забыл… да, сороковая, сороковая…
В 8-м этаже он миновал три двери, увидал на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:
— Ян Собесский
[40].
— Не может быть… — ответил пораженный Коротков. Мужчина приятно улыбнулся.
— Представьте, многие изумляются, — заговорил он с неправильными ударениями, — но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский
[41]. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, — мужчина обидчиво скривил рот, — я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.
— Помилуйте, что вы, — болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленым взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: — Я очень рад, да, очень…
Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке: нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая:
— И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги… Но-о мы развернемся, не беспокойтесь… Гм… Чем же вы порадуете нас новеньким? — ласково спросил он у бледного Короткова. — Ах да, виноват, виноват, тысячу раз, позвольте вас познакомить, — он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, — Генриетта Потаповна Персимфанс
[42].
Женщина тотчас пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.
— Итак. — сладко продолжал хозяин, — чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? — закатив белые глаза, протянул он. — Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.
«Царица небесная… что это такое?» — туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:
— У меня… э… произошло ужасное. Он… Я не понимаю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцинации… Кхм… ха-кха… (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас… но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю… И голос меняет… кроме того, у меня украли все документы до единого, а домовой, как на грех, умер. Этот Кальсонер…
— Так я и знал, — вскричал хозяин, — это они?
— Ах, боже мой, ну конечно, — отозвалась женщина, — ах эти ужасные Кальсонеры.
— Вы знаете, — перебил хозяин взволнованно, — я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйтесь. Ну что он понимает в журналистике?.. — Хозяин ухватил Короткова за пуговицу. — Будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют, к чертовой матери.
— Какое бюро? — глухо спросил Коротков.
— Ах, да эти претензии или как их там, — с досадой сказал хозяин.
— Как? — крикнул Коротков. — Как? Где оно?
— Там, — изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.
Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.
— Ах, черт! — ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.
— Извините, что я не попрощался… — начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.
— Баба! Баба! — тревожно закричал Коротков. — Где бюро?
— Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, — ответила баба, — да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо — десять этажов.
— У-у… д-дура, — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь.
Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг — и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завыли тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.
— Постойте, — прохрипел Коротков, — минутку… вы только объясните…
— Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и. прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.
— Теперь все понятно, — прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, — ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.
Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.
VIII
Вторая ночь
В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.
— Я вот так сделаю, — слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, — завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот. с бородой или без бороды, — ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы — и шабаш…
В отдалении глухо начали бить часы. Бам… бам… «Это у Пеструхиных», — подумал Коротков и стал считать. Десять… одиннадцать… полночь, 13, 14,15… 40…
— Сорок раз пробили часики, — горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его судорожно тяжко стошнило церковным вином.
— Крепкое, ох крепкое вино, — выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.
IX
Машинная жуть
Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись: «Комнаты 302–349». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью «302 — бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней — смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.
— Выйдем в коридор, — резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.
«Боже мой, опять, опять что-то…» — тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашушукали вслед.
Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:
— Вы ужасны… Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.
Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:
— Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покорил меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.
Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.
— Я отдамся тебе… — шепнуло у самого рта Короткова.
— Мне не надо, — сипло ответил он, — у меня украли документы.
— Тэк-с, — вдруг раздалось сзади.
Коротков обернулся и увидал люстринового старичка.
— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.
— Хи, — сказал старичок, — здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.
С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.
— А заявленьице я на вас подам, — злобно продолжал люстрин, — да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до
подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.
Старичок вынул большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.
— Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж… — старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель, — берите, кушайте. Пущай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает… Пущай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков. — голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, — не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут. — И старичок разлился в буйных рыданиях.
Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.
— К чертовой матери! — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. — я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!
Он начал рвать на себе воротничок. Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.
— Следующий! — крикнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернул влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:
— Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?
— Документы украли, — дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, — и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до…
— Ну, это вздор, — ответил синий, — обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.
Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:
— Пожалте, Сергей Николаевич.
И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.
Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:
— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это?
— Естественно, вылез, — ответил синий, — не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.
— Но как? Как? — зазвенел Коротков.
— Ах ты, господи, — взволновался синий, — не задерживайте, товарищ.
Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:
— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и 5-м долготы.
— Ну и чудесно, — ответил блондин, — а то мне надоела эта волынка.
— Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взором. — Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!
— Товарищ, это в отделе брачующихся, — запищал секретарь, — мы ничего не можем сделать.
— О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув опять. — Соглашайся! Соглашайся! — кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.
— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. — Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.
— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно — Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! — выйдя из себя, загремел блондин.
— Рукопожатия отменяются! — кукарекнул секретарь.
— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.
— Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему. — прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая полами крылатки…
— Я и не вхожу, не вхожу-с, — а бумажку все-таки подброшу, вот так. хлоп!., подпишешь любую — и на скамье подсудимых. — Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.
Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.
— Товарищ блондин! — плакал истомленный Коротков. — Застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.
В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.
— Черт с ним! — загремел блондин. — Черт с ним. Машинистки, гей!
Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.
Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться. раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами: «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».
— Надевай! — грохнул блондин в тумане.
— И-и-и-и, — тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.
— Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке. Крылатка. как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:
— Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!
Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:
— Ну. я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!
Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть.
X
Страшный Дыркин
Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:
— И чудесно. Вот я вас и арестую.
— Меня нельзя арестовать, — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом. — потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.
Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.
— Арестуй-ка, — пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнущий валерьянкой, — как ты арестуешь, ежели вместо документов — фига? Может быть, я Гогенцоллерн.
— Господи Исусе, — сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.
— Кальсонер не попадался? — отрывисто спросил Коротков и оглянулся. — Отвечай, толстун.
— Никак нет, — ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.
— Как же теперь быть? А?
— К Дыркину, не иначе, — пролепетал толстяк, — к нему самое лучшее. Только грозен. Ух грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.
— Ладно, — ответил Коротков и залихватски сплюнул, — нам теперь все равно. Подымай!
— Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный. — нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.
На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:
— Куда ты? Стой!
— Не бей, дяденька, — сказал толстяк, съежившись и закрыв голову руками, — к самому Дыркину.
— Проходи. — крикнул маленький.
Толстяк зашептал:
— Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко…
Коротков попал в темную переднюю, а из нее — в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.
Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы. рявкнул:
— М-молчать!.. — хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.
В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбковыми морщинами.
— А-а! — вскричал он сладко. — Артур Артурыч. Наше вам.
— Слушай. Дыркин, — заговорил юноша металлическим голосом, — ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.
— Я, — забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина-добряка, — я, Артур Диктатурыч… Я, конечно… Вы это напрасно…
— Ах ты, мерзавец, мерзавец, — раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку. Коротков машинально охнул и застыл.
— То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, — внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.
Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.
— Вот, молодой человек, — горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, — вот и награда за усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, а результат всегда один — по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж… Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.
И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая. Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.
— Ку-ку! — радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюренбергского разрисованного домика на стене.
— Ку-клукс-клан! — закричала она и превратилась в лысую голову. — Запишем, как вы работников лупите!
Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «Исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.
XI
Парфорсное кино[43] и бездна
С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым — черный цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух, за петухом — канделябр, пролетевший в вершке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.
Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:
— Какая секция переезжает? Несгораемую кассу забыли!
Женский голос внизу ответил:
— Бандиты!!
В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:
— Артельщиков бьют, товарищи!
По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные сиплые крики: «Держи». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:
— Началось!
Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту — одиннадцатиэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу — стеклянная вывеска с надписью «Restoran i pivo» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:
— Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..
Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля.
Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.
— Садись, дядя. Садись! — проревел он. — Только не бей сироту!
Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.
Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись. утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.
— Деньги покрал, дяденька? — с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.
— Кальсонера… атакуем… — задыхаясь, отвечал Коротков, — да он в наступление перешел…
— Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, — посоветовал мальчишка, — там на крыше отсидишься. если с маузером.
— Давай наверх… — согласился Коротков.
Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:
— Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.
Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку — стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.
Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем «Вперед!» вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площади с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхе выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. Словно по сигналу, игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь и выросла вторая голова, за ней — третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части, как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.
Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.
— Сдавайся! — смутно донеслось до него.
Перед Коротковым сразу открылось худосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.
— Окружили! — ахнул Коротков. — Пожарные.
Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и. размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади, Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетоном в руках.
— Сдавайся! — завыло спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.
— Кончено. — слабо прокричал Коротков, — кончено. Бой проигран. Та-та-та! — запел он губами трубный отбой.
Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:
— Лучше смерть, чем позор!
Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровяное солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА
Повесть

Впервые — «Красная панорама», 1925, № 19–22, 24; № 19–21 — под названием «Луч жизни», № 22. 24 — «Роковые яйца» с сокращениями; полностью — в альм. «Недра», 1925, кн. 6. Затем — в сб.: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1925; то же. М… 1926; в сб.: Булгаков М. Роковые яйца. Рига, 1928, изд. П. Пильского.
Печатается по сб.: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1926. Название, как всегда у Булгакова, многозначно: и просто яйца, сыгравшие роковую роль; прочитывалось название в соединении с фамилией персонажа (Рокк). Назовем еще одну из возможных реалий того времени, обыгранную в названии: окно сатиры РОСТа (где сотрудничал B. Маяковский, к личности которого автор относился с вниманием). «Окно» под заголовком «О красном яичке», с рисунком, изображавшим «буржуев», которые «удивленно смотрят на красное яичко с надписью «РСФСР». Под рисунком подпись Маяковского: «Происшествие чрезвычайно неясное: снесено яичко, да не простое, а красное» (Маяковский В. Собр. соч. в 13-ти томах. М., 1957. т. 3. C. 78).
_____
Глава I
Куррикулюм витэ профессора Персикова[44]
16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV Государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.
Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.
Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, то есть зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.
Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:
«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».
Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька.
В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:
— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.
Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессоров Ульяма Веккля в Кембридже и Джиакомо Бартоломео Беккари
[45] в Риме. Читал профессор на 4 языках кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с 1/4, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.
Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:
— Бескормица!
Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились. показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.
Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.
Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института. Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:
— Ведь за это же его. Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной тринадцать сантиметров…
Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.
Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь… В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году — 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов, и всех на голых гадах:
— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?
— Марксист, — угасая, отвечал зарезанный.
— Так вот, пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: — Давай следующего!
Подобно тому как амфибии оживают после долгой засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы 15 пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919-1925-е.
Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2 1/2 тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.
Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.
Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра «Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов» 126 стр. «Известия IV университета».
А в 1927, осенью, — капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский: «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 рубля. Госиздат.
А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное…
Глава II
Цветной завиток
Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе…
Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16. 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.
Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табака пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:
— Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?
Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.
— Очень хорошо! — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.
Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученых перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.
Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:
— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.
Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что…»
Разминая затекшие ноги. Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность, на горе республике, сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.
— Что такое? Ничего не понимаю…
Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том. чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал.
Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:
— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, — повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.
Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.
— Угу, угу, — пробурчал он. — пропал. Понимаю. По-о-нимаю, — протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, — это просто.
И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.
— Я его поймаю, — торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху, — поймаю. Может быть, и от солнца.
Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.
Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.
Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.
— Панкрат, — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?
— У-у-у, по-по-понял, — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.
— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. — Кабинет
я запер, — продолжал Персиков, — так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?
— Слушаю-с, — прохрипел Панкрат.
— Ну вот и прекрасно, ложись спать.
Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.
— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, — сказал ученый, — иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..
Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.
— Боже мой. Ведь даже нельзя представить себе всех последствий… — Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спички, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.
Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.
— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, — профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, — гм… как же быть? К Панкрату вернуться? Нет. его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. — Он снял калошу и брезгливо понес ее.
На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.
— Эх, папаша! — крикнула она низким сиповатым голосом. — Что ж ты другую-то калошку пропил!
— Видно, в «Альказаре»
[46] набрался старичок, — завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:
— Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!
Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.
Глава III
Персиков поймал
Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.
Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.
В нем — в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амебы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой, Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какою-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.
Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу.
Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.
— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, — это получается ли он только от электричества или также и от солнца, — бормотал Персиков самому себе.
И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:
— Надо полагать, что в спектре солнца его нет… гм… ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. — Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб.
Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите…
— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич, — говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру, — что делается?! Они растут на моих глазах… Вы гляньте, гляньте…
— Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персиков.
Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.
— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, — вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.
— О, это не важно… Впрочем, конечно…
И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.
Из Германии, после запроса через Комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И, надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.
1 июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2 суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить. Иванову Персиков сказал так:
— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и
вообще на яйцеклетку изумительно.
Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:
— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное. — Видимо, с большой потугой, но все ясе Иванов выдавил из себя слова: — Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!
Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.
— Ну-ну-ну, — пробормотал он.
— Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя… У меня кружится голова. Вы понимаете, — продолжал он страстно, — Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор… А я-то думал, что это сказки… Вы помните его «Пищу богов»?
— Ах, это роман, — ответил Персиков.
— Ну да, господи, известный же!..
— Я забыл его, — ответил Персиков, — помню, читал, но забыл.
— Как же вы не помните, да вы гляньте. — Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение. — Ведь это же чудовищно!
Глава IV
Попадья Дроздова
Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июня, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуясдается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана, и напечатано: «Пев-сиков».
Иванов принес газету и показал Персикову заметку.
— «Певсиков», — проворчал. Персиков, возясь с камерой в кабинете, — и откуда эти свистуны все знают?
Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.
Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.
— Он тамотко, — робко прибавил Панкрат.
На карточке было напечатано изящным шрифтом:
Альфред Аркадьевич
Вронский
Сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва»
[47].
— Гони его к чертовой матери, — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.
Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.
— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.
— Из Гепею, они говорить, — бледнея, ответил Панкрат.
Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком:
«Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ».
— Позови-ка его сюда, — сказал Персиков и задохнулся.
Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно — в узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.
— Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. — Ведь вам же сказали. что я занят?
Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.
— Я занят. — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.
— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор. — заговорил молодой человек тонким голосом, — что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.
— Какие такие объяснения по всему миру?'— заныл Персиков визгливо и пожелтев. — Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого… Я занят… страшно занят.
— Над чем же вы работаете? — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.
— Да я… Вы что? Хотите напечатать что-то?
— Да. — ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.
— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы… тем более в этих ваших газетах… Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. — И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.
— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?
— Какой такой новой жизни? — остервенился профессор. — Что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы…
— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.
Персиков окончательно потерялся… «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»
— Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..
В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.
— Получаются гигантские организмы?
— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных… Ну, имеют некоторые новые свойства… Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения, — сказал, на свое горе, Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.
— Вы же не пишите! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. — Что вы такое пишете?
— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить два миллиона головастиков?
— Из какого количества икры? — вновь взбеленяясь, закричал Персиков. — Вы видели когда-нибудь икринку… ну, скажем, — квакши?
— Из полуфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.
Персиков побагровел:
— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры… тогда, пожалуй… черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше!
Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.
— Правда ли. что это вызовет мировой переворот в животноводстве?
— Что это за газетный вопрос, — завыл Персиков, — и вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!
— Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, — молвил молодой человек и захлопнул блокнот.
— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет… И я занят… попрошу вас!..
— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.
— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.
— Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал.
Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукиванье в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.
— Господин профессор, — начал незнакомец приятным сиповатым голосом, — простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.
— Вы репортер? — спросил Персиков. — Панкрат!!
— Никак нет, господин профессор, — ответил толстяк, — позвольте представиться: капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров.
— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. — Панкрат! — повторил профессор. — Я слушаю.
— Ферцайен зи битте, херр профессор, — захрипел телефон по-немецки, — дас их штере. Их бин митарбейтер дес «Берлинер Тагеблатс»…
[48]
— Панкрат! — закричал в трубку профессор. — Бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт нихт емпфанген!..
[49] Панкрат!!
А на парадном ходе института в это время начались звонки.
* * *
— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. — Кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!
Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.
— Три копейки, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: — «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!
Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами и с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Вронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч», — гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами:
«Садитесь, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков…»
Под статьей красовалась подпись «Альфред Вронский (Алонзо)».
Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.
«Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Вронского, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия…»
Тихое механическое скрипение послышалось за спиною Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.
— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия, — сказал он печально и глубоко вздохнул. — Пропали мои полтора червячка.
Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.
— Я, — пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, — никакого «садитесь» ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, — но, право же, когда работаешь и врываются… Я не про вас. конечно, говорю…
— Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек. — Ведь вам теперь все равно…
— Из полуфунта икры в течение трех дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать, — ревел невидимка в рупоре.
— ТУ-ту, — глухо кричали автомобили на Моховой.
— Го-го-го… Ишь ты, го-го-го, — шуршала толпа, задирая головы.
— Каков мерзавец? А? — дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку. — Как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!
— Возмутительно! — согласился толстяк.
Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза про-<|кссора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.
— Это вас, господин профессор, — восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора как гиря. В воздухе что-то застрекотало.
— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. — Эй. таксомотор! На Пречистенку!
Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.
— Вы мне мешаете, — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.
— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!.. — кричали кругом в толпе.
— Никаких у меня детишек нету, сукины дети, — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль, с открытым ртом и яростными глазами.
Крх… ту… крх… ту— закричал таксомотор и врезался в гущу.
Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.
Глава V
Куриная история
В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске
[50], Костромской губернии, Стеклове кого уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:
— Что ты, Степановна, али еще?
— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.
— Ахти-х-ти-х, — заскулила и закачала головой баба в платке, — ведь это что ж такое? Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?
— Да ты глянь, глянь, Матрена, — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко, — ты глянь, что с ей!
Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий Двор.
Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке, вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Мичкина в Москве».
И вот семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало.
«Эр…рр…урл…урл го-го-го», — выделывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.
— Хохлаточка, миленькая… цып-цып-цып… испей водицы, — умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начинало рвать кровью.
— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам. — Это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, не видала, чтобы курица, как человек, маялась животом.
Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:
— Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.
— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу. — Что ж они, со свету меня сжить хочут?
Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.
— Ну, не порча? — победоносно спросила гостья. — Зови отца Сергия, пущай служит.
В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, Господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет.
Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и Дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с нашеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица.
Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.
* * *
Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Вронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидал самого себя на крыше огромного дома с черною надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним. цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была как у затравленного волка.
— Это какие-то черти, а не люди, — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.
Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку: «Народный комиссар здравоохранения».
— Что такое? — искренне недоумевал ученый чудак. — Что с ними такое сделалось?
В 10 1/4 того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов».
— Черт бы его взял, — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: — Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.
— Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа», — почему-то подумал Персиков.
Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: «Но… господина профессора невозможно днем никак пойма… хи-хи… пардон… застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).
— Да, я занят! — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.
Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого — время — деньги, как говорится… сигара не мешает профессору?
— Мур-мур-мур, — ответил Персиков. Он позволил…
— Профессор ведь открыл луч жизни?
— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.
— Ах нет, хи-хи-хэ… — он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых… о чем же говорить… Сегодня есть телеграммы… В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге — уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир… весь мир следит за работами профессора Персикова, затаив дыхание… Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди…
[51] Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот, он хотел бы переговорить с профессором… Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову, совершенно бескорыстно, помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном Писании. Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м году, во время этой, хи-хи… революции. Ну, конечно, строгая тайна… профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры…
И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек…
Какой-нибудь пустяк: 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту… и расписки не надо… профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.
— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.
Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он, или это галлюцинация.
— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.
— Они забыли, — отвечала дрожащая Марья Степановна.
— Выкинуть их вон!
— Куда же я их выкину. Они придут за ними.
— Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!
Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.
— Сдали? — бушевал Персиков.
— Сдала.
— Расписку мне.
— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!
— Сию секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!
Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через 1/4 часа с запиской:
«Получено в фонд от профе. Персикова 1 (одна) па. Кало. Колосов».
— А это что?
— Жетон-с.
Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?» Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:
— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси. Кому тут из вас надо сказать: у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да… Профессор IV университета Персиков.
Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.
— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.
— Не буду я пить никакого чаю, мур-мур-мур, и черт их всех возьми, как взбесились все равно.
Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них. приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.
Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.
— Да черт его знает, — бубнил Персиков, — ну, противная физиономия. Дегенерат.
— А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.
— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.
— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому.
Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.
— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, — забурчал он, — это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.
История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова, с калошами», — и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.
— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный. плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.
— Ну? — спросил он лаконически и сонно.
— Калоши.
Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновенье, сверкнули вовсе не сонные, а, наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.
— Ну, Васенька?
Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:
— Ну, что тут, ну, Пеленжковского калоши.
Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору… Профессор может быть спокоен… больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома… меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности…
— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.
Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил.
— А что это за каналья у меня была?
Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания… тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.
Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:
— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо…
[52] — и получил второй звонок.
Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона. Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли валькирий, — радиоприемнику директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.
Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова. но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:
— Здравствуйте, гражданин профессор.
— Что вам надо? — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто.
Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей… что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.
— Гм… однако у вас здорово поставлено дело, — промычал Персиков и прибавил наивно: — А что вы здесь будете есть?
На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.
Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.
— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, — неслось из кабинета.
— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.
— У, не приведи бог, — отвечал Панкрат, — ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.
За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.
— Владимир Ипатьич! — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле.
Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Вронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Вронский нежно и почтительно поклонился окну.
— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше? Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Вронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.
— Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил Вронский, напрягая голос с тротуара, — я только один вопросик, и чисто зоологический. Позволите предложить?
— Предложите, — лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».
— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Вронский, сложив руки щитком.
Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:
— Панкрат, впусти этого с тротуара.
Когда Вронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему:
— Садитесь!
И Вронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.
— Объясните мне, пожалуйста. — заговорил Персиков, — вы пишете там, в этих ваших газетах?
— Точно так, — почтительно ответил Альфред.
— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?
Вронский жидко и почтительно рассмеялся:
— Валентин Петрович исправляет.
— Кто это такой Валентин Петрович?
— Заведующий литературной частью.
— Ну ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?
— Вообще все, что вы скажете, профессор.
Тут Вронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.
— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в 1 — м университете. Я лично знаю весьма мало…
Вронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка — мало!»— черкнул он в блокноте.
— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры, или гребенчатые… род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых… — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Вронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевалась тысяча человек… — из семейства фазановых… фазианидэ. Представляют собою птиц с мясисто-кожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью… гм… хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка… Ну. что ж еще. Крылья короткие и округленные… Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты… Панкрат… принеси из модельного кабинета модель номер семьсот пять, разрезной петух… впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели… Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно шесть видов дикоживущих кур… гм… Португалов знает больше… в Индии и на Малайском архипелаге. Например. Банкивский петух, или Казинту. он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме… Вилохвостый петух, или Галлус Вариус, на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Ява имеется замечательный петух Галлюс Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха… Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.
Вронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.
— Еще что-нибудь вам сообщить?
— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, — тихонечко шепнул Альфред.
— Гм, не специалист я… вы Португалова спросите… А впрочем… Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь, или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек… Пневмономикоз, туберкулез, куриные парши… мало ли что может быть… (искры прыгали в глазах Персикова) отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни… очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень…
Вронский вытер пот со лба цветным носовым платком:
— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?
— Какой катастрофы?
— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Вронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».
— Я не читаю газет, — ответил Персиков и насупился.
— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.
— Потому что они чепуху какую-то пишут, — не задумываясь. ответил Персиков.
— Но как же, профессор, — мягко шепнул Вронский и развернул лист.
— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Вронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты «Куриный мор в республике».
— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки…
Глава VI
Москва в июне 1928 года
Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим «Мюр и Мерилизом», над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толклась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:
«Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество… куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое».
Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:
«Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе Наркомздрава, Наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова… и товарища Рабиновича!.. Новые происки интервенции, — хохотал и плакал, как шакал, рупор, — в связи с куриною чумой!»
Театральный проезд. Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:
«Под угрозою тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».
На крыше «Рабочей газеты» — на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».
Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами, на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками — «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».
— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, — шуршали в толпе.
В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению Моссовета — омлета нет. Получены свежие устрицы».
В «Эрмитаже», где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шраме и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:
Ах, мама, что я буду делать
Без яиц? —
и грохотали ногами в чечетке.
Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в «Аквариуме», переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты: «В театре Корш возобновляется «Шантеклер» Ростана».
Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:
— Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!
В цирке бывшего Никитина на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:
— Я знаю, отчего ты такой печальный!
— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.
— Ты зарыл яйца в землю, а милиция пятнадцатого участка их нашла.
— Го-га-га-га, — смеялся цирк так. что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.
— А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.
Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на поталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у Манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.
— Ах, черт! — пискнул Персиков. — Извините.
— Извиняюсь, — ответил встречный неприятным
голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.
Глава VII
Рокк
Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе Республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж на кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили.
Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда, — в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной, или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан Доброкур
[53], почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина
[54], заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз. на наши яйца. — у вас есть свои!»
Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру «Об изменениях печени у кур при чуме».
Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно, — вся его голова была полна другим — основным и важным — тем, от чего оторвала его куриная катастрофа, то есть от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.
К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротою рыбья и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новые большие камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужно ли Персикову автомобиль?
— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, — ответил Персиков.
— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.
С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному, ребенку.
— Он быстрее ходит, — ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:
— Ну, как хотите.
Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжко дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато… Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее… И дрожащею рукой схватился профессор за перила.
— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.
— Нет, нет, — ответил Персиков, оправляясь, — просто я переутомился… да… Позвольте мне стакан воды.
* * *
Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла. Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.
В дверь постучали.
— Ну? — спросил Персиков.
Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:
— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.
Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:
— Это интересно. Только я занят.
— Они говорить, что с казенной бумагой с Кремля.
— Рок с бумагой? Редкое сочетание, — вымолвил Персиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!
— Слушаю-с, — ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью.
Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата — пекаря— ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех, — крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:
— Вы с бумагой? Где же она?
Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидал. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величествен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:
— Я Александр Семенович Рокк!
— Ну-с? Так что?
— Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч», — пояснил пришлый.
— Ну-с?
— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.
— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.
Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.
— Не толкните стол, — с ненавистью сказал Персиков.
Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сером темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.
Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:
— Простите… Я не могу понять… Как же так? Я… без моего согласья, совета… Да ведь он черт знает что наделает!!
Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.
— Извиняюсь, — начал он, — я завед…
Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:
— Извините, я не могу понять… Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами… Пока я сам не попробую их…
Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:
— Я умываю руки.
Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл:
— Панкрат!
Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:
— Выйди вон, Панкрат!
И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.
Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:
— Извольте-с… Пов-винуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.
Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.
— Извиняюсь, — начал он, — вы же, товарищ?..
— Что вы все «товарищ» да «товарищ»… — хмуро пробубнил Персиков и смолк.
«Однако», — написалось на лице у Рокка.
— Изви…
— Так вот-с, пожалуйста, — перебил Персиков. — Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, — Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, — пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1… и зеркало № 2. — Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, — а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?
Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.
— Только предупреждаю, — продолжал Персиков, — руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия… а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.
Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.
— А как же вы, профессор?
— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, — раздраженно ответил профессор. — Я не обязан об этом заботиться.
Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:
— Откуда вы взялись? Вообще… почему вы?..
Рокк наконец обиделся сильно:
— Извин…
— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..
— Потому, что это величайшей важности дело…
— Ага. Величайшей? Тогда… Панкрат! — И когда Панкрат появился: — Погоди, я подумаю.
И Панкрат покорно исчез.
— Я, — говорил Персиков, — не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?
— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, — ответил Рокк, — вы же знаете, что куры все издохли до единой.
— Ну так что из этого? — завопил Персиков. — Что же. вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?
— Товарищ профессор, — ответил Рокк, — вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.
— И пусть себе пишут…
— Ну, знаете, — загадочно ответил Рокк и покрутил головой.
— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц…
— Мне, — ответил Рокк.
— Угу… Так-с… А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?
— Я, профессор, был на вашем докладе.
— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!
— Ей-богу, выйдет, — убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, — ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.
— Знаете что, — молвил Персиков, — вы не зоолог? нет? жаль… из вас вышел бы очень смелый экспериментатор… Да… только вы рискуете… получить неудачу… и только у меня отнимаете время…
— Мы вам вернем камеры. Что значит?..
— Когда?
— Да вот я выведу первую партию.
— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!
— У меня есть с собой люди, — сказал Рокк, — и охрана…
К вечеру кабинет Персикова осиротел… Опустели столы. Люди Рокка увезли три большие камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.
Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно он собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.
В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.
— Вот, Панкрат, — сказал Персиков и указал на опустевший стол.
Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.
— Так точно, — плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»
— Вот, — повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.
— Ты знаешь, дорогой Панкрат, — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, — жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается… Вот история, Панкрат милый… Мне письмо прислали…
Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она… ночь. Москва… где-то какие-то белые шары за окнами загорались… Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам…
— Иди, Панкрат, — тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, — ложись спать, миленький, голубчик Панкрат.
И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.
Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой:
— Лучше б убил, ей-бо…
— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.
— Ей… бо… — уверял Панкрат.
— Великий ученый, — согласился котелок, — известно. лягушка жены не заменит.
— Никак, — согласился Панкрат. Потом он подумал и добавил: — Я свою бабу подумываю выписать сюды… чего ей, в самом деле, в деревне сидеть… Только она гадов этих не выносит нипочем…
— Что говорить, пакость ужаснейшая, — согласился котелок.
Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.
Глава VIII
История в совхозе
Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем… Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели… леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля… Чело-век-то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.
Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:
«СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ»
и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.
Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду-оранжерее Шереметевых… К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.
Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.
На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:
VORSICHТ: EIER!!
ОСТОРОЖНО: ЯЙЦА!!
— Что же так мало прислали? — удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск… Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.
— Вы потише, пожалуйста, — говорил он охранителю. — Осторожнее. Что ж вы, не видите — яйца?..
— Ничего, — хрипел уездный воин, буравя, — сейчас…
Тp-р-р… и сыпалась пыль.
Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.
— Заграничной упаковочки, — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — это вам не то что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.
— Ты, Александр Семенович, сдурел, — отвечала жена, — какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. Какие большие!
— Заграница. — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол. — разве это наши мужицкие яйца… Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! Немецкие…
— Известное дело, — подтверждал охранитель, любуясь яйцами.
— Только не понимаю, чего они грязные, — говорил задумчиво Александр Семенович. — Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.
И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.
Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.
— Ну? — спросил он.
— С вами сейчас будет говорить провинция, — тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.
— Ну. Слушаю, — брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона…
В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:
— Мыть ли яйца, профессор?
— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздражился Персиков. — Откуда говорят?
— Из Никольского, Смоленской губернии, — ответила трубка.
— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?
— Рокк, — сурово сказала трубка.
— Какой Рокк? Ах да… это вы… так вы что спрашиваете?
— Мыть ли их?.. Прислали из-за границы мне партию курьих яиц…
— Ну?
— …А они в грязюке в какой-то…
— Что-то вы путаете… Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного… помет присох… или что-нибудь еще…
— Так не мыть?
— Конечно, не нужно… Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?
— Заряжаю. Да, — ответила трубка.
— Пл, — хмыкнул Персиков.
— Пока, — цокнула трубка и стихла.
— «Пока», — с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову, — как вам нравится этот тип, Петр Степанович?
Иванов рассмеялся:
— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.
— Д… д… д… — заговорил Персиков злобно, — вы вообразите, Петр Степанович… ну, прекрасно… очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылепятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут… может быть, они ни к черту не годные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. — Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.
— Совершенно верно, — согласился Иванов.
— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.
— Нельзя поручиться, — согласился Иванов.
— И какая развязность, — расстраивал сам себя Персиков. — бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать. — Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе). А как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.
— А отказаться нельзя было? — спросил Иванов.
Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.
— М-да… — сказал он многозначительно.
— И ведь заметьте… Я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и яйца прислали, и вообще всяческое содействие…
— Ни черта у него не выйдет. Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.
— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.
— Да, вот это скверно. У меня все готово.
— Вы скафандры получили?
— Да, сегодня.
Персиков несколько успокоился и оживился.
— Угу… я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем…
— Конечно, — согласился Иванов.
— Три шлема?
— Три. Да.
— Ну вот-с… Вы, стало быть, я, и кого-нибудь из студентов можно позвать. Дадим ему третий шлем.
— Гринмута можно.
— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. Пл… он ничего… хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, — злопамятно добавил Персиков.
— Нет, он ничего… Он хороший студент, — заступился Иванов.
— Придется уж не поспать одну ночь, — продолжал I (ерсиков, — только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти Доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.
— Нет, нет, — и Иванов замахал руками, — вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.
— Вы на ком пробовали?
— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.
— Да я не умею с ним обращаться…
— Я на себя беру, — ответил Иванов, — мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради… там один гепеур рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно… Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли… По-моему, даже и газа не нужно.
— Гм… это остроумная идея… Очень. — Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул:
— Дайте-ка мне эту, как ее… Лубянку…
* * *
Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее именье Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двуцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал… Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали— неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну.
В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из <Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.
Угасают… Угасают… — свистала, переливая и вздыхая, флейта.
Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.
— А хорошо дудит, сукин сын, — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.
Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний, 1927-й, и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению Туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике, кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.
Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.
Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.
— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки… Чего они, как ты думаешь, разбесились?
— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.
— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр Семенович.
— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!
— Нет. Манечка, пойдем.
В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно… а шар вверху в 15 000 свечей тихо шипел…
— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия. — Вот увидите… Что? Не выведу?
— А вы знаете, Александр Семенович, — сказала Дуня, улыбаясь, — мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.
Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.
— Ну что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать… Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать… А то это медвежий какой-то угол…
— Темнота, — молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.
Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок, и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.
Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.
— Действительно, это странно, — сказал за обедом Александр Семенович жене, — я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?
— Откуда я знаю? — ответила Маня. — Может быть, от твоего луча?
— Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр Семенович, бросив ложку, — ты — как мужики. При чем здесь луч?
— А я не знаю. Оставь меня в покое.
Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.
Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токи… токи… токи… токи… — стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.
Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.
— Ну, что? Что вы скажете? — победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры. — Это они клювами стучат, цыплятки, — продолжал, сияя, Александр Семенович. — Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои. — И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. — Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, — строго добавил он. — Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.
— Хорошо, — хором ответили сторож, Дуня и охранитель.
Таки… таки… таки… — закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.
Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.
— Непонятное дело, — уверял охранитель, — я тут непричинен, товарищ Рокк.
— Спасибо вам, и от души благодарен, — распекал его Александр Семенович, — что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами? Чтоб были мне цыплята!
— Некуда мне ходить. Что я. своего дела не знаю, — обиделся наконец воин, — что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!
— Куды ж они подевались?
— Да я почем знаю, — взбесился наконец воин, — что я, их укараулю разве? Я зачем приставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!
Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.
— Черт их знает, — бормотал Александр Семенович, — окна заперты, не через крышу же они улетели!
Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.
— Что вы, Александр Семенович, — крайне удивилась Дуня. — станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь… Цып… цып… цып… — начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.
Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ: каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел, насупившись, у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, налился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.
Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.
— Ух, зреют, — сказал Александр Семенович, — вот это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу.
— Да. дело замечательное, — ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.
Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узкие пружинные кровати со скомканным бельем и на полу была навалена груда зеленых яблок и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой и флейту, с тем чтобы на досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.
— Александр Семенович, — прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась и опять мелькнула в малиннике. — Подожди, я тоже пойду купаться.
Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.
На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом,
произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.
— Что это за шутки…
Затем ему вспомнилось, что факиры… да… да… Индия… плетеная корзинка и картинка… Заклинают.
Голова вновь взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримою ненавистью к этой опере.
— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.
Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитою ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы. как проволочные, поднялись на пол-аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать…
Глава IX
Живая каша
Агент Государственного политического управления на станции Дугино Щукин был очень храбрым человеком, он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:
— Ну что ж, поедем. А? Давай мотоцикл. — Потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — Флейту-то положите.
Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.
Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.
— Вы поедете с нами. — сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу, — покажете нам, где и что. — Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.
— Нужно показать, — добавил сурово Полайтис.
— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.
— Отправьте меня в Москву, — плача, попросил Александр Семенович.
— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?
Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.
— Ну, ладно, — решил Щукин, — вы действительно не в силах… Я вижу. Сейчас курьерский пройдет, с ним и поезжайте.
Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:
— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?
Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоциклете, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.
— Эй. кто тут есть! — окликнул Щукин громко. Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.
— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, — молвил Полайтис.
— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.
— Черт их знает! — ворчал Щукин. — Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.
Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились, и через вымершее крыльцо они вновь вышли во двор.
— Обойдем кругом. К оранжереям, — распорядился Щукин, — все обшарим, а там можно будет протелефонировать.
По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блещущие стекла оранжереи.
— Погоди-ка, — заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер.
Полайтис насторожился и снял пулеметик. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау… зау-зау… с-с-с-с-с… — шипела оранжерея.
— А ну-ка осторожно, — шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.
Тотчас Полайтис откинулся назад и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.
Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым, запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп в сером у двери, рядом с винтовкой.
— Назад, — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правою револьвер.
Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. Чах-чах-чах-тах — стрелял Полайтис, отступая задом. Странный четырехлапый шорох послышался сзади, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, все похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбило его на землю.
— Помоги, — крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле.
Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую, здоровую руку, тянул переломанную левую ногу. Глаза его угасали.
— Щукин… беги, — промычал он, всхлипывая.
Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и в мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой — собачий или человечий.
Глава X
Катастрофа
В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу Республик». Одна гранка попалась ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:
«Грачевка. Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья».
Наборщики страшно хохотали.
— В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.
Наборщики хохотали.
— А ведь верно, страус, — заговорил метранпаж, — что же, ставить, Иван Вонифатьевич?
— Да что ты, сдурел, — ответил выпускающий, — я удивляюсь, как секретарь пропустил, просто пьяная телеграмма.
— Попраздновали, это верно, — согласились наборщики. и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.
Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист «Известий», зевнув, молвил: «Ничего интересного» — и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.
— Понял… слушаю-с, — говорил он.
Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:
— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.
«Хорошенькое дело…» — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.
Персиков бушевал.
— Это черт знает что такое, — скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, — это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я два месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие. — Он стал считать по пальцам: — Ловля… ну, десять дней самое большое, ну, хорошо, — пятнадцать… ну, хорошо, двадцать, и перелет два дня, из Лондона в Берлин — день… Из Берлина к нам шесть часов… какое-то неописуемое безобразие…
Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.
В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «Доброхим, не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями.
Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на «Федоре Иоанновиче» и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.
Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской улице, во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:
— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.
Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучками и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Вронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери, и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ в загадочные трубки «занято», «занято», и на станции, перед бессонными барышнями, пели и пели сигнальные рожки…
Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:
— Аэропланы с газом придется посылать.
— Не иначе, — отвечали наборщики, — ведь это что ж такое.
Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:
— Этого Персикова расстрелять надо.
— При чем тут Персиков, — отвечали из гущи. — этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.
— Охрану надо было поставить, — выкрикивал кто-то.
— Да, может, это вовсе и не яйца.
Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.
Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтированный двор, вперемежку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то что «Известия» выходили в этом месяце тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно — яйца».
Бурная радость овладела профессором.
— Наконец-то. — вскричал он. — Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.
Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.
— Да они что же, издеваются надо мною, что ли, — выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца, — это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?
— Яйца-с, — отвечал Панкрат горестно.
— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в его совхоз!
Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.
— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.
Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.
— Вы знаете, Владимир Ипатьич. что случилось, — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «Экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.
— Нет, вы слушайте, что они сделали, — в ответ закричал, не слушая. Персиков, — они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!
Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.
— Так вот что, — задыхаясь, забормотал он, — теперь я понимаю… Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте. — Он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей, — кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?
Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:
— Что за черт. Это… да это анаконда, водяной удав…
Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:
— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!
— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым. — Вы шутите, Петр Степанович… Откуда?
Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:
— Вот откуда.
— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.
Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:
— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.
— Боже мой… Боже мой, — повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.
Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:
— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте. — И он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа: — «Змеи идут стаями в направлении Можайска… откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде… Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения… и отряды Государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов…»
Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:
— Анаконда… анаконда… водяной удав! Боже мой!
В таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.
Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.
— Анаконда… анаконда… — загремело эхо.
— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. — Воды ему… у него удар.
Глава XI
Бой и смерть
Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал
[55] через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал
[56]. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики. колыша и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве.
Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.
Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея Конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.
— Да здравствует Конная армия! — кричали исступленные женские голоса.
— Да здравствует! — отзывались мужчины.
— Задавят!!..давят!.. — выли где-то.
— Помогите! — кричали с тротуара.
Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:
— Короче повод.
Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними шли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «Газ». «Доброхим».
— Выручайте, братцы, — завывали с тротуаров, — бейте гадов… Спасайте Москву!
— Мать… мать… мать… — перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе. и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:
…Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов, без сомненья.
Четыре сбоку — ваших нет..
Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала. и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура… ура…».
* * *
Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ Манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол. Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами, на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что Отдельная Кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести уличные бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествия пресмыкающихся.
Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте — Панкрат и, то и дело заливающаяся слезами, экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.
С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо реагировал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: Ишь, как беснуются… что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герце-на, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючочком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напомнивший прежнего вдохновенного Персикова.
— Никуда я не пойду, — проговорил он, — это просто глупость, они мечутся как сумасшедшие… Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.
Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был, в белом халате, вышел в коридор.
— Ну? — спросил он.
Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:
— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.
Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:
— Бей его! Убивай…
— Мирового злодея!
— Ты распустил гадов!
Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый… он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:
— Это форменное сумасшествие… вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — Вон отсюда! — и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком — Панкрат, гони их вон.
Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат, с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.
Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать набок, и последним его словом было слово:
— Панкрат… Панкрат…
Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.
Глава XII
Морозный бог на машине
В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.
Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.
Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные созданья гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.
Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.
А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Т^и камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный луч», при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.
Москва, 1924 г., октябрь
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
Чудовищная история

При жизни автора не публиковалось.
Впервые в СССР— журн. «Знамя», 1987, № 6.
I
У-у-у-у-у-у-гу-гу-гугу-уу!
О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи боже мой, как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?
Чем
я ему помешал? Чем? Неужли же я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя — все равно что калошу лизать… У-у-у-у…
Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем
я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поет на кругу при луне — «милая Аида», — так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь, и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас… Живуч собачий дух.
Но вот тело мое — изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…
Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!
Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только— сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет:
— До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду— все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно. будет с меня, а загробной жизни не существует.
Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну, а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..
— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух…
Ведьма — сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую
полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.
— Боже мой… какая погода… ух… и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?
Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать. потом завинтило снежным винтом, и она пропала.
А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту. Шарик? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.
Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О. глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай! Раз боишься — значит, стоишь… Р-р-р… гау-гау.
Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет — меня, Филиппа Филипповича, обкормили!
Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей и сигарой.
Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом… Чего ищет? У-у-у-у… Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!
Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».
Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!
Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы — величина мирового значения, благодаря мужским половым железам… У-у-у-у… Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние, и подлинно, грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается.
Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у-у!
— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!
Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок…
Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!
— Будет пока что. — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.
— Ага, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну, вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной, — он пощелкал пальцами, — фить-фить!
За вами идти? Да на край света, пинайте меня вашими фетровыми ботиками в рыло, я слова не вымолвлю.
По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо. но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.
Какой-то сволочной, под сибирского деланный, кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету невзвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взодрался по трубе до второго этажа.
Фр-р-р… гау… вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!
Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. Эх, чудак. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.
— Фить-фить-фить, сюда!
В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.
— Фить-фить!
Сюда? С удово… Э, нет! Позвольте. Нет! Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Тоже котов. Живодер в позументе!
— Да не бойся ты, иди!
— Здравия желаю, Филипп Филиппович.
— Здравствуйте, Федор.
Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но в общем он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз ты морду уродовал мне, а?
— Иди, иди.
Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.
С лестницы вниз:
— Писем мне. Федор, не было?
Снизу на лестницу — почтительно:
— Никак нет, Филипп Филиппович. (Интимно вполголоса вдогонку.) А в третью квартиру жилтоварищей вселили.
Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:
— Ну-у?
Глаза его округлились и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к губам и подтвердил:
— Точно так. Целых четыре штуки.
— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну, и что же они?
— Да ничего-с!
— А Федор Павлович?
— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.
— Черт знает что такое!
— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.
— Что делается! Ай-яй-яй… Фить-фить…
Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.
Галун швейцара скрылся внизу, на мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж.
II
Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются. вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово «колбаса».
Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «М. С. П. О. Мясная торговля». Повторяем, все это не к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету. Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голу-бизнер на Мясницкой улице. Там, у братьев, пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки, — «М».
Далее пошло еще успешнее. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом уже «б» (подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер).
Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.
Если играли на гармонике, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли…», что означало: «Неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, — псов же постоянно— салфетками или сапогами.
Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины — гау-гау… га… строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью… Ве-и-ви, нэ-а — вина… Елисеевы братья бывшие…
Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. Три первые буквы он сложил сразу: пэ-ер-о — «Про…». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая.
«Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивлением. — Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а бог его знает, что оно значит».
За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколочке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.
«Вот это да. Это я понимаю», — подумал пес.
— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.
Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого полу, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.
— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки, до чего паршивый!
— Вздор говоришь. Где же он паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.
По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.
— Погоди-ка, не вертись, фить… да не вертись, дурачок. Пл… Это не парши… да стой ты, черт… Пи… A-а! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!
«Повар, каторжник. Повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.
— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат!
Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. ТЬма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.
«Э… нет… — мысленно взвыл пес, — извините, не дамся! Понимаю! О, черт бы взял их и с колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»
— Э, нет! Куда?! — закричала та, которую называли Зиной.
Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.
— Куда ты, черт лохматый?! — кричала отчаянно Зина. — Вот окаянный!
«Гдее у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударился наобум в стекло в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью. которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.
— Стой! С-скотина! — кричал господин, прыгая в халате, надетом в один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот, мерзавца!
— Ба… Батюшки!.. Вот так пес!
Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его, и всю комнату наполнило сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная мерзость неожиданно перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво и вбок.
«Спасибо, кончено, — мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла, — прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы! Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы живодеры, за что ж вы меня?»
И тут он окончательно завалился на бок и издох.
* * *
Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто и не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидал, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».
— «От Севильи до Гренады… в тихом сумраке ночей», — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.
Пес удивился, совсем открыл оба глаза, и в двух шагах увидал мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подвернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.
«Угодники! — подумал пес. — Это, стало быть, я его кусанул, моя работа. Ну, будут драть!»
— «Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!..» Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?..
— У-у-у-у. — жалобно заскулил пес.
— Ну, ладно. Опомнился — и лежи, болван.
— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковые кальсоны откатились книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.
— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.
Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:
— Кра-ковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.
— Только попробуй! Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю, ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой!..»
Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.
Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро. застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:
— Фить, фить… ну, нечего, нечего! Идем принимать.
Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидал, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громаднейшая сова, сидящая на стене на суку.
— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.
Противоположная резная дверь открылась, вошел тот тяпнутый, оказавшийся теперь, в ярком свете, очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист, молвив:
— Прежний… — тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.
«Нет, это не лечебница… куда-то в другое место я попал, — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разъясним…»
Дверь мягко открылась, и вошел некто настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко.
— Молчать! Ба-ба-ба! Да вас узнать нельзя, голубчик!
Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.
— Хи-хи… Вы — маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.
— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.
«Господи Исусе! — подумал пес. — Вот так фрукт!»
На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали ржавым табачным цветом. Морщины расползались по лицу у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.
От интереса у пса даже прошла тошнота.
— Тяу, тяу… — Он легонько потявкал.
— Молчать! Как сон, голубчик?
— Хе-хе… Мы одни, профессор? Это неописуемо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д’оннер
[57] двадцать пять лет ничего подобного! — Субъект взялся за пуговицу брюк. — Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями… Я положительно очарован. Вы — кудесник!
— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.
Тот совладал наконец с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались не виданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами.
Пес не вынес кошек и гавкнул так. что субъект подпрыгнул:
— Ай!
— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.
«Я не кусаюсь?..» — удивился пес.
Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.
— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — вы все-таки смотрите не злоупотребляйте!
— Я не зло… — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта…
— Ну и что же, какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.
Субъект в экстазе махнул рукой.
— Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного! Последний раз в 1899 году в Париже на Рю-де-ла-Пе.
— А почему вы позеленели?
Лицо пришельца затуманилось.
— Проклятая «Жиркость»! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, — бормотал субъект, ища глазами зеркало, — ведь это же ужасно! Им морду нужно бить. — свирепея, добавил он. — Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.
— Хм… Обрейтесь наголо.
— Профессор, — жалобно восклицал посетитель, — да ведь они же опять седые вырастут! Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю. Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!
— Не сразу, не сразу, мой дорогой!. — бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента. — Ну что ж. прелестно, все в полном порядке… Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата… «Много крови, много песен!..» Одевайтесь, голубчик!
— «Я же той, кто всех прелестней…» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.
— Две недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки, прошу вас, будьте осторожны.
— Профессор, — из-за двери, в экстазе, воскликнул гость, — будьте совершенно спокойны. — Он сладостно хихикнул и пропал.
Рассыпной звоночек пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:
— Годы показаны неправильно. Вероятно, пятьдесят четыре — пятьдесят пять. Тоны сердца глуховаты.
Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета.
Она очень сильно волновалась.
— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.
Дама испугалась и даже побледнела под коркою румян.
— Я, профессор… Клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма…
— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.
— Честное слово… ну, сорок пять.
— Сударыня! — возопил Филипп Филиппович. — Меня ждут! Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!
Грудь дамы бурно вздымалась.
— Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас…
— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.
— Пятьдесят один, — корчась от страху, ответила дама.
— Снимайте штаны, сударыня. — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.
— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц… я вам признаюсь как на духу…
— «От Севильи до Гренады…» — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.
— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. — Я знаю, что это моя последняя страсть… Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод! — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.
Пес совершенно затуманился, и все в голове пошло у него кверху ногами.
«Ну вас к черту, — мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда, — и стараться не буду понять, что это за штука, все равно не пойму».
Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.
Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.
— Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, — объявил он и посмотрел строго.
— Ах, профессор, неужели обезьяны?
— Да, — непреклонно ответил Филипп Филиппович.
— Когда же операция? — бледнея, слабым голосом спрашивала дама.
— «От Севильи до Гренады…» угум… В понедельник. Ляжете в клинику с утра, мой ассистент приготовит вас.
— Ах. я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?
— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — пятьдесят червонцев.
— Я согласна, профессор!
Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидать кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста… Потом взволнованный голос тявкнул над головой:
— Я — известный общественный деятель, профессор! Что же теперь делать?
— Господа! — возмущенно кричал Филипп Филиппович. — Нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?
— Четырнадцать, профессор… Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить командировку в Лондон…
— Да ведь я же не юрист, голубчик… Ну, подождите два года и женитесь на ней.
— Женат я, профессор!
— Ах, господа, господа!..
Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал не покладая рук.
«Похабная квартирка, — думал пес, — но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужли же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь. Наглая».
Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновенье, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.
«Этим что нужно?» — неприязненно и удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на них, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие потоптались на ковре.
— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос, — вот по какому делу…
— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.
Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прерывал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.
— Во-первых, мы не господа. — молвил наконец самый юный из четверых — персикового вида.
— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первым тот, с копной.
— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.
— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.
— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.
— Я не «милостивый государь», — смущенно пробормотал блондин, снимая папаху.
— Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной.
— Прежде всего, кто это «мы»?
— Мы — новое домоуправление нашего дома. — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы…
— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?
— Нас. — ответил Швондер.
— Боже! Пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швондер.
— Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии! — крикнул Филипп Филиппович. — Что ж теперь будет с паровым отоплением!
— Вы издеваетесь, профессор Преображенский!
— По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.
— Мы — управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович. — Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
— Вопрос стоял об уплотнении…
— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от двенадцатого сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?
— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.
— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.
Четверо онемели.
— Восьмую? Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако это здо-о-рово!
— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.
— У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет — три! Смотровая — четыре. Операционная — пять. Моя спальня — шесть, и комната прислуги — семь. В общем, не хватает… Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?
— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.
— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве.
— Даже у Айседоры Дункан! — звонко крикнула женщина.
С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.
— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.
— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом. — а где же я должен принимать пищу?
— В спальне, — хором ответили все четверо.
Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.
— В спальне принимать пищу, — заговорил он немного придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать?! Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!! — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пишу там. где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.
— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подаем на вас жалобу в высшие инстанции.
— Ага. — молвил Филипп Филиппович, — так? — Голос его принял подозрительно вежливый оттенок. — Одну минутку попрошу вас подождать.
«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет! Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет!.. Бей их! Этого голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенное сухожилие… р-р-р!»
Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:
— Пожалуйста… да… благодарю вас. Виталия Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Виталий Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Виталий Александрович, ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменяется, равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России… Сейчас ко мне вошли четверо, из них — одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире, с целью отнять часть ее.
— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.
— Извините… У меня нет возможности повторить все. что они говорили, я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключ могу передать Швондеру, пусть он оперирует.
Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.
— Что же делать?.. Мне самому очень неприятно… Как? О нет, Виталий Александрович! О нет! Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм… Как угодно. Хотя бы… Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага… Ну, это другое дело. Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.
— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.
— Попрошу вас не употреблять таких выражений.
Швондер растерянно взял трубку и молвил:
— Я слушаю. Да… председатель домкома… Мы же действовали по правилам… так у профессора и так совершенно исключительное положение… Мы знаем об его работах… целых пять комнат хотели оставить ему… ну, хорошо… раз так… хорошо…
Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.
«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес. — Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить как хотите, а отсюда я не уйду!»
Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.
— Это какой-то позор… — несмело вымолвил тот.
— Если бы сейчас была дискуссия. — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем. — я бы доказала Виталию Александровичу…
— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.
Глаза женщины загорелись.
— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем… Только… Я, как заведующий культотделом дома…
— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.
— …хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Франции. По полтиннику штука.
— Нет, не возьму, — кротко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.
— Почему же вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Франции?
— Нет, сочувствую.
— Жалеете по полтиннику?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
Помолчали.
— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать!
— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.
— Вы ненавистник пролетариата, — горячо сказала женщина.
— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку.
Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.
— Зина! — крикнул Филипп Филиппович. — Подавай обед. Вы позволите, господа?
Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча — переднюю, и за ними слышно было, как закрылась тяжело и звучно парадная дверь.
Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.
III
На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске — кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, — икра. Меж тарелками — несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью. а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темные бутылки.
Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом.
— Сюда их! — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И, если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.
Красавец тяпнутый (он был уже без халата, в приличном черном костюме) передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки.
— Новоблагословенная? — осведомился он.
— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.
— А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, — это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?
— Все что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.
— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, — э… мм… доктор Борменталь, умоляю вас: мгновенно эту штучку, и, если вы скажете, что это… я ваш кровный враг на всю жизнь! «От Севильи до Гренады…»
Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.
— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
— Это бесподобно, — искренне ответил тяпнутый.
— Еще бы… Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими. А из горячих московских закусок это — первая. Когда-то их великолепно приготовляли в «Славянском базаре». На, получай!
— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.
— Ничего… Он, бедняга, наголодался. — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.
Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар, пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:
— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить, да-c! Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!
— Гм… Да ведь других же нет.
— Вот никаких и не читайте. Вы знаете,
я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе!
— Гм?.. — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.
— Мало этого! Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.
— Вот черт!..
— Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть.
Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим — ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды.
«Странное ощущение, — думал он, захлопывая отяжелевшие веки. — глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость…»
Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.
— «Сен-Жюльен» — приличное вино. — сквозь сон слышал пес, — но только ведь теперь же его нету.
Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.
Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.
— Зинуша, что это такое означает?
— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.
— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович. — Ну, теперь, стало быть, пошло! Пропал калабуховский дом! Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении, и так далее. Крышка Калабухову!
— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.
— Да ведь как же не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович. — Ведь это какой дом был! Вы поймите!
— Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Филипп Филиппович, — возразил красавец тяпнутый, — они теперь резко изменились.
— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалки и калошная стойка в нашем доме.
— Это интересно…
«Ерунда — калоши, не в калошах счастье, — думал пес, — но личность выдающаяся».
— Не угодно ли — калошная стойка. С тысяча девятьсот третьего года я живу в этом доме. И вот в течение времени до апреля тысяча девятьсот семнадцатого года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом «ни одного»! — чтобы из нашего парадного внизу, при общей незапертой двери, пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня прием. В апреле семнадцатого года, в один прекрасный день, пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении! Не говорю! Пусть. Раз социальная революция, не нужно топить! Хотя когда-нибудь, если будет свободное время, я займусь исследованием мозга и докажу, что вся эта социальная кутерьма — просто-напросто больной бред… Так я говорю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице! Почему калоши до сих пор нужно запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Угнетенным неграм? Или португальским рабочим? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?
— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош… — заикнулся было тяпнутый.
— Нич-чего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Пи… Я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень… Ничего подобного! На нем теперь есть калоши, и эти калоши… мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли тринадцатого апреля тысяча девятьсот семнадцатого года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть! Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок) — смешно даже предположить! Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок) — ни в коем случае! Это сделали вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь! Статистика— жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому!
— Разруха, Филипп Филиппович!
— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым. фикция! — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали на скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха! Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах! Значит, когда эти баритоны кричат: «Бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, а займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор. и тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны!
Филипп Филиппович вошел в азарт, ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он. подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.
Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа палача в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством из абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.
«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, куры не клюют…»
— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Горо-довой!! — «Угу-гу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса… — Городовой! Это, и только это! И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха! Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор. пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само изменится к лучшему!
— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай бог. вас кто-нибудь услышит!
— Ничего опасного! — с жаром возразил Филипп Филиппович. — Никакой контрреволюции! Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу! Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается! Черт его знает! Так я говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность…
Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом красного вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил:
— Мерси.
— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, сорок рублей причитается. Прошу!
Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.
— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.
— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом «Аида». А я давно не слышал. Люблю… Помните дуэт… Тара… ра-рим…
— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.
— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир, — начало девятого… ко второму акту приеду… Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо — и никаких разрух… Вот что, Иван Арнольдович, вы же следите внимательно, как только подходящая смерть, тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне!
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патологоанатомы мне обещали.
— Отлично. А мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем, обмоем. Пусть бок у него заживет…
«Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший человек. Я знаю, кто это! Он — добрый волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки… Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне? А вдруг сон! (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь, и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди… Столовка, снег… Боже, как тяжко это будет!..»
IV
Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.
Видно, уж не так страшна разруха! Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконниками наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей квартире.
Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной-приемной между шкафами отражали удачливого красавца пса.
«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях, — очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом, то-то, я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворника».
В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но. конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закопалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек, — достаточно упомянуть обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских удара — и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу:
— Зачем же ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?
— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал!
— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением! Мясо ему давали сегодня?
— Господи! Он весь дом обожрал! Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет!
— Ну и пусть ест на здоровье!.. Чем тебе помешала сова, хулиган?!
— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.
Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.
— Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались, — расстроенно докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, какой мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю истерзал! Мордой его потычьте, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как вещи портить!
И начинался вой. Пса, прилипавшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте!»
— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.
На следующий день на пса надели широкий блещущий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро он понял, что он просто — дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Обухову переулку пес шел как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер переднюю дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:
— Ишь каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович! И удивительно жирный.
— Еще бы! За шестерых лопает! — пояснила румяная и красивая от мороза Зина.
«Ошейник все равно что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, проследовал в бельэтаж, как барин.
Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен, именно — в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечною огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке — светились двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах…
— Вон! — завопила Дарья Петровна. — Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой…
«Чего ты? Ну чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» — И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.
Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым и узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясною кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковороде ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад. Клокотало, лилось…
Вечером потухала пламенная пасть, в окне кухни, над белой половинной занавесочкой, стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо вверх, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.
— Как демон пристал… — бормотала в полумраке Дарья Петровна. — отстань. Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?
— Нам ни к чему. — плохо владея собою и хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная…
Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества. божество помещалось в кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.
— «К берегам священным Нила…» — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра. Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, откуда расходилось по всей комнате, в песьей шубе оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела выходная дверь.
«Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как придет, ужинать, стало быть, будем. На ужин, надо полагать. телячьи отбивные».
* * *
И вот в этот ужасный день, еще утром, Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на свое собственное отражение. Но днем, после того как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел как обычно. Приема сегодня не было, потому, как известно, во вторник приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на третье блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.
— Отлично, — послышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!
Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед. Обед! Обед! Обед! В столовой тотчас застучали тарелками. Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.
«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он. И только что он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привез с собою дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, и выбежал навстречу доктору Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.
— Когда умер? — закричал он.
— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.
«Кто такое умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги. — Терпеть не могу, когда мечутся».
— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны
и стал звонить во все звонки, как показалось псу.
Прибежала Зина.
— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас, скорей, скорей!
«Не нравится мне. Не нравится». Пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно.
«Пойти, что ль, пожрать. Ну их в болото», — решил пес и вдруг получил сюрприз.
— Шарику ничего не давать! — загремела команда из смотровой.
— Усмотришь за ним, как же!
— Запереть!
И Шарика заманили и заперли в ванной.
«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате, — просто глупо…»
И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно…
«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уже пришлось прикупить, и еще одну купите. Чтобы вы псов не запирали».
Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности, солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги…
«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык. Я — барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция… Бред этих злосчастных демократов…»
Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.
— У-у-у! — как в бочку, пролетело по квартире.
«Сову раздеру опять!» — бешено, но бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза…
И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался в кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.
«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно. — Бок зажил. Ничего не понимаю».
И он поехал лапами по скользкому паркету, и так был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках.
В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.
Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого — и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.
— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, — только не волнуй его.
У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоскою и презрением поглядел на нее.
«Что же… вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам… Хоть бы я знал, что будете делать со мной?»
Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий залах разлился от него.
«Фу, гадость… Отчего мне так мутно и страшно?»— подумал пес и попятился от тяпнутого.
— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.
Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей… — мелькнуло в голове. — За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.
— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью, секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся кверху дном и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.
* * *
На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой, въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазками наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:
— Иван Арнольдович, самый важный момент, когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток, и тут же шить! Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету. — Он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.
Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался. чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.
Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь:
— Готово.
Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.
— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса.
— Можешь.
Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.
Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:
— Ну. господи благослови. Нож!
Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.
— Спит? — спросил Филипп Филиппович.
— Хорошо спит.
Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными, щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росою ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул:
— Ножницы!
Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах. Семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:
— Шейте, доктор, мгновенно кожу!
Затем оглянулся на круглые белые стенные часы.
— Четырнадцать минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу.
Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.
— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.
Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:
— Трепан!
Борменталь подал ему блистающий коловорот. Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.
Тогда обнажился купол Шарикового мозга, серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Бгаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочки с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Борменталь начал бледнеть, одною рукою охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:
— Пульс резко падает…
Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее в шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.
— Иду к турецкому седлу! — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтою жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.
— В сердце? — робко спросил он.
— Что вы еще спрашиваете?! — злобно заревел профессор. — Все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо! — Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника.
Доктор с размаху, легко всадил иглу в сердце пса.
— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.
— Некогда рассуждать тут — живет не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле! Все равно помрет… ах ты, че… «К берегам священным…» придаток давайте!
Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. «Не имеет равных в Европе, ей-богу…» — смутно подумал Борменталь. Одной рукой Филипп Филиппович выхватил болтающийся комочек, а другой — ножницами — выстриг такой же комочек в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими, точно чудом, тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы Шарика какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:
— Умер, конечно?..
— Нитевидный пульс… — ответил Борменталь.
— Еще адреналину!
Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взревел:
— Шейте!
Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.
И вот на подушке появилось на окрашенном кровью фоне безжизненное потухшее лицо Шарика с кольцевой раной на голове. Тут уж Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика и кровь.
Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул:
— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну!
Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:
— Вот, черт возьми! Не издох! Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса! Ласковый был, но хитрый.
V
Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Борменталя. Тонкая, в писчий лист форматом. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он — аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем — размашист, взволнован, с большим количеством клякс.
22 декабря 1924 года. Понедельник.
История болезни
Лабораторная собака приблизительно 2 лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая с подпалинами, хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес— 8 килограммов (знак восклицательный). Сердце, легкие, желудок, температура в норме. 23 декабря. В 8 1/2 часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому.
Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крыши придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.
Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфоры, 2 шприца адреналина в сердце.
Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем — о его влиянии на омоложение организма у людей.
Оперировал профессор Ф. Ф. Преображенский. Ассистировал доктор И. А. Борменталь. В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфоры по Преображенскому.
24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание вдвое учащено. Температура 42°. Камфора, кофеин под кожу.
25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается. Похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце и камфора по Преображенскому. Физиологический раствор в вену.
26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92. Температура 41°. Камфора, питание клизмами.
27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8. Зрачки реагируют. Камфора под кожу.
28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот. Температура — 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка.
Появился аппетит. Питание жидкое.
29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура нормальна.
(Запись карандашом.)
Вечером появился первый лай (8 час. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и тона (понижение). Лай вместо слова «гау, гау» на слоги «a-о». По окраске отдаленно напоминает стон.
30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кило, за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.
31 декабря. Колоссальный аппетит.
(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком.)
В 12 часов 12 минут дня пес отчетливо пролаял слово — «А-б-ыр»!
(В тетради перерыв, и дальше, очевидно по ошибке от волнения, написано):
1 декабря. (Перечеркнуто, поправлено.)
1 января 1925 года.
Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня
(крупными буквами) засмеялся (?), вызвав обморок горничной Зины.
Вечером произнес восемь раз подряд слово «Абыр-валг», «АбырЬ.
(Косыми
буквами карандашом.)
Профессор расшифровал слово «Абыр-валг». Оно означает «Главрыба»!!! Что-то чудовищ…
2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии.
Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.
(В тетради вкладной лист.)
Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату.
История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.
В 1 час. 13 мин. — глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура валериана.
В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал профессора Преображенского по матери.
(Перерыв в записях.)
6 января. (То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)
Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пив-ная». Работает фонограф. Черт знает что такое!
Я теряюсь!
Прием у профессора прекращен. Начиная с 5 часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственная вульгарная ругань и слова: «Еще парочку».
7 января. Он произносит очень много слов: «Извощик», «Мест нету», «Вечерняя газета». «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.
Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди В остальном он лыс, с дрябловатой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок.
Ей-богу, я с ума сойду!
Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо, большинство наблюдений веду я (фонограф, фотографии).
По городу расплылся слух.
Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка:
«Слухи о марсианине в Обуховой переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны».
О каком, к черту, марсианине? Ведь это кошмар!!
Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неописуемое!.. Новое слово — «милиционер».
Оказывается — Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Ф. Ф. После того как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню, и так далее…
Что творится во время приема!! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут.
В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.
8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Ф. Ф., как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное
очеловечивание (подчеркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.
Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и моем, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних (зачеркнуто).. на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.
Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое, отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми!
На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:
— Перестать!
Это не произвело никакого эффекта.
После прогулки в кабинет общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.
После этого мы имели совещание с Ф. Ф. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москшвея, да… «От Севильи до Гренады…» Москшвея, дорогой доктор..» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».
9 января. Лексикон обогащается в каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены:
«Не толкайся», «бей его», «подлец», «слезай с подножки», «я тебе покажу», «признание Америки» и «примус».
10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками:
«В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.
(В
тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)
Удлиняется задняя половина скелета стопы (Тarsus). Вытягивание пальцев. Когти.
Повторное систематическое обучение посещения уборной.
Прислуга совершенно
подавлена.
Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.
11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки Филиппа Филипповича: «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку».
Шерсть на голове слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ел селедку.
В пять часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно, когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол…» — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида!»
Ф. Ф. был поражен. Потом поправился и сказал:
— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.
Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья и довольно раздраженно, но стих.
Ура! Он понимает.
12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани.
Свистал «Ой, яблочко…».
Поддерживает разговор.
Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что! Другое, неизмеримо более важное: изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга! Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена! Он определяет человеческий облик! Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика! Новая область открывается в науке: без всякой реторты Фауста создан гомункул! Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу! Профессор Преображенский, вы — творец!! (Клякса.)
Впрочем, я уклонился в сторону… Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоками. По-моему, перед нами — оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика!
Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь. — уличные слова, он их слышал и затаил в мозг. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах!
_____
Шарик читал! Читал!!! (Три восклицательных знака.) Это я догадался! По «Главрыбе»! Именно с конца читал! И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перекресте зрительных нервов у собаки!
Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому! Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точно число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана, — земля налетит на небесную ось!! Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры! Я переехал к Преображенскому, по его просьбе, и ночую в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.
_____
С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с этой историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.
(В тетради вкладной лист.)
Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился три раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз — происхождение спасло, в третий — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.
Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь).
Причина смерти: удар ножом в сердце в пивной «Стоп-сигнал» у Преображенской заставы.
Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю! Не все ли равно, чей гипофиз?
17 января. Не записывал несколько дней. Болел инфлюэнцей.
За это время облик окончательно сложился.
а) Совершенный человек по строению тела:
б) вес около трех пудов,
в) рост маленький,
г) голова маленькая,
д) начал курить,
е) ест человеческую пишу,
ж) одевается самостоятельно,
з) гладко ведет разговор.
Вот так гипофиз! (Клякса.)
Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно с начала.
Приложение: стенограммы речей, записи фонографа, фотографические снимки.
Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского доктор
Борменталь.
VI
Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филипповича:
«Семечки есть в квартире запрещаю. Ф. Преображенский» — и синим карандашом крупными, как пирожное, буквами рукою Борменталя:
«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».
Затем рукою Зины:
«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».
Рукою Преображенского:
«Я сто лет буду ждать стекольщика?»
Рукою Дарьи Петровны (печатно):
«Зина ушла в магазин, сказала, приведет». В столовой было совершенно по-вечернему благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:
Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами!
Шв-р.
Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав. он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:
— «Све-е-етит месяц… светит месяц… светит месяц…» Тьфу… прицепилось… вот окаянная мелодия!
Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.
— Скажи ему, что пять часов. Чтобы прекратил. И позови его сюда, пожалуйста.
Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары.
У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.
Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человечка был повязан ядовито-небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая глаза, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.
«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазками поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.
Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели 5. Внутри их еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович:
— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне, тем более днем?
Человек кашлянул сипло, точно подавился косточкой, и ответил:
— Воздух в кухне приятнее.
Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.
Филипп Филиппович покачал головой и спросил:
— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстухе.
Человек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстух.
— Что ж… «гадость», — заговорил он, — шикарный галстух. Дарья Петровна подарила.
— Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки! А это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?
— Я ему велел, чтоб лаковые. Что, я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий, все в лаковых.
Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:
— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете! Там женщины.
Лицо человека потемнело и губы оттопырились.
— Ну уж и женщины! Подумаешь! Барыни какие! Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши! Это все Зинка ябедничает.
Филипп Филиппович глянул строго:
— Не сметь Зину называть Зинкой! Понятно?
Молчание.
— Понятно, я вас спрашиваю?
— Понятно.
— Убрать эту пакость с шеи. Вы… ты… вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи! Балаган какой-то! Окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вон плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить! Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту: «Пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?
— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.
Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.
— Кто это тут вам «папаша»? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слыхал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!
Дерзкое выражение загорелось в человечке.
— Да что вы все… то не плевать, то не кури… туда не ходи… Что же это, на самом деле, чисто как в трамвае? Что вы мне жить не даете? И насчет «папаши» это вы напрасно! Разве я вас просил мне операцию делать, — человек возмущенно лаял, — хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человечек возвел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск. может, имею право предъявить?
Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип!» — пролетело у него в голове.
— Как-с, — прищуриваясь, спросил он, — вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!..
— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал! А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?
— «Филипп Филиппович»! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно! — «Кошмар… кошмар!» — подумалось ему.
— Уж конечно, как же… — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с! Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ваннами не жили! Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право…
Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папироску, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос подмышку.
— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович. — И я не понимаю, откуда вы их берете?
— Да что ж, развожу я их, что ли? — обиделся человек. — Видно, блоха меня любит. — Тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил на воздух клок рыжей легкой ваты.
Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носах, глаза прижмурил и заговорил:
— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?
— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.
Филиппа Филипповича несколько передернуло.
— Хм… Черт… Документ! Действительно… Кхм… Да, может быть, без этого как-нибудь можно? — Голос его звучал неуверенно и тоскливо.
— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Во-первых, домком!
— При чем тут этот домком?
— Как это — при чем? Встречают, спрашивают, когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?
— Ах ты, господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — «встречаются, спрашивают»… Воображаю, что вы им говорите! Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам!
— Что я. каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова! Я хожу, как все люди.
При этом он посучил лакированными ногами по паркету.
Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.
— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?
— Что ж ему говорить? Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.
— Чьи интересы, позвольте осведомиться?
— Известно чьи. Трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
— Почему вы — труженик?
— Да уж известно, не нэпман.
— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?
— Известно что: прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанным в Москве? Это раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же союз, биржа…
— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти? Или по своему паспорту? Ведь нужно же все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы… э… гм… вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо, лабораторное… — Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.
Человек победоносно молчал.
— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома! Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии!
— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете — и шабаш!
— Как же вам угодно именоваться?
Человек поправил галстух и ответил:
— Полиграф Полиграфович.
— Не валяйте дурака. — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — яс вами серьезно говорю.
Язвительная усмешка искривила усишки человека.
— Чтой-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно, — мне по матушке — нельзя, плевать — нельзя, а от вас только и слышу: «дурак» да «дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.
Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан водой, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет, и будет совершенно прав. В руках уже не могу держать себя».
Он преувеличенно вежливо склонил стан и с железною твердостью произнес:
— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали такое?
— Домком посоветовал. По календарю искали, какое тебе, говорят, я и выбрал.
— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.
— Довольно удивительно, — человек усмехнулся. — когда у вас в смотровой висит.
Филипп Филиппович, не вставая, откинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.
— Календарь из смотровой.
Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:
— Где?
— Четвертого марта празднуется.
— Покажите… Пи… черт… В печку его, Зина, сейчас же!
Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покрутил укоризненно головой.
— Фамилию позвольте узнать.
— Фамилию я согласен наследственную принять.
— Как-с? Наследственную? Именно?
— Шариков.
* * *
В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича.
— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.
— Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, гм… зародившийся в вашей, мол, квартире…
Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле, Филипп Филиппович дернул усом.
— Гм… вот черт… Diynee ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто… ну, одним словом…
— Это ваше дело. — со спокойным злорадством молвил Швондер, — зародился или нет… В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова!
— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне.
— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор! Вы напрасно говорите: «И очень просто», — это очень непросто.
— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал:
— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.
В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: Да!», покраснел и закричал:
— Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело? — и хлестко всадил трубку в рога.
Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович, багровея, прокричал:
— Одним словом, кончим это.
Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:
— «Сим удостоверяю»… черт знает что такое… Вл… «предъявитель сего, человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»… черт!.. Да я вообще против получения этих идиотских документов!.. Подпись: «профессор Преображенский».
— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как так документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?
— Я воевать не пойду никуда, — вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф.
Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:
— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.
— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.
Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль?» Борменталь многозначительно кивнул головой.
— Я тяжко раненный при операции, — хмуро подвывал Шариков. — меня вишь как отделали. — И он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.
— Вы — анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.
— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.
— Ну-с, хорошо, не важно пока, — ответил удивленный Швондер. — Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам выдадут документ.
— Вот что… э… — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой. — Нет ли у вас в доме свободной комнаты, я согласен ее купить.
Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.
— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.
Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так. что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули.
«Изнервничался старик», — подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.
Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.
Профессор остался наедине с Борменталем.
Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:
— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет! Ведь тип, я вам доложу…
В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнула и мгновенно пролетела обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.
— Боже мой! Еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.
— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее. оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.
— Сколько раз я приказывал, котов чтобы не было! — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он? Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приемной!
— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.
Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддалась.
— Открыть сию секунду!
В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало. обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:
— Убью на месте…
Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством:
— О Господи Исусе!
Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:
— Что вам надо?
— Говорящую собачку любопытно поглядеть. — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.
Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:
— Сию секунду из кухни вон.
Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:
— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.
— Вон. я говорю. — повторил Филипп Филиппович, и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. — Дарья Петровна, я уже просил вас?!
— Филипп Филиппович. — в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что ж я поделаю?.. Народ целые дни ломится, хоть все бросай!
Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошел доктор Борменталь.
— Иван Арнольдович, убедительно прошу… гм… сколько там пациентов?
— Одиннадцать, — ответил Борменталь.
— Отпустите всех, сегодня принимать не буду!
Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:
— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?
— Гу-гу, — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.
— Какого черта?.. Не слышу! Закройте воду!
— Гку… угу…
— Да закройте воду! Что он сделал, не понимаю?! — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Пегровна. открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппович еще раз погрохотал кулаками в дверь.
— Вон он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.
Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.
— Вы с ума спятили? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?
Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:
— Защелкнулся я!
— Откройте замок! Что же вы. никогда замка не видели?
— Да не открывается, окаянный, — испуганно ответил Полиграф.
— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.
— Там пуговка есть такая. — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, — нажмите ее книзу… Вниз нажмите! Вниз!
Шариков пропал, через минуту вновь появился в окошке.
— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.
— Да лампу зажгите! Он взбесился!
— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.
Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.
Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад, в крупную серую клетку. мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.
— Ду… гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.
Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла.
Послышался голос Федора:
— Филипп Филиппович, все равно, надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни!
— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.
Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула дверь в переднюю. По щиколотку в воде, вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.
— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.
— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятьем поднял одну ногу.
— Боится выходить, — глупо усмехнувшись, объяснил Федор.
— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.
— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу, прямо в пролет лестницы, и падала в подвал.
Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.
— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула.
— А когда же прием? — добивался голос за дверью. — Мне бы только на минуту…
— Не могу. — Борменталь переступал с носков на каблуки. — Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина, милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.
— Тряпки не берут!
— Сейчас кружками вычерпаем! — отзывался Федор. — Сейчас!
Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже всей подошвой стоял в воде.
— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.
— Труба лопнула…
— Я бы в калошах прошел…
Синеватые силуэты появлялись за дверью.
— Нельзя, прошу завтра.
— А я записан…
— Завтра. Катастрофа с водопроводом.
Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.
— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна. — Выливай в раковину!
— Да что в раковину! — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.
Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.
— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.
— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки!
— В калоши станьте!
— Да ничего, все равно уж мокрые ноги…
— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.
— До чего вредное животное, — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.
Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, и очки вспыхнули.
— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты. — Позвольте узнать?
— Про кота я говорю. Такая сволочь! — ответил Шариков, бегая глазами.
— Знаете, Шариков, — переведя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видел более наглого существа, чем вы.
Борменталь хихикнул.
— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал! Как вы смеете это говорить! Вы все это учинили сами и еще позволяете… Да нет! Это черт знает что такое!
— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие!
— Дикарь!
— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков. — Ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет, как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.
— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович. — Вы поглядите на свою физиономию в зеркало.
— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков. трогая глаз черной мокрой рукой.
Когда темный от влаги паркет несколько подсох и все зеркала покрылись банным налетом и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.
— Вот вам, Федор…
— Покорнейше благодарим…
— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.
— Покорнейше благодарю. — Федор помялся, потом сказал: — Тут еще. Филипп Филиппович… Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только за стекло в седьмой квартире… Гражданин Шариков камнями швырял…
— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.
— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.
— Черт!..
— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал… Ну. повздорили…
— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких пещах. Сколько нужно?
— Полтора.
Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.
— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам…
Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.
— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.
— Ну уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видел!
Борменталь как из-под земли вырос.
— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь!
Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:
— Вы что? В кабаке, что ли?
— Это так! — добавил решительный Федор. — Вот это так! Да по уху бы еще!..
— Ну что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Филиппович.
— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович!
VII
— Нет, нет и нет, — настойчиво заговорил Борменталь, — извольте заложить!
— Ну что, ей-богу, — забурчал недовольный Шариков.
— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.
— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.
— Как это так «примите»? — расстроился Шариков. — Я сейчас заложу.
Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой запихнул салфетку за воротничок, и стал похож на клиента в парикмахерской.
— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.
Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.
— Я еще водочки выпью. — заявил он вопросительно.
— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь. — Вы в последнее время слишком налегаете на водку.
— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.
— Глупости говорите… — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил:
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто это — вредно. Это раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.
Борменталь указал на заклеенный буфет.
— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы.
Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.
— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение — себе.
Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
— Вот все у нас как на параде, — заговорил он, — салфетку туда, галстух — сюда, да… — «извините», да «пожалуйста», «мерси», а так, чтобы по-настоящему. — это нет, Мучаете себя, как при царском режиме.
— А как это «по-настоящему» — позвольте осведомиться?
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:
— Ну, желаю, чтоб все…
— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.
Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлебца поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.
— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.
Борменталь удивленно покосился:
— Виноват?..
— Стаж, — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь! Клим!..
Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича.
— Вы полагаете, Филипп Филиппович?
— Нечего и полагать. Уверен в этом.
— Неужели… — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.
— Später…
[58] — негромко сказал Филипп Филиппович.
— Gut
[59], — отозвался ассистент.
Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина, и предложил Шарикову.
— Я не хочу, я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.
— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.
Тот поморгал глазами и ответил:
— В цирк пойдем, лучше всего.
— Каждый день в цирк? — довольно благодушно заметил Филипп Филиппович. — Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.
— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.
— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините… Почему, собственно, вам не нравится театр?
Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.
— Да дуракаваляние… Разговаривают, разговаривают… Контрреволюция одна!
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головой.
— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли…
— Я уж и так читаю, читаю… — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.
— Зина! — тревожно закричал Филипп Филиппович. — Убирай, детка, водку, больше не нужна! Что же вы читаете? — В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма и человек в звериной шкуре, в колпаке. «Надо будет Робинзона…»
— Эту… как ее… переписку Энгельса с этим… как его, дьявола… с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
Шариков пожал плечами:
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь богом! «Всех, кто скажет, что другая!..» А что бы вы, со своей стороны, могли предложить?
— Да что тут предлагать… А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет! Взять все да и поделить.
— Так я и думал! — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. — Именно так и полагал!
— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.
— Да какой тут способ. — становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.
Шариков съежился и промолчал.
— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?
— Тридцати девяти человекам, — тотчас ответил Борменталь.
— Гм… Триста девяносто рублей. Ну, грех на троих мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей, потрудитесь внести.
— Хорошенькое дело. — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?
— За кран и за кота! — рявкнул вдруг Филипп Филиппович. выходя из состояния иронического спокойствия.
— Филипп Филиппович! — тревожно воскликнул Борменталь.
— Погодите! За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием! Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны!.. Кто убил кошку у мадам Полласухер? Кто…
— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице! — налетел Борменталь.
— Вы стоите!.. — кричал Филипп Филиппович.
— Да она меня по морде хлопнула! — взвизгнул Шариков. — У меня не казенная морда!
— Потому что вы ее за грудь ущипнули! — закричал Борменталь, опрокинув бокал. — Вы стоите!..
— Вы стоите на самой низшей ступени развития! — перекричал Филипп Филиппович. — Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!..
— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.
— Ну, вот-с, — гремел Филипп Филиппович. — зарубите себе на носу… кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь?.. Что вам надо молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества! Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?
— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.
— Я догадываюсь! — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.
— Ну что же… Ну, Швондеридал. Он не негодяй. Чтоб я развивался.
— Я вижу, как вы развились после Каутского! — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал кнопку в стене. — Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше! Зина!
— Зина! — кричал Борменталь.
— Зина! — орал испуганный Шариков.
Зина прибежала бледная.
— Зина! Там в приемной… Она в приемной?
— В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая, как купорос.
— Зеленая книжка…
— Ну, сейчас палить! — отчаянно воскликнул Шариков. — Она казенная, из библиотеки!!
— Переписка называется… как его?.. Энгельса с этим чертом… В печку ее!
Зина повернулась и улетела.
— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом же суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах…
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою
очередь отправил ему косой взгляд и умолк.
«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.
Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.
— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе и неприязненно заявил Шариков.
— Никто вас и не приглашает. Держите себя прилично! Доктор, прошу вас.
В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся, по своему обыкновению, на готическую спинку и потянулся к газетам на столике.
— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите, в программе котов нету?
— И как такую сволочь в цирк допускают? — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.
— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?
— У Саламонского
[60], — стал вычитывать Борменталь. — четыре каких-то… Юссемс и человек мертвой точки.
— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
— Бог их знает, впервые это слово встречаю.
— Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно.
— У Никитина… У Никитина… гм… слоны и предел человеческой ловкости.
— Тэк-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.
Тот обиделся.
— Что ж, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело, а слоны — животные полезные, — ответил Шариков.
— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте, поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.
Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату.
Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «К берегам священным Нила…» и что-то бормотал.
Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки, Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр шариковского мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.
Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевал ее конец и, в полном одиночестве, зеленоокрашенный, как седой Фауст, воскликнул наконец:
— Ей-богу, я, кажется, решусь!
Никто ему ничего не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетире карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка.
VIII
Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.
Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман пиджака и немедленно же после этого позвал доктора Борменталя:
— Борменталь!
— Нет. уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.
Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником, и атмосфера в обуховских комнатах была душная.
— Ну, и меня называйте по имени и отчеству, — совершенно основательно ответил Шариков.
— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович. — По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», — и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».
— Я не господин, господа все в Париже, — отлаял Шариков.
— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович. — Ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем! Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае, или я, или вы уйдем отсюда, и вернее всего — вы! Сегодня я помешу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату!
— Ну да, такой я дурак, чтоб я съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков.
— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.
— Вы, знаете, не нахальничайте, мсье Шариков. — Борменталь очень повысил голос.
Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил:
— Вот. Член жилищного товарищества, и жилплощадь мне полагается определенно в квартире номер пять у ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин. — Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу как новое: — Благоволите.
Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:
— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.
Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.
— Филипп Филиппович vorsichtlg…
[61] — предостерегающе начал Борменталь.
— Ну уж знаете… Если уж такую подлость!.. — вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду. Шариков, господин… что я, если вы позволите еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. Шестнадцать аршин, это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге?
Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.
— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где ж я буду харчеваться?
— Тогда ведите себя прилично, — в один голос завыли оба эскулапа.
Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.
Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный и привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь — в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе, рядом с пухлым альбомом, стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежащие под прессом. пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало, — с ним явились две неизвестные личности, шумевшие на парадной лестнице и изъявившие желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотою вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день…», дальше шла римская цифра «XXV».
— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.
Тот. шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности эти ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие.
— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные, как же они ухитрились?! — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.
— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать, с рублем в кармане.
От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.
— Ага! Быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.
Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение;
— А может быть, Зинка взяла…
— Что такое?! — закричала Зина, появившись в дверях, как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. — Да как он…
Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.
— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы все это устроим.
Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.
— Зина! Как вам не стыдно! Кто же может подумать? Фу, какой срам, — заговорил Борменталь растерянно.
— Ну, Зина, ты — дура, прости господи, — начал Филипп Филиппович.
Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то «и», не то «е», вроде «иэээ»! Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.
— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!
И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.
Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три пополуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.
Доктор Борменталь приподнялся, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной тальей.
— Филипп Филиппович! — прочувственно воскликнул он. — Я никогда не забуду, как я, полуголодным студентом, явился к вам. и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель… мое безмерное уважение к вам… Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.
— Да, голубчик мой… — растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся ему навстречу.
Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.
— Ей-богу, Филипп Фили…
— Так растрогали, так растрогали… спасибо вам, — говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок… «От Севильи до Гренады!..»
— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — искренне воскликнул пламенный Борменталь. — Если вы не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким образом.
— Ну, спасибо вам… «К берегам священным Нила!..» Спасибо. И я вас полюбил, как способного врача.
— Филипп Филиппович, я вам говорю… — страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: — Ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать!
— Абсолютно невозможно! — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.
— Ну вот, это же немыслимо, — шептал Борменталь, — в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.
Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:
— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, — и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
— Какой там черт… Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.
— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси… «От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей…» Вот, черт ее возьми!
— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукиного сына… Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!
— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.
— Да почему?!
— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения?
— Где уж…
— Ну вот-с. А бросить коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите… Я — московский студент, а не Шариков! — Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.
— Филипп Филиппович. Эх!.. — горестно воскликнул Борменталь, — значит, что же? Терпеть? Вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?
Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:
— Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?
— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.
— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.
— А я полагаю, что вы — первый, и не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил его Борменталь.
— Ну. ладно, пусть будет так. Ну, так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня. Скажите, Преображенский сказал. Финита! Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном. — Клим! — повторил он. — Вот что, Борменталь, вы — первый ученик моей школы и, кроме этого, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу, по секрету, конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое. — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, — здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, — будьте спокойны-с! Если бы кто-нибудь. — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил червонцев пять… «От Севильи до Гренады…» Черт меня возьми… Ведь я пять лет сидел, выковыривая придатки из мозгов… Вы знаете, какую я работу проделал, уму непостижимо. И вот теперь спрашивается, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают!
— Исключительное что-то…
— Совершенно С вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу! На. получай Шарикова и ешь его с кашей!
— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели, какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящее, но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно!.. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и, в эволюционном порядке каждый год упорно выделяя из массы всякой мрази, создаст десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, черти бы его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош… Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно, ну, ладно. Физиологи будут в восторге… Москва беснуется… Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.
— Исключительный прохвост.
— Но кто он? Клим! Клим! — крикнул профессор. — Клим Чугункин! (Борменталь открыл рот.) Вот что-с: две судимости, алкоголизм, — «все поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел), хам и свинья… Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! «От Севильи до Гренады…» — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое! Это в миниатюре сам мозг! И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям! Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался! Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый…
— Вы — великий ученый, вот что, — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.
— Я хотел проделать маленький опыт, после того как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что ж получилось. боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи… Доктор, передо мной тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся…
Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:
— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам, на свой риск, покормлю его мышьяком. Черт с ним, что и папа — судебный следователь. Ведь, в конце концов, это ваше собственное экспериментальное существо.
Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:
— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне шестьдесят лет,
я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.
— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!
— Ага? Теперь поняли. А я понял через день после операции. Ну, так вот. Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!
— Еще бы, одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем!
— О нет, о нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога, не клевещите на пса. Коты — это временно… Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.
— А почему же теперь?..
— Иван Арнольдович, это элементарно, что вы, на самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которое существует в природе.
До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами и твердо молвил:
— Кончено. Я его убью.
— Запрещаю это, — категорически ответил Филипп Филиппович.
— Да помилуйте…
Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец:
— Погодите-ка… Мне шаги послышались.
Оба прислушались, но в квартире было тихо.
— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».
— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери.
Шаги послышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.
В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это что-то, упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.
Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:
— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.
Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась.
— Дарья Петровна, извините, ради бога! — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.
Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему в глаза, ужаснулся.
— Что вы, доктор! Я запрещаю…
Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка.
Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.
— Вы не имеете права биться. — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.
— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.
Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.
— Ну, ладно, — прошипел Борменталь. — подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится.
Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.
Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:
— Ну-ну…
IX
Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:
— Воображаю, что будет твориться на улице… Воображаю. «От Севильи до Гренады…» боже мой…
— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.
В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец Полиграф не далее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме, якобы на покупку учебников в кооперативе, семь рублей.
Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.
Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на рассвете, в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой из буфета, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят.
— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками.
Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день, врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.
И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович оказался в передней. И профессор, и доктор вышли его встречать. Полиграф вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Преображенский и Борменталь, точно по команде, скрестили руки на груди и стали у притолоки, ожидая первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было — смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.
— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.
Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:
— Бумагу дайте.
Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе М. К. X.»
[62].
— Так, — тяжело сказал Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь…
— Ну да, Швондер, — ответил Шариков.
— Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
Шариков понюхал куртку озабоченно.
— Ну, что же, пахнет… известно. По специальности. Вчера котов душили, душили.
Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.
— Караул, — пискнул Шариков, бледнея.
— Доктор?!
— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!
Те появились в передней.
— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня…
— Ну хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.
— Доктор, умоляю вас!
Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.
— …извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида…
— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.
— Прокофьевна… — говорил, перехватывая воздуху, охрипший Шариков.
— …что я позволил себе…
— …позволил…
— …себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения…
— …опьянения…
— Никогда больше не буду…
— Не бу…
— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задавите!
Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:
— Грузовик вас ждет?
— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.
— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?..
— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.
— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мной дело! Понятно?
— Понятно, — ответил Шариков.
Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически:
— Что ж вы делаете с этими… с убитыми котами?
— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.
Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя. Несмотря на то что Борменталь и Шариков спали в одной комнате-приемной. они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.
Дня через два в квартире появилась худенькая, с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.
Тот оторопел, остановился, прищурился и спросил:
— Позвольте узнать?..
— Я с ней расписываюсь, это наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приемной, у него своя квартира есть. — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.
Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее:
— Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет.
— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.
И тут моментально вынырнул, как из-под земли, решительный Борменталь.
— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а уж мы с вами побудем здесь.
— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от страху барышней и Филиппом Филипповичем.
— Нет, простите. — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.
Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.
— Лжет! — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так, с первым встречным, только из-за служебного положения… Детка, ведь это же безобразие… Вот что…
Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день… он угрожает, говорит, что он красный командир… со мной, говорит, будешь жить в роскошной квартире… каждый день ананасы… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…
— Ну, ну, ну, ну, психика добрая, «от Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть, вы еще так молоды…
— Неужели в этой самой подворотне?
— Берите деньги, когда дают, взаймы. — рявкал Филипп Филиппович.
Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь, по приглашению Филиппа Филипповича, ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.
— Подлец! — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.
— Отчего у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.
Шариков сыграл по банку.
— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.
Барышня встала и с громким плачем вышла.
— Перестаньте! — крикнул ей вслед Филипп Филиппович. — Погодите! Колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.
Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.
— Ну, ладно. — вдруг злобно сказал он. — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов!
— Не бойтесь его! — крикнул вслед Борменталь. — Я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком об шкаф.
— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия!! — заревел он вдруг и стал дик и страшен.
— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.
— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы… узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю! Берегитесь, Шариков, говорю русским языком!
Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.
— У самих револьверы найдутся… — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.
— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.
Ночь и половина следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уезжал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский, в совершенно неурочный час, принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками.
— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста.
— Мерси. Нет, профессор. — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен. Гм… Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович…
Питая большое уважение… Гм. Предупредить… Явная ерунда. Просто он — прохвост…
Пациент полез в портфель и вынул бумагу.
— Хорошо, что мне непосредственно доложили…
Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду:
«…а также угрожал убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовым, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома
Швондер, секретарь
Пеструхин».
— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. — Или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?
— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я… — И тут он стал надуваться, как индейский петух.
— Ну, извините, извините, голубчик, — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть.
— Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович!
— Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал…
— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было б взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают.
Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто более поседел за последнее время.
* * *
Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дула на лице Борменталя, а затем и Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.
Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:
— Сейчас заберете вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры.
— Как это так? — искренне удивился Шариков.
— Вон из квартиры сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Поли-графовича, очевидно, гибель уже караулила его и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:
— Да что такое, в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть!
— Убирайтесь из квартиры, — задушенно шепнул Филипп Филиппович.
Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой, по адресу опасного Борменталя, из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, и через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его белой маленькой подушкой.
Через несколько минут доктор Борменталь, не со своим лицом, прошел на парадный ход и рядом с кнопкой тонка наклеил записку:
«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».
Блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:
— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.
— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.
— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты.
— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными.
Борменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.
Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом — мрак.
Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора… Проверить это трудно. Правда, и Зина, когда уже все кончилось. болтала, что в кабинете, у камина, после того как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну все, вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что… Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет…
За одно можно ручаться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.
Эпилог
Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховой переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью:
— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.
Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народа. Двое в милицейской форме, один в черном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстуха.
Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства. предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.
— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском. Затем он замялся и заговорил: — Очень неприятно… У нас есть ордер на обыск в нашей квартире и… — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил: —…и арест, в зависимости от результатов.
Филипп Филиппович прищурился и спросил:
— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?
Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля:
— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки М. К. X. Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.
— Ничего не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса… которого я оперировал?
— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.
— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович. — Это еще не значит быть человеком! Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.
— Профессор, — очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, — тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.
— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.
Доктор Борменталь, криво
улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес, с багровым шрамом на лбу, вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.
Второй милицейский вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.
Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:
— Как же, позвольте?.. Он же служил в очистке…
— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и обратился к первому милицейскому: — Это он?
— Он, — беззвучно ответил милицейский, — форменно он.
— Он самый, — послышался голос Федора. — только, сволочь, опять оброс.
— Он же говорил?.. Кхе… Кхе…
— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами:
— Наука еще не знает способа обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм!
— Неприличными словами не выражаться! — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.
Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать набок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее всего были слышны три фразы:
Филиппа Филипповича: «Валерьянки! Это обморок».
Доктора Борменталя: «Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского!»
И Швондера: «Прошу занести эти слова в протокол!»
* * *
Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее существо, важный песий благотворитель, сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.
«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка. Царство ей Небесное, старушке. Утвердился. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».
В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.
Седой же волшебник сидел и напевал:
— «К берегам священным Нила…»
Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то добивался в них, резал, рассматривал, щурился и пел:
— «К берегам священным Нила…»
Январь — март 1925 года, Москва
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Пьеса в трех актах

Текст пьесы «Иван Васильевич» публикуется по машинописному списку ЦГАЛИ. Это текст первой редакции, утвержденной к печати в 1940 году, но не изданной. В 1965 году была опубликована вторая редакция, включавшая переделки, вынужденность которых была отмечена автором («приделанный конец»).
_____
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, киноактриса.
УЛЬЯНА АНДРЕЕВНА, жена управдома Бунши.
ЦАРИЦА.
ТИМОФЕЕВ, изобретатель.
МИЛОСЛАВСКИЙ ЖОРЖ.
БУНША-КОРЕЦКИЙ, управдом.
ШПАК АНТОН СЕМЕНОВИЧ.
ИОАНН ГРОЗНЫЙ,
ЯКИН, кинорежиссер.
Дьяк.
Шведский посол.
Патриарх.
Опричники.
Стольники.
Гусляры.
Милиция.
АКТ ПЕРВЫЙ
Московская квартира. Комната Тимофеева. рядом — комната Шпака, запертая на замок. Кроме того, передняя, в которой радиорупор. В комнате Тимофеева беспорядок. Ширмы. Небольших размеров аппарат, над которым работает Тимофеев. Волосы у Тимофеева всклокоченные, глаза от бессонницы красные. Он озабочен.
Тимофеев(нажимает кнопку аппарата. Слышен приятный певучий
звук). Опять звук той же высоты… Но света нет! Почему нет света? Тьфу ты, черт! Ничего не понимаю. Проверим.
(Делает вычисления.) А два, а три. угол между направлениями положительных осей… косинус… косинус… Верно! Не понимаю.
В радиорупоре в передней внезапно возникает радостный голос: «Слушайте! Слушайте! Начинаем нашу утреннюю лекцию свиновода…»
Будь проклят этот Бунша со своим радио! Это бедствие в квартире!
Выбегает в переднюю, выключает радио. Рупор, крякнув, умолкает. Тимофеев возвращается к аппарату.
Попробуем еще раз.
Жмет кнопки. Свет в комнате начинает угасать.
Ага! Ага! Но звука нет! Еще раз…
Комната Тимофеева погружается в полную тьму. Парадная дверь открывается, и входит Зинаида Михайловна.
Зинаида(в передней, прислушивается к певучему звуку). Дома. Я начинаю серьезно бояться, что он сойдет с ума с этим аппаратом. Бедняга!.. А тут еще его ждет такой удар… Три раза я разводилась… ну да, три… Зузина я не считаю… Но никогда еще я не испытывала такого волнения. Воображаю, что будет сейчас! Только бы не скандал! Они так утомляют, эти скандалы…
(Пудрится.) Ну, вперед! Лучше сразу развязать гордиев узел…
(Стучит в дверь.) Кока, открой!
Тимофеев(в темноте). А, черт возьми… Кто там еще?
Зинаида. Это я. Кока.
Комната Тимофеева освещается. Тимофеев открывает дверь.
Кока, ты так и не ложился? Кока, твой аппарат тебя погубит. Ведь нельзя же так! И ты меня прости. Кока, мои знакомые утверждают, что это просто безумная идея.
Пауза. Тимофеев занят вычислениями.
Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие… Нет, не решаюсь… У меня сегодня в кафе свистнули перчатки. Так курьезно! Я их положила на столик и… я полюбила другого. Кока… Нет, не могу… Я подозреваю, что это с соседнего столика… Ты понимаешь меня?
Тимофеев. Нет… Какой столик?
Зинаида. Ах, боже мой, ты совсем отупел с этой машиной!
Тимофеев. Ну, перчатки… Что перчатки?
Зинаида. Да не перчатки, а я полюбила другого. Свершилось!
Тимофеев мутно смотрит на Зинаиду.
Только не возражай мне… и не нужно сцен. Почему люди должны расстаться непременно с драмой? Ведь согласись, Кока, что это необязательно. Это настоящее чувство, а все остальное в моей жизни было заблуждением… Ты спрашиваешь, кто он? И конечно, думаешь, что это Молчановский? Нет, приготовься: он кинорежиссер, очень талантлив… Не будем больше играть в прятки, это Якин.
Тимофеев. Так…
Пауза.
Зинаида. Однако это странно! Это в первый раз в жизни со мной. Ему сообщают, что жена ему изменила, ибо я действительно тебе изменила, а он — так! Даже как-то невежливо!
Тимофеев. Он… этого… как его… блондин высокий?
Зинаида. Ну уж это безобразие! До такой степени не интересоваться женой! Блондин — Молчановский, запомни это! А Якин, он очень талантлив!
Пауза.
Ты спрашиваешь, где мы будем жить? В пять часов я уезжаю с ним в Гагры, выбирать место для съемки, а когда мы вернемся, ему должны дать квартиру в новом доме, если, конечно, он не врет…
Тимофеев (мутно). Наверно, врет.
Зинаида. Как это глупо, из ревности оскорблять человека! Не может же он каждую минуту врать.
Пауза.
Я долго размышляла во время последних бессонных ночей и пришла к заключению, что мы не подходим друг к другу. Я вся в кино… в искусстве, а ты с этим аппаратом… Однако я все-таки поражаюсь твоему спокойствию! И даже как-то тянет устроить тебе сцену. Ну что же…
(Идет за ширму и выносит чемодан.) Я уже уложилась, чтобы не терзать тебя. Дай мне, пожалуйста, денег на дорогу, я тебе верну с Кавказа.
Тимофеев. Вот что… сорок… сто пятьдесят три рубля — больше нет.
Зинаида. А ты посмотри в кармане пиджака.
Тимофеев(посмотрев). В пиджаке нет.
Зинаида. Ну, поцелуй меня. Прощай, Кока. Все-таки как-то грустно… Ведь мы прожили с тобой целых одиннадцать месяцев!.. Поражаюсь, решительно поражаюсь!
Тимофеев целует Зинаиду.
Но ты пока не выписывай меня все-таки. Мало ли что может случиться. Впрочем, ты такой подлости никогда не сделаешь.
(Выходит в переднюю, закрывает за собой парадную дверь.)
Тимофеев(тупо смотрит ей вслед). Один… Как же я так женился? На ком? Зачем? Что это за женщина?
(У аппарата.) Один… А впрочем, я ее не осуждаю. Действительно, как можно жить со мною? Ну что же, один так один! Никто не мешает зато… Пятнадцать… шестнадцать…
Певучий звук. В передней звонок. Потом назойливый звонок.
Ну как можно работать в таких условиях!..
Выходит в переднюю, открывает парадную дверь.
Входит Ульяна Андреевна.
Ульяна. Здравствуйте, товарищ Тимофеев. Иван Васильевич к вам не заходил?
Тимофеев. Нет.
Ульяна. Передайте Зинаиде Михайловне, что Марья Степановна говорила: Анне Ивановне маникюрша заграничную материю предлагает, так если Зинаида…
Тимофеев. Я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, потому что она уехала.
Ульяна. Куда уехала?
Тимофеев. С любовником на Кавказ, а потом они будут жить в новом доме, если он не врет, конечно…
Ульяна. Как с любовником? Вот так так! И вы спокойно об этом говорите! Оригинальный вы человек!
Тимофеев. Ульяна Андреевна, вы мне мешаете.
Ульяна. Ах. простите! Однако у вас характер, товарищ Тимофеев! Будь я на месте Зинаиды Михайловны, я бы тоже уехала.
Тимофеев. Если бы вы были на месте Зинаиды Михайловны. я бы повесился.
Ульяна. Вы не смеете под носом у дамы дверь захлопывать, грубиян!
Тимофеев(возвращаясь в свою комнату). Этот дом населен чертовыми куклами!
Нажимает кнопки в аппарате, и комната его исчезает в полной темноте. Парадная дверь тихонько открывается, и в ней появляется Милославский, дурно одетый, с артистическим бритым лицом человек в перчатках. Прислушивается у двери Тимофеева.
Милославский. Весь мир на службе, а этот дома. Патефон починяет.
(У дверей Шпака читает надпись.) Шпак Антон Семенович». Ну что же, зайдем к Шпаку… Какой замок курьезный… Наверно, сидит в учреждении и думает: ах. какой чудный замок я повесил на свою дверь! Но на самом деле замок служит только для одной цели, показать, что хозяина дома нет…
(Вынимает отмычки. открывает замок, входит в комнату Шпака, закрывает за собою дверь.) Э, какая прекрасная обстановка!.. Это я удачно зашел… Э, да у него и телефон отдельный. Большое удобство! И какой аккуратный — даже свой служебный номер записал. А раз записал — первым долгом нужно ему позвонить, чтобы не было никаких недоразумений.
(По телефону.) Отдел междугородних перевозок. Мерси. Добавочный пятьсот один. Мерси. Товарища Шпака. Мерси. Товарищ Шпак? Бонжур. Товарищ Шпак, вы до самого конца сегодня на службе будете?.. Говорит одна артистка… Нет, не знакома, но безумно хочу познакомиться. Так вы до четырех будете? Я вам еще позвоню, я очень настойчивая… Нет, блондинка… Контральто… Ну, пока.
(Кладет трубку.) Страшно удивился. Ну-с, начнем.
(Взламывает шкаф, вынимает костюм.(Шевиот… О!..
(Снимает свой, завязывает в газету, надевает костюм Шпака.) Как на меня шит…
(Взламывает письменный стол, берет часы с цепочкой, кладет в карман портсигар.) За три года, что я не был в Москве, как они все вещами пообзавелись! Прекрасный патефон… и шляпа… Мой номер. Приятный день!.. Фу, устал!
(Взламывает буфет, достает водку, закуску, выпивает.) На чем это он водку настаивает? Прелестная водка! Нет, это не полынь… А уютно у него в комнате… Он и почитать любит…
(Берет книгу, читает) «Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой… Ковшами золотыми столов блистает ряд, разгульные за ними опричники сидят…» Славное стихотворение! Красивое стихотворение!.. «Да здравствуют тиуны, опричники мои! Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи…» Мне нравится это стихотворение.
(По телефону.) Отдел междугородних перевозок. Мерси. Добавочный пятьсот один. Мерси. Товарища Шпака. Мерси. Товарищ Шпак? Это я опять. Скажите, на чем вы водку настаиваете?.. Моя фамилия таинственная… Из Большого театра… А какой вам сюрприз сегодня выйдет!.. «Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой…»
(Кладет трубку.) Страшно удивляется.
(Выпивает) «Ковшами золотыми столов блистает ряд…»
Комната Шпака погружается в тьму, а в комнату Тимофеева набирается свет. Аппарат теперь чаще дает певучие звуки, и время от времени вокруг аппарата меняется освещение.
Тимофеев. Светится! Светится! Это иное дело…
Парадная дверь открывается, и входит Бунша. Первым долгом обращает свое внимание на радиоаппарат.
Бунша. Неимоверные усилия я затрачиваю на то, чтобы вносить культуру в наш дом. Я его радиофицировал, но они упорно не пользуются радио.
(Тычет вилкой в штепсель, но аппарат молчит.) Антракт.
(Стучит в дверь Тимофеева.)
Тимофеев. А, кто там, войдите… чтоб вам провалиться!..
Бунша входит.
Этого не хватало!..
Бунша. Это я, Николай Иванович.
Тимофеев. Я вижу, Иван Васильевич. Удивляюсь я вам, Иван Васильевич! В ваши годы вам бы дома сидеть, внуков нянчить, а вы целый день бродите по дому с засаленной книгой. Я занят, Иван Васильевич, простите.
Бунша. Это домовая книга. У меня нет внуков. А если бы они и были, то я отдал бы их в пионеры, а не дома бы нянчил. И если я перестану ходить, то произойдет ужас.
Тимофеев. Государство рухнет?
Бунша. Рухнет, если за квартиру не будут платить. У нас в доме думают, что можно не платить, а на самом деле нельзя. Вообще наш дом удивительный. Я по двору прохожу и содрогаюсь. Все окна раскрыты, все на подоконниках лежат и рассказывают про советскую жизнь такие вещи, которые рассказывать неудобно.
Тимофеев. Ей-богу, я ничего не понимаю, вам лечиться надо, князь.
Бунша. Николай Иванович, вы не называйте меня князем, я уж доказал путем представления документов, что за год до моего рождения мой папа уехал за границу, и, таким образом, очевидно, что я сын нашего кучера Пантелея. Я и похож на Пантелея.
Тимофеев. Ну, если вы сын кучера, тем лучше. Но у меня нет денег.
Бунша. Заклинаю вас. заплатите за квартиру.
Тимофеев. Я вам говорю, нет сейчас денег… Меня жена бросила, а вы меня истязаете.
Бунша. Позвольте, что же вы мне не заявили?
Тимофеев. А вам-то что за дело?
Бунша. Такое дело, что я должен ее немедленно выписать.
Тимофеев. Она просила не выписывать.
Бунша. Все равно, я должен отметить в книге это событие.
(Отмечает в книге.) Я присяду.
Тимофеев. Да незачем вам присаживаться. Как вам объяснить, что меня нельзя тревожить во время этой работы?
Бунша. Нет, вы объясните. Я передовой человек. Вчера была лекция для управдомов, и я колоссальную пользу получил. Читали про венерические болезни. Вообще наша жизнь очень интересная и полезная, но у нас в доме этого не понимают.
Тимофеев. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!
Бунша. Наш дом вообще очень странный. Шпак все время красное дерево покупает, но за квартиру платит туго. А вы неизвестную машину сделали.
Тимофеев. Вот мученье, честное слово!
Бунша. Я умоляю вас. Николай Иванович, вы насчет своей машины заявите. Ее зарегистрировать надо, а то во флигеле дамы уже говорят, что вы такой аппарат строите, чтобы на нем из-под советской власти улететь. А это, знаете… и вы погибнете, и я с вами за компанию.
Тимофеев. Какая же сволочь эту ерунду говорила?
Бунша. Я извиняюсь, это моя жена Ульяна Андреевна говорила.
Тимофеев. Виноват! Почему эти ведьмы болтают чепуху? Я знаю, что не дамы, это вы виноваты. Вы, старый зуда, слоняетесь по всему дому, подглядываете, ябедничаете и, главное, врете!
Бунша. После этих кровных оскорблений я покидаю квартиру и направляюсь в милицию. Я — лицо, занимающее ответственнейший пост управдома, и обязан наблюдать.
Тимофеев. Стойте, черт вас возьми!.. То есть, ради бога, повремените… Извините меня, я погорячился. Ну хорошо, идите сюда. Просто-напросто я делаю опыты над проникновением во время… Да. впрочем, как я вам объясню, что такое время? Ведь вы же не знаете, что такое четырехмерное пространство, движение… и вообще… словом, поймите, это не взорвется, невредной… вообще, никого не касается! Ну, как бы вам попроще… я, например, хочу пронизать сейчас пространство и пойти в прошлое…
Бунша. Пронизать пространство? Такой опыт можно сделать только с разрешения милиции. У меня, как у управдома, чувство тревоги от таких опытов.
Тимофеев. Ах ты, боже мой, боже мой!
(Пауза.) Ах!.. Ведь я же… Нет, я кретин! Ведь
я же… ведь я же работал при запертом ключе! О, рассеянный болван! Стойте! Смотрите! Смотрите, что сейчас произойдет… Попробуем при близком расстоянии… маленький угол…
(Поворачивает ключ, нажимает кнопку.) Смотрите… мы пойдем сейчас через пространство во время… назад…
(Нажимает кнопку.)
Звон. Тьма. Потом свет. Стенка между комнатами исчезла, и в комнате Шпака сидит выпивающий Милославский с книжкой в руках.
(Исступленно.) Вы видели?
Милославский. А чтоб тебя черт… Что это такое?!
Бунша. Николай Иванович, куда стенка девалась?!
Тимофеев. Удача! Удача! Я вне себя! Вот оно! Вот оно!..
Бунша. Неизвестный гражданин в комнате Шпака!
Милославский. Я извиняюсь, в чем дело? Что случилось?
(Забирает патефон, свой узел и выходит в
комнату Тимофеева.) Тут сейчас стенка была?!
Бунша. Николай Иванович, вы будете отвечать за стенку по закону. Вот вы какую машину сделали. Полквартиры исчезло!
Тимофеев. Да ну вас к черту с вашей стенкой! Ничего ей не сделается!..
Жмет кнопку аппарата. Тьма. Свет. Стенка становится на место, закрывает комнату Шпака.
Милославский. На двух каналах был, видел чудеса техники, но такого никогда!
Тимофеев. О боже, у меня кружится голова!.. Нашел! Нашел! О человечество, что ждет тебя!..
Бунша(Милославскому). Я извиняюсь, вы кто же такой будете?
Милославский. Кто я такой буду, вы говорите? Я дожидаюсь моего друга Шпака.
Бунша. А как же вы дожидаетесь, когда дверь снаружи на замок закрыта?
Милославский. Как вы говорите? Замок? Ах да… он за Известиями» пошел на угол, купить, а меня… это… запер…
Тимофеев. Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы!
(Милославскому.) Понимаете, я пронзил время! Я добился своего…
Милославский. Скажите, это, стало быть, любую стенку можно так убрать? Вашему изобретению цены нет, гражданин интеллигент! Поздравляю вас!
(Бунше.) А что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут.
Бунша. Меня терзает смутное сомнение. На вас такой же костюм, как у Шпака.
Милославский. Что вы говорите? Костюм? А разве у Шпака у одного костюм в полоску в Москве? Мы с ним друзья и всегда в одном торгсине покупаем материю. А если не верите, я вам даже скажу: по восемь рублей метр. Удовлетворяет вас это?
Бунша. И шляпа такая же.
Милославский. И шляпа.
Бунша. А ваша фамилия как?
Милославский. Я артист государственных больших и камерных театров. А на что вам моя фамилия? Она слишком известная, чтобы я вам ее называл.
Бунша. И цепочка такая же, как у Шпака.
Милославский. Э, какой вы назойливый! Шляпа, цепочка… это противно!.. Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильич Грозный…
Тимофеев. Оставьте вы, в самом деле, гражданина в покое. (Милославскому.) Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака, я открою вам стенку?
Милославский. Ни в каком случае. Я на него обижен. В самом деле, пошел за «Известиями» и пропал. Может быть, он два часа будет ходить. А мне некогда, я в торгсин спешу, я ежедневно в торгсине бываю. Я лучше на этот опыт посмотрю, он мне очень понравился.
Тимофеев(жмет ему руку). Я очень рад! Вы были первый, кто увидели… Вы, так сказать, первый свидетель.
Милославский. Никогда еще свидетелем не приходилось быть! Очень, очень приятно…
(Бунше.) Вот смотрите! Вы на мне дыру протрете!
Тимофеев. Это наш управдом.
Милославский. Ах, тогда понятно!.. Шляпа, цепочка… ах. какая противная должность! Сколько я от них неприятностей имел, если бы вы знали, гражданин ученый.
Тимофеев. Не обращайте на него внимания.
Милославский. И то правда.
Тимофеев. Вы понимаете, гражданин артист…
Милославский. Как же не понять? Скажите, и в магазине можно такое — стенку приподнять? Ах, какой увлекательный опыт!
Бунша. Вы с патефоном пришли к Шпаку?
Милославский. Он меня доконает! Это что же такое, а?
Тимофеев(Бунше). Вы перестанете приставать или нет?
(Милославскому.) Поймите, дело не в стенке, это только первое движение! Дело в том. что, минуя все эти стенки, я могу проникнуть во время! Вы понимаете, я могу двинуться на двести, триста лет назад или вперед! Да что на триста!.. Нет. такого изобретения не знал мир!.. Я волнуюсь!.. Меня бросила жена сегодня, но, понимаете!.. Ах…
Милославский. Гражданин профессор, не расстраивайтесь, за вас выйдет любая! Вы плюньте, что она вас бросила!
Бунша. Я уж ее выписал.
Милославский(Бунше). Тьфу на вас!.. Без отдыха пирует Иван Васильич Грозный… Ах. какое изобретение!
(Стукает по стенке.) Поднял — вошел, вышел — закрыл! Ах ты, боже мой!..
Тимофеев. У меня дрожат руки… я не могу терпеть. Хотите, проникнем в прошлое… Хотите, увидим древнюю Москву?.. Неужели вам не страшно?.. Вы не волнуетесь?
Бунша. Николай Иванович! Одумайтесь, прежде чем такие опыты в жакте делать!
Милославский. Если ты еще раз вмешаешься в опыт гражданина академика, я тебя! Что это за наказание!
(Тимофееву.) Валяйте!
Тимофеев жмет кнопки у аппарата. Звон. Тьма. Внезапно возникает палата Иоанна Грозного. Иоанн, с посохом, в царском одеянии, сидит в кресле, а перед Иоанном, примостившись у стола, пишет дьяк. Слышится далекое церковное пение, колокольный мягкий звон.
Иоанн(диктует), «…и руководителю…»
Дьяк(пишет), «…и руководителю…»
Иоанн, «…к пренебесному селению, преподобному игумену Козьме…»
Дьяк. «…Козьме…»
Иоанн, «…царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси…»
Дьяк, «…всея Руси…»
Иоанн, «…челом бьет».
Тимофеев. О боже! Смотрите! Да ведь это Иоанн!
Милославский. Елки-палки!..
Иоанн и дьяк поворачивают головы, услышав голоса. Дьяк вскрикивает и убегает из палаты. Иоанн вскакивает, крестится.
Иоанн. Сгинь! Пропади! Увы мне, грешному!.. Горе мне, окаянному! Скверному душегубцу, ох!.. Сгинь!
Ища выхода, Иоанн в исступлении бросается в комнату Тимофеева, крестит стены, мечется, бежит в переднюю, скрывается.
Тимофеев. Это Иоанн Грозный! Куда вы?! Стойте!.. Боже мой, его увидят!.. Держите его!
(Убегает вслед за Иоанном.)
Бунша бросается к телефону.
Милославский. Ты куда звонить собрался?!
Бунша. В милицию!
Милославский. Положь трубку, я тебе руки пообрываю! Не может жить без милиции ни одной секунды!
В палату врывается опричник.
Опричник. Где демоны? Гой да! Бей их!
(Бунше.) Где царь?
Бунша. Не знаю! Караул!..
Милославский. Закрой машину! Машину закрой!
Опричник(крестясь). Ой, демоны!..
(Бросает бердыш, исчезает из палаты.)
Милославский. Закрывай! Ключ поверни! Ключ! Вот так машинка!..
Бунша жмет кнопки, вытаскивает ключ. В то же мгновенье — звон. Занавеска на окне вздувается, понесло бумаги. Буншу потащило в палату. он роняет очки.
Бунша. Караул!.. Куда меня тащит?!
Милославский. Куда же ты двинул, черт, машину?!
Понесло Милославского. Тьма. Свет. Стенка на месте. В комнате нет ни Бунши, ни Милославского. Остался только патефон и сверток и очки. Появляется Тимофеев.
Тимофеев. Он на чердаке заперся! Помогите мне его оттуда извлечь!.. Боже, где же они? А?
(Бросается к аппарату.) Они двинули стрелку в обратную сторону!! Их унесло?.. Что же это будет?.. Бунша! Бунша! Иван Васильевич!
Дальний крик Иоанна.
Этот на чердаке орет!.. Но ключ, где же ключ?.. Боже, они ключ вытащили! Что делать, позвольте!.. Что делать-то, а?.. Нету ключа… Ну да, вынули ключ… Иван Васильевич! Зачем же вы ключ-то вынули?! Впрочем, кричать бесполезно. Они ключ захватили с собою… Вернуть того в комнату?..
(Убегает.)
Пауза. Открывается парадная дверь, и входит Шпак.
Шпак. Какая-то тревога у меня с тех пор, как эта блондинка из Большого театра позвонила… Не мог досидеть на службе…
(Трогает замок на своей двери.) Батюшки!..
Комната Шпака освещается. Шпак входит, бросается к письменному столу.
Батюшки!
(Бросается к шкафу.) Батюшки!!
(По телефону.) Милицию! Милиция?!
Голос в радио: — «Итак, товарищи, продолжаем нашу лекцию о свиньях …»
В Банном переулке, десять, — грандиозная кража, товарищ!.. Кого обокрали? Конечно, меня. Шпак! Шпак моя фамилия!.. Блондинка обокрала!
Голос в радио: «Плодовитостью, дорогие товарищи, свинья уступает только кролику, да и то с трудом. На десятом году две свиньи могут дать один миллион свиней!..»
Товарищ начальник… Это не я про свиней говорю! Не слушайте про свиней! Это радио! Не крали свиней! Пальто и костюмы!.. Что же вы сердитесь?
Голос в радио: «Древние римляне за плодовитость обожали свиней…»
Слушаете? Ну, я сам сейчас добегу до вас, сам! Батюшки мои, батюшки!.. (Рыдая,
бросается из комнаты и
скрывается за парадной дверью.)
Голос в радио, уже никем не сдерживаемый, разливается волной: Многие считают свинью грубой, глупой и неопрятной. Ах. как это несправедливо, товарищи! Не следует ли отрицательные свиные стороны отнести за счет обхождения с этим зверем? Относитесь к свинье хорошо, и вы получите возможность ее дрессировать…* Другой голос врывается в первый: «А теперь оркестр гармоний исполнит популярный танец Анитры…»
Музыка.
Занавес
АКТ ВТОРОЙ
Комната Тимофеева. В ней — Иоанн и Тимофеев. Оба в волнении.
Иоанн. О Боже мой, Господи Вседержитель!
Тимофеев. Тсс… тише, тише! Только не кричите, умоляю! Мы наживем страшную беду и, во всяком случае, скандал. Я и сам схожу с ума, но я стараюсь держать себя в руках.
Иоанн. Ох, тяжко мне! Молви еще раз, ты не демон?
Тимофеев. Ах, помилуйте, я же на чердаке вам объяснил, что я не демон.
Иоанн. Ой, не лги! Царю лжешь! Не человечьим хотением, но Божиим соизволением царь есмь!
Тимофеев. Очень хорошо. Я понимаю, что вы царь, но на время прошу вас забыть об этом. Я вас буду называть не царем, а просто Иваном Васильевичем. Поверьте, для вашей же пользы.
Иоанн. Увы мне, Ивану Васильевичу, увы, увы!..
Тимофеев. Что же делать, я понимаю ваше отчаяние. Действительно, происшествие удручающее. Но кто же мог ожидать такой катастрофы? Ведь они ключ унесли с собой! Я не могу вас отправить обратно сейчас!.. И вы понимаете, что они оба сейчас там, у вас! Что с ними будет?
Иоанн. Пес с ними! Им головы отрубят, и всего делов!
Тимофеев. Как отрубят головы?! Боже, я погубил двух людей! Это немыслимо! Это чудовищно!
Пауза.
Вы водку пьете?
Иоанн. О, горе мне!.. Анисовую.
Тимофеев. Нет анисовой у меня. Выпейте горного дубнячку, вы подкрепитесь и придете в себя. Я тоже.
(Вынимает водку, закуску.) Пейте.
Иоанн. Отведай ты из моего кубка.
Тимофеев. Зачем это? Ах да… Вы полагаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век гораздо легче отравиться, нежели водкой. Пейте смело.
Пьют.
Иоанн. Как твое имя, кудесник?
Тимофеев. Меня зовут Тимофеев.
Иоанн. Князь?
Тимофеев. Какой там князь! У нас один князь на всю Москву, и тот утверждает, что он сын кучера.
Иоанн. Ах, сволочь! Пытать его, вот он и признается!
Тимофеев. Не надейтесь. Сколько его ни пытайте, он не признается, поверьте мне. Ваше здоровье!.. Нет, как подумаю, что они там, с ума схожу!.. Пейте. Закусите ветчинкой.
Иоанн. День-то постный…
Тимофеев. Ну, кильками.
Иоанн. Ключница водку делала?
Тимофеев. Ну, пускай будет ключница… Долго объяснять…
Иоанн. Так это, стало быть, такую ты машину сделал? Ох-хо-хо!.. У меня тоже один был такой… крылья сделал…
[63]
Тимофеев. Нуте-с?..
Иоанн. Я его посадил на бочку с порохом, пущай полетает!..
Тимофеев. И правильно!
Иоанн. Ты, стало быть, тут живешь? Хоромы-то тесные.
Тимофеев. Да уж, хоромы неважные.
Иоанн. А боярыня твоя где?
Тимофеев. Моя боярыня со своим любовником Якиным на Кавказ сегодня убежала.
Иоанн. Врешь!
Тимофеев. Ей-богу!
Иоанн. Ловят? Как поймают, Якина на кол посадить. Это первое дело…
Тимофеев. Нет, зачем же? Нет… Они любят друг друга, ну и пусть будут счастливы.
Иоанн. И то правда. Ты добрый человек… Ах ты, боже! Ведь это я тут… а шведы, ведь они Кемь взяли! Боярин, ищи ключ! Отправляй меня назад!
Тимофеев. Понимаете, я сам бы сейчас побежал к слесарю, но дома ни копейки денег, все жене отдал.
Иоанн. Чего? Денег?
(Вынимает из кармана золотые монеты.)
Тимофеев. Золото? Спасены! Иван Васильевич, все в порядке! Я сейчас в торгсин, потом к слесарю, он сделает ключ, мы откроем аппарат.
Иоанн. Я с тобой пойду.
Тимофеев. По улице? О нет, Иван Васильевич, это невозможно. Вы останьтесь здесь и ничем не выдавайте себя. Я даже вас запру, и, если кто будет стучать, не открывайте. Да никто прийти не может. Спасибо Якину, что жену увез… Словом, ждите меня, сидите тихо.
Иоанн. О господи!..
Тимофеев. Через час я буду здесь. Сидите тихо!
Тимофеев, закрыв дверь своей комнаты, уходит. Иоанн один, рассматривает вещи в комнате. На улице послышался шум автомобиля. Иоанн осторожно выглядывает в окно, отскакивает. Пьет водку.
Иоанн(тихо напевает). Сделал я великие прегрешения… пособи мне, Господи… пособите, чудотворцы московские…
В дверь стучат. Иоанн вздрагивает, крестит дверь, стук прекращается.
Ульяна(за дверью). Товарищ Тимофеев, простите, что опять осмелилась беспокоить во время вашей семейной драмы… Что, Ивана Васильевича не было у вас? Его по всему дому ищут Товарищ Тимофеев, вы не имеете права отмалчиваться!.. Вы, товарищ Тимофеев, некультурный человек!
Иоанн крестит дверь, и голос Ульяны пропадает.
Иоанн. Что крест животворящий делает.
(Пьет водку.)
Пауза. Потом в двери поворачивается ключ. Иоанн крестит дверь, но это не помогает. Тогда Иоанн прячется за ширму. Дверь открывается и входит Зинаида. Бросает чемоданчик. Расстроена.
Зинаида. Какой подлец! Все разрушено! И я… зачем же я открыла все этому святому человеку?..
(Смотрит на стол.) Ну конечно, запил с горя!.. Да, запил… И патефон… откуда же патефон? Хороший патефон… Кока, тебя нет? Ничего не понимаю!.. Здесь оргия какая-то была… Он, наверно, за водкой пошел. С кем он пил?
(Разворачивает сверток.) Штаны! Ничего не понимаю!
(Заводит патефон.)
Иоанн за ширмой припадает к щелке.
И вот опять здесь… обманутая самым наглым образом.
Через некоторое время на парадном звонок. Зинаида выходит в переднюю, открывает дверь.
Входит Якин, молодой человек в берете, в штанах до колен и с бородой, растущей из-под подбородка.
Якин. Зина, это я.
Зинаида. Как? Это вы?! Вон!
(Уходит в комнату Тимофеева.)
Якин(у дверей). Зинаида Михайловна, вы одни? Откройте, прошу вас.
Зинаида. Я негодяям принципиально не открываю.
Якин. Зина! Я молю вас, Зина,
я вам сейчас все объясню, Зина, выслушайте меня.
Зинаида открывает дверь.
(Входя в комнату Тимофеева.) Зиночка, что случилось? Почему вы убежали? Я не понимаю…
Зинаида. Арнольд Савельевич, вы негодяй!
Якин. Боже, какие слова! Зиночка, это недоразумение, клянусь Пятой кинофабрикой!
Зинаида. Недоразумение!.. Он объяснит!.. Я бросаю мужа, этот святой человек теперь пьянствует, как черт знает что, я покидаю чудную жилплощадь, расстаюсь с человеком, который молился на меня, сдувал пылинки, гениального изобретателя!.. Еду к этому подлецу и…
Якин. Зина, какие слова!..
Зинаида. Вы еще не знаете настоящих слов! Я бы вам сказала!.. И за два часа до нашего отъезда я застаю у него неизвестную даму…
Якин. Зина!..
Зинаида …которую он нежно держит за руку!..
Якин. Зиночка, я проверял с нею сцену! Это моя профессиональная обязанность!
Зинаида. Хватать за локти? Нет, хватать за локти, вы ответьте!
(Дает Якину пощечину.)
Якин. Зинаида Михайловна! Товарищи, что это такое?!
Зинаида. Вон!
Якин. Зинаида, поймите, ведь это же эпизод! Она же курносая!
Зинаида. Как? Она будет сниматься!
Якин. Маленькая роль… Крохотный, малюсенький эпизодик! Я же не могу снимать картину без курносой! И потом, позвольте, вы меня ударили! Режиссера?
Зинаида. Снимайте курносых, безносых, каких хотите! С меня довольно! Я ухожу к Косому, в постановку «Бориса Годунова».
Якин. Косой халтурщик! Никакой постановки у него не будет!
Зинаида. Я извиняюсь, постановка утверждена! И я буду играть царицу! Я не интересуюсь больше вашими «Золотыми яблоками» в Гаграх!..
Якин. Да поймите же, что у него нет никого на роль Иоанна Грозного! Картину законсервируют, ко всем чертям, и тогда вы вспомните меня, Зинаида!
Зинаида. Нет Иоанна? Простите, я уже репетировала с ним.
Якин. Где вы репетировали?
Зинаида. Здесь же, у себя на квартире!.. И когда мы проходили то место, где Бориса объявляют царем, Косой, уж на что твердый человек, заплакал как ребенок!..
Якин. Репетировать за моей спиной? Это предательство, Зинаида! Кто играет Бориса, царя? Кто?
Иоанн(выходя из-за ширмы). Какого Бориса-царя? Бориску?!
Зинаида и Якин застывают.
А подойди-ка сюда, холоп!
Зинаида. Господи, что это такое?!
Якин. Как, вы действительно репетируете? Боже, какой типаж!
Зинаида. Кто это такой?!
Иоанн. Бориса на царство?.. Так он, лукавый, презлым заплатил царю за предобрейшее!.. Сам царствовати и всем владети!.. Повинен смерти!
Якин. Браво!
Зинаида. Боже мой… Якин, объясните мне… Якин, спрячьте меня!
Иоанн. Ну ладно! Потолкует Борис с палачом опосля.
(Якину.) Пошто ты боярыню обидел, смерд?
Якин. Замечательно! Поразительно! Невиданно!.. Я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой?! Позвольте представиться: Арнольд Якин. Двадцать тысяч, а завтра в девять часов утра Пятая фабрика подписывает с вами контракт. Ставить буду я. Как ваша фамилия?
Иоанн. Ах ты. бродяга! Смертный прыщ!
Якин. Браво!! Зинаида, как же вы скрыли от меня это?!
Иоанн бьет Якина жезлом.
Позвольте!! Что вы, спятили?.. Довольно!..
Иоанн. На колени, червь!
(Хватает Якина за бороду.)
Якин. Это переходит границы, это хулиганство!
Зинаида. Очевидно, я сошла с ума… Кто вы такой? Кто вы такой?
Иоанн. Князь Тимофеев, ко мне! Поймали обидчика, сукина сына Якина!
Якин. На помощь!! Граждане!.. Кто-нибудь…
Зинаида. Помогите! Кто он такой?! Разбойники! В квартире разбойник!..
В передней появляется Шпак, прислушивается к крикам.
Ах нет! Боже мой, я поняла! Это настоящий царь! Это Коке удался опыт!
(Иоанну.) Умоляю, отпустите его!
Иоанн(выхватив из-под кафтана нож, кричит Якину). Молись, щучий сын!
Шпак заглядывает в дверь.
Живота или смерти? Проси у боярыни!
Якин(хрипит). Живота…
Иоанн. Подымайся, гад!
Якин. Что же это такое, я вас спрашиваю?!
(Шпаку.) Гражданин, спасите от разбойника!
Шпак. Репетируете. Зинаида Михайловна?
Зинаида. Репе… репетируем…
Якин. Какая же это репе… Гражданин!..
Иоанн. Что?.. Целуй руку! Учили тебя, подлеца!
Якин. Руку? Я не жел… Сейчас, сейчас…
(Целует руку Иоанну.)
Зинаида(Иоанну). Умоляю вас, сядьте.
Иоанн садится.
Шпак. Натурально как вы играете! Какой царь типичный, на нашего Буншу похож. Только у того лицо глупее. Обокрали меня, Зинаида Михайловна!
(Заливается слезами.)
Якин пытается скрыться.
Иоанн. Куда?!
Якин. Я здесь, я здесь…
Зинаида(Шпаку). Погодите, я ничего не понимаю… как обокрали?
Шпак. Начисто, Зинаида Михайловна! Я извиняюсь, граждане, никто не встречал на лестнице блондинку из Большого театра? Она и обработала… Вот какой домик у нас, Зинаида Михайловна.
Иоанн. Убиваешься, добрый человек?
Шпак. Гражданин артист, как же не убиваться?..
Иоанн. Чего взяли-то у тебя?
Шпак. Патефон, портсигар, зажигалку, часы, коверкотовое пальто, костюм, шляпу… все, что нажил непосильными трудами, все погибло…
(Плачет.)
Иоанн. Ты чьих будешь?
Шпак. Я извиняюсь, чего это — «чьих», я не понимаю?
Иоанн. Чей холуй, говорю?
Зинаида. О боже, что сейчас будет!..
Шпак. Довольно странно!..
Иоанн(вынув монету). Бери, холуй, и славь царя и великого князя Ивана Васильевича!..
Зин айда. Не надо, что вы делаете!
Шпак. Извиняюсь, что это вы все — холуй да холуй! Какой я вам холуй? Что это за слово такое?
Зинаида. Он пошутил!
Шпак. За такие шутки в народный суд влететь можно. Да не нужна мне ваша монетка, она ненастоящая.
Иоанн. Ты что же, лукавый смерд, от царского подарка отказываешься?
Зинаида. Это он из роли, из роли…
Шпак. Эта роль ругательная, и я прошу ее ко мне не применять. До свиданья. Зинаида Михайловна, и не рад. что зашел. Где Иван Васильевич? Я хочу, чтобы он засвидетельствовал жуткую покражу в моей квартире…
(Уходит.)
Зинаида. Выслушайте меня, Арнольд, только, умоляю вас. спокойно. Это — настоящий Иоанн Грозный… Не моргайте глазами.
Якин. Ваш дом, Зинаида, сумасшедший!..
Зинаида. Нет. это Кокина работа. Я вам говорила про его машину… что он вызвать хочет не то прошлое, не то будущее. Это он вызвал из прошлого царя.
Якин. Бред!
Зинаида. Я сама близка к помешательству…
Якин(всмотревшись в Иоанна). Товарищи, что это такое?!
(Зинаиде.) Что? Что? Вы правду говорите?
Зинаида. Клянусь!
Якин. Позвольте! В наши дни, в Москве!.. Нет, это… Он же умер!
Иоанн. Кто умер?
Якин. Я… я не про вас это говорю… это другой, который умер… который… Доктора мне!.. Я, кажется, сошел с ума… Да ведь он же мог меня зарезать!
Иоанн. Подойди! Подойди и отвечай! Доколи же ты…
Якин. Аз есмь… умоляю, не хватайтесь за ножик!.. Сплю… Зинаида, звоните куда-нибудь, спасите меня!.. За что он взъелся на меня? Где ваш муж? Пусть уберет его!
Иоанн. Ты боярыню соблазнил?
Якин. Я… я… Житие мое…
Иоанн. Пес смердящий! Какое житие?.. Вместо святого поста и воздержания — блуд и пьянство губительное со обещанными диаволам чашами!.. О, зол муж! Дьявол научиши тя долгому спанию, по сне зиянию, главоболию с похмелья и другим злостям неизмерным и неисповедимым!..
Якин. Пропал! Зинаида, подскажите мне что-нибудь по-славянски… Ваш муж не имеет права делать такие опыты!!
(Иоанну.) Паки и паки… Иже
херувимы!.. Ваше величество, смилуйтесь!
Иоанн. Покайся, любострастный прыщ!
Зинаида. Только не убивайте его!
Якин. Каюсь!..
Иоанн. Преклони скверную твою главу и припади к честным стопам соблазненной боярыни!..
Якин. С удовольствием! Вы меня не поняли!! Не поняли!..
Иоанн. Как тебя понять, когда ты ничего не говоришь?
Якин. Языками не владею, ваше величество!.. Во сне это или наяву?..
Иоанн. Какая это курносая сидела у тебя?
Якин. Это эпизод, клянусь кинофабрикой! Зинаида Михайловна не поняла!
Иоанн. Любишь боярыню?
Якин. Люблю безумно!..
Иоанн. Как же ее не любить? Боярыня зельною красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна… Чего же тебе надо, собака?!
Якин. Ничего не надо!.. Ничего!
Иоанн. Так женись, хороняка! Князь отпускает ее.
Якин. Прошу вашей руки, Зина!
Зинаида. Вы меня не обманете на этот раз, Арнольд? Я так часто была обманута…
Якин. Клянусь кинофабрикой!
Иоанн. Клянись преподобным Сергием Радонежским!
Якин. Клянусь киносергием преподобным Радонежским!..
Иоанн. Ну. слушай, борода многогрешная! Ежели я за тобой что худое проведаю… то я тебя… я…
Якин. Клянусь Сергием…
Иоанн. Не перебивай царя! Понеже вотчины у тебя нету, жалую тебя вотчиной в Костроме.
(Зинаиде.) А тебе приданое, на…
(Дает золотые монеты.)
Зинаида. Мерси, мерси.
(Якину.) Ничего, ничего, мы их в торгсин сдадим.
Якин(Зинаиде). Еще минута здесь, и меня свезут в сумасшедший дом!.. Едем скорее отсюда!.. Куда-нибудь!.. Везите меня!..
Зинаида. Дорогой царь, нам на поезд пора.
Иоанн. Скатертью дорога!
Зинаида(Иоанну). Простите, что я вас беспокою… я не понимаю, как Кока не догадался… вам нельзя в таком виде оставаться здесь… вас могут арестовать!
Иоанн. О Господи Вседержитель!.. Ведь я-то забыл, где я… Я забыл!
Зинаида(берет костюм Милославского). Вы не сердитесь. Я советую вам переодеться. Не понимаю, откуда это тряпье? Арнольд, помогите ему.
Якин. Разрешите, я помогу вам. Пожалуйте за ширму.
Иоанн. Ох, бесовская одежда!.. Ох, искушение!..
Иоанн и Якин уходят за ширму.
Зинаида. Я пока записку напишу Николаю Ивановичу.
(Пишет.) «Кока! Я возвращалась, но опять уезжаю. Он едва не зарезал Якина, тот сделал предложение. Не выписывай… Зина…»
Иоанн выходит из-за ширмы в костюме Милославского.
Удручен.
Вот это другое дело! Боже, до чего на нашего Буншу похож! Только очков не хватает.
Якин. Вот очки валяются…
Зинаида. Очень советую, наденьте очки.
(Надевает на Иоанна очки.) Вылитый!
Иоанн(глянув в
зеркало). Тьфу ты!..
Зинаида. Ну, позвольте вас поблагодарить… Вы очень темпераментный человек!
Иоанн. Мне здесь оставаться? Ох ты, господи!.. Как это гусли-то очарованные играют?
Якин. Это, изволите ли видеть, патефон…
Иоанн. Тебя не спрашивают…
Якин. Молчу… слушаюсь.
Зинаида. Очень просто, иголочку сюда и подкрутить.
Патефон играет.
Вот видите… Вы сидите и играйте. А Кока придет, он вас выручит.
Якин. Что же это такое… У меня путаются мысли… патефон, Кока… Иоанн Грозный…
Зинаида. Да перестаньте вы нервничать! Ну, Иоанн, ну. Грозный… Ну что тут особенного?.. Ну, до свиданья!
Якин. Честь имею кланяться!
Иоанн. Ехать-то далеко?
Зинаида. Ода.
Иоанн(Якину). Жалую тебе рясу с царского плеча.
Якин. Зачем же?..
Зинаида. Ах. не противоречьте ему.
Якин. Да, да…
(Облачается в рясу.)
Зинаида берет чемодан и выходит с Якиным.
Зинаида(в передней). А все-таки я счастлива! Поцелуйте меня…
Якин. Вред!! Бред!! Бред! Клянусь Сергием Радонежским!..
(Сбрасывает рясу и уходит с Зинаидой.)
Иоанн один. Подходит к патефону, заводит его. Пьет водку. Через некоторое время звонит телефон.
Иоанн(подходит, долго рассматривает трубку, потом снимает. На лице его ужас. В трубку.) Ты где сидишь-то?
(Заглядывает под стол, крестится.)
Ульяна(в передней). Есть кто-нибудь? Ивана Васильевича не видели?
(Стучит в дверь Тимофеева, потом входит.) Здрасьте пожалуйста! Его весь дом ищет, водопроводчики приходили, ушли… жена как проклятая в кооперативе за селедками стоит, а он сидит в чужой комнате и пьянствует!.. Да ты что это, одурел? Шпака ограбили. Шпак по двору мечется, тебя ищет, а он тут! Ты что же молчишь! Батюшки, во что же это ты одет?
Иоанн, отвернувшись, заводит патефон.
Да что же это такое? Вы видели что-нибудь подобное? Он угорел! Батюшки, да у него на штанах дыра сзади!.. Ты что, дрался, что ли. с кем? Ты что лицо-то отворачиваешь?
Иоанн поворачивается.
Голубчики милые!.. На кого же ты похож?! Да ты же окосел от пьянства! Да тебя же узнать нельзя!
Иоанн. Ты бы ушла отсюда. А?
Ульяна. Как это — ушла? Ты на себя в зеркало-то погляди!.. В зеркало-то погляди!
Иоанн. Оставь меня, старушка, я в печали…
Ульяна. Старушка?! Как же у тебя язык повернулся, нахал? Я на двадцать лет тебя моложе!
Иоанн. Ну, это ты врешь…
Шпак появляется в передней, затем входит в комнату.
Шпак. Да где же он? Иван Васильевич, какой же вы управдом? Вы поглядите, как мою комнату обработали!
Ульяна. Нет, вы поглядите на голубчика!.. Он же пьян, он же на ногах не стоит!
Шпак. Ай да управдом. Человека до ниточки обобрали, а он горный дубняк пьет!.. Меня артистка обворовала!..
Иоанн. Ты опять здесь? Ты мне надоел!
Шпак. Какие это такие слова — надоел? Нам такого управдома не нужно!..
Ульяна. Очнись, разбойник! Попрут тебя с должности!
Иоанн. Э, да ты ведьма!
(Берет у Ульяны
селедки и выбрасывает их в переднюю.)
Ульяна. Караул!
Иоанн(вооружается посохом) Ох, поучу я тебя сейчас!
Ульяна. Помогите!.. Муж интеллигентную женщину бьет!..
(Убегает через парадный ход.)
Шпак потрясен.
Шпак. Иван Васильевич, вы успокойтесь… ну. выпил нервный мужчина… я вполне понимаю… Однако я не знал, что вы такой!.. Я думал, что вы тихий… и. признаться, у нее под башмаком… а вы — орел!..
Иоанн. Ведьма!..
Шпак. Откровенно признаться, да. Вы правы. Это даже хорошо, что вы ее так… Вы с ней построже… Я к вам по дельцу, Иван Васильевич.
Иоанн. Тебе чего надо?
Шпак. Вот список украденных вещей, уважаемый товарищ Бунша… прошу засвидетельствовать… Украли два костюма, два пальто, двое часов, два портсигара, тут записано…
(Подает бумагу.)
Иоанн. Как челобитную царю подаешь?
(Рвет бумагу.)
Шпак. Иван Васильевич!.. Вы выпивши, я понимаю… только вы не хулиганьте.
Иоанн. Ты мне надоел! Что у тебя украли, говори!
Шпак. Два пате… то есть один патефон…
Иоанн. Ну, забирай патефон. Подавись. Надоел.
Шпак. Позвольте, как же… ведь это чужой… совершенно как мой… А впрочем, пожалуйте!.. А остальное-то как же? Ведь надо же подписать!..
Иоанн. Да я же тебе давал деньги? Ты не брал? Суще глупый!..
Шпак. Вот так пьян! Какие такие деньги? Никаких вы мне денег не давали. Вы придите в себя. Иван Васильевич… Мы на вас коллективную жалобу подадим!
Иоанн. Э, да ты не уймешься, я вижу… Что, в вас в самом деле бесы вселились?..
(Вынимает нож.)
Шпак. Помогите!.. Управдом жильца режет!..
Тимофеев вбегает в переднюю, потом в комнату.
Тимофеев. Что это происходит? Где он? Кто вас переодел? Как вы его впустили?.. Я же вам говорил, чтобы вы не открывали!..
Шпак. Вы гляньте, Николай Иванович, на нашего управдома!.. Караул!.. Я в милицию!..
Тимофеев(Иоанну). Остановитесь, или мы погибнем оба!
Иоанн прячет нож.
Шпак(бросаясь в переднюю). Я немедленно в милицию!..
Иоанн. Князь! Ты его батогами с лестницы!..
Тимофеев(бросается вслед за Шпаком в переднюю). Умоляю вас, подождите!.. Это не Бунша!..
Шпак. Как не Бунша?
Тимофеев. Это Иоанн Грозный… настоящий царь. Погодите, погодите… я нормален… умоляю, не бегите в милицию!.. Это мой опыт, моя машина времени!.. Я вызвал его… я открываю вам тайну, вы порядочный человек!.. Не срывайте мой опыт! Скандал все погубит!.. Я сейчас уберу его… только примерю ключ… вот ключ… Обещаете молчать? Дайте честное слово!
Шпак. Позвольте, так это царь?..
Тимофеев. Царь…
Шпак. Что делается!..
Тимофеев. Молчите, потом все объяснится, потом… Даете слово, что ни одному человеку…
Шпак. Честное благородное слово.
Тимофеев. Ну, спасибо, спасибо.
(Убегает в свою комнату. Иоанну.) Зачем же вы открыли двери? Я вас просил не открывать!
Шпак припадает к замочной скважине.
Иоанн. Пошто ты ему по роже не дал?
Тимофеев. Что вы, Иван Васильевич, не надо никому по роже, ради бога!.. Тише, тише!.. Вот ключ. Сейчас примерим.
(Пытается вложить ключ.) Руки дрожат… А, черт, немного велик… Ну да ладно, сейчас подпилим…
Нажимает кнопки в аппарате. Комната Тимофеева гаснет. Освещается комната Шпака.
Шпак. Монеты-то, стало быть, настоящие были!.. Эх-эх-эх!..
(Говорит по телефону шепотом.) Милицию. Милиция? Говорит сегодняшний обокраденный Шпак… Нет, не сердитесь, я не насчет кражи. У нас тут другое дельце, почище!.. Инженер Тимофеев Иоанна Грозного в квартиру вызвал, царя… Я непьющий… С посохом… Что делается!.. Даю честное пионерское под салютом! Ну, я сам сейчас добегу до вас, сам добегу…
Тьма.
Занавес
АКТ ТРЕТИЙ
Звон. Тьма. Освещается палата Иоанна. Бунша и Милославский влетают в палату.
Милославский. Вот черт вас возьми с этими опытами! Вот это так так!
Бунша(кидаясь на сцену). Товарищ Тимофеев! Товарищ Тимофеев! Как управдом, я требую немедленного прекращения этого опыта! На помощь! Куда же это мы попали?
Милославский. Перестань орать! Это нас к Иоанну Грозному занесло.
Бунша. Не может быть! Я протестую!
Зловещий шум и набат.
Милославский(запирает дверь на ключ, выглядывает в окно, отчего шум усиливается Отскакивает). Вот попали так попали!
Бунша. Это нам мерещится, этого ничего нету. Николай Иванович, вы ответите за ваш антисоветский опыт!
Милославский. Вы дурак! Ой, как они кричат!
Бунша. Они не могут кричать, это обман зрения и слуха, вроде спиритизма. Они умерли давным-давно. Призываю к спокойствию! Они покойники.
В окно влетает стрела.
Милославский. Видали, как покойники стреляют!
Бунша. То есть., позвольте… вы полагаете, что они могут учинить над нами насилие?
Милославский. Нет,
я этого не полагаю. Я полагаю, что они нас убьют, к лешему. Что бы это сделать, братцы, а? Братцы!..
Бунша. Неужели это правда? Николай Иванович, вызывайте милицию! Без номера! Погибнуть во цвете лет! Ульяна Андреевна в ужасе!.. Я не сказал ей, куда пошел… Кровь стынет в жилах!..
Грохот в дверь, голоса: «Отворяй, собака!!»
Кому это он?
Милославский. Вам.
Бунша (в щелку двери). Попрошу не оскорблять! Я не собака! Поймите, что вас не существует! Это опыт инженера Тимофеева!
Грохот.
От имени жильцов дома прошу, спасите меня!
Милославский открывает дверь в соседнее помещение.
Милославский. Одежа! Царская одежа! Ура, пофартило!
Голос: «Отворяй! На дым пустим палату!»
(Надевает кафтан.) Надевай скорей царский капот, а то пропадем!
Бунша. Этот опыт переходит границы!
Милославский. Надевай, убью!..
Бунша надевает царское облачение.
Ура! Похож! Ей-богу, похож! Ой, мало похож! Профиль портит… Надевай шапку… Будешь царем…
Бунша. Ни за что!
Милославский. Ты что же, хочешь, чтобы и меня из-за тебя ухлопали? Садись за стол, бери скипетр… Дай зубы подвяжу, а то не очень похож… Ой, халтура! Ой, не пройдет! У того лицо умней…
Бунша. Попрошу не касаться лица!
Милославский. Молчи! Садись, занимайся государственным делом. На чем они остановились? «Царь и великий князь…» повторяй… «всея Руси…»
Бунша. Царь и великий князь всея Руси…
Дверь раскрывается, вбегают опричники и с ними — дьяк.
Остолбеневают.
Милославский(Бунше). Так вы говорите… царь и великий князь?.. Написал. Запятая… Где это наш секретарь запропастился?
Пауза.
В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело? Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение? Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?
(Бунше.) Продолжайте, ваше величество… челом бьет… точка с запятой… (Опричникам.) Я жду ответа на поставленный мною вопрос.
Опричники(в смятении). Царь тут… царь тут…
Дьяк. Тут царь.
Милославский. А где же ему быть? Вот что. голубчики, положь оружие!.. Не люблю этого.
Опричники бросают бердыши.
Дьяк(Бунше). Не вели казнить, великий государь-надежа… демоны тебя схватили, мы и кинулись… хвать, ан демонов-то и нету!
Милославский. Были демоны, этого не отрицаю, но они ликвидировались. Прошу эту глупую тревогу приостановить.
(Дьяку.) Ты кто такой?
Дьяк. Федька… дьяк Посольского приказу… с царем пишем…
Милославский. Подойди сюда. А остальных прошу очистить царскую жилплощадь. Короче говоря, все вон! Видите, вы царя напугали… Вон!
(Бунше, шепотом.) Рявкни на них; а то они не слушают.
Бунша. Вон!
Опричники бросаются в ноги, потом выбегают вон. Дьяк бросается несколько раз в ноги.
Милославский. Ну, довольно кувыркаться. Кинулся раз, кинулся два, хватит.
Дьяк. Не гляди на меня, аки волк на ягня… Прогневали мы тебя, надежа-государь!..
Милославский. Я думаю. Но мы тебя прощаем.
Дьяк. Что же это у тебя, государь, зубки-то подвязаны? Али хворь приключилась?
Милославский(Бунше, тихо). Ты не молчи, как пень, однако! Я не могу один работать.
Бунша. Зубы болят, у меня флюс.
Милославский. Периостит у него, не приставай к царю.
Дьяк. Слушаю.
(Бросается в ноги.)
Милославский. Федя, ты брось кланяться. Этак ты до вечера будешь падать… Будем знакомы. А ты что на меня глаза вытаращил?
Дьяк. Не гневайся, боярин, не признаю я тебя… Али ты князь?
Милославский. Я, пожалуй, князь, да. А что тут удивительного?
Дьяк. Да откуда ты взялся в палате-то царской? Ведь тебя не было.
(Бунше.) Батюшка царь, кто же это такой? Не томи!
Бунша. Это приятель Антона Семеновича Шпака.
Милославский(тихо). Ой, дурак! Такие даже среди управдомов редко попадаются… (Вслух; Ну да, другими словами, я князь Милославский. Устраивает вас это?
Дьяк(впадает в ужас). Чур меня! Сгинь!..
Милославский. Что такое? Опять не слава богу? В чем дело?
Дьяк. Да ведь казнили тебя намедни…
Милославский. Вот это новость! Брось трепаться, как так казнили?
Бунша(тихо). Ой, начинается…
Дьяк. Повесили тебя на собственных воротах третьего дня, перед спальней, по приказу царя.
Милославский. Ай спасибо!
(Бунше) Неувязка вышла с фамилией… Повесили меня… Выручай, а то засыпемся.
(Тихо.) Что же ты молчишь, сволочь?
(Вслух.) А, вспомнил! Ведь это не меня повесили! Этого повешенного-то как звали?
Дьяк. Ванька-разбойник.
Милославский. Ага. А я, наоборот, Жорж. И этому бандиту двоюродный брат. Но я от него отмежевался. И обратно — царский любимец и приближенный человек. Ты что на это скажешь?
Дьяк. Вот оно что! То-то я гляжу, похож, да не очень. А откуда же ты тут-то взялся?
Милославский. Э, дьяк Федя, до чего ты любопытный! Тебе бы в уголовном розыске служить! Приехал я внезапно, сюрпризом, как раз когда у вас эта мура с демонами началась… Ну, я, конечно, в палату, к царю, где и охранял ихнюю особу.
Дьяк. Исполать тебе, князь!
Милославский. И все в порядочке!
За сценой шум.
Чего это они опять разорались? Сбегай, Федюша, узнай.
Дьяк выбегает.
Бунша. Боже мой, где я? Что я? Николай Иванович!!! Милославский. Без истерики!
Дьяк возвращается.
Дьяк. Опричники царя спасенного видеть желают. Радуются.
Милославский. Э, нет. Это отпадает. Некогда. Некогда. Радоваться потом будем.
(Бунше.) Услать их надо немедленно куда-нибудь. Молчит, проклятый!
(Вслух.) А что, Фединька, войны никакой сейчас нету?
Дьяк. Как же это нету, кормилец? Крымский хан да шведы прямо заедают! Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает!..
Милославский. Что ты говоришь? Как же это вы так допустили? А?
Дьяк бросается в ноги.
Встань, Федор, я тебя не виню. Ну, вот чего… садись, пиши царский указ. Пиши. «Послать опричников выбить крымского хана с Изюмского шляха к чертовой матери…»
Дьяк(пишет). «К чертовой матери…»
Милославский. Точку поставь.
Дьяк. Точка.
(Бунше.) Подпиши, великий государь.
Бунша(шепотом). Я не имею права по должности управдома такие бумаги подписывать.
Милославский. Пиши. Ты что написал, голова дубовая? Управдом? И печать жакта приложил?.. Вот осел! Пиши: Иван Грозный
[64]. (Дьяку.) На.
Дьяк. Вот словечко-то не разберу…
Милославский. Какое словечко? Ну, ге… ре… Грозный.
Дьяк. Грозный?
Милославский. Что ты, Федька, цепляешься к каждому слову! Что, он не грозен, по-твоему? Не грозен? Да накричи ты. наконец, на него, великий государь, натопай ножками! Что же это он тебя не слушает?
Бунша. Да как вы смеете? Да вы!.. Да я вас!..
Дьяк(валясь в ноги). Узнал теперича! Узнал тебя, батюшка царь…
Милославский. Ну, то-то. Да ты скажи им, чтобы они обратно не торопились. Какое бы им еще поручение дать? Поют потехи брани… дела былых времен… и взятие Казани… ты им скажи, чтобы они на обратном пути заодно Казань взяли… чтоб два раза не ездить…
Дьяк. Как же это, батюшка… чтоб тебя не прогневить… ведь Казань-то наша… ведь мы ее давным-давно взяли…
Милославский. А… Это вы поспешили. Ну да раз взяли, так уж и быть. Не обратно же ее отдавать. Ну, ступай, и чтобы их духу здесь не было через пять минут.
Дьяк выбегает.
Ну, пошли дела кой-как. Что дальше будет, впрочем, неизвестно. Что же он не крутит свою машину назад?
Бунша. Я должен открыть вам ужасную тайну. Я с собой ключ в панике захватил. Вот он.
Милославский. Чтоб ты сдох, проклятый! Все из-за тебя, дурака! Что же мы теперь будем делать? Ну ладно, тише, дьяк идет.
Дьяк. Поехали, великий государь.
Милославский. Не удивились? Ну, и прекрасно. Дальше чего на очереди?
Дьяк. Посол шведский тут.
Милославский. Давай его сюда.
Дьяк впускает шведского посла. Тот, глянув на Буншу, вздрагивает, потом начинает делать поклоны.
Посол. Пресветлейший… вельможнейший… государ.
(Кланяется.)
Бунша пожимает руку послу. Посол удивлен, делает поклон.
Дер гросер кениг
[65] дес шведишен кенигсрейх зандте мих, зейнен трейен диннер, цу инен, цер и фелики кнезе Иван Басилович усарусса, дамит ди фраге фон Кемска вол ост, ди ди румфоллвюрдиге шведише арме эроберн хат, фрейвиллиг ин орднунг бринген…
Милославский. Так, так… интурист хорошо говорит… но только хоть бы одно слово понять! Надо переводчика, Фединька!
Дьяк. Был у нас толмач-немчин, да мы его анадысь в кипятке сварили.
Милославский. Федя, это безобразие! Нельзя так с переводчиками обращаться!
(Бунше.) Отвечай ему что-нибудь… а то ты видишь, человек надрывается. Ты зачем уши заткнул?
Бунша. Я ни за какие деньги с иностранцем не стану разговаривать. Кроме того, я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл.
Милославский. Ну, говори хоть революционные, а то ты ведь никаких слов не произносишь… Как рыба на троне! (Послу.) Продолжайте, я с вами совершенно согласен.
Посол. Ди фраге
[66] фон Кемскаволост… Шведише арме хат зи эроберн… Дер гроссер кениг дес шведишен кенигсрейхс зандте мих… унд… Дас ист зер эрнсте фраге… Кемска волост…
Милославский. Правильно. Совершенно правильно. (Дьяку.) Интересно бы хоть в общих чертах узнать, что ему требуется… Так сказать, идейка… смысл… Я, как назло, в шведском языке не силен, а царь нездоров…
Дьяк. Он, батюшка, по-немецки говорит. Да понять-то его немудрено. Они Кемскую волость требуют. Воевали ее, говорят, так подай теперь ее, говорят!..
Милославский. Так чего же ты молчал? Кемскую волость?
Посол. О, Ja… о, Ja…
Милославский. Да об чем разговор? Да пущай забирают на здоровье!.. Господи, я думал, что!..
Дьяк. Да как же так, кормилец?!
Милославский. Да кому это надо?
(Послу.) Забирайте, забирайте, царь согласен. Гут.
Дьяк. О, господи Исусе!
Посол (обрадован, кланяется). Канн их мих фрейцелен унд ин мейн фаюрланд цурюккерен?
Дьяк. Он спрашивает, можно ли ему домой ехать?
Милославский. А, конечно! Чего же зря номер в «Метрополе» занимать? Пускай сегодня же и едет. Взять ему вторую категорию.
(Послу.) О реву ар.
Посол(кланяясь). Вас бефельт
[67] цар и фелики кнезе Иван Василович ден гроссен кенит дес Шведенс хинтербринген?
Дьяк. Он спрашивает — чего королю передать?
Милославский. Наш пламенный привет.
Бунша. Я не согласен королю пламенные приветы передавать. Меня общественность загрызет.
Милославский. Молчи, бузотер.
(Обнимает посла и у того с груди пропадает драгоценный медальон.) Ауфидерзе-ен. Королю кланяйтесь и скажите, чтобы пока никого не присылал. Не надо. Нихтс.
Посол, кланяясь, уходит с дьяком.
Приятный человек. Валюты у него, наверно, в кармане, воображаю!..
Бунша. Я изнемогаю под тяжестью государственных преступлений, которые мы совершили. О боже мой! Что теперь делает несчастная Ульяна Андреевна? Она, наверно, в милиции. Она плачет и стонет, а я царствую против воли. Как я покажусь на глаза общему нашему собранию?
Дьяк входит и ищет что-то на полу.
Милославский. Ты чего, отец, ползаешь?
Дьяк. Не вели казнить, государь… Посол королевский лик с груди потерял… а на нем алмазы граненые…
Милославский. Нельзя быть таким рассеянным.
Дьяк. Вошел сюда — был, а вышел — нету…
Милославский. Так всегда и бывает. В театрах это постоянно в буфетах. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да отчего ты так на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял?
Дьяк. Что ты, что ты?
Милославский(Бунше). Ты не брал?
Бунша. Может быть, за трон завалился.
(Ищет.)
Милославский. Ну, нету! Под столом еще посмотри. Нету и нету.
Дьяк. Ума не приложу… вот горе!
(Уходит.)
Бунша. Происшествия все ужаснее и ужаснее. Что бы я отдал сейчас, чтобы лично явиться в милицию и заявить о том, что я нашелся. Какое ликование поднялось бы в отделении!
Дьяк(входит). Патриарх тебя видеть желает, государь. Радуется.
Бунша. Чем дальше, тем хуже!
Милославский. Скажи ему, что мы просим его сюда в срочном порядке.
Бунша. Что вы делаете? В присутствии служителя культа я не могу находиться в комнате, я погиб.
Колокольный звон. Входит патриарх.
Патриарх. Здравствуй, государь, нынешний год и впредь идущие лета! Вострубим, братие, в златокованые трубы! Царь и великий князь, яви нам зрак и образ красен! Царь, в руцех демонов побывавший, возвращается к нам. Подай же тебе, Господи, Самсонову силу, Александрову храбрость. Соломонову мудрость и кротость Давидову! Да славят тя все страны и всякое дыхание человечье и ныне, и присно, во веки веков!
Милославский(аплодируя). Браво! Аминь! Ничего не в силах прибавить к вашему блестящему докладу, кроме одного слова — аминь!
Хор запел многолетие. Милославский отдает честь, поет что-то веселое и современное.
(Бунше.) Видишь, как тебя приветствуют? А ты хныкал!..
(Патриарху.) Воистину воскресе, батюшка!
(Обнимает патриарха. причем у того с груди пропадает панагия.) Еще раз благодарю вас, батюшка, от царского имени и от своего также благодарю, а затем вернитесь в собор к вашим угодникам. Вы совершенно и абсолютно свободны, в хоре надобности тоже нет. И, в случае чего-нибудь экстренного, мы вас кликнем.
(Провожает патриарха до дверей, отдавая ему честь.)
Патриарх уходит с дьяком. Дьяк тотчас вбегает в смятении обратно.
Чего еще случилось?
Дьяк. Ох, поношение! У патриарха панагию с груди…
Милославский. Неужто сперли?
Дьяк. Сперли.
Милославский. Ну, уж это какая-то мистика! Что же это у вас делается, ась?
Дьяк. Панагия — золота на четыре угла, яхонт лазоревый, два изумруда…
Милославский. Это безобразие!
Дьяк. Что делать прикажешь, князь? Уж мы воров и за ребра вешаем, а все извести их не можем.
Милославский. Ну зачем же за ребра вешать? Уж тут я прямо скажу, что я против. Это типичный перегиб. С ворами, Федя, если хочешь знать, надо обращаться мягко. Ты ступай к патриарху и как-нибудь так поласковее с ним… утешь его… Что, он очень расстроился?
Дьяк. Столбом стоит.
Милославский. Ну. оно понятно. Большие потрясения от этого бывают. Уж кому, кому, а мне приходилось видеть, в театрах…
Дьяк выбегает.
Бунша. Меня начинают терзать смутные подозрения. У Шпака — костюм, у посла — медальон, у патриарха— панагия…
Милославский. Ты на что намекаешь? Не знаю, как другие, а я лично ничего взять не могу. У меня так устроены… руки… ненормально. Мне в пяти городах снимки с пальцев делали ученые… и все начальники единогласно утверждают, что с такими пальцами человек присвоить чужого не может. Я даже в перчатках стал ходить, так мне это надоело.
Дьяк(входит). Татарский князь Едигей к государю.
Милославский. Э, нет! Этак я из сил выбьюсь. Объявляю перерыв на обед.
Дьяк. Царь трапезовать желает.
Тотчас стольники вносят блюда, за стольниками появляются гусляры.
Милославский. Нет, у них хорошо поставлено дело. В «Метрополе» ждешь, ждешь, пока тебе салатик подадут… Душу вымотают!..
Бунша. Это сон какой-то!
Милославский(дьяку). Это что?
Дьяк. Почки заячьи верченые да головы щучьи с чесноком… икра, кормилец… Водка анисовая, приказная, кардамонная, как желаешь.
Милославский. Красота!.. Царь, по стопочке с горячей закуской!..
(Пьет.) Ко мне, мои тиуны, опричники мои!
Бунша пьет.
Дьяк. Услали же, батюшка князь, опричников!
Милославский. И хорошо сделали, что услали, ну их к чертям! Без отвращения вспомнить не могу. Манера у них — сейчас рубить, крошить! Секиры эти… Бандиты они. Федя. Простите, ваше величество, за откровенность, но опричники ваши просто бандиты! Вотр сантэ!
Бунша. Вероятно, под влиянием спиртного напитка нервы мои несколько успокоились.
Милославский. Ну вот. А ты, Федя, что ты там жмешься возле печки? Ты выпей, Федюня, не стесняйся. У нас попросту. Ты мне очень понравился. Я бы без тебя, признаться, как без рук был. Давай с тобой на брудершафт выпьем. Будем дружить с тобой, я тебя выучу в театр ходить… Да, ваше величество, надо будет театр построить.
Бунша. Я уже наметил кое-какие мероприятия и решил, что надо будет начать с учреждения жактов.
Милославский. Не велите казнить, ваше величество, но, по-моему, театр важнее. Воображаю, какая сейчас драка на Изюмском шляхе идет! Как ты думаешь, Федя? Что, у вас яхонты в магазин принимают?
Дьяк. Царица к тебе, великий государь, видеть желает.
Бунша. Вот тебе раз! Этого я как-то не предвидел. Боюсь, чтобы не вышло недоразумение с Ульяной Андреевной. Она, между нами говоря, отрицательно к этому относится. А впрочем, ну ее к черту, что, я ее боюсь, что ли?
Милославский. И правда.
Бунша снимает повязку.
Повязку это ты зря снял. Не царская, говоря откровенно, у тебя физиономия.
Бунша. Чего? Попрошу вас! С кем говоришь?
Милославский. Молодец! Ты бы раньше так разговаривал!
Появляется царица, и Бунша надевает пенсне.
Царица(в изумлении). Пресвятой государь, княже мой и господин! Дозволь рабыне твоей, греемой милостью твоею…
Бунша. Очень рад.
(Целует руку царице.) Очень рад познакомиться. Позвольте вам представить — дьяк и… Милославский. Прошу вас к нашему столику.
Милославский. Ты что плетешь? Сними, гад, пенсне.
Бунша. Но-но-но! Человек! Почки один раз царице. Простите, ваше имя-отчество не Юлия Владимировна?
Царица. Марфа Васильевна я…
[68]
Бунша. Чудесно, чудесно!
Милославский. Вот разошелся! Э-ге-ге! Даты, я вижу, хват! Вот так тихоня!
Бунша. Рюмку кардамонной, Марфа Васильевна…
Царица (хихикая). Что вы, что вы…
Бунша. Сейчас мы говорили на интереснейшую тему. Вопрос об учреждении жактов.
Царица. И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь…
Бунша. Еще рюмку, под щучью голову.
Царица. Ой, что это вы…
Бунша(дьяку). Вы что это на меня так смотрите? Я знаю, что у тебя на уме! Ты думаешь, уж не сын ли я какого-нибудь кучера или кого-нибудь в этом роде? Сознавайся!
Дьяк валится в ноги.
Нет, ты сознавайся, плут… Какой там сын кучера? Это была хитрость с моей стороны.
(Царице.) Это я, уважаемая Марфа Васильевна, их разыгрывал. Что? Молчать!
(Дьяку.) Скажите, пожалуйста, что, у вас нет отдельного кабинета?
Милославский. Батюшки! Да он нарезался! Да ведь как быстро, как ловко! Надо спасать положение.
(Гуслярам.) Да что же вы, граждане, молчите? Гряньте нам что-нибудь.
Гусляры заиграли и запели.
Гусляры
(поют). А не сильная туча затучилася… А не сильные громы грянули… Куда едет собака крымский царь…
Бунша. Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь! Он хоть и крымский, но не собака! (Дьяку.) Ты каких это музыкантов привел? Распустились здесь без меня?
Дьяк валится в ноги.
Милославский. Что, Федюша, у вас нарзану нету?
Бунша. Пускай они румбо играют! Гусляры. Ты, батюшка, только скажи, как это… а мы переймем… мы это сейчас…
Бунша напевает современный танец, гусляры играют его.
Бунша(царице). Позвольте вас просить на один тур, Юлия Васильевна.
Царица. Ой, срамота! Что это ты, батюшка царь…
Бунша. Ничего, ничего.
(Танцует с царицей.)
Дьяк рвет на себе волосы.
Милославский. Ничего, Федя, не расстраивайся. Ну, перехватил царь, ну что такого… с кем не бывало! Давай с тобой!
(Танцует с дьяком.)
Набат и шум. Гусляры замолчали.
Это мне не нравится, что еще такое?
Дьяк выбегает, потом возвращается.
Дьяк. Беда, беда! Опричники взбунтовались, сюда едут! Кричат, что царь не настоящий. Самозванец, говорят!
Царица. Охти мне, молодой! С ненастоящим плясала… Ох. чернеческий чин наложат!.. Ой, погибель моя!..
(Убегает.)
Милославский. Как опричники? Они же на Изюмский шлях поехали!
Дьяк. Не доехали, батюшка. Смутили их. От заставы повернули.
Милославский. Какой же гад распространил этот гнусный слух!?
Дьяк. Патриарх, батюшка, патриарх.
Милославский. Дорогой самодержец, мы пропали!
Бунша. Я требую продолжения танца! Как пропали? Граждане, что делать?
Гусляры исчезают вместе с дьяком.
Николай Иванович, спасите!
Шум ближе. Звон. Тьма. Свет. Стенка распадается, и рядом с палатой появляется комната Тимофеева.
Тимофеев. Скорее, Иван Васильевич!
Иоанн(застегивая царское облачение). Слава тебе господи!
Тимофеев. Вот они, живы!
Милославский. Живы, живы!
(Бунше.) Вали, вали, вали!
(Вбегает с Бутией к Тимофееву.)
Иоанн(при виде Бунши). Ой, сгинь, пропади!
Милославский. Временно, временно, отец, не волнуйся!
Иоанн вбегает в палату.
Иван Васильевич! Имейте в виду, что мы шведам Кемскую волость отдали! Так что все в порядке.
Иоанн. Шведам Кемь? Да как же вы смели, щучьи вы дети?
В палату вбегают опричники и дьяк.
Шведам Кемь? А ты, лукавый дьяк, куда смотрел?
Дьяк валится в ноги. Иоанн в ярости разбивает аппарат. Тьма. Свет. Палаты нет.
Тимофеев. Аппарат мой! Аппарат! Что вы наделали! Зачем вы его разозлили?.. Погибло мое изобретение!
В передней появляются милиция и Шпак.
Шпак. Вот они, товарищи начальники, гляньте!
Тимофеев. Ах ты, подлец!
Милиция. Угу…
(Бунше.) Вы — царь? Ваше удостоверение личности, гражданин.
Бунша. Каюсь, был царем, но под влиянием гнусного опыта инженера Тимофеева.
Милославский. Что вы его слушаете, товарищи? Мы с маскарада, из парка культуры и отдыха мы.
(Снимает боярское облачение.)
Бунша снимает царское облачение. На груди Милославского — медальон и панагия.
Бунша. Оправдались мои подозрения! Он патриарха обокрали шведского посла!
Шпак. Держите его! Мой костюм!
Милиция. Что же вы, гражданин, милицию путаете? Они воры?
Шпак. Воры, воры! Они же крадут, они же царями притворяются!
Появляется Ульяна Андреевна.
Ульяна. Вот он где! Что это, замели тебя? Дождался, пьяница?
Бунша. Ульяна Андреевна! Чистосердечно признаюсь, что я царствовал, но вам не изменил, дорогая Ульяна Андреевна! Царицей соблазняли, дьяк свидетель!
Ульяна. Что ты порешь, алкоголик? Какой он царь, товарищи начальники! Он управдом!
Тимофеев. Молчите все! Молчите все! Мой аппарат, моя машина погибла! А вы об этих пустяках… Да, это я, я сделал опыт, но нужно же такое несчастье на каждом шагу… явился этот болван управдом и ключ утащил с собой! Старый рамолик, князь — развалина… и этот разозлил Ивана Грозного! И вот нет моего аппарата! А вы об этой ерунде!..
Милиция. Вы кончили, гражданин?
Тимофеев. Кончил.
Милиция(Милославскому). Ваше удостоверение?
Милославский. Так чего удостоверение? Что же удостоверение? Милославский я, Жорж.
Милиция(радостно). А! Так вы в Москве, стало быть?
Милославский. Не скрою. Прибыл раньше времени.
Милиция. Ну-с, пожалуйте все в отделение.
Бунша. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
Милославский. Эх, Коля, академик! Не плачь! Видно, уж такая судьба! А насчет панагии, товарищи, вы не верьте — это мне патриарх подарил.
Милиция выводит всех из квартиры.
Голос в рупоре: «Передаем час западной и восточной музыки. Оркестр под управлением Сигизмунда Тачкина исполняет падеспань». Музыка в рупоре.
Занавес
ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА
(Театральный роман)

Вопрос «кто — кто» для историка литературы и театра носит подчиненный, но не праздный характер. В свое время Павел Марков показывал нам листочек с прототипами героев, который был сделан в виде театральной программки с указанием действующих лиц и исполнителей. Да и сама Елена Сергеевна Булгакова при помощи Сергея Шиловского, своего сына, составила длинный список прототипов романа, а также материалы к его реальному комментарию. Кроме совершенно очевидных соотношений (Иван Васильевич — Станиславский, Аристарх Платонович — Немирович-Данченко) важны указания на иные, не столь очевидные «кто — кто», приоткрывающие сложную связь романа с литературно-театральной средой, в которой существовал и которой во многих отношениях оппонировал Булгаков в 20-е и 30-е годы. Отметим некоторые важные параллели, сделанные Е. С. Булгаковой:
рассказ Ликоспастова «Жилец по ордеру» — роман Ю. Слезкина «Девушка с гор»:
«когорта дружных» — театр Вахтангова:
спектакль «Фаворит», с которого начинается знакомство Максудова с театральным миром, — спектакль Второй студии MXATа «Елизавета Петровна» Д. Смолина, а «еще одна пьеса» — «Дама-невидимка» Кальдерона, поставленная в той же студии. Е. С. Булгакова сравнивает афишу Независимого Театра, которую видит Максудов в романе, с подлинной афишей Художественного театра «с предполагаемым репертуаром на сезон 1926/1927 г.:
Сухово-Кобылин. Смерть Тарелкина
Эсхил. Прометей
Шекспир, Отелло
Бомарше. Свадьба Фигаро
Булгаков. Семья Турбиных.
В комментариях указано, что «резкий звук тромбонов» — мхатовский обычай провожать в последний путь фанфарами (к этому следует добавить, что «фанфары» были из спектакля «Гамлет», поставленного в МХТ Гордоном Крэгом. Музыку к спектаклю сочинил Илья Сац). Отмечена параллель спектакля «Степан Разин», упомянутого в романе, со спектаклем «Пугачевщина» К. Тренева (премьера пьесы на сцене MXATh состоялась 19 сентября 1925 г.). Журнал «Лик Мельпомены» сопоставлен с журналом «Новый зритель», театр Шлиппе отсылает к театру Федора Адамовича Корша, а Старый театр — к Малому театру. Указаны прототипы некоторых литературных героев:
Клинкер — Киршон, Рудольфи — Лежнев, Ликоспастов — Слезкин, Рвацкий — Каганский, Бондаревский — Алексей Толстой. Агапенов — Борис Пильняк, Лесосеков — Леонов, Айвазовский — Павел Антокольский. Но, конечно, особое место в материалах Е. С. Булгаковой занимают люди Художественного театра. Помимо уже названных отметим (без подробной расшифровки):
Торопецкая — Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь Немировича-Данченко, сестра Елены Сергеевны Булгаковой.
Менажраки — Рипсиме Карповна Таманцова, секретарь Станиславского.
Ильчин — Борис Ильич Вершилов, режиссер.
Фома Стриж — Илья Яковлевич Судаков, режиссер.
Романус — Борис Львович Изралевский, заведующий Музыкальной частью.
Гавриил Степанович — Николай Васильевич Егоров, заместитель директора Художественного театра.
Княжевич — Василий Васильевич Лужский.
Пеликан — Порфирий Артемьевич Подобед, актер и член Правления театра.
Полторацкий — Василий Григорьевич Сахнове кий.
Дитрих Петя — художник Петр Вильяме.
Елагин — Виктор Яковлевич Станицын.
Колдыбаева Настасья Ивановна — Мария Петровна Лилина.
Ипполит Павлович — Василий Иванович Качалов.
Федор Владимирович — Владимир Федорович Грибунин.
Филипп Филиппович Тулумбасов — Федор Николаевич Михальский, главный администратор.
Людмила Сильвестровна Пряхина — Лидия Михайловна Коренева.
Маргарита Петровна Таврическая — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.
Комаровский-Эшшапар де Бионкур — Алексей Александрович Стахович (в материалах Булгаковой процитирован «Придворный календарь на 1906 год», в котором значатся такие фамилии: Дюбрейль-Эшшапар и Катуар-де-Бионкур).
Горностаев Герасим — Николай Афанасьевич Подгорный.
Валентин Конрадович — Леонид Миронович Леонидов.
Аргунин — Николай Павлович Хмелев.
Малокрошечный Митя — Сергей Александрович Саврасов.
Калошин Антон — Иван Андреевич Мамошин (в 30-е годы он был секретарем мхатовской партячейки).
Евлампия Петровна — Екатерина Сергеевна Телешова, режиссер.
Андрей Андреевич — помощник режиссера Николай Николаевич Шелонский.
Аврора Госье (художница из макетной, которую видит Максудов во время репетиции «Черного снега») — Нелли Стругая.
Патрикеев — Михаил Михайлович Яншин.
Владычинский — Борис Николаевич Ливанов.
Строев — Евгений Васильевич Калужский.
Адальберт — Александр Александрович Андерс.
Е. С. Булгакова попыталась прокомментировать с точки зрения мхатовских реалий даже самые мелкие и порой безымянные романные аллюзии: в ее материалах, скажем, владелец «высокого тенорка» идентифицирован с Иваном
Михайловичем Москвиным, а некий Осип Иванович. однажды залетевший на страницы книги, предположительно отнесен к Александру Леонидовичу Виш-невскс «V. Однако даже при таком тщательном, скрупулезном сопоставлении романа и литературно-театральной реальности (мы использовали, конечно, не весь список) Булгакова оговаривает, что прототипы ряда персонажей ей неизвестны, а другие литературные герои, занимающие центральное положение в сюжете «Записок покойника», не имеют прототипов и носят, как она выражается, собирательный характер. Это относится прежде всего к Бомбардову («лицо собирательное, тут и Миша сам. и молодые актеры — лучшие»), Е. С. Булгакова совершенно не касается «прототипичности» стиля и особенностей мхатовской жизни тех лет, которые многое объясняют в романе. Историк Художественного театра может отметить, как сложно переплетаются в «Записках покойника» реальная канва создания «Дней Турбиных» (в романе — «Черного снега») с канвой тех событий, что сопутствовали тягостным репетициям «Кабалы святош», приведшим к разрыву автора и театра. Первый период отношений Булгакова и МХАТа, исполненный взаимной любви, в гораздо меньшей степени присутствует в атмосфере «Записок покойника», нежели те формы театральной жизни, которые утвердились в МХАТе в 30-е годы. Не будет преувеличением сказать, что в источнике многих самых невероятных сюжетных линий романа о театре непременно обнаруживается какая-то реальная и больная тема мхатовского быта того времени. Абсолютная глухота прославленного театра к тому, что делается за его стенами, вражда двух руководителей, достигшая каких-то уродливо-гротескных форм, поездки за границу на отдых и лечение, которые были дарованы свыше как высочайшее благодеяние «лучшему в мире театру», быт дома Станиславского в Леонтьевском переулке и многое-многое другое легло в основание «Записок покойника». Вопрос «кто — кто», давно потерявший злободневный личный интерес, оказывается чрезвычайно важным в ином плане. Кажется, ни одно другое произведение Булгакова не дает нам такой острой возможности разглядеть, как работает механизм творческой фантазии писателя, как узкие рамки мхатовских проблем легко раздвигаются в пространстве и времени, как театральный «сор» становится искусством, именуемым классикой.
А. Смелянский
Печатается в сокращении по тексту: М. А. Булгаков, Собрание сочинений в пяти томах, т. 4, М., «Художественная литература», 1990.
_____
Предисловие

Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения и достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах.
Как раз в день самоубийства Сергея Леонтьевича Максудова, которое произошло в Киеве весною прошлого года, я получил посланную самоубийцей заблаговременно толстейшую бандероль и письмо.
В бандероли оказались эти записки, а письмо было удивительного содержания:
Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки, с тем чтобы я, единственный его друг, выправил их, подписал своим именем и выпустил в свет.
Странная, но предсмертная воля!
В течение года я наводил справки о родных или близких Сергея Леонтьевича. Тщетно! Он не солгал в предсмертном письме — никого у него не осталось на этом свете.
И я принимаю подарок.
Теперь второе: сообщаю читателю, что самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был, — маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно — роман Сергея Леонтьевича не был напечатан.
Таким образом, записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия.
Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было.
И наконец, третье, и последнее: моя работа над записками выразилась в том, что я озаглавил их, затем уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.
Этот эпиграф был:
«Коемуждо по делом его…»
И, кроме того, расставил знаки препинания там, где их не хватало.
Стиль Сергея Леонтьевича я не трогал, хотя он явно неряшлив. Впрочем, что же требовать с человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой.
Итак…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Начало приключений
Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось.
В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно:
«Глубокопочитаемый Сергей Леонтьевич!
До крайности хотел бы познакомиться с Вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересно для Вас.
Если Вы свободны, я был бы счастлив встретиться с Вами в здании Учебной сцены Независимого Театра в среду в 4 часа.
С приветом К. Ильчин».
Письмо было написано карандашом на бумаге, в левом углу которой было напечатано:
«Ксаверий Борисович Ильчин
Режиссер Учебной сцены
Независимого Театра».
Имя Ильчина я видел впервые, не знал, что существует Учебная сцена. О Независимом Театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был.
Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты «Пароходство». Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот, у Хомутовского тупика.
Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я ни раздумывал, последнего понять не мог и, наконец, остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мною комнатой.
Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз у него дело ко мне, но надо сказать, что я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный и людей немного боюсь. Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки.
Я вошел в резные чугунные ворота, увидел лавчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков.
Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета и подумал о том, что здание это построено давно-давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете.
Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь Учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста, с бороденкой, в куртке с зелеными петлицами, немедленно преградил мне дорогу.
— Вам кого, гражданин? — подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу.
— Мне нужно видеть режиссера Ильчина, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно.
Человек изменился чрезвычайно, и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой.
— Ксаверия Борисыча? Сию минут-с. Пальтецо пожалуйте. Калошек нету?
Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение.
Я подымался по чугунной лестнице, видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска.
Здание молчало, нигде и никого не было, и лишь с петличками человек плелся за мной, и. оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел и что он хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин.
И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась — за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел наконец Ксаверия Борисовича.
— Максудов, — сказал я с достоинством.
Туг где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина.
— Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич! — сказал, хитро улыбаясь, Ильчин.
И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой точно диван, как у меня в комнате, — даже пружина в нем торчала там же, где у меня, — посередине.
Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно, в сумерках грозы, рисовался рояль?
И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще:
— Я прочитал ваш роман. Я вздрогнул.
Дело в том…
Глава 2
Приступ неврастении
Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в <Пароходстве», я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман.
Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война… Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него — люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность — дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины, сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, — оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал: что случилось?
Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку?
— Это приступ неврастении, — объяснил я кошке. — Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. Но пока еще можно жить.
Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль. который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза.
Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен.
Днем я старался об одном — как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал ее механически, так, чтобы она не задевала головы. При всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне. конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной. Но я все терпел и постепенно втянулся. Подобно тому как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу… Заинтересованная кошка садилась на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайно, и она норовила пересесть с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место.
Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала предо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы.
— Боже! Это апрель! — воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал: «Конец».
Конец зиме, конец вьюгам, конец холоду. За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немного одичал. Но брился ежедневно.
Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул — впервые, кажется, за всю зиму — сном без сновидений.
Роман надо долго править. Нужно перечеркивать многие места, заменять сотни слов другими. Большая, но необходимая работа!
Однако мною овладел соблазн, и. выправив первых шесть страниц, я вернулся к людям. Я созвал гостей. Среди них было двое журналистов из «Пароходства», рабочие, как и я, люди, их жены и двое литераторов. Один — молодой, поражавший меня тем, что с недосягаемой ловкостью писал рассказы, и другой — пожилой, видавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасною сволочью.
В один вечер я прочитал примерно четверть моего романа.
Жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызения совести. Но журналисты и литераторы оказались людьми прочными. Суждения их были братски искренни, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы.
— Язык! — вскрикивал литератор (тот, который оказался сволочью). — Язык, главное! Язык никуда не годится.
Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он ее выпил, закусил куском колбасы.
— Метафора! — кричал закусивший.
— Да, — вежливо подтвердил молодой литератор, — бедноват язык.
Журналисты ничего не сказали, но сочувственно кивнули, выпили. Дамы не кивали, не говорили, начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки.
— Да как же ему не быть бедноватым, — вскрикивал пожилой, — метафора не собака, прошу это заметить! Без нее голо! Голо! Голо! Запомните это, старик!
Слово «старик» явно относилось ко мне. Я похолодел.
Расходясь, условились опять прийти ко мне. И через неделю опять были. Я прочитал вторую порцию. Вечер ознаменовался тем, что пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтьич».
— Язык ни к черту! Но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! — кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей.
На третьем вечере появился новый человек. Тоже литератор — с лицом злым и мефистофельским, косой на левый глаз, небритый. Сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую, и последнюю, часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из «Пароходства» попривыкли к разросшемуся обществу и высказали и свои мнения.
Один сказал, что семнадцатая глава растянута, другой — что характер Васеньки очерчен недостаточно выпукло. И то и другое было справедливо.
Четвертое, и последнее, чтение состоялось не у меня, а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь было уже человек двадцать, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портило только одно — выражение испуга, почему-то не покидавшего ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке.
Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура.
Я впервые услыхал это слово и тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет.
Начала одна дама (потом я узнал, что она тоже была разведенной женой). Сказала она так:
— Скажите, Максудов, а ваш роман пропустят?
— Ни-ни-ни! — воскликнул пожилой литератор. — Ни в каком случае! Об «пропустить» не может быть и речи! Просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться — не пропустят.
— Не пропустят! — хором отозвался короткий конец стола.
— Язык… — начал тот, который был братом гитариста. но пожилой его перебил.
— К чертям язык! — вскричал он, накладывая себе на тарелку салат. — Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман. В тебе, шельмец, есть наблюдательность. И откуда что берется! Вот уж никак не ожидал, но… содержание!
— М-да, содержание…
— Именно содержание, — кричал, беспокоя няньку, пожилой, — ты знаешь, чего требуется? Не знаешь? Ага! То-то!
Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял меня и расцеловал, крича:
— В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне! Уж ты мне поверь. Но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте! Лукав он, шельма! С подковыркой человек!.. А? Что? Вы обратили внимание на главу четвертую? Что он говорил героине? То-то!..
— Во-первых, что это за такие слова, — начал было я, испытывая мучения от его фамильярности.
— Ты меня прежде поцелуй, — кричал пожилой литератор. — не хочешь? Вот и видно сразу, какой ты товарищ! Нет, брат, не простой ты человек!
— Конечно, не простой! — поддержала его вторая разведенная жена.
— Во-первых… — начал опять я в злобе, но ровно ничего из этого не вышло.
— Ничего не во-первых, — кричал пожилой, — а сидит в тебе достоевщинка! Да-cl Ну, ладно, ты меня не любишь, Бог тебя за это простит, я на тебя не обижаюсь. Но мы тебя любим все искренне и желаем добра! — Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в Центральных банях. — И говорю я тебе прямо, — продолжал пожилой, — ибо я привык всем резать правду в глаза: ты, Леонтьич, с этим романом даже не суйся никуда. Наживешь ты себе неприятности, и придется нам, твоим друзьям, страдать при мысли о твоих мучениях. Ты мне верь! Я человек большого, горького опыта. Знаю жизнь! Ну вот, — крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели, — поглядите: смотрит на меня волчьими глазами. Это в благодарность за хорошее отношение! Леонтьич! — взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука. — Пойми! Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа (тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд), чтобы из-за него тебе идти на Голгофу. Пойми!
— Ты п-пойми, пойми, пойми! — запел приятным тенором гитарист.
— И вот тебе мой сказ, — кричал пожилой, — ежели ты меня сейчас не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию, ибо ты меня обидел!
Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и маслено и нежно над голосами выплывал тенор:
— Т-ты пойми, пойми…
Как кот, я выкрадывался из квартиры, держа под мышкой тяжелую рукопись.
Нянька с красными слезящимися глазами, наклонившись, пила воду из-под крана в кухне.
Неизвестно почему, я протянул няньке рубль.
— Да ну вас, — злобно сказала нянька, отпихивая рубль, — четвертый час ночи! Ведь это же адские мучения.
Тут издали прорезал хор знакомый голос:
— Где же он? Бежал? Задержать его! Вы видите, товарищи…
Но обитая клеенкой дверь уже выпустила меня, и я бежал без оглядки.
Глава 3
Мое самоубийство
— Да, это ужасно, — говорил я сам себе в своей комнате, — все ужасно. И этот салат, и нянька, и пожилой литератор, и незабвенное «пойми», вообще вся моя жизнь.
За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист громыхал, по стеклам полз полосами дождь. После вечера с нянькой и гитарой много случилось событий. но таких противных, что и писать о них не хочется. Прежде всего я бросился проверять роман с той точки зрения, что, мол, пропустят его или не пропустят. И ясно стало, что его не пропустят. Пожилой был совершенно прав. Об этом, как мне казалось, кричала каждая строчка романа.
Проверив роман, я последние деньги истратил на переписку двух отрывков и отнес их в редакцию одного толстого журнала. Через две недели я получил отрывки обратно. В углу рукописей было написано: «Не подходит». Отрезав ножницами для ногтей эту резолюцию, я отнес эти же отрывки в другой толстый журнал и получил через две недели их обратно с такою же точно надписью: Не подходит».
После этого у меня умерла кошка. Она перестала есть, забилась в угол и мяукала, доводя меня до исступления. Три дня это продолжалось. На четвертый я застал ее неподвижной в углу на боку.
Я взял у дворника лопату и зарыл ее на пустыре за нашим домом. Я остался в совершенном одиночестве на земле, но, признаюсь, в глубине души обрадовался. Какой обузой для меня являлся несчастный зверь.
А потом пошли осенние дожди, у меня опять заболело плечо и левая нога в колене.
Но самое худшее было не это, а то, что роман был плох. Если же он был плох, то это означало, что жизни моей приходит конец.
Всю жизнь служить в «Пароходстве»? Да вы смеетесь!
Всякую ночь я лежал, тараща глаза в тьму кромешную, и повторял — «это ужасно». Если бы меня спросили — что вы помните о времени работы в «Пароходстве», я с чистою совестью ответил бы — ничего.
Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и это все.
— Это ужасно! — повторил я, слушая, как гудит ночное молчание в ушах.
Бессонница дала себя знать недели через две. Я поехал в трамвае на Самотечную-Садовую, где проживал в одном из домов, номер которого я сохраню, конечно, в строжайшей тайне, некий человек, имевший право по роду своих занятий на ношение оружия. При каких условиях мы познакомились, не важно. Войдя в квартиру, я застал моего приятеля лежащим на диване. Пока он разогревал чай на примусе в кухне, я открыл левый ящик письменного его стола и выкрал оттуда браунинг, потом напился чаю и уехал к себе.
Было около девяти часов вечера. Я приехал домой. Все было как всегда. Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нем тускло горела под потолком лампочка. Я вошел к себе. Свет брызнул сверху, и тотчас же комната погрузилась в тьму. Перегорела лампочка.
— Все одно к одному, и все совершенно правильно, — сказал я сурово.
Я зажег керосинку на полу в углу. На листе бумаги написал: «Сим сообщаю, что браунинг № (забыл номер), скажем, такой-то, я украл у Парфена Ивановича (написал фамилию, № дома, улицу, все как полагается)». Подписался, лег на полу у керосинки. Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тоща я представил себе наш коридор, баранину и бабку Пелагею, пожилого и «Пароходство», повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т. д.
Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:
Но мне Бог возвратит ли все?!
«Батюшки! «Фауст»! — подумал я. — Ну, уж это действительно вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу».
Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал все громче:
Проклинаю я жизнь, веру и все науки!
«Сейчас, сейчас, — думал я, — но как быстро он поет…» Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр. Дрожащий палец лег на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.
Тут грохот повторился. Снизу донесся тяжкий басовый голос:
— Вот и я!
Я повернулся к двери.
Глава 4
При шпаге я
В дверь стучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:
— Войдите!
Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и разметанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было.
Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. «Это естественно, — помыслил я, — не может он в ином виде пройти по Москве в /тваттятом веке».
— Рудольфи, — сказал злой дух тенором, а не басом. Он, впрочем, мог и не представляться мне. Я его узнал. У меня в комнате находился один из самых приметных людей в литературном мире того времени, редактор-издатель единственного частного журнала «Родина», Илья Иванович Рудольфи. Я поднялся с полу.
— А нельзя ли зажечь лампу? — спросил Рудольфи.
— К сожалению, не могу этого сделать, — отозвался я, — так как лампочка перегорела, а другой у меня нет.
Злой дух, принявший личину редактора, проделал один из своих нехитрых фокусов — вынул из портфеля тут же электрическую лампочку.
— Вы всегда носите лампочки с собой? — изумился я.
— Нет, — сурово объяснил дух, — простое совпадение— я только что был в магазине.
Когда комната осветилась и Рудольфи снял пальто, я проворно убрал со стола записку с признанием в краже револьвера, а дух сделал вид, что не заметил этого. Сели. Помолчали.
— Вы написали роман? — строго осведомился наконец Рудольфи.
— Откуда вы знаете?
— Ликоспастов сказал.
— Видите ли, — заговорил я (Ликоспастов и есть тот самый пожилой), — действительно, я… но… словом, это плохой роман.
— Так, — сказал дух и внимательно поглядел на меня.
Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили.
— Покажите, — властно сказал Рудольфи.
— Ни за что, — отозвался я.
— По-ка-жи-те, — раздельно сказал Рудольфи.
— Его цензура не пропустит…
— Покажите.
— Он, видите ли, написан от руки, а у меня скверный почерк, буква «о» выходит как простая палочка, а…
И тут я сам не заметил, как руки мои открыли ящик, где лежал злополучный роман.
— Я любой почерк разбираю, как печатное, — пояснил Рудольфи, — это профессиональное… — И тетради оказались у него в руках.
Прошел час. Я сидел у керосинки, подогревая воду, а Рудольфи читал роман. Множество мыслей вертелось у меня в голове. Во-первых, я думал о Рудольфи. Надо сказать, что Рудольфи был замечательным редактором и попасть к нему в журнал считалось приятным и почетным. Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля. Но. с другой стороны, роман ему мог не понравиться. а это было бы неприятно… Кроме того, я чувствовал, что самоубийство, прерванное на самом интересном месте, теперь уж не состоится, и, следовательно, с завтрашнего же дня я опять окажусь в пучине бедствий. Кроме того, нужно было предложить чаю, а у меня не было масла. Вообще в голове была каша, в которую к тому же впутывался и зря украденный револьвер.
Рудольфи между тем глотал страницу за страницей, и я тщетно пытался узнать, какое впечатление роман производит на него. Лицо Рудольфи ровно ничего не выражало.
Когда он сделал антракт, чтобы протереть стекла очков, я к сказанным уже глупостям прибавил еще одну:
— А что говорил Ликоспастов о моем романе?
— Он говорил, что этот роман никуда не годится, — холодно ответил Рудольфи и перевернул страницу. («Вот какая сволочь Ликоспастов! Вместо того чтобы поддержать друга и т. д.».)
В час ночи мы выпили чаю, а в два Рудольфи дочитал последнюю страницу.
Я заерзал на диване.
— Так, — сказал Рудольфи.
Помолчали.
— Толстому подражаете, — сказал Рудольфи.
Я рассердился.
— Кому именно из Толстых? — спросил я. — Их было много… Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаичу?
— Вы где учились?
Тут приходится открыть маленькую тайну. Дело в том, что я окончил в университете два факультета и скрывал это.
— Я окончил церковно-приходскую школу. — сказал я, кашлянув.
— Вон как! — сказал Рудольфи, и улыбка тронула слегка его губы.
Потом он спросил:
— Сколько раз в неделю вы бреетесь?
— Семь раз.
— Извините за нескромность, — продолжал Рудольфи, — а как вы делаете, что у вас такой пробор?
— Бриолином смазываю голову. А позвольте спросить, почему вас это…
— Бога ради, — ответил Рудольфи, — я просто так, — и добавил: — Интересно. Человек окончил приходскую школу, бреется каждый день и лежит на полу возле керосинки. Вы — трудный человек! — Затем он резко изменил голос и заговорил сурово: — Ваш роман Главлит не пропустит, и никто его не напечатает. Его не примут ни в Зорях», ни в «Рассвете».
— Я это знаю, — сказал я твердо.
— И тем не менее я этот роман у вас беру, — сказал строго Рудольфи (сердце мое сделало перебой), — и заплачу вам (тут он назвал чудовищно маленькую сумму, забыл какую) за лист. Завтра он будет перепечатан на машинке.
— В нем четыреста страниц! — воскликнул я хрипло.
— Я разниму его на части. — железным голосом говорил Рудольфи, — и двенадцать машинисток в бюро перепечатают его завтра к вечеру.
Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфи.
— Переписка на ваш счет. — продолжал Рудольфи, а я только кивал головой, как фигурка. — Затем: надо будет вычеркнуть три слова — на странице первой, семьдесят первой и триста второй.
Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «Апокалипсис», второе — «архангелы» и третье — «дьявол». Я их покорно вычеркнул; правда, мне хотелось сказать, что это наивные вычеркивания, но я поглядел на Рудольфи и замолчал.
— Затем. — продолжал Рудольфи. — вы поедете со мною в Главлит. Причем я вас покорнейше прошу не произносить там ни одного слова.
Все-таки я обиделся.
— Если вы находите, что я могу сказать что-нибудь… — начал я мямлить с достоинством, — то я могу и дома посидеть…
Рудольфи никакого внимания не обратил на эту попытку возмущения и продолжал:
— Нет, вы не можете дома посидеть, а поедете со мною.
— Чего же я там буду делать?
— Вы будете сидеть на стуле, — командовал Рудольфи, — и на все, что вам будут говорить, будете отвечать вежливой улыбкой…
— Но…
— А разговаривать буду я! — закончил Рудольфи. Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов, сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящие денежные бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате.
Я не спал всю ночь, ходил по комнате, смотрел бумажки на свет, пил холодный чай и представлял себе прилавки книжных магазинов. Множество народу входило в магазин, спрашивало книжку журнала. В домах сидели под лампами люди, читали книжку, некоторые вслух.
Боже мой! Как это глупо, как это глупо! Но я был тогда сравнительно молод, не следует смеяться надо мною.
Глава 5
Необыкновенные события
Украсть не трудно. На место положить — вот в чем штука. Имея в кармане браунинг в кобуре, я приехал к моему другу.
Сердце мое екнуло, когда еще сквозь дверь я услыхал его крики:
— Мамаша! А еще кто?..
Глухо слышался голос старушки, его матери:
— Водопроводчик…
— Что случилось? — спросил я, снимая пальто.
Друг оглянулся и шепнул:
— Револьвер сперли сегодня… Вот гады…
— Ай-яй-яй, — сказал я.
Старушка мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу в коридоре, заглядывая в какие-то корзины.
— Мамаша! Это глупо! Перестаньте по полу елозить!
— Сегодня? — спросил я радостно. (Он ошибся, револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе.)
— А кто у вас был?
— Водопроводчик, — кричал мой друг.
— Парфеша! Не входил он в кабинет, — робко говорила мамаша, — прямо к крану прошел…
— Ах, мамаша! Ах, мамаша!
— Больше никого не было? А вчера кто был?
— И вчера никого не было! Только вы заходили, и больше никого.
И друг мой вдруг выпучил на меня глаза.
— Позвольте, — сказал я с достоинством.
— Ах! И до чего же вы обидчивые, эти интеллигенты! — вскричал друг. — Не думаю же я. что это вы сперли.
И тут же понесся смотреть, к какому крану проходил водопроводчик. При этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям.
— Вот так вошел, — говорила старушка, — сказал «здравствуйте»… шапку повесил — и пошел…
— Куда пошел?..
Старушка пошла, подражая водопроводчику, в кухню, друг мой устремился за нею, я сделал одно ложное движение. якобы за ними, тотчас свернул в кабинет, положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился в кухню.
— Где вы его держите? — спрашивал я участливо в кабинете.
Друг открыл левый ящик и показал пустое место.
— Не понимаю. — сказал я. пожимая плечами, — действительно, загадочная история, — да, ясно, что украли.
Мой друг окончательно расстроился.
— А все-таки я думаю, что его не украли, — сказал я через некоторое время, — ведь если никого не было, кто же может его украсть?
Друг сорвался с места и осмотрел карманы в старой шинели в передней. Там ничего не нашлось.
— По-видимому, украли, — сказал я задумчиво, — придется в милицию заявлять.
Друг что-то простонал.
— Куда-нибудь в другое место вы не могли его засунуть?
— Я его всегда кладу в одно и то же место! — нервничая, воскликнул мой приятель и в доказательство открыл средний ящик стола. Потом что-то пошептал губами, открыл левый и даже руку в него засунул, потом под ним нижний, а затем уже с проклятием открыл правый.
— Вот штука! — хрипел он, глядя на меня. — Вот штука… Мамаша! Нашелся!
Он был необыкновенно счастлив в этот день и оставил меня обедать.
Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным, — бросил службу в «Вестнике пароходства».
Я переходил в другой мир. бывал у Рудольфи и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки в ней, все это я позабыл. И лишь не могу забыть одной вещи: это знакомства моего с издателем Рудольфи — Макаром Рвацким.
Дело в том, что у Рудольфи было все: и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция, у него только одного не было — денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю.
В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала, что здесь — «Бюро фотографических принадлежностей».
Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезов ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении.
Все оно кишело людьми. Все они были в пальто и шляпах, оживленно разговаривали между собою. Я услыхал мельком два слова — «проволока» и «банки», страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени.
На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками.
Но сам Рвацкий не понравился мне еще более, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим, худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в «Пароходстве», крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок — при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка.
Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале. Но тем не менее он быстро пришел в себя, взял принесенные мною два экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не читая почти, оба и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг глянул на коробки с надписью «Килька отборная астраханская» и сетью, возле которой был рыболов с засученными штанами, и какая-то щемящая мысль вторглась в меня.
— Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре? — спросил я.
Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости.
Он кашлянул и сказал:
— Через две недели ровно, сейчас маленькая заминка…
Я положил перо.
— Или через неделю, — поспешно сказал Рвацкий, — почему же вы не подписываете?
— Так мы уже тогда заодно и подпишем договор, — сказал я, — когда заминка уляжется.
Рвацкий горько улыбнулся, качая головой.
— Вы мне не доверяете? — спросил он.
— Помилуйте!
— Наконец, в среду! — сказал Рвацкий. — Если вы имеете нужду в деньгах.
— К сожалению, не могу.
— Важно подписать договор, — рассудительно сказал Рвацкий, — а деньги даже во вторник можно.
— К сожалению, не могу. — И тут я отодвинул договоры и застегнул пуговицу.
— Одну минуточку, ах. какой вы! — воскликнул Рвацкий. — А говорят еще, что писатели непрактичный народ.
И тут вдруг тоска изобразилась на его бледном лице, он встревоженно оглянулся, но вбежал какой-то молодой человек и подал Рвацкому картонный билетик, завернутый в белую бумажку. «Это билет с плацкартой. — подумал я, — он куда-то едет…»
Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули, чего я никак не предполагал, что это может быть.
Говоря коротко, Рвацкий выдал мне тут сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя. Я в первый и в последний раз в жизни держал в руках векселя, выданные мне. (За вексельною бумагою куда-то бегали, причем я дожидался, сидя на каких-то ящиках, распространявших сильнейший запах сапожной кожи.) Мне очень польстило, что у меня векселя.
Дальше размыло в памяти месяца два. Помню только, что я у Рудольфи возмущался тем. что он послал меня к такому, как Рвацкий, что не может быть издатель с мутными глазами и рубиновой булавкой. Помню также, как екнуло мое сердце, когда Рудольфи сказал: «А покажите-ка векселя», — и как оно стало на место, когда он сказал сквозь зубы: «Все в порядке». Кроме того, никогда не забуду, как я приехал получать по первому из этих векселей. Началось с того, что вывеска «Бюро фотографических принадлежностей» оказалась несуществующей и была заменена вывескою «Бюро медицинских банок».
Я вошел и сказал:
— Мне нужно видеть Макара Борисовича Рвацкого.
Отлично помню, как подогнулись мои ноги, когда мне ответили, что М. Б. Рвацкий… за границей.
Ах, сердце, мое сердце!.. Но, впрочем, теперь это не важно.
Кратко опять-таки: за фанерной перегородкою был брат Рвацкого. (Рвацкий уехал за границу через десять минут после подписания договора со мною — помните плацкарту?) Полная противоположность по внешности своему брату, Алоизий Рвацкий. атлетически сложенный человек с тяжкими глазами, по векселю уплатил.
По второму через месяц я. проклиная жизнь, получил уже в каком-то официальном учреждении, куда векселя идут в протест (нотариальная контора, что ли, или банк, где были окошечки с сетками).
К третьему векселю я поумнел, пришел к второму Рвацкому за две недели до срока и сказал, что устал.
Мрачный брат Рвацкого впервые обратил на меня свои глаза и буркнул:
— Понимаю. А зачем вам ждать сроков? Можете и сейчас получить.
Вместо восьмисот рублей я получил четыреста и с великим облегчением отдал Рвацкому две продолговатые бумажки.
Ах. Рудольфи, Рудольфи! Спасибо вам и за Макара и за Алоизия. Впрочем, не будем забегать вперед, дальше будет еще хуже.
Впрочем, пальто я себе купил.
И наконец настал день, когда в мороз лютый я пришел в это же самое помещение. Это был вечер. Стосвечовая лампочка резала глаза нестерпимо. Под лампочкой за фанерной перегородкой не было никого из Рвацких (нужно ли говорить, что и второй уехал). Под этой лампочкой сидел в пальто Рудольфи, а перед ним на столе, и на полу, и под столом лежали серо-голубые книжки только что отпечатанного номера журнала. О, миг! Теперь-то мне это смешно, но тогда я был моложе.
У Рудольфи сияли глаза. Дело свое, надо сказать, он любил. Он был настоящий редактор.
Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера, но они не писатели. Они видны бывают на всех генеральных репетициях, во всех театрах, хотя они и не актеры, они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадонн они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству, по имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они. протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветливо ручкой кому-то в бельэтаже, в «Метрополе» они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами.
Один из них сидел перед Рудольфи.
— Ну-с, как же вам понравилась очередная книжка? — спрашивал Рудольфи у молодого человека.
— Илья
Иваныч! — прочувственно воскликнул молодой человек, вертя в руках книжку. — Очаровательная книжка, но, Илья Иваныч, позвольте вам сказать со всею откровенностью, мы, ваши читатели, не понимаем, как вы с вашим вкусом могли поместить эту вещь Максудова. «Вот так номер!» — подумал я, холодея. Но Рудольфи заговорщически подмигнул мне и спросил:
— А что такое?
— Помилуйте! — восклицал молодой человек. — Ведь, во-первых… вы позволите мне быть откровенным, Илья Иванович?
— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал, сияя, Рудольфи.
— Во-первых, это элементарно неграмотно… Я берусь вам подчеркнуть двадцать мест, где просто грубые синтаксические ошибки.
«Надо будет перечитать сейчас же», — подумал я, замирая.
— Ну, а стиль! — кричал молодой человек. — Боже мой, какой ужасный стиль! Кроме того, все это эклектично, подражательно, беззубо как-то. Дешевая философия, скольжение по поверхности… Плохо, плоско, Илья Иванович! Кроме того, он подражает…
— Кому? — спросил Рудольфи.
— Аверченко! — вскричал молодой человек, вертя и поворачивая книжку и пальцем раздирая слипшиеся страницы. — Самому обыкновенному Аверченко! Да вот я вам покажу. — Туг молодой человек начал рыться в книжке, причем я, как гусь, вытянув шею, следил за его руками. Но он, к сожалению, не нашел того, что искал.
«Найду дома» — думал я.
— Найду дома, — посулил молодой человек, — книжка испорчена, ей-богу, Илья Иванович. Он же просто неграмотен! Кто он такой? Где он учился?
— Он говорит, что кончил церковно-приходскую школу, — сверкая глазами, ответил Рудольфи. — а впрочем, спросите у него сами. Прошу вас, познакомьтесь.
Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом.
Я раскланялся с молодым человеком, он оскалил зубы, страдание исказило его приятные черты. Он охнул и выхватил из кармана носовой платок, и тут я увидел, что по щеке у него побежала кровь. Я остолбенел.
— Что с вами? — вскричал Рудольфи.
— Гвоздь, — ответил молодой человек.
— Ну, я пошел, — сказал я суконным языком, стараясь не глядеть на молодого человека.
— Возьмите книги.
Я взял пачку авторских экземпляров, пожал руку Рудольфи, откланялся молодому человеку, причем тот, не переставая прижимать платок к щеке, уронил на пол книжку и палку, задом тронулся к выходу, ударился локтем об стол и вышел.
Снег шел крупный, елочный снег.
Не стоит описывать, как я просидел всю ночь над книгой, перечитывая роман в разных местах. Достойно внимания, что временами роман нравился, а затем тотчас же казался отвратительным. К утру я был от него в ужасе.
События следующего дня мне памятны. Утром у меня был удачно обокраденный друг, которому я подарил один экземпляр романа, а вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события — благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. Торжество умножалось и тем, что одновременно чествовать предполагалось и другого знаменитого литератора — Егора Агапенова, вернувшегося из своей поездки в Китай.
И одевался, и шел я на вечер в великом возбуждении. Как-никак это был тот новый для меня мир, в который я стремился. Этот мир должен был открыться передо мною, и притом с самой наилучшей стороны — на вечеринке должны были быть первейшие представители литературы, весь ее цвет.
И точно, когда я вошел в квартиру, я испытал радостный подъем.
Первым, кто бросился мне в глаза, был тот самый вчерашний молодой человек, пропоровший себе ухо гвоздем. Я узнал его, несмотря на то что он был весь забинтован свежими марлевыми бинтами.
Мне он обрадовался, как родному, и долго жал руки, присовокупляя, что всю ночь читал он мой роман, причем он ему начал нравиться.
— Я тоже, — сказал я ему, — читал всю ночь, но он мне перестал нравиться.
Мы тепло разговорились, при этом молодой человек сообщил мне, что будет заливная осетрина, вообще был весел и возбужден.
Я оглянулся — новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов: хрусталь играл огнями; даже в черной икре сверкали искры; зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут же меня познакомили с известнейшим автором Лесосековым и с Тунским — новеллистом. Дам было мало, но все же были.
Ликоспастов был тише воды, ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих, что с начинающим даже русокудрым Лесосековым его уже сравнивать нельзя, не говоря уже, конечно, об Агапенове или Измаиле Александровиче.
Ликоспастов пробрался ко мне, мы поздоровались.
— Ну что ж, — вздохнув почему-то, сказал Ликоспастов. — поздравляю. Поздравляю от души. И прямо тебе скажу — ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя, просто невозможно. Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу. Но предсказываю тебе, что ты далеко пойдешь! А поглядеть на тебя — тихоня… Но в тихом…
Тут поздравления Ликоспастова были прерваны громкими звонками с парадного, и исполнявший обязанности хозяина критик Конкин (дело происходило в его квартире) вскричал: «Он!»
И верно: это оказался Измаил Александрович. В передней послышался звучный голос, потом звуки лобызаний, и в столовую вошел маленького роста гражданин в целлулоидовом воротнике, в куртке. Человек был сконфужен. тих, вежлив и в руках держал, почему-то не оставив ее в передней, фуражку с бархатным околышем и пыльным круглым следом от гражданской кокарды.
«Позвольте, тут какая-то путаница…» — подумал я, до того не вязался вид вошедшего человека с здоровым хохотом и словом «расстегаи», которое донеслось из передней.
Путаница, оказалось, и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного красавца со светлой вьющейся и холеной бородой, в расчесанных кудрях.
Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, ясен, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:
— Га! Черти!
И тут порхнул и смешок и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белою ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал.
Меня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой.
— Баклажанов! — вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. — Рекомендую. Баклажанов, друг мой.
Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и, от смущения в чужом, большом обществе, надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку.
— Я его с собой притащил! — продолжал Измаил Александрович. — Нечего ему дома сидеть. Рекомендую — чудный малый и величайший эрудит. И, вспомните мое слово, всех нас он за пояс заткнет не позже чем через год! Зачем же ты, черт, на нее фуражку надел? Баклажанов?
Баклажанов сгорел со стыда и ткнулся было здороваться, но у него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усаживания, и уж между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка.
Пир пошел как-то сразу дружно, весело, бодро.
— Расстегаи подвели! — слышал я голос Измаила Александровича. — Зачем же мы с тобою, Баклажанов, расстегаи ели?
Звон хрусталя ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы:
«Про Париж! Про Париж!»
— Ну. были, например, на автомобильной выставке, — рассказывал Измаил Александрович, — открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи… между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка… Ну, француз, конечно, речь говорит… на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю — Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь… Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги… Ну, вывели его, напоили водой, увезли…
— Еще! Еще! — кричали за столом.
В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетриной. Звенело сильней, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж, и я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловил рассказы Измаила Александровича.
— Баклажанов! Почему ты не ешь?..
— Дальше! Просим! — кричал молодой человек, аплодируя…
— Дальше что было?
— Ну, а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу… Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..
— Ай-яй-яй!
— Да-с… Баклажанов! Не спи ты, черт этакий!.. Нуте-с, и от волнения, он неврастеник ж-жуткий, промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку…
— На Шан-Зелизе?!
— Подумаешь! Там это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже… Скандалище жуткий!
Тут хлопнуло в углу, и желтое абрау засветилось передо мною в узком бокале… Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича.
И опять я слушал про Париж.
— Он, не смущаясь, говорит ему: «Сколько?» А тот… ж-жулик! (Измаил Александрович даже зажмурился.) «Восемь, говорит, тысяч!» А тот ему в ответ: «Получите!» И вынимает руку и тут же показывает ему шиш!
— В Гранд-опера?!
— Подумаешь! Плевал он на Гранд-опера! Тут двое министров во втором ряду.
— Ну, а тот? Тот-то что? — хохоча, спрашивал кто-то.
— По матери, конечно!
— Батюшки!
— Ну, вывели обоих, там это просто…
Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое и, наклонившись, увидел, что это кусок лососины, и как он попал под ноги — неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича, и поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными.
Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапенова. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался мой молодой человек, держа, прижав к себе, даму.
Егор Агапенов вошел бодро, вошел размашисто, и следом за ним вошел китаец, маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китайцем — дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.
— Измашь тут? — воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу.
Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул:
— Га! Егор! — и погрузил свою бороду в плечо Агапенова.
Китаец ласково улыбался всем, но никакого звука не произносил, как и в дальнейшем не произнес.
— Познакомьтесь с моим другом китайцем! — кричал Егор, отцеловавшись с Измаилом Александровичем.
Но дальше стало шумно, путано. Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стояло на письменном столе. Василий Петрович пил коньяк. Видел я спящего Баклажанова в кресле. Накурено было крепко. И как-то почувствовалось, что пора, собственно, и отправиться домой.
И совершенно неожиданно у меня произошел разговор с Агапеновым. Я заметил, что, как только дело пошло к трем часам ночи, он стал проявлять признаки какого-то беспокойства. И кое с кем начинал о чем-то заговаривать, причем, сколько я понимаю, в тумане и дыму получал твердые отказы. Я, погрузившись в кресло у письменного стола, пил кофе, не понимая, почему мне щемило душу и почему Париж вдруг представился каким-то скучным, так что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться.
И тут надо мною склонилось широкое лицо с круглейшими очками. Это был Агапенов.
— Максудов? — спросил он.
— Да.
— Слышал, слышал, — сказал Агапенов. — Рудольфи говорил. Вы, говорят, роман напечатали?
— Да.
— Здоровый роман, говорят. Ух, Максудов, — вдруг зашептал Агапенов, подмигивая, — обратите внимание на этот персонаж… Видите?
— Это — с бородой?
— Он, он, деверь мой.
— Писатель? — спросил я, изучая Василия Петровича, который, улыбаясь тревожно-ласковой улыбкой, пил коньяк.
— Нет! Кооператор из Тетюшей… Максудов, не теряйте времени, — шептал Агапенов, — жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят.
Василий Петрович, почувствовав, что речь идет о нем, улыбнулся еще тревожнее и выпил.
— Да самое лучшее… Идея! — хрипел Агапенов. — Я вас сейчас познакомлю… Вы холостой? — тревожно спросил Агапенов.
— Холостой… — сказал я, выпучив глаза на Агапенова.
Радость выразилась на лице Агапенова.
— Чудесно! Вы познакомитесь, и ведите вы его к себе ночевать! Идея! У вас диван какой-нибудь есть? На диване он заснет, ничего ему не сделается. А через два дня он уедет.
Вследствие ошеломления я не нашелся ничего ответить, кроме одного:
— У меня один диван…
— Широкий? — спросил тревожно Агапенов.
Но тут я уже немного пришел в себя. И очень вовремя, потому что Василий Петрович уж начал ерзать с явной готовностью познакомиться, а Агапенов начал меня тянуть за руку.
— Простите, — сказал я, — к сожалению, ни в каком случае не могу его взять. Я живу в проходной комнате в чужой квартире, а за ширмой спят дети хозяйки (я хотел добавить еще, что у них скарлатина, потом решил, что это лишнее нагромождение лжи, и все-таки добавил)… и у них скарлатина.
— Василий! — вскричал Агапенов. — У тебя была скарлатина?
Сколько раз в жизни мне приходилось слышать слово «интеллигент» по своему адресу. Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название. Но тут я все же собрал силы, и не успел Василий Петрович с молящей улыбкой ответить: «Бы…» — как я твердо сказал Агапенову:
— Категорически отказываюсь взять его. Не могу.
— Как-нибудь, — тихо шепнул Агапенов, — а?
— Не могу.
Агапенов повесил голову, пожевал губами.
— Но, позвольте, он же к вам приехал? Где же он остановился?
— Да у меня и остановился, черт его возьми, — сказал тоскливо Агапенов.
— Ну. и…
— Да теща ко мне с сестрой приехала сегодня, поймите, милый человек, а тут китаец еще… И носит их черт, — внезапно добавил Агапенов, — этих деверей. Сидел бы в Тетюшах…
И тут Агапенов ушел от меня.
Смутная тревога овладела мною почему-то, и, не прощаясь ни с кем, кроме Конкина, я покинул квартиру.
Глава 6
Катастрофа
Да, эта глава будет, пожалуй, самой короткой. На рассвете я почувствовал, что по спине моей прошел озноб. Потом он повторился. Я скорчился и влез под одеяло с головой, стало легче, но только на минуту. Вдруг сделалось жарко. Потом опять холодно, и до того, что зубы застучали. У меня был термометр. Он показал 38,8. Стало быть, я заболел.
Совсем под утро я попытался заснуть и до сих пор помню это утро. Только что закрою глаза, как ко мне наклоняется лицо в очках и бубнит: «Возьми», а я повторяю только одно: «Нет, не возьму». Василий Петрович не то снился, не то действительно поместился в моей комнате, причем ужас заключался в том, что он наливал коньяк себе, а пил его я. Париж стал совершенно невыносим. Гранд-опера, и в ней кто-то показывает кукиш. Сложит, покажет и спрячет опять. Сложит, покажет.
— Я хочу сказать правду, — бормотал я, когда день уже разлился за драной нестираной шторой, — полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он — чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном секрете, т-сс!
Губы мои высохли как-то необыкновенно быстро. Я, неизвестно зачем, положил рядом с собою книжку журнала: с целью читать, надо полагать. Но ничего не прочел. Хотел поставить еще раз термометр, но не поставил. Термометр лежит рядом на стуле, а мне за ним почему-то надо идти куда-то. Потом стал совсем забываться. Лицо моего сослуживца из «Пароходства» я помню, а лицо доктора расплылось. Словом, это был грипп. Несколько дней я проплавал в жару, а потом температура упала. Я перестал видеть Шан-Зелизе, и никто не плевал на шляпку, и Париж не растягивался на сто верст.
Мне захотелось есть, и добрая соседка, жена мастера, сварила мне бульон. Я его пил из чашки с отбитой ручкой, пытался читать свое собственное сочинение, но читал строк по десяти и оставлял это занятие.
На двенадцатый примерно день я был здоров. Меня удивило то, что Рудольфи не навестил меня, хотя я и написал ему записку, чтобы он пришел ко мне.
На двенадцатый день я вышел из дому, пошел в «Бюро медицинских банок» и увидел на нем большой замок. Тогда
я сел в трамвай и долго ехал, держась за раму от слабости и дыша на замерзшее стекло. Приехал туда, где жил Рудольфи. Позвонил. Не открывают. Еще раз позвонил. Открыл старичок и поглядел на меня с отвращением.
— Рудольфи дома?
Старичок посмотрел на носки своих ночных туфель и ответил:
— Нету его.
На мои вопросы — куда он девался, когда будет и даже на нелепый вопрос, почему замок висит на «Бюро», старичок как-то мялся, осведомился, кто я таков. Я объяснил все, даже про роман рассказал. Тогда старичок сказал:
— Он уехал в Америку неделю тому назад.
Можете убить меня, если я знаю, куда девался Рудольфи и почему.
Куда девался журнал, что произошло с «Бюро», какая Америка, как он уехал, не знаю и никогда не узнаю. Кто таков старичок, черт его знает!
Под влиянием слабости после гриппа в истощенном моем мозгу мелькнула даже мысль, что не видел ли я во сне все — то есть и самого Рудольфи, и напечатанный роман, и Шан-Зелизе, и Василия Петровича, и ухо, распоротое гвоздем. Но по приезде домой я нашел у себя девять голубых книжек. Был напечатан роман. Был. Вот он.
Из напечатавшихся в книжке я, к сожалению, не знал никого. Так что ни у кого не мог и справиться о Рудольфи.
Съездив еще раз в «Бюро»,
я убедился, что никакого бюро там уже нет, а есть кафе со столиками, покрытыми клеенкой.
Нет, вы объясните мне, куда девались несколько сот книжек? Где они?
Такого загадочного случая, как с этим романом и Рудольфи, никогда в моей жизни не было.
Глава 7
Самым разумным в таких странных обстоятельствах представлялось просто все это забыть и перестать думать о Рудольфи, и об исчезновении вместе с ним и номера журнала. Я так и поступил.
Однако это не избавляло меня от жестокой необходимости жить дальше. Я проверил свое прошлое.
— Итак, — говорил я самому себе, во время мартовской вьюги сидя у керосинки, — я побывал в следующих мирах.
Мир первый: университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. Не станем спорить о том, поступил ли я легкомысленно или нет. После невероятных приключений (хотя, впрочем, почему невероятных? — кто же не переживал невероятных приключений во время гражданской войны?), словом, после этого я оказался в «Пароходстве». В силу какой причины? Не будем таиться. Я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир «Пароходства». И, собственно говоря, открылся передо мною мир, в который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым. Как представлю себе Париж, так какая-то судорога проходит во мне и не могу влезть в дверь. А все этот чертов Василий Петрович! И сидел бы в Тетюшах! И как ни талантлив Измаил Александрович, но уж очень противно в Париже. Так, стало быть, остался я в какой-то пустоте? Именно так.
Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело, а на вечеринки можешь и не ходить. Дело не в вечеринках, а в том-то вся и соль, что я решительно не знал, об чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем вся беда.
Кстати, о романе. Глянем правде в глаза. Его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи, явно не успев распространить книжку. А мой друг, которому я презентовал экземпляр, и он не читал. Уверяю вас.
Да, кстати: я уверен, что, прочитав эти строки, многие назовут меня интеллигентом и неврастеником. Насчет первого не спорю, а насчет второго предупреждаю серьезным образом, что это заблуждение. У меня и тени неврастении нет. И вообще, раньше чем этим словом швыряться, надо бы узнать поточнее, что такое неврастения, да рассказы Измаила Александровича послушать. Но это в сторону. Нужно было прежде всего жить, а для этого нужно было деньги зарабатывать.
Итак, прекратив мартовскую болтовню, я пошел на заработки. Тут меня жизнь взяла за шиворот и опять привела в «Пароходство», как блудного сына. Я сказал секретарю, что роман написал. Его это не тронуло. Одним словом, я условился, что буду писать четыре очерка в месяц. Получая соответствующее законам вознаграждение за это. Таким образом, некоторая материальная база намечалась. План заключался в том, чтобы сваливать как можно скорее с плеч эти очерки и по ночам опять-таки писать.
Первая часть была мною выполнена, а со второй получилось черт знает что. Прежде всего я отправился в книжные магазины и купил произведения современников. Мне хотелось узнать, о чем они пишут, как они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла.
При покупке я не щадил своих средств, покупая все самое лучшее, что только оказалось на рынке. В первую голову я приобрел произведения Измаила Александровича, книжку Агапенова, два романа Лесосекова, два сборника рассказов Флавиана Фиалкова и многое еще. Первым долгом я, конечно, бросился на Измаила Александровича. Неприятное предчувствие кольнуло меня, лишь только я глянул на обложку. Книжка называлась «Парижские кусочки». Все они мне оказались знакомыми от первого кусочка до последнего. Я узнал и проклятого Кондюкова, которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шан-Зелизе (один был, оказывается, Помадкин, другой Шерстяников), и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-опера. Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа.
Агапенов, оказывается, успел выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки, — «Тетюшанская гомоза». Нетрудно было догадаться, что Василия Петровича не удалось устроить ночевать нигде, ночевал он у Агапенова, тому самому пришлось использовать истории бездомного деверя. Все было понятно, за исключением совершенно непонятного слова «гомоза».
Дважды я принимался читать роман Лесосекова «Лебеди», два раза дочитывал до сорок пятой страницы и начинал читать с начала, потому что забывал, что было в начале. Это меня серьезно испугало. Что-то неладное творилось у меня в голове — я перестал или еще не умел понимать серьезные вещи. И я, отложив Лесосекова, принялся за Флавиана и даже Ликоспастова и в последнем налетел на сюрприз. Именно, читая рассказ, в котором был описан некий журналист (рассказ назывался «Жилец по ордеру»), я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, промокашку на столе… Иначе говоря, в рассказе был описан… я!
Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза… Ну, я. одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист и чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил! Невыразима была моя грусть по прочтении ликоспастовского рассказа, и решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликоспастову.
Однако грусть и размышления мои по поводу моего несовершенства ничего, собственно, не стоили, по сравнению с ужасным сознанием, что я ничего не извлек из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидал, и все мне опостылело. И, как червь, начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, собственно, писателя из меня не выйдет. И тут же столкнулся с еще более ужасной мыслью о том, что… а ну, как выйдет такой, как Ликоспастов? Осмелев, скажу и больше: а вдруг даже такой, как Агапенов? Гомоза? Что такое гомоза? И зачем кафры? Все это чепуха, уверяю вас!
Вне очерков я много проводил времени на диване, читая разные книжки, которые, по мере приобретения, укладывал на хромоногой этажерке и на столе и попросту в углу. Со своим собственным произведением я поступил так: уложил оставшиеся девять экземпляров и рукопись в ящики стола, запер их на ключ и решил никогда, никогда в жизни к ним не возвращаться.
Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять, как тогда, я проснулся в слезах! Какая слабость, ах, какая слабость! И опять те же люди, и опять дальний город, и бок рояля, и. выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу.
Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?
Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра, и не раз я жалел, что кошки уже нет на свете и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы!
С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют,
я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса и ноют, ноют. О нет, это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах. И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист.
Вон бежит, задыхаясь, человечек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человечка, выстрел, он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица. А в высоте луна, а вдали цепочкой грустные, красноватые огоньки в селении.
Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу… А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда?
И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать?
А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает Дог рать гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу — напевает.
Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить ни на вечеринки, ни в театр ходить не нужно.
Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу.
В апреле месяце, когда исчез снег со двора, первая картинка была разработана. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили.
В конце апреля и пришло письмо Ильчина.
И теперь, когда уже известна читателю история романа, я могу продолжать повествование с того момента, когда я встретился с Ильчиным.
Глава 8
Золотой конь
— Да, — хитро и таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин, — я ваш роман прочитал.
Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлестала вода. Впервые в жизни я видел перед собою читателя.
— А как же вы его достали? Видите ли… Книжка… — Я намекал на роман.
— Вы Гришу Айвазовского знаете?
— Нет.
Ильчин поднял брови, он изумился.
— Гриша заведует литературной частью в Когорте Дружных.
— А что это за Когорта?
Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня.
Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал:
— Когорта — это театр. Вы никогда в нем не были?
— Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве.
Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.
— Гриша был в восторге, — почему-то еще таинственнее говорил Ильчин, — и дал мне книжку. Прекрасный роман.
Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.
— И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову, — зашептал Ильчин, от таинственности прищуривая левый глаз, — из этого романа вам нужно сделать пьесу!
«Перст судьбы!» — подумал я и сказал:
— Вы знаете, я уже начал ее писать.
Ильчин изумился до того, что правою рукою стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собою.
— Чудесно, чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?
— Нет.
— Наш заведующий литературной частью.
— Ага.
Дальше Ильчин сказал, что, ввиду того что в журнале напечатана только треть романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне, и, наученный опытом, уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер.
Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина.
А тот шептал:
— Вы напишете пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно! А?
Грудь моя волновалась, я был пьян дневной грозою, какими-то предчувствиями. А Ильчин говорил:
— И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать… А?
Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось: «Вот дитя природы!»
— Иван Васильевич! — шепнул он. — Иван Васильевич! Как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе Независимого? — И добавил: — Ну и ну!..
В голове у меня все вертелось, и главным образом от того, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто в давних сновидениях я видел его уже, и вот я оказался в нем.
Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность. Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали, настало беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе посветлело искусственно — это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на триста. Под потолком тускло горели две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы. конь.
— У нас выходной, — шептал торжественно, как в храме, Ильчин, потом он оказался у другого уха и продолжал: — У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя. Вы не смотрите, что зал кажется маленьким, на самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные. А если старика удастся переупрямить, то, чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену! А?
«Он соблазняет меня, — думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий, — но почему он совсем не то говорит? Право, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь, и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить для того, чтобы пьеса пошла…»
— Этот мир мой… — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух.
— А?
— Нет, я так.
Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку:
«Досточтимый Петр Петрович!
Будьте добры обязательно устроить автору «Черного снега» место на «Фаворита».
Ваш душевно Ильчин».
— Это называется контрамарка, — объяснил мне Ильчин, и я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку.
С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки из страниц уже не появлялись, коробка раздвинулась до размеров учебной сцены.
Вечером я с нетерпением ждал свидания с золотым конем.
Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или дурна. Да это меня и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка и в коробке выходили одетые в костюмы XVIII века. Золотой конь стоял сбоку сцены, действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды, а я наслаждался.
Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же точно кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркою в руке и сказать очень смешное, и это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого.
На «Фаворите» я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью «Администратор Учебной сцены», побывал три раза, причем в первый раз во 2-м ряду, во второй — в 6-м, а в третий — в 11-м. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах и где один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот.
Затем настал май, и как-то вечером соединились наконец и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании Учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками.
Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах, а Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно — «ах, ах, ах», — причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал.
«Какие траурные глаза у него, — я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. — Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, — думал я, — и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою». Мне Миша очень понравился.
И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и в один присест я прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанною. Вдруг, почувствовав угрызения совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно.
Между слушателями произошел разговор, и, хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен.
Миша имел обыкновение, обсуждая что-либо, бегать по комнате, иногда внезапно останавливаясь.
— Осип Иваныч? — тихо спросил Ильчин, щурясь.
— Ни-ни, — отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.
— Вообще старейшины… — начал Ильчин.
— Не думаю, — буркнул Миша. Дальше слышалось: «Да ведь на одних Галиных да на подсобляющем не очень-то…» (Это — Евлампия Петровна.)
— Простите. — заговорил Миша резко и стал рубить рукой. — я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре!
— А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна.)
— Да и Индия, тоже неизвестно, как отнесется к этому дельцу, — добавил Ильчин.
— На кругу бы сразу все поставить, — тихо шептал Ильчин, — они так с музычкой и поедут.
— Сивцев! — многозначительно сказала Евлампия Петровна.
Туг на лице моем выразилось, очевидно, полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.
— Мы все убедительно просим, Сергей Леонтьевич, — сказал Миша, — чтобы пьеса была готова не позже августа… Нам очень, очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть.
Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу. Чем дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя давно уже не звучала, роман потух и лежал мертвый, как будто и нелюбимый. Цветные фигурки не шевелились на столе, никто не приходил на помощь. Перед глазами теперь вставала коробка Учебной сцены. Герои разрослись и вошли в нее складно и очень бодро, но, по-видимому, им так понравилось на ней рядом с золотым конем, что уходить они никуда не собирались, и события развивались, а конца им не виделось. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе.
Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. В пьесе было тринадцать картин.
Глава 9
Началось
Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света, сбоку серебряный колоссальных размеров венок в стеклянном шкафу с лентами и надписью: «Любимому Независимому Театру от московских присяжных…» (одно слово загнулось), перед собою я видел улыбающиеся актерские лица, по большей части меняющиеся.
Издалека доносилась тишина, а изредка какое-то дружное тоскливое пение, потом какой-то шум, как в бане. Там шел спектакль, пока я читал свою пьесу.
Лоб я постоянно вытирал платком и видел перед собою коренастого плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове. Он стоял в дверях и не спускал с меня глаз, как будто что-то обдумывал.
Он только и запомнился, все остальное прыгало, светилось и менялось: неизменен был, кроме того, венок. Он резче всего помнится. Таково было чтение, но уже не на Учебной сцене, а на Главной.
Уходя ночью, я, обернувшись, посмотрел, где я был. В центре города, там, где рядом с театром гастрономический магазин, а напротив «Бандажи и корсеты», стояло ничем не примечательное здание, похожее на черепаху и с матовыми, кубической формы, фонарями.
На следующий день это здание предстало передо мною в осенних сумерках внутри. Я, помнится, шел по мягкому ковру солдатского сукна вокруг чего-то, что, как мне казалось, было внутренней стеной зрительного зала, и очень много народу мимо меня сновало. Начинался сезон.
И я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого, приятного же человека с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич.
Над письменным столом Княжевича висела яркая радостная картинка… помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом — бледно-зеленый веселый сад…
— А, товарищ Максудов, — приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову набок, — а мы уж вас поджидаем, поджидаем! Прошу покорнейше, садитесь, садитесь!
И я сел в приятнейшее кожаное кресло.
— Слышал, слышал, слышал вашу пиэсу, — говорил, улыбаясь. Княжевич и почему-то развел руками, — прекрасная пьеса! Правда, таких пьес мы никогда не ставили, ну, а эту вдруг возьмем да и поставим, да и поставим…
Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза.
— …и разбогатеете до ужаса, — продолжал Княжевич, — в каретах будете ездить! Да-с, в каретах!
«Однако, — думалось мне, — он сложный человек, этот Княжевич… очень сложный…»
И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению моему, все напряженнее.
Поговорив еще со мною, Княжевич позвонил.
— Мы вас сейчас отправим к Гавриилу Степановичу, прямо ему, так сказать, в руки передадим, в руки! Чудеснейший человек Гавриил-то наш Степанович… Мухи не обидит! Мухи!
Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так:
— Гавриил Степанович еще не прибыли в театр.
— А не прибыл, так прибудет, — радостно, как и раньше, отозвался Княжевич, — не пройдет и получасу, как прибудет! А вы, пока суд да дело, погуляйте по театру, полюбуйтесь, повеселитесь, попейте чаю в буфете да бутербродов-то, бутербродов-то не жалейте, не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича!
И я пошел гулять по театру. Хождение по
сукну доставляло мне физическое удовольствие, и еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина.
В полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя:
— Петр Бомбардов.
Бомбардов был актером Независимого Театра, сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса.
С первого же момента я почему-то подружился с Бом-бардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека.
— Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе? — спросил вежливо Бомбардов.
Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченых овальных рамах.
Из первой рамы на нас глянула писанная маслом женщина лет тридцати, с экстатическими глазами, во взбитой крутой челке, декольтированная.
— Сара Бернар, — объяснил Бомбардов.
Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами.
— Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра, — вежливо сказал Бомбардов.
Соседа Севастьянова я узнал сам, это был Мольер. За Мольером помещалась дама в крошечной, набок надетой шляпке блюдечком, в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, оттопырив мизинец.
— Людмила Сильвестровна Пряхина, артистка нашего театра, — сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил.
— Виноват, а это кто же? — удивился я, глядя на жестокое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру.
— Император Нерон. — сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас.
— А почему?..
— По приказу Ивана Васильевича, — сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. — Нерон был певец и артист.
— Так, так, так.
За Нероном помещался Грибоедов, за Грибоедовым — Шекспир в отложном крахмальном воротничке, за ним — неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом в театре в течение сорока лет.
Далее шли Живокини, Гольдони, Бомарше, Стасов. Щепкин. А потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер, под ним барское лицо, нафиксатуаренные усы, генеральские кавалерийские эполеты, красный лацкан, лядунка.
— Покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский-Эшаппар де Бионкур, командир лейб-гвардии уланского его величества полка. — И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал: — История его совершенно необыкновенная. Как-то приехал он на два дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально, сел в первом ряду, смотрит… Не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то сделалось. Лес в закате, птицы перед сном засвистели, за сценой благовест к вечерне в селенье дальнем… Смотрят, генерал сидит и батистовым платком утирает глаза.
После спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платоновичу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: «Научите, что делать?!»
Ну, туг они затворились с Аристархом Платоновичем…
— Виноват, а кто это Аристарх Платонович? — спросил я.
Бомбардов удивленно поглядел на меня, но стер удивление с лица тотчас же и объяснил:
— Во главе нашего театра стоят двое директоров — Иван Васильевич и Аристарх Платонович. Вы, простите, не москвич?
— Нет, я — нет… Продолжайте, пожалуйста.
— …заперлись, и о чем говорили, неизвестно, но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания: «Петербург. Его величеству. Почувствовав призвание быть актером вашего величества Независимого Театра, всеподданнейше прошу об отставке. Комаровский-Бионкур».
Я ахнул и спросил:
— И что же было?!
— Компот такой получился, что просто прелесть, — ответил Бомбардов. — Александру Третьему телеграмму подали в два часа ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик… говорит: «Давайте сюда! Что там с моим Эшаппаром?» Прочитал и две минуты не мог ничего сказать, только побагровел и сопел, потом говорит: «Дайте карандаш!» — и тут же начертал резолюцию на телеграмме: «Чтоб духу его в Петербурге не было. Александр». И лег спать.
А генерал на другой день в визитке, в брюках пришел прямо на репетицию.
Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали в театр. Вы можете видеть ее в нашем музее редкостей.
— Какие же роли он играл? — спросил я.
— Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах, — ответил Бомбардов, — у нас, знаете ли, все больше насчет Островского, купцы там… А потом долго играли «Власть тьмы»… Ну, натурально, манеры у нас, сами понимаете… А он все насквозь знал, даме ли платок, налить ли вина, по-французски говорил идеально, лучше французов… И была у него еще страсть: до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем. Вот какая странная история!
— Нет! Я не согласен с вами! — воскликнул я горячо. — У вас так хорошо в театре, что, будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же…
— Каратыгин, Тальони, — перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету, — Екатерина Вторая, Карузо. Феофан Прокопович. Игорь Северянин, Баттистини, Эврипид, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева.
Но тут беззвучно рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гавриил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо:
— Будьте тверды… — И его размыло где-то в полумраке.
Я же двинулся вслед за человеком в петлицах, который иноходью шел впереди меня, изредка подманивая меня пальцем и улыбаясь болезненной улыбкой.
На стенах широкого коридора, по которому двигались мы, через каждые десять шагов встречались огненные электрические надписи: «Тишина! Рядом репетируют!»
Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня ведут, вскочил, шепотом гаркнул: «Здравия желаю!» — и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем театра «НТ».
Туг я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал потолок. радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь. Стояла тут мягкая шелковая мебель. Еще портьера, а за нею застекленная матовым стеклом дверь. Мой новый проводник в пенсне к ней не приблизился, а сделал жест, означавший «постучите-с!», и тотчас пропал.
Я стукнул тихо, взялся за ручку, сделанную в виде головы посеребренного орла, засипела пневматическая пружина, и дверь впустила меня. Я лицом ткнулся в портьеру, запутался, откинул ее…
Меня не будет, меня не будет очень скоро! Я решился, но все же это страшновато… Но, умирая, я буду вспоминать кабинет, в котором меня принял управляющий материальным фондом театра Гавриил Степанович.
Лишь только я вошел, нежно прозвенели и заиграли менуэт громадные часы в левом углу.
В глаза мне бросились разные огни. Зеленый с письменного стола, то есть, вернее, не стола, а бюро, то есть не бюро, а какого-то очень сложного сооружения с десятками ящиков, с вертикальными отделениями для писем, с другою лампою на гнущейся серебристой ноге, с электрической зажигалкой для сигар.
Адский красный огонь из-под стола палисандрового дерева, на котором три телефонных аппарата. Крохотный белый огонек с маленького столика с плоской заграничной машинкой, с четвертым телефонным аппаратом и стопкой золотообрезной бумаги с гербами «НТ». Огонь отраженный, с потолка.
Пол кабинета был затянут сукном, но не солдатским, а бильярдным, а поверх его лежал вишневый, в вершок толщины, ковер. Колоссальный диван с подушками и турецкий кальян возле него. На дворе был день в центре Москвы, но ни один луч, ни один звук не проникал в кабинет снаружи через окно, наглухо завешенное в три слоя портьерами. Здесь была вечная мудрая ночь, здесь пахло кожей, сигарой, духами. Нагретый воздух ласкал лицо и руки.
На стене, затянутой тисненным золотом сафьяном, висел большой фотографический портрет человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. Я догадался, что это Иван Васильевич или Аристарх Платонович, но кто именно из двух, не знал.
Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился небольшого роста человек с французской черной бородкой, с усами-стрелами, торчащими к глазам.
— Максудов, — сказал я.
— Извините, — отозвался новый знакомый высоким тенорком и показал, что сейчас, мол, только дочитаю бумагу и…
…он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно повернувшись спиной к бюро, уставился на меня, ничего не говоря. Он прямо и откровенно смотрел мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают новый, только что приобретенный механизм. Он не скрывал, что изучает меня, он даже прищурился. Я отвел глаза — не помогло, я стал ерзать на диване… Наконец я подумал: «Эге-ге…» — и сам, правда, сделав над собою очень большое усилие, уставился в ответ в глаза человеку. При этом смутное неудовольствие почувствовал почему-то по адресу Княжевича.
«Что за странность, — думал я, — или он слепой, этот Княжевич… мухи… мухи… не знаю… не знаю… Стальные, глубоко посаженные маленькие глаза… в них железная воля, дьявольская смелость, непреклонная решимость… французская бородка… почему он мухи не обидит?.. Он жутко похож на предводителя мушкетеров у Дюма… Как его звали… Забыл, черт возьми!»
Дальнейшее молчание стало нестерпимым, и прервал его Гавриил Степанович. Он игриво почему-то улыбнулся и вдруг пожал мне коленку.
— Ну, что ж, договорчик, стало быть, надо подписать? — заговорил он.
Вольт на табурете, обратный вольт, и в руках у Гавриила Степановича оказался договор.
— Только уж не знаю, как его подписывать, не согласовав с Иваном Васильевичем? — И тут Гавриил Степанович бросил невольный краткий взгляд на портрет.
«Ага! Ну, слава богу… теперь знаю, — подумал я, — это Иван Васильевич».
— Не было б беды? — продолжал Гавриил Степанович. — Ну, уж для вас разве! — Он улыбнулся дружелюбно.
Тут без стука открылась дверь, откинулась портьера, и вошла дама с властным лицом южного типа, глянула на меня. Я поклонился ей, сказал: «Максудов»…
Дама пожала мне крепко, по-мужски, руку, ответила:
— Августа Менажраки, — села на табурет, вынула из кармашка зеленого джемпера золотой мундштук, закурила и тихо застучала на машинке.
Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался.
Мне хотелось сказать: «Играйте мою пьесу, мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение двух часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать!»
По счастью, я этого не произнес.
Запомнилось, что часто в договоре попадались слова «буде» и «поелику» и что каждый пункт начинался словами: «Автор не имеет права».
Автор не имел права передавать свою пьесу в другой театр Москвы.
Автор не имел права передавать свою пьесу в какой-либо театр города Ленинграда.
Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР.
Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город УССР.
Автор не имел права печатать свою пьесу.
Автор не имел права чего-то требовать от театра, а чего — я забыл (пункт 21-й).
Автор не имел права протестовать против чего-то, и чего — тоже не помню.
Один, впрочем, пункт нарушал единообразие этого документа — это был пункт 57-й. Он начинался словами:
«Автор обязуется». Согласно этому пункту, автор обязывался «безоговорочно и незамедлительно производить в своей пьесе поправки, изменения, добавления или сокращения, буде дирекция, или какие-либо комиссии, или учреждения, или организации, или корпорации, или отдельные лица, облеченные надлежащими на то полномочиями, потребуют таковых, — не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15-м».
Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слов «вознаграждение» следовало пустое место.
Это место я вопросительно подчеркнул ногтем.
— А какое вознаграждение вы считали бы для себя приемлемым? — спросил Гавриил Степанович, не сводя с меня глаз.
— Антон Антонович Княжевич, — сказал я, — сказал, что мне дадут две тысячи рублей…
Мой собеседник уважительно наклонил голову.
— Так, — молвил он, помолчал и добавил: — Эх, деньги, деньги! Сколько зла из-за них в мире! Все мы только и думаем о деньгах, а вот о душе подумал ли кто?
Я до того во время моей трудной жизни отвык от таких сентенций, что, признаться, растерялся… подумал:
«А кто знает, может, Княжевич и прав… Просто я зачерствел и стал подозрителен…» Чтобы соблюсти приличие, я испустил вздох, а собеседник ответил мне, в свою очередь, вздохом, потом вдруг игриво подмигнул мне, что совершенно не вязалось со вздохом, и шепнул интимно:
— Четыреста рубликов? А? Только для вас? А?
Должен признаться, что я огорчился. Дело в том, что у меня как раз не было ни копейки денег и я очень рассчитывал на эти две тысячи.
— А может быть, можно тысячу восемьсот? — спросил я. — Княжевич говорил…
— Популярности ищет, — горько отозвался Гавриил Степанович.
Туг в дверь стукнули, и человек в зеленых петлицах внес поднос, покрытый белой салфеткой. На подносе помещался серебряный кофейник, молочник, две фарфоровые чашки, апельсинного цвета снаружи и золоченые внутри, два бутерброда с зернистой икрой, два с оранжевым прозрачным балыком, два с сыром, два с холодным ростбифом.
— Вы отнесли пакет Ивану Васильевичу? — спросила вошедшего Августа Менажраки.
Тот изменился в лице и покосил поднос.
— Я, Августа Авдеевна, в буфет бегал, а Игнутов с пакетом побежал. — заговорил он.
— Я не Игнутову приказывала, а вам, — сказала Менажраки, — это не игнутовское дело пакеты Ивану Васильевичу относить. Игнутов глуп, что-нибудь перепутает, не так скажет… Вы что же, хотите, чтобы у Ивана Васильевича температура поднялась?
— Убить хочет, — холодно сказал Гавриил Степанович.
Человек с подносом тихо простонал и уронил ложечку.
— Где Пакин был в то время, как вы пропадали в буфете? — спросила Августа Авдеевна.
— Пакин за машиной побежал, — объяснил спрашиваемый, — я в буфет побежал, говорю Игнутову: «Беги к Ивану Васильевичу».
— А Бобков?
— Бобков за билетами бегал.
— Поставьте здесь! — сказала Августа Авдеевна, нажала кнопку, и из стены выскочила столовая доска.
Человек в петлицах обрадовался, покинул поднос, задом откинул портьеру, ногой открыл дверь и вдавился в нее.
— О душе, о душе подумайте. Клюквин! — вдогонку ему крикнул Гавриил Степанович и, повернувшись ко мне, интимно сказал:
— Четыреста двадцать пять. А?
Августа Авдеевна надкусила бутерброд и тихо застучала одним пальцем.
— А может быть, тысячу триста? Мне, право, неловко, но я сейчас не при деньгах, а мне портному платить…
— Вот этот костюм шил? — спросил Гавриил Степанович, указывая на мои штаны.
— Да.
— И сшил-то, шельма, плохо, — заметил Гавриил Степанович, — гоните вы его в шею!
— Но, видите ли…
— У нас, — затрудняясь, сказал Гавриил Степанович, — как-то и прецедентов-то не было, чтобы мы авторам деньги при договоре выдавали, но уж для вас… четыреста двадцать пять!
— Тысячу двести, — бодрее отозвался я, — без них мне не выбраться… трудные обстоятельства…
— А вы на бегах не пробовали играть? — участливо спросил Гавриил Степанович.
— Нет, — с сожалением ответил я.
— У нас один актер тоже запутался, поехал на бега и, представьте, выиграл полторы тысячи. А у нас вам смысла нет брать. Дружески говорю, переберете — пропадете! Эх, деньги! И зачем они? Вот у меня их нету, и так легко у меня на душе, так спокойно… — И Гавриил Степанович вывернул карман, в котором действительно денег не было, а была связка ключей на цепочке.
— Тысячу, — сказал я.
— Эх, пропади все пропадом! — лихо вскричал Гавриил Степанович. — Пусть меня потом хоть расказнят, но выдам вам пятьсот рублей. Подписывайте!
Я подписал договор, причем Гавриил Степанович разъяснил мне, что деньги, которые будут даны мне, являются авансом, каковой я обязуюсь погасить из первых же спектаклей. Уговорились, что сегодня я получу семьдесят пять рублей, через два дня — сто рублей, потом в субботу — еще сто, а остальные — четырнадцатого.
Боже! Какой прозаической, какой унылой показалась мне улица после кабинета. Моросило, подвода с дровами застряла в воротах, и ломовой кричал на лошадь страшным голосом, граждане шли с недовольными из-за погоды лицами. Я несся домой, стараясь не видеть картин печальной прозы. Заветный договор хранился у моего сердца.
В своей комнате я застал своего приятеля (смотри историю с револьвером).
Я мокрыми руками вытащил из-за пазухи договор, вскричал:
— Читайте!
Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня.
— Это что за филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете? — спросил он меня.
— Вы в театральных делах ничего не понимаете, стало быть, и не говорите! — рассердился и я.
— Что такое — «обязуется, обязуется», а они обязуются хоть в чем-нибудь? — забурчал мой друг.
Я горячо стал рассказывать ему о том, что такое картинная галерея, какой душевный человек Гавриил Степанович, упомянул о Саре Бернар и генерале Комаровском. Я хотел передать, как звенит менуэт в часах, как дымится кофе, как тихо, как волшебно звучат шаги на сукне, но часы били у меня в голове, я сам-то видел и золотой мундштук, и адский огонь в электрической печке, и даже императора Нерона, но ничего этого передать не сумел.
— Это Нерон у них составляет договоры? — дико сострил мой друг.
— Да ну вас! — вскричал я и вырвал у него договор.
Порешили позавтракать, послали Дусиного брата в магазин.
Шел осенний дождик. Какая ветчина была, какое масло! Минуты счастья.
Московский климат известен своими капризами. Через два дня был прекрасный, как бы летний, теплый день. И я спешил в Независимый. Со сладким чувством, предвкушая получку ста рублей, я приблизился к Театру и увидел в средних дверях скромную афишу.
Я прочитал:
Репертуар, намеченный в текущем сезоне:
Эсхил — «Агамемнон»
Софокл — «Филоктет»
Лопе де Вега — «Сети Фенизы»
Шекспир — «Король Лир»
Шиллер — «Орлеанская дева»
Островский — «Не от мира сего»
Максудов — «Черный снег».
Открывши рот, я стоял на тротуаре. — и удивляюсь, почему у меня не вытащили бумажник в это время. Меня толкали, говорили что-то неприятное, а я все стоял, созерцая афишу. Затем я отошел в сторонку, намереваясь увидеть, какое впечатление производит афиша на проходящих граждан.
Выяснилось, что не производит никакого. Если не считать трех-четырех, взглянувших на афишу, можно сказать, что никто ее и не читал.
Но не прошло и пяти минут, как я был вознагражден сторицей за свое ожидание. В потоке шедших к театру я отчетливо разглядел крупную голову Егора Агапенова. Шел он к театру с целой свитой, в которой мелькнул Ликоспастов с трубкой в зубах и неизвестный с толстым приятным лицом. Последним мыкался кафр в летнем, необыкновенно желтом пальто и почему-то без шляпы. Я ушел глубже в нишу, где стояла незрячая статуя, и смотрел.
Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Ликоспастовым. Он первый задержался и прочел. Улыбка еще играла на его лице, еще слова какого-то анекдота договаривали его губы. Вот он дошел до «Сетей Фенизы». Вдруг Ликоспастов стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас.
Агапенов прочитал, сказал: «Гм…»
Толстый неизвестный заморгал глазами… «Он припоминает, где он слышал мою фамилию…»
Кафр стал спрашивать по-английски, что увидели его спутники… Агапенов сказал: «Афиш, афиш», — и стал чертить в воздухе четырехугольник. Кафр мотал головой, ничего не понимая.
Публика шла валом и то заслоняла, то открывала головы компании. Слова то долетали до меня, то тонули в уличном шуме.
Ликоспастов повернулся к Агапенову и сказал:
— Нет, вы видели, Егор Нилыч? Что ж это такое? — Он тоскливо огляделся. — Да они с ума сошли!..
Ветер сдул конец фразы.
Доносились клочья то агапеновского баса, то ликоспастовского тенора:
— …Да откуда он взялся?.. Да я же его и открыл… Тот самый… Гу… гу… гу… Жуткий тип…
Я вышел из ниши и пошел прямо на читавших.
Ликоспастов первый увидел меня, и меня поразило то изменение, которое произошло в его глазах. Это были ликоспастовские глаза, но что-то в них появилось новое, отчужденное, легла какая-то пропасть между нами…
— Ну, брат, — вскричал Ликоспастов, — ну, брат! Благодарю, не ожидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты это проделал, не понимаю, но это гениально! Ну. теперь ты, конечно, приятелей узнавать не будешь! Где уж нам с Шекспирами водить дружбу!
— А ты бы перестал дурака валять! — сказал я робко.
— Ну вот, слова уж сказать нельзя! Экий ты, ей-богу! Ну, я зла на тебя не питаю. Давай почеломкаемся, старик! — И я ощутил прикосновение щеки Ликоспастова, усеянной короткой проволокой.
— Познакомьтесь! — Ия познакомился с толстым, не спускавшим с меня глаз. Тот сказал: «Крупп».
Познакомился я и с кафром, который произнес очень длинную фразу на ломаном английском языке. Так как этой фразы я не понял, то ничего кафру и не сказал.
— На Учебной сцене, конечно, играть будут? — допытывался Ликоспастов.
— Не знаю, — ответил я, — говорят, что на Травной.
Опять побледнел Ликоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо.
— Ну что ж, — сказал он хрипло, — давай бог. Давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача. Не вышло с романом, кто знает, может быть, с пьесой выйдет. Только ты не загордись. Помни: нет ничего хуже, чем друзей забывать!
Крупп глядел на меня и почему-то становился все задумчивее; причем я заметил, что он внимательнее всего изучает мои волосы и нос.
Надо было расставаться. Это было тягостно. Егор, пожимая мне руку, осведомился, прочел ли я его книгу. Я похолодел от страху и сказал, что не читал. Тут побледнел Егор.
— Гме уж ему читать, — заговорил Ликоспастов, — у него времени нету современную литературу читать… Ну, шучу, шучу…
— Вы прочтите, — веско сказал Егор, — хорошая книжица получилась.
Я вошел в подъезд бельэтажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирал его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донесся голос Ликоспастова:
— Бьешься… бьешься как рыба об лед… Обидно!
Афиша все перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно, что пьеса моя, по существу дела, чрезвычайно, между нами говоря, плоха и что что-то надо бы предпринять, но что — неизвестно.
…И вот у лестницы, ведущей в бельэтаж, передо мною предстал коренастый блондин с решительным лицом и встревоженными глазами. Блондин держал пухлый портфель.
— Товарищ Максудов? — спросил блондин.
— Да. я…
— Ищу вас по всему театру, — заговорил новый знакомый, — позвольте представиться — режиссер Фома Стриж. Ну, все в порядочке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь. пьеса ваша в хороших руках. Договор подписали?
— Да.
— Теперь вы наш, — решительно продолжал Стриж. Глаза его сверкали. — Вам бы вот что сделать: заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию! На всю жизнь! Чтобы вся она шла к нам. Ежели желаете, мы это сейчас же сделаем. Плюнуть раз! — И Стриж плюнул в плевательницу. — Нуте-с, ставить пьесу буду я. Мы ее в два месяца обломаем. Пятнадцатого декабря покажем генеральную. Шиллер нас не задержит. С Шиллером дело гладкое…
— Виноват, — сказал я робко, — а мне говорили, что Евлампия Петровна будет ставить…
Стриж изменился в лице.
— Какая такая Евлампия Петровна? — сурово спросил он меня. — Никаких Евлампий. — Голос его стал металлическим. — Евлампия не имеет сюда отношения, она с Ильчиным «На дворе во флигеле» будет ставить. У меня твердая договоренность с Иваном Васильевичем! А ежели кто подкоп поведет, то я в Индию напишу! Заказным, ежели уж на то пошло, — угрожающе закричал Фома Стриж, почему-то впадая в беспокойство. — Давайте сюда экземпляр, — скомандовал он мне, протягивая руку.
Я объяснил, что экземпляр еще не переписан.
— Об чем же они думали? — возмущенно оглядываясь, вскричал Стриж. — Вы у Поликсены Торопецкой в предбаннике были?
Я ничего не понял и только дико глядел на Стрижа.
— Не были? Сегодня она выходная. Завтра же захватите экземпляр, идите к ней, моим именем действуйте! Смело!
Тут очень воспитанный, картавый изящный человек появился рядом и сказал вежливо, но настойчиво:
— В репетиционный зал прошу, Фома Сергеевич! Начинаем.
И Фома перехватил портфель под мышку и скрылся, крикнув на прощанье мне:
— Завтра же в предбанник! Моим именем!
А я остался стоять и долго стоял неподвижно.
Глава 10
Сцены в предбаннике
Осенило! Осенило! В пьесе моей было тринадцать картин. Сидя у себя в комнатушке, я держал перед собою старенькие серебряные часы и вслух сам себе читал пьесу, очевидно очень изумляя соседа за стенкой. По прочтении каждой картины я отмечал на бумажке. Когда дочитал, вышло, что чтение занимает три часа. Туг я сообразил, что во время спектакля бывают антракты, во время которых публика уходит в буфет. Прибавив время на антракты, я понял, что пьесу мою в один вечер сыграть нельзя. Ночные мучения, связанные с этим вопросом, привели к тому, что я вычеркнул одну картину. Это сократило спектакль на двадцать минут, но положения не спасло. Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. Т&к, например, стоит актриса и. плача, поправляет в вазе букет. Говорить она ничего не говорит, а время-то уходит. Стало быть, бормотать текст у себя дома — одно, а произносить его со сцены — совершенно иное дело.
Надо было еще что-то выбрасывать из пьесы, а что — неизвестно. Все мне казалось важным, а кроме того, стоило наметить что-нибудь к изгнанию, как все с трудом построенное здание начинало сыпаться, и мне снилось, что падают карнизы и обваливаются балконы, и были эти сны вещие.
Тогда я изгнал одно действующее лицо вон, отчего одна картина как-то скособочилась, потом совсем вылетела, и стало одиннадцать картин.
Дальше, как я ни ломал голову, как ни курил, ничего сократить не мог. У меня каждый день болел левый висок. Поняв, что дальше ничего не выйдет, решил дело предоставить его естественному течению.
И тогда я отправился к Поликсене Торопецкой. «Нет, без Бомбардова мне не обойтись…» — думалось мне.
И Бомбардов весьма помог мне. Он объяснил, что и эта уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник— это вовсе не бред и не послышалось мне. Теперь окончательно выяснилось, что во главе Независимого Театра стояли двое директоров: Иван, как я уже знал, Васильевич и Аристарх Платонович…
— Скажите, кстати, почему в кабинете, где я подписывал договор, только один портрет — Ивана Васильевича?
Тут Бомбардов, обычно очень бойкий, замялся.
— Почему?.. Внизу? Гм… гм… нет… Аристарх Платонович… он… там… его портрет наверху…
Я понял, что Бомбардов еще не привык ко мне, стесняется меня. Это было ясно по этому невразумительному ответу. И я не стал расспрашивать из деликатности… «Этот мир чарует, но он полон загадок…» — думал я.
Индия? Это очень просто. Аристарх Платонович в настоящее время находился в Индии, вот Фома и собирался ему писать заказным. Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали (и это привилось) комнату перед верхним директорским кабинетом, в которой работала Поликсена Васильевна Торопецкая. Она — секретарь Аристарха Платоновича…
— А Августа Авдеевна?
— Ну, натурально, Ивана Васильевича.
— Ага, ага…
— Ага-то оно ага, — сказал, задумчиво поглядывая на меня, Бомбардов, — но вы, я вам это очень советую, постарайтесь произвести на Торопецкую хорошее впечатление.
— Да я не умею!
— Нет, уж вы постарайтесь!
Держа свернутый в трубку манускрипт, я поднялся в верхний отдел театра и дошел до того места, где, согласно указаниям, помещался предбанник.
Перед предбанником были какие-то сени с диваном; тут я остановился, поволновался, поправил галстук, размышляя о том, как мне произвести на Поликсену Торопецкую хорошее впечатление. И тут же мне показалось, что из предбанника слышатся рыдания. «Это мне показалось…» — подумал я и вошел в предбанник, причем сразу выяснилось, что мне ничуть не показалось. Я догадался, что дама с великолепным цветом лица и в алом джемпере за желтой конторкой и есть Поликсена Торопецкая, и рыдала именно она.
Ошеломленный и незамеченный, я остановился в дверях.
Слезы текли по щекам Торопецкой, в одной руке она комкала платок, другой стучала по конторке. Рябой, плотно сколоченный человек с зелеными петлицами, с блуждающими от ужаса и горя глазами, стоял перед конторкой, тыча руками в воздух.
— Поликсена Васильевна! — диким от отчаяния голосом восклицал человек. — Поликсена Васильевна! Не подписали еще! Завтра подпишут!
— Это подло! — вскричала Поликсена Торопецкая. — Вы поступили подло, Демьян Кузьмич! Подло!
— Поликсена Васильевна!
— Это нижние подвели интригу под Аристарха Платоновича, пользуясь тем, что он в Индии, а вы помогали им!
— Поликсена Васильевна! Матушка! — закричал страшным голосом человек. — Что вы говорите! Чтобы я под благодетеля своего…
— Ничего не хочу слушать, — закричала Торопецкая. — все ложь, презренная ложь! Вас подкупили!
Услыхав это, Демьян Кузьмич крикнул:
— Поли… Поликсена, — и вдруг зарыдал сам страшным, глухим, лающим басом.
А Поликсена взмахнула рукой, чтобы треснуть по конторке, треснула и всадила себе в ладонь кончик пера, торчащего из вазочки. Тут Поликсена взвизгнула тихо, выскочила из-за конторки, повалилась в кресло и засучила ножками, обутыми в заграничные туфли со стеклянными бриллиантами на пряжках.
Демьян Кузьмич даже не вскрикнул, а как-то взвыл утробно:
— Батюшки! Доктора! — и кинулся вон, а за ним кинулся и я в сени.
Через минуту мимо меня пробежал человек в сером пиджачном костюме, с марлей и склянкой в руке и скрылся в предбаннике. Я слышал его крик:
— Дорогая! Успокойтесь!
— Что случилось? — шепотом спросил я в сенях у Демьяна Кузьмича.
— Изволите ли видеть, — загудел Демьян Кузьмич, обращая ко мне отчаянные, слезящиеся глаза, — послали они меня в комиссию за путевками нашим в Сочи на октябрь… Нуте-с, четыре путевки выдали, а племяннику Аристарха Платоновича почему-то забыли подписать в комиссии… Приходи, говорят, завтра в двенадцать… И вот. изволите ли видеть, — я интригу подвел! — И по страдальческим глазам Демьяна Кузьмича видно было, что он чист, никакой интриги не подводил и вообще интригами не занимается.
Из предбанника донесся слабый крик «ай!», и Демьян Кузьмич брызнул из сеней и скрылся бесследно. Минут через десять ушел и доктор. Я некоторое время просидел в сенях на диване, пока из предбанника не начал слышаться стук машинки, тут осмелился и вошел.
Поликсена Торопецкая, напудренная и успокоившаяся. сидела за конторкой и писала на машинке. Я сделал поклон, стараясь, чтобы это был приятный и в то же время исполненный достоинства поклон, и голосом заговорил достойным и приятным, отчего тот зазвучал, к удивлению моему, сдавленно.
Объяснив, что я такой-то, а направлен сюда Фомою для того, чтобы диктовать пьесу, я получил от Поликсены приглашение садиться и подождать, что я и сделал.
Стены предбанника были обильно увешаны фотографиями, дагерротипами и картинами, среди которых царствовал большой, масляными красками писанный, портрет представительного мужчины в сюртуке и с бакенбардами по моде семидесятых годов. Я догадался, что это Аристарх Платонович, но не понял, кто эта воздушная белая девица или дама, выглядывающая из-за головы Аристарха Платоновича и держащая в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, что, выбрав пристойный момент, я кашлянул и спросил об этом.
Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, как бы изучая меня, и наконец ответила, но как-то принужденно:
— Это муза.
— А-а, — сказал я.
Опять застучала машинка, а я стал осматривать стены и убедился, что на каждом из снимков или карточек был изображен Аристарх Платонович в компании с другими лицами.
Так, пожелтевший старый снимок изображал Аристарха Платоновича на опушке леса. Аристарх Платонович был одет по-осеннему и городскому, в ботах, в пальто и цилиндре. А спутник его был в какой-то кацавейке, с ягдташем, с двухствольным ружьем. Лицо спутника, пенсне, седая борода показались мне знакомы.
Поликсена Торопецкая тут обнаружила замечательное свойство — в одно и то же время писать и видеть каким-то волшебным образом, что делается в комнате. Я даже вздрогнул, когда она, не дожидаясь вопроса, сказала:
— Да, да, Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте.
Таким же образом я узнал, что двое в шубах у подъезда «Славянского базара», рядом с пароконным извозчиком. — Аристарх Платонович и Островский.
Четверо за столом, а сзади фикус: Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков.
О следующем снимке не нужно было и спрашивать: старик, босой, в длинной рубахе, засунувший руки за поясок, с бровями, как кусты, с запущенной бородой и лысый, не мог быть никем иным, кроме Льва Толстого. Аристарх Платонович стоял против него в плоской соломенной шляпе, в чесучовом летнем пиджаке.
Но следующая акварель поразила меня выше всякой меры. «Не может этого быть!» — подумал я. В бедной комнате, в кресле, сидел человек с длиннейшим птичьим носом, больными и встревоженными глазами, с волосами, ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фрачке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе.
Молодой человек лет шестнадцати, еще без бакенбард, но с тем же надменным носом, словом, несомненный Аристарх Платонович, в курточке, стоял, опираясь руками на стол.
Я выпучил глаза на Поликсену, и та ответила сухо:
— Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть «Мертвых душ».
Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:
— Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!
На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:
— У таких людей, как Аристарх Платонович, летне существует. Вас, по-видимому, очень удивляет, что за время деятельности Аристарха Платоновича многие имели возможность пользоваться его обществом?
— Помилуйте! — вскричал я, испугавшись. — Совершенно наоборот!.. Я… — но ничего больше путного не сказал, потому что подумал: «А что наоборот?! Что я плету?»
Поликсена умолкла, и я подумал: «Нет, мне не удалось произвести на нее хорошее впечатление. Увы! Это ясно!»
Тут дверь отворилась, и в предбанник оживленной походкой вошла дама, и стоило мне взглянуть на нее, как я узнал в ней Людмилу Сильвестровну Пряхину из портретной галереи. Все на даме было как на портрете: и косынка, и тот же платочек в руке, и так же она держала его, оттопырив мизинец.
Я подумал о том. что не худо бы было и на нее попытаться произвести хорошее впечатление, благо это заодно, и отвесил вежливый поклон, но он как-то прошел незамеченным.
Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула:
— Нет, нет! Неужели вы не видите? Неужели вы не видите?
— А что такое? — спросила Торопецкая.
— Да ведь солнышко, солнышко! — восклицала Людмила Сильвестровна, играя платочком и даже немного подтанцовывая. — Бабье лето! Бабье лето!
Поликсена поглядела на Людмилу Сильвестровну загадочными глазами и сказала:
— Тут анкету нужно будет заполнить.
Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько изменилось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не узнал.
— Какую еще анкету? Ах, боже мой! Боже мой! — Ия уж и голоса ее не узнал. — Только что я радовалась солнышку. сосредоточилась в себе, что-то только что нажила, вырастила зерно, чуть запели струны, я шла как в храм… и вот… Ну, давайте, давайте ее сюда!
— Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна, — тихо заметила Торопецкая.
— Я не кричу! Я не кричу! И ничего я не вижу. Мерзко напечатано. — Пряхина бегала глазами по серому анкетному листу и вдруг оттолкнула его: — Ах, пишите вы сами, пишите, я ничего не понимаю в этих делах!
Торопецкая пожала плечами, взяла перо.
— Ну, Пряхина, Пряхина, — нервно вскрикивала Людмила Сильвестровна, — ну, Людмила Сильвестровна! И все это знают, и ничего я не скрываю!
Торопецкая вписала три слова в анкету и спросила:
— Когда вы родились?
Этот вопрос произвел на Пряхину удивительное действие: на скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг заговорила шепотом:
— Пресвятая Богоматерь! Что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать, зачем? Почему? Ну, хорошо, хорошо. Я родилась в мае, в мае! Что еще нужно от меня? Что?
— Год нужен, — тихо сказала Торопецкая.
Плаза Пряхиной скосились к носу, и плечи стали вздрагивать.
— Ох, как бы я хотела, — зашептала она, — чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией!..
— Нет, Людмила Сильвестровна, так невозможно, — отозвалась Торопецкая, — возьмите вы анкету домой и заполняйте ее сами как хотите.
Пряхина схватила лист и с отвращением стала засовывать его в сумочку, дергая ртом.
Тут грянул телефон, и Торопецкая резко крикнула:
— Да! Нет, товарищ! Какие билеты! Никаких билетов у меня нет!.. Что? Гражданин! Вы отнимаете у меня время! Нету у меня ника… Что? Ах! — Торопецкая стала красной с лица. — Ах! Простите! Я не узнала голоса! Да, конечно! Конечно! Прямо в контроле будут оставлены. И программу я распоряжусь, чтобы оставили! А Феофил Владимирович сам не будет? Мы будем очень жалеть! Очень! Всего, всего, всего доброго!
Сконфуженная Торопецкая повесила трубку и сказала:
— Из-за вас я нахамила не тому, кому следует!
— Ах, оставьте, оставьте все это! — нервно вскричала Пряхина. — Погублено зерно, испорчен день!
— Да, — сказала Торопецкая, — заведующий труппой просил вас зайти к нему.
Легкая розоватость окрасила щеки Пряхиной, она надменно подняла брови:
— Зачем же это я понадобилась ему? Это крайне интересно!
— Костюмерша Королькова на вас пожаловалась.
— Какая такая Королькова? — воскликнула Пряхина. — Кто это? Ах да, вспомнила! Да и как не вспомнить, — тут Людмила Сильвестровна рассмеялась так, что холодок прошел у меня по спине. — на «у» и не разжимая губ. — как не вспомнить эту Королькову, которая испортила мне подол? Что же она наябедничала на меня?
— Она жалуется, что вы ее ущипнули со злости в уборной при парикмахерах, — ласково сказала Торопецкая, и при этом в ее хрустальных глазах на мгновение появилось мерцание.
Эффект, который произвели слова Торопецкой, поразил меня. Пряхина вдруг широко и криво, как у зубного врача, открыла рот, а из глаз ее двумя потоками хлынули слезы. Я съежился в кресле и почему-то поднял ноги. Торопецкая нажала кнопку звонка, и тотчас в дверь всунулась голова Демьяна Кузьмича и мгновенно исчезла.
Пряхина же приложила кулак ко лбу и закричала резким, высоким голосом:
— Меня сживают со свету! Бог Господь! Бог Господь! Бог Господь! Да взгляни же хоть ты. Пречистая Матерь, что со мною делают в театре! Подлец Пеликан! А Герасим Николаевич предатель! Воображаю, что он нес обо мне в Сивцевом Вражке! Но я брошусь в ноги Ивану Васильевичу! Умолю его выслушать меня!.. — Голос ее сел и треснул.
Туг дверь распахнулась, вбежал тот самый доктор. В руках у него была склянка и рюмка. Никого и ни о чем не спрашивая, он привычным жестом плеснул из склянки в рюмку мутную жидкость, но Пряхина хрипло вскричала:
— Оставьте меня! Оставьте меня! Низкие люди! — и выбежала вон.
За нею устремился доктор, воскликнув «дорогая!» — а за доктором, вынырнув откуда-то, топая в разные стороны подагрическими ногами, полетел Демьян Кузьмич.
Из раскрытых дверей несся плеск клавишей, и дальний мощный голос страстно пропел: «…и будешь ты царицей ми… и… и…» — он пошел шире, лихо развернулся, — «ра-а…» — но двери захлопнулись, и голос погас.
— Ну-с, я освободилась, приступим, — сказала Торопецкая, мягко улыбаясь.
Глава 11
Я знакомлюсь с театром
Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите…» — менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко, но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница
пьесы, без единой грамматической ошибки — хоть сейчас отдавай в типографию.
Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:
— Да? Говорите, товарищ, скорее, я занята! Да?
От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок.
Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам.
— Да, — говорила Торопецкая, — нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет… Я застрелю тебя! (Это — мне, повторяя уже записанную фразу.)
Опять звонок.
— Все билеты уже проданы. — говорила Торопецкая, — у меня нет контрамарок… Этим ты ничего не докажешь. (Мне.)
«Теперь начинаю понимать, — думал я, — какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно: никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?»
— Да! Да! — кричала Торопецкая в телефон. — Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллогобад… Нет, адрес не даем! Да? — говорила она мне.
— Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты, — с жаром говорил я. бегая по предбаннику.
— Невесты… — повторяла Торопецкая.
Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.
— Да! Независимый Театр! Нет у меня никаких билетов! Невесты…
— Невесты!.. — говорил я. — Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.
— Да? Независимый! У меня никаких билетов нет!.. Балкон.
— Анна устремляется… нет, просто уходит за ним.
— Уходит… да? Ах да. Товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго. «Анна. Он застрелится! Бахтин. Не застрелится!»
— Да! Здравствуйте. Да, с нею. Потом Андамонские острова. К сожалению, адрес дать не могу, Альберт Альбертович… Не застрелится!..
Надо отдать справедливость Поликсене Торопецкой: дело свое она знала. Она писала десятью пальцами — обеими руками; как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала: «Калькутта не понравилась! Самочувствие хорошее…» Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке: «Гармоника играет весело, но от этого…»
— Нет, погодите, погодите! — вскрикивал я. — Нет, не весело, а что-то бравурное… Или нет… погодите. — Я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то Мисси, что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович. Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них, казалось, что я голый один среди одетых, но я быстро привык.
Показывался Миша Панин и каждый раз, проходя, для поощрения меня, жал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже узнал, помещался его аналитический кабинет.
Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпяченной нижней губой, председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.
— Миль пардон. Второй акт уже пишете? Грандиозно! — восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону:
— Мне все равно… я человек без предрассудков… Это даже оригинально — приехали на бега в подштанниках. Но Индия не примет… Всем сшил одинаково — и князю, и мужу, и барону… Совершенные подштанники и по цвету, и по фасону!.. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела! Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям! Что он врет! Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать! Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе! Петя… Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит! Опытный человек!
В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот… человек падает… роняет револьвер… кровь течет или не течет?.. — вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула:
— Здравствуйте, душечка, Поликсена Васильевна! Я вам цветочков принесла!
Она расцеловала Поликсену и положила на конторку четыре желтоватые астры.
— Обо мне нет ли чего из Индии?
Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.
— «Скажите Вешняковой, — прочитала Торопецкая, — что я решил загадку роли Ксении…»
— Ах, ну, ну!.. — вскричала Вешнякова.
— «Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вешнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы…»
— Боже! Как верно! Как глубоко! — вскричала Вешнякова. — Верно! То-то мне было неудобно в средних дверях.
— Погодите, — продолжала Торопецкая, — тут есть еще. — И прочитала: — «А впрочем, пусть Вешнякова выходит откуда хочет! Я приеду, тогда все станет ясно. Гкнг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает…» Ну, это к вам не относится. — заметила Поликсена.
— Поликсена Васильевна, — заговорила Вешнякова, — напишите Аристарху Платоновичу, что я безумно, безумно ему благодарна!
— Хорошо.
— А мне нельзя ему написать самой?
— Нет, — ответила Поликсена. — он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время его раздумий.
— Понимаю, понимаю! — вскричала Вешнякова и, расцеловав Торопецкую, удалилась.
Вошел полный, средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул:
— Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете?
— Ничего, у нас антракт, — сказала Торопецкая, и полный человек, видимо распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Торопецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал: «И в это время муж возвращается в гостиную…» За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха «ах, ах, ах», Полторацкий вскричал:
«Грандиозно!» — а полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон. крича:
— Вася! Вася! Стой! Слышал? Новый анекдот продам!
Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Торопецкая.
Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о полном.
— «Передайте Елагину, — читала Торопецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, к чему его всегда очень тянет».
Елагин изменился в лице и заглянул в письмо.
— «Скажите ему, — продолжала Торопецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женою полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь растерянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а…»
— Не понимаю! — заговорил Елагин. — Простите, не понимаю, — Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то, — нет, не чувствую я этого. Мне неудобно!.. Жена полковника перед ним, а он чего-то пойдет… Не чувствую!
— Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович? — ледяным голосом спросила Торопецкая.
Этот вопрос смутил Елагина.
— Нет, я этого не говорю… — Он покраснел. — Но, посудите… — И он опять сделал круг по комнате.
— Я думаю, что в ножки следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии…
— Что это у нас все в ножки да в ножки, — вдруг пробурчал Елагин.
«Э, да он молодец», — подумал я.
— Вы лучше выслушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович. — И прочитала: — «А впрочем, пусть он делает как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».
Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли. бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме.
«Какой актер!» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоновича.
Кровь прилила к лицу Торопецкой, она тяжело задышала:
— Я попросила бы вас!..
— А впрочем, — сквозь зубы говорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: — Не понимаю! — и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.
— Ох уж эти середняки! — заговорила Поликсена. — Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?
— Кхм, — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки».
К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на два дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку.
Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который нужно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу — чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся, прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Меж ними сверкали зубами с фотографий мужчины с цилиндрами в руках. Один из них был в жирных эполетах. Пьяный толстый нос свисал до губы, щеки и шея разрезаны складками. Я не узнал в нем Елагина, пока Поликсена не сказала мне, кто это.
Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины, сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок.
Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусков и лестниц, репетируют пьесу «Степан Разин».
Мы начинали писать в двенадцать часов, а в два происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.
Для того чтобы в него попасть, я должен был покинуть коридор и выйти на лестницу. Тут уже нарушалось очарование молчания. По лестнице подымались актрисы и актеры, за белыми дверями звенел телефон, телефон другой откуда-то отзывался снизу. Внизу дежурил один из вышколенных Августой Менажраки курьеров. Потом — железная средневековая дверь, таинственные за нею ступени и какое-то безграничное, как мне казалось, по высоте кирпичное ущелье, торжественное, полутемное. В этом ущелье, наклоненные к стенам его. высились декорации в несколько слоев. На белых деревянных рамах их мелькали таинственные условные надписи черным: «I лев. зад.», «Граф. заспин.», «Спальня III акт». Широкие, высокие, от времени черные ворота с врезанной в них калиткой с чудовищным замком на ней были справа, и я узнал, что они ведут на сцену. Такие же ворота были слева, и выводили они во двор, и через эти ворота рабочие из сараев подавали декорации, не помещавшиеся в ущелье. Я задерживался в ущелье всегда, чтобы предаться мечтам в одиночестве, а сделать это было легко, ибо лишь редкий путник попадался навстречу на узкой тропе между декорациями, где, чтобы разминуться, нужно было поворачиваться боком.
Сосущая с тихим змеиным свистом воздух пружина-цилиндр на железной двери выпускала меня. Звуки под ногами пропадали, я попадал на ковер, по медной львиной голове узнавал преддверие кабинета Гавриила Степановича и все по тому же солдатскому сукну шел туда, где уже мелькали и слышались люди, — в чайный буфет.
Многоведерный блестящий самовар за прилавком первым бросался в глаза, а вслед за ним — маленького роста человек, пожилой, с нависшими усами, лысый и столь печальными глазами, что жалость и тревога охватывали каждого, кто не привык еще к нему. Вздыхая тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел на груду бутербродов с кетовой икрой и с сыром брынзой. Актеры подходили к буфету, брали эту снедь, и тогда глаза буфетчика наполнялись слезами. Его не радовали ни деньги, которые платили за бутерброды, ни сознание того, что он стоит в самом лучшем месте столицы, в Независимом Театре. Ничто его не радовало, душа его, очевидно, болела при мысли, что вот съедят все, что лежит на блюде, съедят без остатка, выпьют весь гигантский самовар.
Из двух окон шел свет слезливого осеннего дня, за буфетом горела настенная лампа в тюльпане, никогда не угасая, углы тонули в вечном сумраке.
Я стеснялся незнакомых людей, сидевших за столиками, боялся подойти, хоть подойти хотелось. За столиками слышался приглушенный хохот, всюду что-то рассказывали.
Выпив стакан чаю и съев бутерброд с брынзой, я шел в другие места театра. Больше всего мне полюбилось то место, которое носило название <контора».
Это место резко отличалось от всех других мест в театре, ибо это было единственное шумное место, куда, так сказать, вливалась жизнь с улицы.
Контора состояла из двух частей. Первой — узкой комнатки, в которую вели настолько замысловатые ступеньки со двора, что каждый входящий впервые в Театр непременно падал. В первой комнатенке сидели двое курьеров, Катков и Баквалин. Перед ними на столике стояли два телефона. И эти телефоны, почти никогда не умолкая, звонили.
Я очень быстро понял, что по телефонам зовут одного и того же человека и этот человек помещался в смежной комнате, на дверях которой висела надпись:
«Заведующий внутренним порядком
Филипп Филиппович Тулумбасов».
Большей популярности, чем у Тулумбасова, не было ни у кого в Москве и, вероятно, никогда не будет. Весь город, казалось мне. ломился по аппаратам к Тулумбасову, и то Катков, то Баквалин соединяли с Филиппом Филипповичем жаждущих говорить с ним.
Говорил ли мне кто-то, или приснилось мне, что будто бы Юлий Кесарь обладал способностью делать несколько разных дел одновременно, например читать что-либо и слушать кого-нибудь.
Свидетельствую здесь, что Юлий Кесарь растерялся бы самым жалким образом, если бы его посадили на место Филиппа Филипповича.
Помимо тех двух аппаратов, которые гремели под руками Баквалина и Каткова, перед самим Филиппом Филипповичем стояло их два, а один, старинного типа, висел на стене.
Филипп Филиппович, полный блондин с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась не видная никому грусть, затаенная, по-видимому, вечная, неизлечимая, сидел за барьером в углу, чрезвычайно уютном. День ли был на дворе или ночь, у Филиппа Филипповича всегда был вечер с горящей лампой под зеленым колпаком. Перед Филиппом Филипповичем на письменном столе помещалось четыре календаря, сплошь исписанные таинственными записями вроде: «Прян. 2, парт. 4», «13 утр. 2», «Мон. 77 727» и в этом роде.
Такими же знаками были исчерчены пять раскрытых блокнотов на столе. Над Филиппом Филипповичем высилось чучело бурого медведя, в глаза которого были вставлены электрические лампочки. Филипп Филиппович был огражден от внешнего мира барьером, и в любой час дня на этом барьере лежали животами люди в самых разнообразных одеждах. Здесь перед Филиппом Филипповичем проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью; здесь перед ним были представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, возраста. Какие-то бедно одетые гражданки в затасканных шляпах сменялись военными с петлицами разного цвета. Военные уступали место хорошо одетым мужчинам с бобровыми воротниками и крахмальными воротничками. Среди крахмальных воротничков иногда мелькала ситцевая косоворотка. Кепка на буйных кудрях. Роскошная дама с горностаем на плечах. Шапка с ушами, подбитый глаз. Подросток женского пола с напудренным носиком. Человек в болотных сапогах, в чуйке, подпоясан ремнем. Еще военный, один ромб. Какой-то бритый, с забинтованной головой. Старуха с трясущейся челюстью, мертвенными глазами и почему-то говорящая со своей спутницей по-французски, а спутница в мужских калошах, тулуп.
Те, которые не могли лечь животом на барьер, толпились сзади, изредка поднимая вверх мятые записки, изредка робко вскрикивая: «Филипп Филиппович!» Временами в толпу, осаждавшую барьер, ввинчивались женщины или мужчины без верхнего платья, а запросто в блузочках или пиджаках, и я понимал, что это актрисы и актеры Независимого Театра.
Но кто бы ни шел к барьеру, все, за редчайшими исключениями, имели вид льстивый, улыбались заискивающе. Все пришедшие просили у Филиппа Филипповича, все зависели от его ответа.
Тфи телефона звенели, не умолкая никогда, и иногда оглашали грохотом кабинетик сразу все три. Филиппа Филипповича это нисколько не смущало. Правой рукой он брал трубку правого телефона, клал ее на плечо и прижимал щекою, в левую брал другую трубку и прижимал ее к левому уху, а освободив правую, ею брал одну из протягиваемых ему записок, начиная говорить сразу с тремя — в левый, в правый телефон, потом с посетителем, потом опять в левый, в правый, с посетителем. В правый, с посетителем, в левый, левый, правый, правый.
Сразу сбрасывал обе трубки на рычаги, и так как освобождались обе руки, то брал две записки. Отклонив одну из них, он снимал трубку с желтого телефона, слушал мгновение, говорил: «Позвоните завтра в три», — вешал трубку, посетителю говорил: «Ничего не могу».
С течением времени я начал понимать, чего просили у Филиппа Филипповича. У него просили билетов.
У него просили билетов в самой разнообразной форме. Были такие, которые говорили, что приехали из Иркутска и уезжают ночью и не могут уехать, не повидав «Бесприданницы». Кто-то говорил, что он экскурсовод из Ялты. Представитель какой-то делегации. Кто-то не экскурсовод и не сибиряк и никуда не уезжает, а просто говорил: «Петухов, помните?» Актрисы и актеры говорили: «Филя, а Филя, устрой…» Кто-то говорил: «В любую цену, цена мне безразлична…»
— Зная Ивана Васильевича двадцать восемь лет, — вдруг шамкала какая-то старуха, у которой моль выела на берете дыру, — я уверена, что он не откажет мне…
— Дам постоять, — внезапно вдруг говорил Филипп Филиппович и. не ожидая дальнейших слов ошеломленной старухи, протягивал ей какой-то кусочек бумаги.
— Нас восемь человек, — начинал какой-то крепыш, и опять-таки дальнейшие слова застревали у него в устах, ибо Филя уже говорил:
— На свободные! — и протягивал бумажку.
— Я от Арнольда Арнольдовича. — начинал какой-то молодой человек, одетый с претензией на роскошь.
«Дам постоять», — мысленно подсказывал я и не угадывал.
— Ничего не могу-с, — внезапно отвечал Филя, один только раз скользнув глазом по лицу молодого человека.
— Но Арнольд…
— Не могу-с!
И молодой человек исчезал, словно проваливался сквозь землю.
— Мы с женою… — начинал полный гражданин.
— На завтра? — спрашивал Филя отрывисто и быстро.
— Слушаю.
— В кассу! — восклицал Филя, и полный протискивался вон, имея в руках клок бумажки, а Филя в это время уже кричал в телефон: «Нет! Завтра!» — в то же время левым глазом читая поданную бумажку.
С течением времени я понял, что он руководится вовсе не внешним видом людей и, конечно, не их засаленными бумажками. Были скромно, даже бедно одетые люди, которые внезапно для меня получали два бесплатных места в четвертом ряду, и были какие-то хорошо одетые, которые уходили ни с чем. Люди приносили громадные красивые мандаты из Астрахани, Евпатории, Вологды, Ленинграда, и они не действовали или могли подействовать только через пять дней утром, а приходили иногда скромные и молчаливые люди и вовсе ничего не говорили, а только протягивали руку через барьер и тут же получали место.
Умудрившись, я понял, что передо мною человек, обладающий совершенным знанием людей. Поняв это, я почувствовал волнение и холодок под сердцем. Да, передо мною был величайший сердцеведец. Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в них, но также и доброе. А главное, он знал их права. Он знал, кто и когда должен прийти в Театр, кто имел право сидеть в четвертом ряду, а кто должен был томиться в ярусе, присаживаясь на приступочке в бредовой надежде, что как-нибудь вдруг освободится для него волшебным образом местечко.
Я понял, что школа Филиппа Филипповича была школой величайшей.
Да и как же ему было не узнать людей, когда перед ним за пятнадцать лет его службы прошли десятки тысяч людей. Среди них были инженеры, хирурги, актеры, женорганизаторы, растратчики, домашние хозяйки, машинисты, учителя, меццо-сопрано, застройщики, гитаристы, карманные воры, дантисты, пожарные, девицы без определенных занятий, фотографы, плановики, летчики, пушкинисты, председатели колхозов, тайные кокотки, беговые наездники, монтеры, продавщицы универсальных магазинов, студенты, парикмахеры, конструкторы, лирики, уголовные преступники, профессора, бывшие домовладельцы, пенсионерки, сельские учителя, виноделы, виолончелисты, фокусники, разведенные жены, заведующие кафе, игроки в покер, гомеопаты, аккомпаниаторы, графоманы, билетерши консерватории, химики, дирижеры, легкоатлеты, шахматисты, лаборанты, проходимцы, бухгалтеры, шизофреники, дегустаторы, маникюрши, счетоводы, бывшие священнослужители, спекулянтки, фототехники.
Зачем же надобны были бумажки Филиппу Филипповичу?
Одного взгляда и первых слов появившегося перед ним ему было достаточно, чтобы знать, на что тот имеет право, и Филипп Филиппович давал ответы, и были эти ответы всегда безошибочны.
— Я, — волнуясь, говорила дама. — вчера купила два билета на «Дона Карлоса», положила в сумочку, прихожу домой…
Но Филипп Филиппович уже жал кнопку звонка и, не глядя более на даму, говорил:
— Баквалин! Потеряны два билета… ряд?
— Одиннадц…
— В одиннадцатом ряду. Впустить. Посадить… Проверить!
— Слушаю! — гаркал Баквалин. и не было уже дамы, и кто-то уже наваливался на барьер, хрипел, что он завтра уезжает.
— Так делать не годится! — озлобленно утверждала дама, и глаза ее сверкали. — Ему уже шестнадцать! Нечего смотреть, что он в коротких штанах…
— Мы не смотрим, сударыня, кто в каких штанах, — металлически отвечал Филя, — по закону дети до пятнадцати лет не допускаются. Посиди здесь, сейчас, — говорил он в это же время интимно бритому актеру.
— Позвольте, — кричала скандальная дама, — и тут же рядом пропускают трех малюток в длинных клешах. Я жаловаться буду!
— Эти малютки, сударыня, — отвечал Филя, — были костромские лилипуты.
Наставало полное молчание. Глаза дамы потухали, Филя тогда, оскалив зубы, улыбался так, что дама вздрагивала. Люди, мнущие друг друга у барьера, злорадно хихикали.
Актер с побледневшим лицом, со страдальческими, помутневшими глазами, вдруг наваливался сбоку на барьер, шептал:
— Дикая мигрень…
Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивал руку назад, открывал настенный шкафик, на ощупь брал коробочку, из нее вынимал пакетик, протягивал страдальцу, говорил:
— Водой запей… Слушаю вас, гражданка.
Слезы выступали у гражданки, шляпка съезжала на ухо. Горе дамы было велико. Она сморкалась в грязный платочек. Оказывается, вчера, все с того же «Дон-Карлоса». пришла домой, ан сумочки-то и нет. В сумочке же было сто семьдесят пять рублей, пудреница и носовой платок.
— Очень плохо, гражданка, — сурово говорил Филя, — деньги надо на сберкнижке держать, а не в сумочке.
Дама таращила глаза на Филю. Она не ожидала, что к ее горю отнесутся с такой черствостью.
Но Филя тут же с грохотом выдвигал ящик стола, и чрез мгновение измятая сумочка с пожелтевшей металлической наядой была уже у дамы в руках. Та лепетала слова благодарности.
— Покойник прибыл, Филипп Филиппович, — докладывал Баквалин.
В ту же минуту лампа гасла, ящики с грохотом закрывались, торопливо натягивая пальто, Филя протискивался сквозь толпу и выходил. Как зачарованный я плелся за ним. Ударившись головой об стенку на повороте лестницы, выходил во двор. У дверей конторы стоял грузовик, обвитый красной лентой, и на грузовике лежал, глядя в осеннее небо закрытыми глазами, пожарный. Каска сверкала у него в ногах, а в головах лежали еловые ветви. Филя без шапки, с торжественным лицом, стоял у грузовика и беззвучно отдавал какие-то приказания Кускову, Баквалину и Клюквину.
Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из подъезда театра раздавались резкие звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением останавливалась, останавливался и грузовик. В подъезде театра виден был бородатый человек в пальто, размахивающий дирижерской палочкой. Повинуясь ей, несколько сверкавших труб громкими звуками оглашали улицу. Потом звуки обрывались так же внезапно, как и начинались, и золотые раструбы и русая эспаньолка скрывались в подъезде.
Кусков вскакивал в грузовик, трое пожарных становились по углам гроба, и, провожаемый напутственным Филиным жестом, грузовик уезжал в крематорий, а Филя возвращался в контору.
Громаднейший город пульсирует, и всюду в нем волны — прильет и отольет. Иногда слабела без всякой видимой причины волна Филиных посетителей, и Филя позволял себе откинуться в кресле, кой с кем и пошутить, размяться.
— А меня к тебе прислали, — говорил актер какого-то другого театра.
— Нашли, кого прислать, — бузотера, — отвечал Филя, смеясь одними щеками (глаза Фили никогда не смеялись).
В Филину дверь входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с черно-бурой лисой на плечах. Филя приветливо улыбался даме и кричал:
— Бонжур, Мисси!
Дама радостно смеялась в ответ. Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи, с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама.
— Фуй, Альеша! — восклицала она с немецким акцентом.
— Амалия Иванна! — тихо и угрожающе говорил малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне кулак.
— Фуй, Альешь! — тихо говорила Амалия Ивановна.
— А, здорово! — восклицал Филя, протягивая малому руку.
Тот, икнув, кланялся и шаркал ногой.
— Фуй. Альешь! — шептала Амалия Ивановна.
— Что же это у тебя под глазом? — спрашивал Филя.
— Я, — икая, шептал малый, повесив голову. — с Жоржем подрался…
— Фуй, Альеша. — одними губами и совершенно механически шептала Амалия Ивановна.
— Сэ до мм аж!
[69] — рявкал Филя и вынимал из стола шоколадку.
Мутные от шоколада глаза малого на минуту загорались огнем, он брал шоколадку.
— Альеша, та съел сегодня читирнадцать, — робко шептала Амалия Ивановна.
— Не врите, Амалия Ивановна, — думая, что говорит тихо, гудел малый.
— Фуй, Альеша!..
— Филя, вы меня совсем забыли, гадкий! — тихо восклицала дама.
— Нон, мадам, энпоссибль! — рявкал Филя. — Мэ ле заффер тужур!
[70]
Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке.
— Знаете что, — вдохновенно говорила дама. — Дарья моя сегодня испекла пирожки, приходите ужинать. А?
— Авек плезир!
[71] — восклицал Филя и в честь дамы зажигал глаза медведя.
— Как вы меня испугали, противный Филька! — восклицала дама.
— Альеша! Погляди, какой медведь. — искусственно восторгалась Амалия Ивановна, — якоби живой!
— Пустите, — орал малый и рвался к барьеру.
— Фуй, Альеша…
— Захватите с собой Аргунина, — восклицала как бы осененная вдохновением дама.
— Иль жу!
[72]
— Пусть после спектакля приезжает, — говорила дама, поворачиваясь спиной к Амалии Ивановне.
— Же транспорт люи
[73].
— Ну, милый, вот и хорошо. Да, Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на «Дон Карлоса»? А? Хоть в ярус? А, золотко?
— Портниха? — спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму.
— Какой вы противный! — восклицала дама. — Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь…
— Шьет белье, — как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот:
«Белошвей. Ми. боков, яр. 13-го».
— Как вы догадались! — хорошея, восклицала дама.
— Филипп Филиппович, вас в дирекцию к телефону, — рявкал Баквалин.
— Сейчас!
— А я пока мужу позвоню, — говорила дама.
Филя выскакивал из комнаты, а дама брала трубку, набирала номер.
— Кабинет заведующего. Ну, как у тебя? А к нам я сегодня Филю позвала пирожки есть. Ну, ничего. Ты поспи часок. Да, еще Аргунин напросился… Ну, неудобно же мне… Ну, прощай, золотко. А что у тебя голос какой-то расстроенный? Ну, целую.
Я, вдавившись в клеенчатую спинку дивана и закрывая глаза, мечтал. «О, какой мир… мир наслаждения, спокойствия…» Мне представлялась квартира этой неизвестной дамы. Мне казалось почему-то, что это огромная квартира, что в белой необъятной передней на стене висит в золотой раме картина, что в комнатах всюду блестит паркет. Что в средней рояль, что громадный ков…
Мечтания мои прервал вдруг тихий стон и утробное ворчание. Я открыл глаза.
Малый, бледный смертельной бледностью, закатив глаза под лоб, сидел на диване, растопырив ноги на полу. Дама и Амалия Ивановна кинулись к нему. Дама побледнела.
— Алеша! — вскричала дама. — Что с тобой?!
— Фуй, Альеша! Что с тобой?! — воскликнула и Амалия Ивановна.
— Голова болит, — вибрирующим слабым баритоном ответил малый, и шапка его съехала на глаз. Он вдруг надул щеки и еще более побледнел.
— О боже! — вскричала дама.
Через несколько минут во двор влетел открытый таксомотор, в котором, стоя, летел Баквалин.
Малого, вытирая ему рот платком, под руки вели из конторы.
О, чудный мир конторы! Филя! Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы!
Глава 12
Сивцев Вражек
Я и не заметил, как мы с Торопецкой переписали пьесу. И не успел я подумать, что будет теперь далее, как судьба сама подсказала это.
Клюквин привез мне письмо.
«Глубочайше уважаемый
Леонтий Сергеевич!..»
Почему, черт возьми, им хочется, чтобы я был Леонтием Сергеевичем? Вероятно, это удобнее выговаривать, чем Сергей Леонтьевич?.. Впрочем, это не важно!
«…Вы должны читать Вашу пиэсу Ивану Васильевичу. Для этого Вам надлежит прибыть в Сивцев Вражек 13-го в понедельник в 12 часов дня.
Глубоко преданный
Фома Стриж».
Я взволновался чрезвычайно, понимая, что письмо это исключительной важности.
Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом.
Держаться вежливо, но с достоинством и, боже сохрани, без намека на угодливость.
Тринадцатое, как хорошо помню, было на другой день, и утром я повидался в театре с Бомбардовым.
Наставления его показались мне странными до чрезвычайности.
— Как пройдете большой серый дом, — говорил Бомбардов, — повернете налево, в тупичок. Тут уж легко найдете. Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: «Вы зачем?» — а вы ему скажите только одно слово: «Назначено».
— Это пароль? — спросил я. — А если человека не будет?
— Он будет, — сказал холодно Бомбардов и продолжал: — За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите автомобиль без колес на домкрате, а возле него ведро и человека, который моет автомобиль.
— Вы сегодня там были? — спросил я в волнении.
— Я был там месяц тому назад.
— Так почем же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?
— Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.
— А когда же Иван Васильевич ездит в нем?
— Он никогда в нем и не ездит.
— Почему?
— А куда же он будет ездить?
— Ну, скажем, в театр?
— Иван Васильевич в театр приезжает два раза в год на генеральные репетиции, и тогда ему нанимают извозчика Дрыкина.
— Вот тебе на! Зачем же извозчик, если есть автомобиль?
— А если шофер умрет от разрыва сердца за рулем, а автомобиль возьмет да и въедет в окно, тогда что прикажете делать?
— Позвольте, а если лошадь понесет?
— Дрыкинская лошадь не понесет. Она только шагом ходит. Напротив же как раз человека с ведром — дверь. Войдите и подымайтесь по деревянной лестнице. Потом еще дверь. Войдите. Там увидите черный бюст Островского. А напротив — беленькие колонны и черная-пречерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках
и топит ее.
Я рассмеялся.
— Вы уверены, что он непременно будет и непременно на корточках?..
— Непременно, — сухо ответил Бомбардов, ничуть не смеясь.
— Любопытно проверить!
— Проверьте. Он спросит тревожно: «Вы куда?» А вы ответьте…
— Назначено?
— Угу. Тогда он вам скажет: «Пальтецо снимите здесь», — и вы попадете в переднюю, и тут выйдет к вам фельдшерица и спросит: «Вы зачем?» И вы ответите…
Я кивнул головой.
— Иван Васильевич вас спросит первым долгом, кто был ваш отец. Он кто был?
— Вице-губернатор.
Бомбардов сморщился:
— Э… нет, это, пожалуй, не подходит. Нет, нет. Вы скажите так: служил в банке.
— Вот уж это мне не нравится. Почему я должен врать с первого же момента?
— А потому что это может его испугать, а…
Я только моргал глазами.
— …а вам все равно, банк ли или что другое. Потом он спросит, как вы относитесь к гомеопатии. А вы скажите, что принимали капли от желудка в прошлом году и они вам очень помогли.
Тут прогремели звонки, Бомбардов заторопился, ему нужно было идти на репетицию, и дальнейшие наставления он давал сокращенно.
— Мишу Панина вы не знаете, родились в Москве, — скороговоркой сообщал Бомбардов, — насчет Фомы скажите, что он вам не понравился. Когда будете насчет пьесы говорить, то не возражайте. Там выстрел в третьем акте, так вы его не читайте…
— Как не читать, когда он застрелился?!
Звонки повторились. Бомбардов бросился бежать в полутьму, издали донесся его тихий крик:
— Выстрела не читайте! И насморка у вас нет!
Совершенно ошеломленный загадками Бомбардова, я минута в минуту в полдень был в тупике на Сивцевом Вражке.
Во дворе мужчины в тулупе не было, но как раз на том месте, где Бомбардов и говорил, стояла баба в платке. Она спросила: «Вам чего?» — и подозрительно поглядела на меня. Слово «назначено» совершенно ее удовлетворило. и я повернул за угол. ТЬчка в точку в том месте, где было указано, стояла кофейного цвета машина, но на колесах. и человек тряпкой вытирал кузов. Рядом с машиной стояло ведро и какая-то бутыль.
Следуя указаниям Бомбардова, я шел безошибочно и попал к бюсту Островского. «Э…» — подумал я, вспомнив Бомбардова: в печке весело пылали березовые дрова, но никого на корточках не было. Но не успел я усмехнуться, как старинная дубовая темнолакированная дверь открылась и из нее вышел старикашка с кочергой в руках и в заплатанных валенках. Увидев меня, он испугался и заморгал глазами. «Вам что, гражданин?» — спросил он. «Назначено», — ответил я, упиваясь силой магического слова. Старикашка посветлел и махнул кочергой в направлении другой двери. Тим горела старинная лампочка под потолком. Я снял пальто, под мышку взял пьесу, стукнул в дверь. Тотчас за дверью послышался звук снимаемой цепи, потом повернулся ключ в дверях, и выглянула женщина в белой косынке и белом халате. «Вам что?» — спросила она. «Назначено», — ответил я. Женщина посторонилась, пропустила меня внутрь и внимательно поглядела на меня.
— На дворе холодно? — спросила она.
— Нет, хорошая погода, бабье лето, — ответил я.
— Насморка у вас нету? — спросила женщина.
Я вздрогнул, вспомнив Бомбардова, и сказал:
— Нет, нету.
— Постучите сюда и входите, — сурово сказала женщина и скрылась. Перед тем как стукнуть в темную, окованную металлическими полосами дверь, я огляделся.
Белая печка, громадные шкафы какие-то. Пахло мятой и еще какой-то приятной травой. Стояла полная тишина, и она вдруг прервалась боем хриплым. Било двенадцать раз. и затем тревожно прокуковала кукушка за шкафом.
Я стукнул в дверь, потом нажал рукой на громадное тяжкое кольцо, дверь впустила меня в большую светлую комнату.
Я волновался, я ничего почти не разглядел, кроме дивана, на котором сидел Иван Васильевич. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью, усы были прекрасно подкручены. На груди, на золотой цепи, висел лорнет.
Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки.
— Очень приятно, — молвил он. чуть картавя, — прошу садиться.
И я сел в кресло.
— Ваше имя и отчество? — ласково глядя на меня, спросил Иван Васильевич.
— Сергей Леонтьевич.
— Очень приятно! Ну-с. как изволите поживать, Сергей Пафнутьевич? — И, ласково глядя на меня, Иван Васильевич побарабанил пальцами по столу, на котором лежал огрызок карандаша и стоял стакан с водой, почему-то накрытый бумажкою.
— Покорнейше благодарю вас, хорошо.
— Простуды не чувствуете?
— Нет.
Иван Васильевич как-то покряхтел и спросил:
— А здоровье вашего батюшки — как?
— Мой отец умер.
— Ужасно, — ответил Иван Васильевич, — а к кому обращались? Кто лечил?
— Не могу сказать точно, но, кажется, профессор… профессор Янковский.
— Это напрасно, — отозвался Иван Васильевич, — нужно было обратиться к профессору Плетушкову. тогда бы ничего не было.
Я выразил на своем лице сожаление, что не обратились к Плетушкову.
— А еще лучше… гм… гм… гомеопаты, — продолжал Иван Васильевич, — прямо до ужаса всем помогают. — Тут он кинул беглый взгляд на стакан. — Вы верите в гомеопатию?
«Бомбардов — потрясающий человек», — подумал я и начал что-то неопределенно говорить:
— С одной стороны, конечно… Я лично… хотя многие и не верят…
— Напрасно! — сказал Иван Васильевич. — Пятнадцать капель — и вы перестанете что-нибудь чувствовать. — И опять он покряхтел и продолжал: — А ваш батюшка, Сергей Панфилыч, кем был?
— Сергей Леонтьевич, — ласково сказал я.
— Тысячу извинений! — воскликнул Иван Васильевич. — Так он кем был?
«Да не стану я врать!» — подумал я и сказал:
— Он служил вице-губернатором.
Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича.
— Так, так, так, — озабоченно сказал он, помолчал, побарабанил и сказал: — Ну-с, приступим.
Я развернул рукопись, кашлянул, обмер, еще раз кашлянул и начал читать.
Я прочел заглавие, потом длинный список действующих лиц и приступил к чтению первого акта:
— «Огоньки вдали, двор, засыпанный снегом, дверь флигеля. Из флигеля глухо слышен «Фауст», которого играют на рояле…»
Приходилось ли вам когда-либо читать пьесу один на один кому-нибудь? Это очень трудная вещь, уверяю вас. Я изредка поднимал глаза на Ивана Васильевича, вытирал лоб платком.
Иван Васильевич сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня в лорнет, не отрываясь. Смутило меня чрезвычайно то обстоятельство, что он ни разу не улыбнулся, хотя уже в первой картине были смешные места. Актеры очень смеялись, слыша их на чтении, а один рассмеялся до слез.
Иван же Васильевич не только не смеялся, но даже перестал крякать. И всякий раз, как я поднимал на него взор, видел одно и то же: уставившийся на меня золотой лорнет и в нем немигающие глаза. Вследствие этого мне стало казаться, что смешные эти места вовсе не смешны.
Так я дошел до конца первой картины и приступил ко второй. В полной тишине слышался только мой монотонный голос, было похоже, что дьячок читает по покойнику.
Мною стала овладевать какая-то апатия и желание закрыть толстую тетрадь. Мне казалось, что Иван Васильевич грозно скажет: «Кончится ли это когда-нибудь?» Голос мой охрип, я изредка прочищал горло кашлем, читал то тенором, то низким басом, раза два вылетели неожиданные петухи, но и они никого не рассмешили — ни Ивана Васильевича, ни меня.
Некоторое облегчение внесло внезапное появление женщины в белом. Она бесшумно вошла, Иван Васильевич быстро посмотрел на часы. Женщина подала Ивану Васильевичу рюмку, Иван Васильевич выпил лекарство, запил его водою из стакана, закрыл его крышечкой и опять поглядел на часы. Женщина поклонилась Ивану Васильевичу древнерусским поклоном и надменно ушла.
— Ну-с, продолжайте, — сказал
Иван Васильевич, и я опять начал читать.
Далеко прокричала кукушка. Потом где-то за ширмами прозвенел телефон.
— Извините, — сказал Иван Васильевич, — это меня зовут по важнейшему делу из учреждения. — Да, — послышался его голос из-за ширм, — да… Гм… гм… Это все шайка работает. Приказываю держать все это в строжайшем секрете. Вечером у меня будет один верный человек, и мы разработаем план…
Иван Васильевич вернулся, и мы дошли до конца пятой картины. И тут в начале шестой произошло поразительное происшествие. Я уловил ухом, как где-то хлопнула дверь, послышался где-то громкий и, как мне показалось, фальшивый плач, дверь, не та, в которую я вошел, а, по-видимому, ведущая во внутренние покои, распахнулась, и в комнату влетел, надо полагать осатаневший от страху, жирный полосатый кот. Он шарахнулся мимо меня к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Поль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез доверху и оттуда оглянулся с остервенелым видом. Иван Васильевич уронил лорнет, и в комнату вбежала Людмила Сильвестровна Пряхина. Кот, лишь только ее увидел, сделал попытку полезть еще выше, но дальше был потолок. Животное сорвалось с круглого карниза и повисло, закоченев, на занавеске.
Пряхина вбежала с закрытыми глазами, прижав кулак со скомканным и мокрым платком ко лбу, а в другой руке держа платок кружевной, сухой и чистый. Добежав до середины комнаты, она опустилась на одно колено, наклонила голову и руку протянула вперед, как бы пленник. отдающий меч победителю.
— Я не сойду с места, — прокричала визгливо Пряхина. — пока не получу защиты, мой учитель! Пеликан — предатель! Бог все видит, все!
Тут тюль хрустнул, и под котом расплылась полуаршинная дыра.
— Брысь!! — вдруг отчаянно крикнул Иван Васильевич и захлопал в ладоши.
Кот сполз с занавески, распоров ее донизу, и выскочил из комнаты, а Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давясь в слезах:
— Что я слышу?! Что я слышу?! Неужели мой учитель и благодетель гонит меня?! Боже, Боже!! Ты видишь?!
— Оглянитесь, Людмила Сильвестровна! — отчаянно закричал Иван Васильевич, и тут еще в дверях появилась старушка, которая крикнула:
— Милочка! Назад! Чужой!..
Тут Людмила Сильвестровна открыла глаза и увидела мой серый костюм в сером кресле. Она выпучила глаза на меня, и слезы, как мне показалось, в мгновенье ока высохли на ней. Она вскочила с колен, прошептала: «Гос-поди…» — и кинулась вон. Тут же исчезла и старушка, и дверь закрылась.
Мы помолчали с Иваном Васильевичем. После долгой паузы он побарабанил пальцами по столу.
— Ну-с, как вам понравилось? — спросил он и добавил тоскливо: — Пропала занавеска к черту.
Еще помолчали.
— Вас, конечно, поражает эта сцена? — осведомился Иван Васильевич и закряхтел.
Закряхтел и я и заерзал в кресле, решительно не зная, что ответить, — сцена меня нисколько не поразила. Я прекрасно понял, что это продолжение той сцены, что была в предбаннике, и что Пряхина исполнила свое обещание броситься в ноги Ивану Васильевичу.
— Это мы репетировали, — вдруг сообщил Иван Васильевич, — а вы, наверное, подумали, что это просто скандал! Каково? А?
— Изумительно, — сказал я, пряча глаза.
— Мы любим так иногда внезапно освежить в памяти какую-нибудь сцену… гм… гм… этюды очень важны. А насчет Пеликана вы не верьте. Пеликан — доблестнейший и полезнейший человек!..
Иван Васильевич поглядел тоскливо на занавеску и сказал:
— Ну-с, продолжим!
Продолжить мы не могли, так как вошла та самая старушка, что была в дверях.
— Тетушка моя. Настасья Ивановна, — сказал Иван Васильевич.
Я поклонился. Приятная старушка посмотрела на меня ласково, села и спросила:
— Как ваше здоровье?
— Благодарю вас покорнейше, — кланяясь, ответил я, — я совершенно здоров.
Помолчали, причем тетушка и Иван Васильевич поглядели на занавеску и обменялись горьким взглядом.
— Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?
— Леонтий Сергеевич. — отозвался Иван Васильевич, — пьесу мне принес.
— Чью пьесу? — спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.
— Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу!
— А зачем? — тревожно спросила Настасья Ивановна.
— Как зачем?.. Пи… гм…
— Разве уж и пьес не стало? — ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна. — Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть — в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?
Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил и сказал:
— Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!
Тут старушка встревожилась.
— Мы против властей не бунтуем, — сказала она.
— Зачем же бунтовать, — поддержал ее я.
— А «Плоды просвещения» вам не нравятся? — тревожно-робко спросила Настасья Ивановна. — А ведь какая хорошая пьеса. И Милочке роль есть… — Она вздохнула, поднялась. — Поклон батюшке, пожалуйста, передайте.
— Батюшка Сергея Сергеевича умер, — сообщил Иван Васильевич.
— Царство Небесное, — сказала старушка вежливо, — он, чай, не знает, что вы пьесы сочиняете? А отчего умер?
— Не того доктора пригласили, — сообщил Иван Васильевич. — Леонтий Пафнутьевич мне рассказал эту горестную историю.
— А ваше-то имечко как же, я что-то не пойму, — сказала Настасья Ивановна, — то Леонтий, то Сергей! Разве уж и имена позволяют менять? У нас один фамилию переменил. Теперь и разбери-ко, кто он такой!
— Я — Сергей Леонтьевич, — сказал я сиплым голосом.
— Тысячу извинений, — воскликнул Иван Васильевич, — это я спутал!
— Ну, не буду мешать, — отозвалась старушка.
— Кота надо высечь, — сказал Иван Васильевич. — это не кот, а бандит. Нас вообще бандиты одолели, — заметил он интимно, — уж не знаем, что и делать!
Вместе с надвигающимися сумерками наступила и катастрофа.
Я прочитал:
— «
Бахтин (Петрову). Ну, прощай! Очень скоро ты придешь за мною…
Петров. Что ты делаешь?!
Бахтин
(стреляет себе в висок, падает, вдали послышалась гармони…)».
— Вот это напрасно! — воскликнул Иван Васильевич. — Зачем это? Это надо вычеркнуть, не медля ни секунды. Помилуйте! Зачем же стрелять?
— Но он должен кончить самоубийством, — кашлянув, ответил я.
— И очень хорошо! Пусть кончит и пусть заколется кинжалом!
— Но, видите ли, дело происходит в гражданскую войну… Кинжалы уже не применялись…
— Нет, применялись, — возразил Иван Васильевич, — мне рассказывал этот… как его… забыл… что применялись… Вы вычеркните этот выстрел!..
Я промолчал, совершая грустную ошибку, и прочитал дальше:
— «(…
моника и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой в руке. Луна…)».
— Боже мой! — воскликнул Иван Васильевич. — Выстрелы! Опять выстрелы! Что за бедствие такое! Знаете что. Лео… знаете что, вы эту сцену вычеркните, она лишняя.
— Я считал, — сказал я, стараясь говорить как можно мягче, — эту сцену главной… Тут, видите ли…
— Форменное заблуждение! — отрезал Иван Васильевич. — Эта сцена не только не главная, но ее вовсе не нужно. Зачем это? Ваш этот, как его?..
— Бахтин.
— Ну да… ну да, вот он закололся там вдали, — Иван Васильевич махнул рукой куда-то очень далеко. — а приходит домой другой и говорит матери: — Бехтеев закололся!
— Но матери нет, — сказал я, ошеломленно глядя на стакан с крышечкой.
— Нужно обязательно! Вы напишите ее. Это нетрудно. Сперва кажется, что трудно — не было матери, и вдруг она есть, — но это заблуждение, это очень легко. И вот старушка рыдает дома, а который принес известие… Назовите его Иванов…
— Но ведь Бахтин герой! У него монологи на мосту… Я полагал…
— А Иванов и скажет все его монологи!.. У вас хорошие монологи, их нужно сохранить. Иванов и скажет — вот Петя закололся и перед смертью сказал то-то, то-то и то-то… Очень сильная сцена будет.
— Но как же быть, Иван Васильевич, ведь у меня же на мосту массовая сцена… там столкнулись массы…
— А они пусть за сценой столкнутся. Мы этого видеть не должны ни в коем случае. Ужасно, когда они на сцене сталкиваются! Ваше счастье, Сергей Леонтьевич, — сказал Иван Васильевич, единственный раз попав правильно, — что вы не изволите знать некоего Мишу Панина!.. (Я похолодел.) Это, я вам скажу, удивительная личность! Мы его держим на черный день, вдруг что-нибудь случится, тут мы его и пустим в ход… Вот он нам пьесочку тоже доставил, удружил, можно сказать, — «Стенька Разин». Я приехал в театр, подъезжаю, издали еще слышу, окна были раскрыты, — грохот, свист, крики, ругань, и палят из ружей! Лошадь едва не понесла, я думал, что бунт в театре! Ужас! Оказывается, это Стриж репетирует! Я говорю Августе Авдеевне: вы, говорю, куда же смотрели? Вы, спрашиваю, хотите, чтобы меня расстреляли самого? А ну как Стриж этот спалит театр, ведь меня по головке не погладят, не правда ли-с? Августа Авдеевна, на что уж доблестная женщина, отвечает: «Казните меня, Иван Васильевич, ничего со Стрижем сделать не могу!» Этот Стриж — чума у нас в театре. Вы, если его увидите, за версту от него бегите куда глаза глядят. (Я похолодел.) Ну конечно, это все с благословения некоего Аристарха Платоныча, ну его вы не знаете, слава богу! А вы — выстрелы! За эти выстрелы знаете что может быть? Ну-с, продолжимте.
И мы продолжили, и, когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес: «Конец».
И вскоре ужас и отчаяние охватили меня, и показалось мне, что я построил домик и лишь только в него переехал, как рухнула крыша.
— Очень хорошо, — сказал Иван Васильевич по окончании чтения, — теперь вам надо начать работать над этим материалом.
Я хотел вскрикнуть: «Как?!»
Но не вскрикнул.
И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у пятидесятипятилетней матери (Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной) жениха, конечно, быть не могло, то у меня вылетала из пьесы целая роль, да главное, которая мне очень нравилась.
Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерица, и опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер.
В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами скашивалась временами комната. Но, главное, сцена на мосту улетала, а с нею улетал и мой герой.
Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение. Перед моими глазами всплывала вдруг афиша, на которой пьеса уже стояла, в кармане хрустел, как казалось мне, последний непроеденный червонец из числа полученных за пьесу, Фома Стриж как будто стоял за спиной и уверял, что пьесу выпустит через два месяца, а здесь было совершенно ясно, что пьесы вообще никакой нет и что ее нужно сочинить с самого начала и до конца заново. В диком хороводе передо мною танцевал Миша Панин. Евлампия. Стриж, картинки из предбанника, но не было пьесы.
Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне казалось, немыслимое.
Показав (и очень хорошо показав), как закалывается Бахтин, которого Иван Васильевич прочно окрестил Бехтеевым, он вдруг закряхтел и повел такую речь:
— Вот вам бы какую пьесу сочинить… Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Итубокая психологическая драма… Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артистка, и вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает… А она только воссылает моления за своих врагов…
«И скандалы устраивает», — вдруг в приливе неожиданной злобы подумал я.
— Богу воссылает моления, Иван Васильевич?
Этот вопрос озадачил Ивана Васильевича. Он покряхтел и ответил:
— Богу?.. Пл… гм… Нет, ни в каком случае. Богу вы не пишите… Не Богу. а… искусству, которому она глубочайше предана. А травит ее шайка злодеев, и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор. Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некоей даме Икс. Ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить, внимательно смотрите, а то она вам такого сахару положит в чаек…
«Батюшки, да ведь это он про Торопецкую!» — подумал я.
— …что вы хлебнете, да ноги и протянете. Она да еще ужасный злодей Стриж… то есть я… один режиссер…
Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.
— Вы, как видно, упрямый человек, — сказал он весьма мрачно и пожевал губами.
— Нет, Иван Васильевич, но просто я далек от артистического мира и…
— А вы его изучите! Это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них… Сразу полтора акта пьесы готовы! Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит.
— Это ужасно, — произнес я больным голосом и тронул висок.
— Я вижу, что вас это не увлекает… Вы человек неподатливый! Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая, — молвил Иван Васильевич, пытливо всматриваясь в меня, — теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово…
На гнущихся ногах, со стуком в голове я выходил и с озлоблением глянул на черного Островского. Я что-то бормотал, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице, и ставшая ненавистной пьеса оттягивала мне руки.
Ветер рванул с меня шляпу при выходе во двор, и я поймал ее в луже. Бабьего лета не было и в помине. Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлюпало, мокрые листья срывались с деревьев в саду. Текло — за воротник.
Шепча какие-то бессмысленные проклятия жизни, себе, я шел, глядя на фонари, тускло горящие в сетке дождя.
На углу какого-то переулка слабо мерцал огонек в киоске. Газеты, придавленные кирпичами, мокли на прилавке. и неизвестно зачем я купил журнал «Лик Мельпомены» с нарисованным мужчиной в трико в обтяжку, с перышком в шапочке и наигранными подрисованными глазами.
Удивительно омерзительной показалась мне моя комната. Я швырнул разбухшую от воды пьесу на пол, сел к столу и придавил висок рукой, чтобы он утих. Другой рукою я отщипывал кусочки черного хлеба и жевал их.
Сняв руку с виска, я стал перелистывать отсыревший «Лик Мельпомены». Видна была какая-то девица в фижмах. мелькнул заголовок «Обратить внимание», другой — «Распоясавшийся тенор ди грациа», и вдруг мелькнула моя фамилия. Я до такой степени удивился, что у меня даже прошла голова. Вот фамилия мелькнула еще и еще, а потом мелькнул и Лопе де Вега. Сомнений не было, передо мною был фельетон «Не в свои сани», и героем этого фельетона был я. Я забыл, в чем была суть фельетона. Помнится смутно его начало:
«На Парнасе было скучно.
— Чтой-то новенького никого нет, — зевая, сказал Жан-Батист Мольер.
— Да, скучновато, — отозвался Шекспир…»
Помнится, дальше открывалась дверь, и входил я — черноволосый молодой человек с толстейшей драмой под мышкой.
Надо мною смеялись, в этом не было сомнений, — смеялись злобно все. И Шекспир, и Лопе де Вега, и ехидный Мольер, спрашивающий меня, не написал ли я чего-либо вроде «Тартюфа», и Чехов, которого я по книгам принимал за деликатнейшего человека, но резвее всех издевался автор фельетона, которого звали Волкодав.
Смешно вспоминать теперь, но озлобление мое было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорбленным безвинно, напрасно, ни за что ни про что.
Дикие мечтания о том, чтобы застрелить Волкодава, перемежались недоуменными размышлениями о том, в чем же я виноват?
— Это афиша! — шептал я. — Но я разве ее сочинял? Вот тебе! — шептал я, и мне мерещилось, как, заливаясь кровью, передо мною валится Волкодав на пол.
Тут запахло табачным нагаром из трубки, дверь скрипнула, и в комнате оказался Ликоспастов в мокром плаще.
— Читал? — спросил он радостно. — Да, брат, поздравляю, продернули. Ну, что ж поделаешь, назвался груздем — полезай в кузов. Я как увидел, пошел к тебе, надо навестить друга. — И он повесил стоящий колом плащ на гвоздик.
— Кто это Волкодав? — глухо спросил я.
— А зачем тебе?
— Ах, ты знаешь?..
— Да ведь ты же с ним знаком.
— Никакого Волкодава не знаю!
— Ну как же не знаешь! Я же тебя и познакомил… Помнишь, на улице… Еще афиша эта смешная… Софокл…
Тут я вспомнил задумчивого толстяка, глядевшего на мои волосы… «Черные волосы!..»
— Что же я этому сукину сыну сделал? — спросил я запальчиво.
Ликоспастов покачал головою.
— Э. брат, нехорошо, нехо-ро-шо. Тебя, как я вижу, гордыня совершенно обуяла. Что же это, уж и слова никто про тебя не смей сказать? Без критики не проживешь.
— Какая это критика?! Он издевается… Кто он такой?
— Он драматург, — ответил Ликоспастов. — пять пьес написал. И славный малый, ты зря злишься. Ну, конечно, обидно ему немного. Всем обидно…
— Да ведь не я же сочинял афишу? Разве я виноват в том, что у них в репертуаре Софокл и Лопе де Вега… и…
— Ты все-таки не Софокл. — злобно ухмыльнувшись, сказал Ликоспастов, — я, брат, двадцать пять лет пишу, — продолжал он, — однако вот в Софоклы не попал. — Он вздохнул.
Я почувствовал, что мне нечего говорить в ответ Ликоспастову. Нечего! Сказать так: «Не попал, потому что ты писал плохо, а я хорошо!» Можно ли так сказать, я вас спрашиваю? Можно?
Я молчал, а Ликоспастов продолжал:
— Конечно, в общественности эта афиша вызвала волнение. Меня уж многие расспрашивали. Огорчает афишка-то! Да я, впрочем, не спорить пришел, а, узнав про вторую беду твою, пришел утешить, потолковать с другом…
— Какую такую беду?!
— Да ведь Ивану-то Васильевичу пьеска не понравилась, — сказал Ликоспастов, и глаза его сверкнули, — читал ты. говорят, сегодня?
— Откуда это известно?!
— Слухом земля полнится, — вздохнув, сказал Ликоспастов, вообще любивший говорить пословицами и поговорками, — ты Настасью Иванну Колдыбаеву знаешь? — И, не дождавшись моего ответа, продолжал: — Почтенная дама, тетушка Ивана Васильевича. Вся Москва ее уважает, на нее молились в свое время. Знаменитая актриса была! А у нас в доме живет портниха, Ступина Анна. Она сейчас была у Настасьи Ивановны, только что пришла. Настасья Иванна ей рассказывала. Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то, пьесу читал, черный такой, как жук (я сразу догадался, что это ты). Не понравилось, говорит, Ивану Васильевичу. Так-то. А ведь говорил я тебе тогда, помнишь, когда ты читал? Говорил, что третий акт сделан легковесно, поверхностно сделан, ты извини, я тебе пользы желаю. Не послушался ведь ты! Ну, а Иван Васильевич, он, брат, дело понимает, от него не скроешься, сразу разобрался. Ну, а раз ему не нравится, стало быть, пьеска не пойдет. Вот и выходит, что останешься ты с афишкой на руках. Смеяться будут, вот тебе и Эврипид! Да. говорит Настасья Ивановна, что ты и надерзил Ивану Васильевичу? Расстроил его? Он тебе стал советы подавать, а ты в ответ, говорит Настасья Иванна, — фырк! Фырк! Ты меня прости, но это слишком! Не по чину берешь! Не такая уж, конечно, ценность (для Ивана Васильевича) твоя пьеса, чтобы фыркать…
— Пойдем в ресторанчик. — тихо сказал я. — не хочется мне дома сидеть. Не хочется.
— Понимаю! Ах, как понимаю, — воскликнул Ликоспастов. — С удовольствием. Только вот… — Он беспокойно порылся в бумажнике.
— У меня есть.
Примерно через полчаса мы сидели за запятнанной скатертью у окошка ресторана «Неаполь». Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какою закускою, говорил ласково, огурцы называл «огурчики», икру — «икоркой понимаю», и так от него стало тепло и уютно, что я забыл, что на улице беспросветная мгла, и даже перестало казаться, что Ликоспастов змея.
Глава 13
Я познаю истину
Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и неуверенность в себе. Они-то и привели меня к тому, что я стал задумываться — уж не надо ли, в самом деле, сестру-невесту превратить в мать?
«Не может же, в самом деле, — рассуждал я сам с собою, — чтобы он говорил так зря? Ведь он понимает в этих делах!»
И, взяв в руки перо, я стал что-то писать на листе. Сознаюсь откровенно: получилась какая-то белиберда. Самое главное было в том, что я возненавидел непрошеную мать Антонину настолько, что, как только она появлялась на бумаге, стискивал зубы. Ну, конечно, ничего и выйти не могло. Героев своих надо любить: если этого не будет, не советую никому браться за перо — вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.
«Так и знайте!» — прохрипел я и, изодрав лист в клочья, дал себе слово в театр не ходить. Мучительно трудно было это исполнить. Мне же все-таки хотелось знать, чем это кончится. «Нет, пусть они меня позовут», — думал я.
Однако прошел день, прошел другой, три дня, неделя — не зовут. «Видно, прав был негодяй Ликоспастов, — думал я. — не пойдет у них пьеса. Вот тебе и афиша и «Сети Фенизы»! Ах. как мне не везет!»
Свет не без добрых людей, скажу я, подражая Ликоспастову. Как-то постучали ко мне в комнату, и вошел Бомбардов. Я обрадовался ему до того, что у меня зачесались глаза.
— Всего этого следовало ожидать, — говорил Бомбардов, сидя на подоконнике и постукивая ногой в паровое отопление, — так и вышло. Ведь я же вас предупредил?
— Но подумайте, подумайте, Петр Петрович! — восклицал я. — Как же не читать выстрел? Как же его не читать?!
— Ну, вот и прочитали! Пожалуйста, — сказал жестко Бомбардов.
— Я не расстанусь со своим героем, — сказал я злобно.
— А вы бы и не расстались…
— Позвольте!
И я, захлебываясь, рассказал Бомбардову про все: и про мать, и про Петю, который должен был завладеть дорогими монологами героя, и про кинжал, выводивший меня в особенности из себя.
— Как вам нравятся такие проекты? — запальчиво спросил я.
— Бред, — почему-то оглянувшись, ответил Бомбардов.
— Ну, так!..
— Вот и нужно было не спорить, — тихо сказал Бомбардов. — а отвечать так: очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания, я непременно постараюсь их исполнить. Нельзя возражать, понимаете вы или нет? На Сивцеве Вражке не возражают.
— То есть как это?! Никто и никогда не возражает?
— Никто и никогда, — отстукивая каждое слово, ответил Бомбардов. — не возражал, не возражает и возражать не будет.
— Что бы он ни говорил?
— Что бы ни говорил.
— А если он скажет, что мой герой должен уехать в Пензу? Или что эта мать Антонина должна повеситься? Или что она поет контральтовым голосом? Или что эта печка черного цвета? Что
я должен ответить на это?
— Что печка эта черного цвета.
— Какая же она получится на сцене?
— Белая, с черным пятном.
— Что-то чудовищное, неслыханное!..
— Ничего, живем, — ответил Бомбардов.
— Позвольте! Неужели же Аристарх Платонович не может ничего ему сказать?
— Аристарх Платонович не может ему ничего сказать, так как Аристарх Платонович не разговаривает с Иваном Васильевичем с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года.
— Как это может быть?
— Они поссорились в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году и с тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по телефону.
— У меня кружится голова! Как же стоит театр?
— Стоит, как видите, и прекрасно стоит. Они разграничили сферы. Если, скажем, Иван Васильевич заинтересовался вашей пьесой, то к ней уж не подойдет Аристарх Платонович, и наоборот. Стало быть, нет той почвы, на которой они могли бы столкнуться. Это очень мудрая система.
— Господи! И, как назло, Аристарх Платонович в Индии. Если бы он был здесь, я бы к нему обратился…
— Гм, — сказал Бомбардов и поглядел в окно.
— Ведь нельзя же иметь дело с человеком, который никого не слушает!
— Нет, он слушает. Он слушает трех лиц: Гавриила Степановича, тетушку Настасью Ивановну и Августу Авдеевну. Вот три лица на земном шаре, которые могут иметь влияние на Ивана Васильевича. Если же кто-либо другой, кроме указанных лиц, вздумает повлиять на Ивана Васильевича, он добьется только того, что Иван Васильевич поступит наоборот.
— Но почему?!
— Он никому не доверяет.
— Но это же страшно!
— У всякого большого человека есть свои фантазии, — примирительно сказал Бомбардов.
— Хорошо. Я понял и считаю положение безнадежным. Раз для того, чтобы пьеса моя пошла на сцене, ее необходимо искорежить так, что в ней пропадает всякий смысл, то и не нужно, чтобы она шла! Я не хочу, чтобы публика, увидев, как человек двадцатого века, имеющий в руках револьвер, закалывается кинжалом, тыкала бы в меня пальцами!
— Она бы не тыкала, потому что не было бы никакого кинжала. Ваш герой застрелился бы, как и всякий нормальный человек.
Я притих.
— Если бы вы вели себя тихо, — продолжал Бомбардов. — слушались бы советов, согласились бы и с кинжалами, и с Антониной, то не было бы ни того, ни другого. На все существуют свои пути и приемы.
— Какие же это приемы?
— Их знает Миша Панин, — гробовым голосом ответил Бомбардов.
— А теперь, значит, все погибло? — тоскуя, спросил я.
— Трудновато, трудновато, — печально ответил Бомбардов.
Прошла еще неделя, из театра не было никаких известий. Рана моя стала постепенно затягиваться, и единственно, что было нестерпимо, — это посещение «Вестника пароходства» и необходимость сочинять очерки.
Но вдруг… О, это проклятое слово! Уходя навсегда, я уношу в себе неодолимый, малодушный страх перед этим словом. Я боюсь его так же, как слова «сюрприз», как слов «вас к телефону», «вам телеграмма» или «вас просят в кабинет». Я слишком хорошо знаю, что следует за этими словами.
Итак, вдруг и совершенно внезапно появился в моих дверях Демьян Кузьмич, расшаркался и вручил мне приглашение пожаловать завтра в четыре часа дня в театр.
Завтра не было дождя. Завтра был день с крепким осенним заморозком. Стуча каблуками по асфальту, волнуясь. я шел в театр.
Первое, что бросилось мне в глаза, — это извозчичья лошадь, раскормленная, как носорог, и сухой старичок на козлах. И неизвестно почему, я понял мгновенно, что это Дрыкин. От этого я взволновался еще больше. Внутри театра меня поразило некоторое возбуждение, которое сказывалось во всем. У Фили в конторе никого не было, а все его посетители, то есть, вернее, наиболее упрямые из них. томились во дворе, ежась от холода и изредка поглядывая в окно. Некоторые даже постукивали в окошко, но безрезультатно. Я постучал в дверь, она приоткрылась, мелькнул в щели глаз Баквалина, я услышал голос Фили:
— Немедленно впустить!
И меня впустили. Томящиеся на дворе сделали попытку проникнуть за мною следом, но дверь закрылась. Гфохнувшись с лесенки, я был поднят Баквалиным и попал в контору, Филя не сидел на своем месте, а находился в первой комнате. На Филе был новый галстук, как и сейчас помню — с крапинками; Филя был выбрит как-то необыкновенно чисто.
Он приветствовал меня как-то особенно торжественно, но
с оттенком некоторой грусти. Что-то в театре совершалось, и что-то, я чувствовал, как чувствует, вероятно, бык, которого ведут на заклание, важное, в чем я, вообразите, играю главную роль.
Это почувствовалось даже в короткой фразе Фили, которую он направил тихо, но повелительно Баквалину:
— Пальто примите!
Поразили меня курьеры и капельдинеры. Ни один из них не сидел на месте, а все они находились в состоянии беспокойного движения, непосвященному человеку совершенно непонятного. Так, Демьян Кузьмич рысцой пробежал мимо меня, обгоняя меня, и поднялся в бельэтаж бесшумно. Лишь только он скрылся из глаз, как из бельэтажа выбежал и вниз сбежал Кусков, тоже рысью и тоже пропал. В сумеречном нижнем фойе протрусил Клюквин и неизвестно зачем задернул занавеску на одном из окон, а остальные оставил открытыми и бесследно исчез.
Баквалин пронесся мимо по беззвучному солдатскому сукну и исчез в чайном буфете, а из чайного буфета выбежал Пакин и скрылся в зрительном зале.
— Наверх, пожалуйста, со мною, — говорил мне Филя, вежливо провожая меня.
Мы шли наверх. Еще кто-то пролетел беззвучно мимо и поднялся в ярус. Мне стало казаться, что вокруг меня бегают тени умерших.
Когда мы безмолвно подходили уже к дверям предбанника, я увидел Демьяна Кузьмича, стоящего у дверей. Какая-то фигурка в пиджачке устремилась было к двери, но Демьян Кузьмич тихонько взвизгнул и распялся на двери крестом, и фигурка шарахнулась, и ее размыло где-то в сумерках на лестнице.
— Пропустить! — шепнул Филя и исчез.
Демьян Кузьмич навалился на дверь, она пропустила меня и… еще дверь, я оказался в предбаннике, где сумерек не было. У Торопецкой на конторке горела лампа. Торопецкая не писала, а сидела, глядя в газету. Мне она кивнула головою.
А у дверей, ведущих в кабинет дирекции, стояла Менажраки в зеленом джемпере, с бриллиантовым крестиком на шее и с большой связкой блестящих ключей на кожаном лакированном поясе.
Она сказала «сюда», и я попал в ярко освещенную комнату.
Первое, что заметалось, — драгоценная мебель карельской березы с золотыми украшениями, такой же гигантский письменный стол и черный Островский в углу. Под потолком пылала люстра, на стенах пылали кенкеты. Тут мне померещилось, что из рам портретной галереи вышли портреты и надвинулись на меня. Я узнал Ивана Васильевича, сидящего на диване перед круглым столиком, на котором стояло варенье в вазочке. Узнал Княжевича, узнал по портретам еще нескольких лиц, в том числе необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на седеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями и сверкали пальцы, на которых были тяжелые бриллиантовые кольца.
Были, впрочем, в комнате и лица, не вошедшие в галерею. У спинки дивана стоял тот самый врач, что спасал во время припадка Милочку Пряхину, и так же держал теперь в руках рюмку, а у дверей стоял с тем же выражением горя на лице буфетчик.
Большой круглый стол в стороне был покрыт невиданной по белизне скатертью. Огни играли на хрустале и фарфоре, огни мрачно отражались в нарзанных бутылках. мелькнуло что-то красное, кажется, кетовая икра. Большое общество, раскинувшись в креслах, шевельнулось при моем входе, и в ответ мне были отвешены поклоны.
— А! Лео!.. — начал было Иван Васильевич.
— Сергей Леонтьевич, — быстро вставил Княжевич.
— Да… Сергей Леонтьевич, милости просим! Присаживайтесь, покорнейше прошу! — И Иван Васильевич крепко пожал мне руку. — Не прикажете ли закусить чего-нибудь? Может быть, угодно пообедать или позавтракать? Прошу без церемоний! Мы подождем. Ермолай Иванович у нас кудесник, стоит только сказать ему и… Ермолай Иванович, у нас найдется что-нибудь пообедать?
Кудесник Ермолай Иванович в ответ на это поступил так: закатил глаза под лоб, потом вернул их на место и послал мне молящий взгляд.
— Или, может быть, какие-нибудь напитки? — продолжал угощать меня Иван Васильевич. — Нарзану? Ситро? Клюквенного морсу? Ермолай Иванович! — сурово сказал Иван Васильевич. — У нас достаточные запасы клюквы? Прошу вас строжайше проследить за этим.
Ермолай Иванович в ответ улыбнулся застенчиво и повесил голову.
— Ермолай Иванович, впрочем… гм… гм… маг. В самое отчаянное время он весь театр поголовно осетриной спас от голоду! Иначе все бы погибли до единого человека. Актеры его обожают!
Ермолай Иванович не возгордился описанным подвигом, и, напротив, какая-то мрачная тень легла на его лицо.
Ясным, твердым, звучным голосом я сообщил, что и завтракал и обедал, и отказался в категорической форме и от нарзана и клюквы.
— Тогда, может быть, пирожное? Ермолай Иванович известен на весь мир своими пирожными!..
Но я еще более звучным и сильным голосом (впоследствии Бомбардов, со слов присутствующих, изображал меня, говоря: «Ну и голос, говорят, у вас был!» — «А что?» — «Хриплый, злобный, тонкий…») отказался и от пирожных.
— Кстати о пирожных, — вдруг заговорил бархатным басом необыкновенно изящно одетый и причесанный блондин, сидящий рядом с Иваном Васильевичем, — помнится, как-то мы собрались у Пручевина. И приезжает сюрпризом великий князь Максимилиан Петрович… Мы обхохотались… Вы Пручевина ведь знаете, Иван Васильевич? Я вам потом расскажу этот комический случай.
— Я знаю Пручевина, — ответил Иван Васильевич, — величайший жулик. Он родную сестру донага раздел… Ну-с.
Тут дверь впустила еще одного человека, не входящего в галерею, — именно Мишу Панина. «Да, он застрелил…» — подумал я, глядя на лицо Миши.
— А! Почтеннейший Михаил Алексеевич! — вскричал Иван Васильевич, простирая руки вошедшему. — Милости просим! Пожалуйте в кресло. Позвольте вас познакомить, — отнесся Иван Васильевич ко мне, — это наш драгоценный Михаил Алексеевич, исполняющий у нас важнейшие функции. А это…
— Сергей Леонтьевич! — весело вставил Княжевич.
— Именно он!
Не говоря ничего о том, что мы уже знакомы, и не отказываясь от этого знакомства, мы с Мишей просто пожали руки друг другу.
— Ну-с, приступим! — объявил Иван Васильевич, и все глаза уставились на меня, отчего меня передернуло. — Кто желает высказаться? Ипполит Павлович!
Тут необыкновенно представительный и с большим вкусом одетый человек с кудрями воронова крыла вдел в глаз монокль и устремил на меня свой взор. Потом налил себе нарзану, выпил стакан, вытер рот шелковым платком, поколебался — выпить ли еще, выпил второй стакан и тогда заговорил.
У него был чудесный, мягкий, наигранный голос, убедительный и прямо доходящий до сердца.
— Ваш роман. Ле… Сергей Леонтьевич? Не правда ли? Ваш роман очень, очень хорош… В нем… э… как бы выразиться, — тут оратор покосился на большой стол, где стояли нарзанные бутылки, и тотчас Ермолай Иванович просеменил к нему и подал ему свежую бутылку, — исполнен психологической глубины, необыкновенно верно очерчены персонажи… Э… Что же касается описания природы, то в них вы достигли, я бы сказал, почти тургеневской высоты!
Тут нарзан вскипел в стакане, и оратор выпил третий стакан и одним движением брови выбросил монокль из глаза.
— Эти, — продолжал он, — описания южной природы… э… звездные ночи, украинские… потом шумящий Днепр… э… как выразился Гоголь… э… Чуден Днепр, как вы помните… а запахи акации… Все это сделано у вас мастерски…
Я оглянулся на Мишу Панина — тот съежился затравленно в кресле, и глаза его были страшны.
— В особенности… э… впечатляет это описание рощи… сребристых тополей листы… вы помните?
— У меня до сих пор в глазах эти картины ночи на Днепре, когда мы ездили в поездку! — сказала контральто дама в соболях.
— Кстати о поездке, — отозвался бас рядом с Иваном Васильевичем и посмеялся: — Препикантный случай вышел тогда с генерал-губернатором Дукасовым. Вы помните его, Иван Васильевич?
— Помню. Страшнейший обжора! — отозвался Иван Васильевич. — Но продолжайте.
— Ничего, кроме комплиментов… э… э… по адресу вашего романа сказать нельзя, но… вы меня простите… сцена имеет свои законы!
Иван Васильевич ел варенье, с удовольствием слушая речь Ипполита Павловича.
— Вам не удалось в вашей пьесе передать весь аромат вашего юга. этих знойных ночей. Роли оказались психологически недочерченными, что в особенности сказалось на роли Бахтина… — Тут оратор почему-то очень обиделся, даже попыхтел губами: — П… п… и я… э… не знаю, — оратор похлопал ребрышком монокля по тетрадке, и я узнал в ней мою пьесу, — ее играть нельзя… простите, — уж совсем обиженно закончил он. — простите!
Тут мы встретились взорами. И в моем говоривший прочитал, я полагаю, злобу и изумление.
Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни сребристых тополей, ни шумящего Днепра, ни… словом, ничего этого не было.
«Он не читал! Он не читал моего романа, — гудело у меня в голове, — а между тем позволяет себе говорить о нем! Он плетет что-то про украинские ночи… Зачем они меня сюда позвали?!»
— Кто еще желает высказаться? — бодро спросил, оглядывая всех, Иван Васильевич.
Наступило натянутое молчание. Высказываться никто не пожелал. Только из угла донесся голос:
— Эхо-хо…
Я повернул голову и увидел в углу полного пожилого человека в темной блузе. Его лицо мне смутно припомнилось на портрете… Отаза его глядели мягко, лицо вообще выражало скуку, давнюю скуку. Когда я глянул, он отвел глаза.
— Вы хотите сказать, Федор Владимирович? — отнесся к нему Иван Васильевич.
— Нет, — ответил тот.
Молчание приобрело странный характер.
— А может быть, вам что-нибудь угодно?.. — обратился ко мне Иван Васильевич.
Вовсе не звучным, вовсе не бодрым, вовсе не ясным, я и сам это понимаю, голосом я сказал так:
— Насколько я понял, пьеса моя не подошла, и я прошу вернуть мне ее.
Эти слова вызвали почему-то волнение. Кресла задвигались, ко мне наклонился из-за спины кто-то и сказал:
— Нет, зачем же так говорить? Виноват!
Иван Васильевич посмотрел на варенье, а потом изумленно на окружающих.
— Гм… гм… — и он забарабанил пальцами, — мы дружественно говорим, что играть вашу пьесу — это значит причинить вам ужасный вред! Ужасающий вред. В особенности если за нее примется Фома Стриж. Вы сами жизни будете не рады и нас проклянете…
После паузы я сказал:
— В таком случае я прошу вернуть ее мне.
И тут я отчетливо прочел в глазах Ивана Васильевича злобу.
— У нас договорчик, — вдруг раздался голос откуда-то, и тут из-за спины врача показалось лицо Гавриила Степановича.
— Но ведь ваш театр ее не хочет играть, зачем же вам она?
Тут ко мне придвинулось лицо с очень живыми глазами в пенсне, высокий тенорок сказал:
— Неужели же вы ее понесете в театр Шлиппе? Ну, что они там наиграют? Ну, будут ходить по сцене бойкие офицерики. Кому это нужно?
— На основании существующих законоположений и разъяснений ее нельзя давать в театр Шлиппе, у нас договорчик! — сказал Гавриил Степанович и вышел из-за спины врача.
«Что происходит здесь? Чего они хотят?» — подумал я и страшное удушье вдруг ощутил в первый раз в жизни.
— Простите, — глухо сказал я, — я не понимаю. Вы играть ее не хотите, а между тем говорите, что в другой театр я ее отдать не могу. Как же быть?
Слова эти произвели удивительное действие. Дама в соболях обменялась оскорбленным взором с басом на диване. Но страшнее всех было лицо Ивана Васильевича. Улыбка слетела с него, в упор на меня смотрели злые огненные глаза.
— Мы хотим спасти вас от страшного вреда! — сказал Иван Васильевич. — От вернейшей опасности, караулящей вас за углом.
Опять наступило молчание и стало настолько томительным, что вынести его больше уж было невозможно.
Поковыряв немного обивку на кресле пальцем, я встал и раскланялся. Мне ответили поклоном все, кроме Ивана Васильевича, глядевшего на меня с изумлением. Боком я добрался до двери, споткнулся, вышел, поклонился Торопецкой, которая одним глазом глядела в «Известия», а другим на меня. Августе Менажраки, принявшей этот поклон сурово, и вышел.
Театр тонул в сумерках. В чайном буфете появились белые пятна — столики накрывали к спектаклю.
Дверь в зрительный зал была открыта, я задержался на несколько мгновений и глянул. Сцена была раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом, сбоку в громадные открытые ворота рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны.
Через минуту меня уже не было в театре.
Ввиду того что у Бомбардова не было телефона, я послал ему в тот же вечер телеграмму такого содержания:
«Приходите поминки. Без вас сойду с ума, не понимаю».
Эту телеграмму у меня не хотели принимать и приняли лишь после того, как я пригрозил пожаловаться в «Вестник пароходства».
Вечером на другой день мы сидели с Бомбардовым за накрытым столом. Упоминаемая мною раньше жена мастера внесла блины.
Бомбардову понравилась моя мысль устроить поминки. понравилась и комната, приведенная в полный порядок.
— Я теперь успокоился, — сказал я после того, как мой гость утолил первый голод, — и желаю только одного: знать, что это было? Меня просто терзает любопытство. Таких удивительных вещей я еще никогда не видал.
Бомбардов в ответ похвалил блины, оглядел комнату и сказал:
— Вам бы нужно жениться, Сергей Леонтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или девице.
— Этот разговор уже описан Гоголем, — ответил я. — не будем же повторяться. Скажите мне, что это было?
Бомбардов пожал плечами.
— Ничего особенного не было, было совещание Ивана Васильевича со старейшинами театра.
— Так-с. Кто эта дама в соболях?
— Маргарита Петровна Таврическая, артистка нашего театра, входящая в группу старейших или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в тысяча восемьсот восьмидесятом году, поглядев на игру Маргариты Петровны — она дебютировала. — сказал:
«Очень хорошо».
Далее я узнал у моего собеседника, что в комнате были исключительно основоположники, которые были созваны экстреннейшим образом на заседание по поводу моей пьесы, и что Дрыкина известили накануне, и что он долго чистил коня и мыл пролетку карболкой.
Спросивши о рассказчике про великого князя Максимилиана Петровича и обжору генерал-губернатора, узнал, что это самый молодой из всех основоположников.
Нужно сказать, что ответы Бомбардова отличались явной сдержанностью и
осторожностью. Заметив это, я постарался нажать своими вопросами так, чтобы добиться все-таки от моего гостя не одних формальных и сухих ответов, вроде «родился тогда-то, имя и отчество такое-то», а все-таки кое-каких характеристик. Меня до глубины души интересовали люди, собравшиеся тогда в комнате дирекции. Из их характеристик должно было сплестись, как я полагал, объяснение их поведения на этом загадочном заседании.
— Так этот Горностаев (рассказчик про генерал-губернатора) актер хороший? — спросил я, наливая вина Бомбардову.
— Угу-у. — ответил Бомбардов.
— Нет, «уту-у» — это мало. Ну вот, например, насчет Маргариты Петровны известно, что Островский сказал «очень хорошо». Вот уж и какая-то зазубринка! А то что ж «угу-у». Может, Горностаев чем-нибудь себя прославил?
Бомбардов кинул исподтишка на меня настороженный взгляд, помямлил как-то:
— Что бы вам по этому поводу сказать? Пи, гм… — И, осушив свой стакан, сказал: — Да вот недавно совершенно Горностаев поразил всех тем, что с ним чудо произошло… — И тут начал поливать блин маслом и так долго поливал, что я воскликнул:
— Ради бога, не тяните!
— Прекрасное вино «Напареули», — все-таки вклеил Бомбардов, испытывая мое терпение, и продолжал так: — Было это дельце четыре года тому назад. Раннею весною, и, как сейчас помню, был тогда Герасим Николаевич как-то особенно весел и возбужден. Не к добру, видно, веселился человек! Планы какие-то строил, порывался куда-то, даже помолодел. А он, надо вам сказать, театр любит страстно. Помню, все говорил тогда: «Эх, отстал
я несколько, раньше я. бывало, следил за театральной жизнью Запада, каждый год ездил, бывало, за границу, ну, и натурально, был в курсе всего, что делается в театре в Германии, во Франции! Да что Франция, даже, вообразите, в Америку с целью изучения театральных достижений заглядывал». — «Так вы, — говорят ему, — подайте заявление да и съездите». Усмехнулся мягкой такой улыбкой. «Ни в коем случае, отвечает, не такое теперь время, чтобы заявления подавать! Неужели я допущу, чтобы из-за меня государство тратило ценную валюту? Лучше пусть инженер какой-нибудь съездит или хозяйственник!»
Крепкий, настоящий человек! Нуте-с… (Бомбардов поглядел сквозь вино на свет лампочки, еще раз похвалил вино) нуте-с, проходит месяц, настала уже и настоящая весна. Тут и разыгралась беда. Приходит раз Герасим Николаевич к Августе Авдеевне в кабинет. Молчит. Та посмотрела на него, видит, что на нем лица нет, бледен как салфетка, в глазах траур. «Что с вами, Герасим Николаевич?» — «Ничего, отвечает, не обращайте внимания». Подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Вслушалась, оказалось — траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у нее по человечеству заныло, пристала: «Что такое? В чем дело?»
Повернулся к ней, криво усмехнулся и говорит:
«Поклянитесь, что никому не скажете!» Та, натурально, немедленно поклялась. «Я сейчас был у доктора, и он нашел, что у меня саркома легкого». Повернулся и вышел.
— Да, это штука… — тихо сказал я, и на душе у меня стало скверно.
— Что говорить! — подтвердил Бомбардов. — Ну-с, Августа Авдеевна немедленно под клятвой это Гавриилу Степановичу, тот Ипполиту Павловичу, тот жене, жена Евлампии Петровне: короче говоря, через два часа даже подмастерья в портновском цехе знали, что Герасима Николаевича художественная деятельность кончилась и что венок хоть сейчас можно заказывать. Актеры в чайном буфете через три часа уже толковали, кому передадут роли Герасима Николаевича.
Августа Авдеевна тем временем за трубку и к Ивану Васильевичу. Ровно через три дня звонит Августа Авдеевна к Герасиму Николаевичу и говорит: «Сейчас приеду к вам». И, точно, приезжает. Герасим Николаевич лежит на диване в китайском халате, как смерть сама бледен, но горд и спокоен.
Августа Авдеевна — женщина деловая и прямо на стол красную книжку и чек — бряк!
Герасим Николаевич вздрогнул и сказал:
— Вы недобрые люди. Ведь я не хотел этого! Какой смысл умирать на чужбине?
Августа Авдеевна стойкая женщина и настоящий секретарь! Слова умирающего она пропустила мимо ушей и крикнула:
— Фаддей!
А Фаддей — верный, преданный слуга Герасима Николаевича.
И тотчас Фаддей появился.
— Поезд идет через два часа. Плед Герасиму Николаевичу! Белье. Чемодан. Несессер. Машина будет через сорок минут.
Обреченный только вздохнул, махнул рукой. Есть где-то. не то в Швейцарии на границе, не то не в Швейцарии, словом — в Альпах… — Бомбардов потер лоб. — словом, не важно. На высоте трех тысяч метров над уровнем моря высокогорная лечебница мировой знаменитости профессора Кли. Ездят туда только в отчаянных случаях. Или пан, или пропал. Хуже не будет, а. бывает, случались чудеса. На открытой веранде, в виду снеговых вершин, кладет Кли таких безнадежных, делает им какие-то впрыскивания саркоматина, заставляет дышать кислородом, и, случалось, Кли на год удавалось оттянуть смерть.
Через пятьдесят минут провезли Герасима Николаевича мимо театра по его желанию, и Демьян Кузьмич рассказывал потом, что видел, как тот поднял руку и благословил театр, а потом машина ушла на Белорусско-Балтийский вокзал.
Тут лето наскочило, и пронесся слух, что Герасим Николаевич скончался. Ну, посудачили, посочувствовали… Однако лето… Актеры уж были на отлете, у них поездка начиналась… Так что уж очень большой скорби как-то не было… Ждали, что вот привезут тело Герасима Николаевича… Актеры тем временем разъехались, сезон кончился. А надо вам сказать, что наш Плисов…
— Это тот симпатичный с усами? — спросил я. — Который в галерее?
— Именно он, — подтвердил Бомбардов и продолжал: — Так вот он получил командировку в Париж для изучения театральной машинерии. Немедленно, натурально, получил документы и отчалил. Плисов, надо вам сказать, работяга потрясающий и в свой поворотный круг буквально влюблен. Завидовали ему чрезвычайно. Каждому лестно в Париж съездить… «Вот счастливец!» — все говорили. Счастливец он или несчастливец, но взял документики и покатил в Париж, как раз в то время, как пришло известие о кончине Герасима Николаевича. Плисов — личность особенная и ухитрился, пробыв в Париже, не увидеть даже Эйфелевой башни. Энтузиаст. Все время просидел в трюмах под сценами, все изучил, что надобно, купил фонари, все честно исполнил. Наконец нужно уж ему и уезжать. Тут решил пройтись по Парижу, хоть глянуть-то на него перед возвращением на родину. Ходил, ходил, ездил в автобусах, объясняясь по преимуществу мычанием, и, наконец, проголодался как зверь, заехал куда-то, черт его знает куда. «Дай, думает, зайду в ресторанчик, перекушу». Видит — огни. Чувствует, что где-то не в центре, все. по-видимому, недорого. Входит. Действительно, ресторанчик средней руки. Смотрит — и как стоял, так и застыл.
Видит: за столиком, в смокинге, в петлице бутоньерка. сидит покойный Герасим Николаевич, и с ним какие-то две француженки, причем последние прямо от хохоту давятся. А перед ними на столе в вазе со льдом бутылка шампанского и кой-что из фруктов.
Плисов прямо покачнулся у притолоки. «Не может быть! — думает. — Мне показалось. Не может Герасим Николаевич быть здесь и хохотать. Он может быть только в одном месте, на Ново-Девичьем!»
Стоит, вытаращив глаза на этого, жутко похожего на покойника, а тот поднимается, причем лицо его выразило сперва какую-то как бы тревогу, Плисову даже показалось. что он как бы недоволен его появлением, но потом выяснилось, что Герасим Николаевич просто изумился. И тут же шепнул Герасим Николаевич, а это был именно он, что-то своим француженкам, и те исчезли внезапно.
Очнулся Плисов лишь тогда, когда Герасим Николаевич облобызал его. И тут же все разъяснилось. Плисов только вскрикивал: «Да ну!» — слушая Герасима Николаевича. Ну и действительно, чудеса.
Привезли Герасима Николаевича в Альпы эти самые в таком виде, что Кли покачал головой и сказал только:
«Пл…» Ну, положили Герасима Николаевича на эту веранду. Впрыснули этот препарат. Кислородную подушку. Вначале больному стало хуже, и хуже настолько, что, как потом признались Герасиму Николаевичу, у Кли насчет завтрашнего дня появились самые неприятные предположения. Ибо сердце сдало. Однако завтрашний день прошел благополучно. Повторили впрыскивание. Послезавтрашний день еще лучше. А дальше — прямо не верится. Герасим Николаевич сел на кушетке, а потом говорит: «Дай-ко я пройдусь». Не только у ассистентов, но у самого Кли глаза стали круглые. Коротко говоря, через день еще Герасим Николаевич ходил по веранде, лицо порозовело. появился аппетит… температура 36,8, пульс нормальный, болей нету и следа.
Герасим Николаевич рассказывал, что на него ходили смотреть из окрестных селений. Врачи приезжали из городов, Кли доклад делал, кричал, что такие случаи бывают раз в тысячу лет. Хотели портрет Герасима Николаевича поместить в медицинских журналах, но он наотрез отказался — «не люблю шумихи!».
Кли же тем временем говорит Герасиму Николаевичу, что делать ему больше в Альпах нечего и что он посылает Герасима Николаевича в Париж для того, чтобы он там отдохнул от пережитых потрясений. Ну вот Герасим Николаевич и оказался в Париже. А француженки, — объяснил Герасим Николаевич, — это двое молодых местных парижских начинающих врачей, которые собирались о нем писать статью. Вот-с какие дела.
— Да, это поразительно! — заметил я. — Я все-таки не понимаю, как же это он выкрутился!
— В этом-то и есть чудо, — ответил Бомбардов. — оказывается, что под влиянием первого же впрыскивания саркома Герасима Николаевича начала рассасываться и рассосалась!
Я всплеснул руками.
— Скажите! — вскричал я. — Ведь этого никогда не бывает!
— Раз в тысячу лет бывает, — отозвался Бомбардов и продолжал: — Но погодите, это не все. Осенью приехал Герасим Николаевич в новом костюме, поправившийся, загоревший — его парижские врачи, после Парижа, еще на океан послали. В чайном буфете прямо гроздьями наши висели на Герасиме Николаевиче, слушая его рассказы про океан, Париж, альпийских врачей и прочее такое. Ну. пошел сезон как обычно, Герасим Николаевич играл, и пристойно играл, и тянулось так до марта… А в марте вдруг приходит Герасим Николаевич на репетицию «Леди Макбет» с палочкой. «Что такое?» — «Ничего, колет почему-то в пояснице». Ну, колет и колет. Поколет — перестанет. Однако же не перестает. Дальше — больше… синим светом — не помогает… Бессонница, спать на спине не может. Начал худеть на глазах. Пантопон. Не помогает! Ну, к доктору, конечно. И вообразите…
Бомбардов сделал умело паузу и такие глаза, что холод прошел у меня по спине.
— И вообразите… доктор посмотрел его, помял, помигал… Герасим Николаевич говорит ему: «Доктор, не тяните. я не баба, видел виды… говорите — она?» Она!! — рявкнул хрипло Бомбардов и залпом выпил стакан. — Саркома возобновилась! Бросилась в правую почку, начала пожирать Герасима Николаевича! Натурально — сенсация. Репетиции к черту. Герасима Николаевича — домой. Ну, на сей раз уж было легче. Теперь уж есть надежда. Опять в три дня паспорт, билет, в Альпы, к Кли. Тэт встретил Герасима Николаевича как родного. Еще бы! Рекламу сделала саркома Герасима Николаевича профессору мировую! Опять на веранду, опять впрыскивание — и та же история! Через сутки боль утихла, через двое Герасим Николаевич ходит по веранде, а через три просится у Кли — нельзя ли ему в теннис поиграть! Что в лечебнице творится, уму непостижимо. Больные едут к Кли эшелонами! Рядом второй, как рассказывал Герасим Николаевич, корпус начали пристраивать. Кли, на что сдержанный иностранец, расцеловался с Герасимом Николаевичем троекратно и послал его. как и полагается, отдыхать, только на сей раз в Ниццу, потом в Париж, а потом в Сицилию.
И опять приехал осенью Герасим Николаевич — мы как раз вернулись из поездки в Донбасс — свежий, бодрый, здоровый, только костюм другой, в прошлую осень был шоколадный, а теперь серый в мелкую клетку. Дня три рассказывал о Сицилии и о том, как буржуа в рулетку играют в Монте-Карло. Говорит, что отвратительное зрелище. Опять сезон, и опять к весне та же история, но только в другом месте. Рецидив, но только под левым коленом. Опять Кли, потом на Мадейру, потом в заключение — Париж.
Но теперь уж волнений по поводу вспышек саркомы почти не было. Всем стало понятно, что Кли нашел способ спасения. Оказалось, что с каждым годом под влиянием впрыскиваний устойчивость саркомы понижается, и Кли надеется и даже уверен в том, что еще три-четыре сезона, и организм Герасима Николаевича станет сам справляться с попытками саркомы дать где-нибудь вспышку. И, действительно, в позапрошлом году она сказалась только легкими болями в гайморовой полости и тотчас у Кли пропала. Но теперь уж за Герасимом Николаевичем строжайшее и неослабное наблюдение, и есть боли или нет, но уж в апреле его отправляют.
— Чудо! — сказал я, вздохнув почему-то. Меж тем пир наш шел горой, как говорится. Затуманились головы от «Напареули», пошла беседа и живее и, главное, откровеннее. «Ты очень интересный, наблюдательный, злой человек. — думал я о Бомбардове, — и нравишься мне чрезвычайно, но ты хитер и скрытен, и таким сделала тебя твоя жизнь в театре…»
— Не будьте таким! — вдруг попросил я моего гостя. — Скажите мне. ведь сознаюсь вам — мне тяжело… Неужели моя пьеса так плоха?
— Ваша пьеса, — сказал Бомбардов, — хорошая пьеса. И точка.
— Почему же. почему же произошло все это странное и страшное для меня в кабинете? Пьеса не понравилась им?
— Нет. — сказал Бомбардов твердым голосом, — наоборот. Все произошло именно потому, что она им понравилась. И понравилась чрезвычайно.
— Но Ипполит Павлович…
— Больше всего она понравилась именно Ипполиту Павловичу. — тихо, но веско, раздельно проговорил Бомбардов, и я уловил, так показалось мне, у него в глазах сочувствие.
— С ума можно сойти… — прошептал я.
— Нет, не надо сходить… Просто вы не знаете, что такое театр. Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего…
— Говорите! Говорите! — вскричал я и взялся за голову.
— Пьеса понравилась до того, что вызвала даже панику, — начал говорить Бомбардов. — отчего все и стряслось. Лишь только с нею познакомились, а старейшины узнали про нее, тотчас наметили даже распределение ролей. На Бахтина назначили Ипполита Павловича. Петрова задумали дать Валентину Конрадовичу.
— Какому… Вал… это который…
— Нуда… он.
— Но позвольте! — даже не закричал, а заорал я. — Ведь…
— Ну да, ну да… — проговорил, очевидно, понимавший меня с полуслова Бомбардов, — Ипполиту Павловичу — шестьдесят один год, Валентину Конрадовичу — шестьдесят два года… Самому старшему вашему герою Бахтину сколько лет?
— Двадцать восемь!
— Вот, вот. Нуте-с, как только старейшинам разослали экземпляры пьесы, то и передать вам нельзя, что произошло. Не бывало у нас этого в театре за все пятьдесят лет его существования. Они просто все обиделись.
— На кого? На распределителя ролей?
— Нет. На автора.
Мне оставалось только выпучить глаза, что я и сделал, а Бомбардов продолжал:
— На автора. В самом деле — группа старейшин рассуждала так: мы ищем, жаждем ролей, мы, основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и… здравствуйте пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же, он в шутку ее принес?! Самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет — Герасиму Николаевичу.
— Я вовсе не претендую, чтобы мою пьесу играли основоположники! — заорал я. — Пусть ее играют молодые!
— Ишь ты как ловко! — воскликнул Бомбардов и сделал сатанинское лицо. — Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Елагин. Благосветлов, Стренковский выходят, кланяются — браво! Бис! Ура! Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем! А основоположники, значит, будут сидеть и растерянно улыбаться — значит, мол, мы не нужны уже? Значит. нас уж. может, в богадельню? Хи, хи, хи! Ловко! Ловко!
— Все понятно! — стараясь кричать тоже сатанинским голосом, закричал я. — Все понятно!
— Что ж тут не понять! — отрезал Бомбардов. — Ведь Иван Васильевич сказал же вам, что нужно невесту переделать в мать, тогда играла бы Маргарита Павловна или Настасья Ивановна…
— Настасья Ивановна?!
— Вы не театральный человек, — с оскорбительной улыбкой отозвался Бомбардов. но за что оскорблял, не объяснил.
— Одно только скажите, — пылко заговорил я, — кого они хотели назначить на роль Анны?
— Натурально, Людмилу Сильвестровну Пряхину.
Тут почему-то бешенство овладело мною.
— Что-о? Что такое?! Людмилу Сильвестровну?! — Я вскочил из-за стола. — Да вы смеетесь!
— А что такое? — с веселым любопытством спросил Бомбардов.
— Сколько ей лет?
— А вот этого, извините, никто не знает.
— Анне девятнадцать лет! Девятнадцать! Понимаете? Но это даже не самое главное. А главное то, что она не может играть!
— Анну-то?
— Не Анну, а вообще ничего не может!
— Позвольте!
— Нет, позвольте! Актриса, которая хотела изобразить плач угнетенного и обиженного человека и изобразила его так, что кот спятил и изодрал занавеску, играть ничего не может.
— Кот — болван, — наслаждаясь моим бешенством, отозвался Бомбардов, — у него ожирение сердца, миокардит и неврастения. Ведь он же целыми днями сидит на постели, людей не видит, ну, натурально, испугался.
— Кот — неврастеник, я согласен! — кричал я. — Но у него правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услыхал фальшь! Понимаете, омерзительную фальшь. Он был шокирован! Вообще, что означала вся эта петрушка?
— Накладка вышла, — пояснил Бомбардов.
— Что значит это слово?
— Накладкой на нашем языке называется всякая путаница, которая происходит на сцене. Актер вдруг в тексте ошибается, или занавес не вовремя закроют, или…
— Понял, понял…
— В данном случае наложили двое — и Августа Авдеевна, и Настасья Ивановна. Первая, пуская вас к Ивану Васильевичу, не предупредила Настасью Ивановну о том, что вы будете. А вторая, перед тем как пускать Людмилу Сильвестровну на выход, не проверила, есть ли кто у Ивана Васильевича. Хотя, конечно. Августа Авдеевна меньше виновата — Настасья Ивановна за грибами ездила в магазин…
— Понятно, понятно, — говорил я, стараясь выдавить из себя мефистофельский смех, — все решительно понятно! Так вот, не может ваша Людмила Сильвестровна играть.
— Позвольте! Москвичи утверждают, что она играла прекрасно в свое время…
— Врут ваши москвичи! — вскричал я. — Она изображает плач и горе, а глаза у нее злятся! Она подтанцовывает и кричит «бабье лето!», а глаза у нее беспокойные! Она смеется, а у слушателя мурашки в спине, как будто ему нарзану за рубашку налили! Она не актриса!
— Однако! Она тридцать лет изучает знаменитую теорию Ивана Васильевича о воплощении…
— Не знаю этой теории! По-моему, теория ей не помогла!
— Вы, может быть, скажете, что и Иван Васильевич не актер?
— А, нет! Нет! Лишь только он показал, как Бахтин закололся, я ахнул: у него глаза мертвые сделались! Он упал на диван, и я увидел зарезавшегося. Сколько можно судить по этой краткой сцене, а судить можно, как можно великого певца узнать по одной фразе, спетой им. — он величайшее явление на сцене! Я только решительно не могу понять, что он говорит по содержанию пьесы.
— Все мудро говорит!
— Кинжал!!
— Поймите, что лишь только вы сели и открыли тетрадь, он уже перестал слушать вас. Да, да. Он соображал о том, как распределить роли, как сделать так, чтобы разместить основоположников, как сделать так, чтобы они могли разыграть вашу пьесу без ущерба для себя… А вы выстрелы там какие-то читаете. Я служу в нашем театре десять лет, и мне говорили, что единственный раз выстрелили в нашем театре в тысяча девятьсот первом году, и то крайне неудачно. В пьесе этого… вот забыл… известный автор… ну, не важно… словом, двое нервных героев ругались между собой из-за наследства, ругались, ругались, пока один не хлопнул в другого из револьвера, и то мимо… Ну, пока шли простые репетиции, помощник изображал выстрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил в кулисе по-всамделишному. Ну, Настасье Ивановне и сделалось дурно — она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а Людмила Сильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. В пьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался лейкой и кричал: «Убью тебя, негодяя!» и топал ногами, отчего, по мнению Ивана Васильевича, пьеса только выиграла. Автор бешено обиделся на театр и три года не разговаривал с директорами, но Иван Васильевич остался тверд…
По мере того как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали, и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Во рту горел огонь после соленой красной икры и семги, мы утоляли жажду чаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом, из открытой форточки била струя морозного воздуха, но она не освежала, а только холодила.
— Вы скажите мне, скажите, — просил я глухим, слабым голосом, — зачем же в таком случае, если пьеса никак не расходится у них, они не хотят, чтобы я отдал ее в другой театр? Зачем она им? Зачем?
— Хорошенькое дело! Как — зачем? Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, может иметь успех! С какой стати! Да ведь вы же написали в договоре, что не отдадите пьесу в другой театр?
Туг у меня перед глазами запрыгали бесчисленные огненно-зеленые надписи «автор не имеет права» и какое-то слово «буде»… и хитрые фигурки параграфов, вспомнился кожаный кабинет, показалось, что запахло духами.
— Будь он проклят! — прохрипел я.
— Кто?!
— Будь он проклят! Гавриил Степанович!
— Орел! — воскликнул Бомбардов, сверкая воспаленными глазами.
— И ведь какой тихий и все о душе говорит!..
— Заблуждение, бред, чепуха, отсутствие наблюдательности! — вскрикивал Бомбардов, глаза его пылали, пылала папироса, дым валил у него из ноздрей. — Орел, кондор. Он на скале сидит, видит на сорок километров кругом. И лишь покажется точка, шевельнется, он взвивается и вдруг камнем падает вниз! Жалобный крик, хрипение… и вот уж он взвился в поднебесье, и жертва у него!
— Вы поэт, черт вас возьми! — хрипел я.
— А вы, — тонко улыбнувшись, шепнул Бомбардов, — злой человек! Эх, Сергей Леонтьевич, предсказываю вам, трудно вам придется…
Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злой человек, но тут же вспомнились и слова Ликоспастова о волчьей улыбке…
— Значит, — зевая, говорил я, — значит, пьеса моя не пойдет? Значит, все пропало?
Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданной для него теплотой в голосе:
— Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет. Разве что чудо…
Приближался осенний, скверный, туманный рассвет за окном. Но, несмотря на то что были противные объедки, в блюдечках груды окурков, я, среди всего этого безобразия, еще раз поднятый какой-то последней, по-видимому, волной, начал произносить монолог о золотом коне.
Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу… Но главное было не в этом. Раздавив в азарте блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я, лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришел!
— Я новый, — кричал я, — я новый! Я неизбежный, я пришел!
Тут какие-то колеса поворачивались в горящем мозгу, и выскакивала Людмила Сильвестровна, взвывала, махала кружевным платком.
— Не может она играть! — в злобном исступлении хрипел я.
— Но позвольте!.. Нельзя же.
— Попрошу не противоречить мне, — сурово говорил я, — вы притерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж! Я вижу сквозь нее.
— Однако!
— И никакая те… теория ничего не поможет! А вот там маленький, курносый, чиновничка играет, руки у него белые, голос сиплый, но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черных перчатках… не нужна ему теория!
— Аргунин… — глухо донеслось до меня из-за завесы дыма.
— Не бывает никаких теорий! — окончательно впадая в самонадеянность, вскрикивал я и даже зубами скрежетал и тут совершенно неожиданно увидел, что на сером пиджаке у меня большое масляное пятно с прилипшим кусочком луку. Я растерянно оглянулся. Не было ночи и в помине. Бомбардов потушил лампу, и в синеве стали выступать все предметы во всем своем уродстве.
Ночь была съедена, ночь ушла.
Глава 14
Таинственные чудотворцы
Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут, конечно, дождь вперемежку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надо полагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря, худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? Я пробовал и так и эдак, и тем и другим. И ведь удивительная вещь: например, намочишь бензином, и чудный результат — пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь — пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое после кипятку, спитого чаю, одеколону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не сделаешь. Нет. видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно — но другим пожелаю, чтобы их было как можно меньше.
Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в «Вестник», страдал от сырости и бессонницы, а читал как попало и бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с «Черным снегом» дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-то невесело.
Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта, конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.
А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился. Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках, в полутьме, роясь в пыльных журналах, и, помнится, видел чудесную картинку… Триумфальная арка…
Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданно ударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна и дыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, я понял, что писать пьесы и не играть их — невозможно.
Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл — «третьим действием». Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник. отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?
Да я и не записывал придуманное. Возникает вопрос, конечно, и прежде всего он возникает у меня самого: почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал вторичной попытки лишить себя жизни?
Признаюсь прямо: первый опыт вызвал какое-то отвращение к этому насильственному акту. Это если говорить обо мне. Но истинная причина, конечно, не в этом. Всему приходит час. Впрочем, не будем распространяться на эту тему.
Что касается внешнего мира, то все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральных журнала и на «Вечернюю Москву».
И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да и натыкался на известия о моих знакомых. Так, пятнадцатого декабря прочитал:
«Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу «Монмартрские ножи», из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру».
Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие:
«Известный писатель Е. Агапенов усиленно работает над комедией «Деверь» по заказу Театра Дружной когорты».
Двадцать второго было напечатано:
«Драматург Клинкер в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовом. Пьеса называется условно «Приступ».
А дальше как бы град пошел: и двадцать первого, и двадцать четвертого, и двадцать шестого. Газета — и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека, с необыкновенно лунной головой и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Прок И. С. Драма. Кончает третий акт.
Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов.
Второго января я обиделся.
Было напечатано:
«Консультант М. Панин созвал совещание в Независимом Театре группы драматургов. Тема — сочинение современной пьесы для Независимого Театра».
Заметка была озаглавлена «Пора, давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. «А между тем, — писала газета, — именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович».
Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов. не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра.
Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.
— Позвольте, — обиженно надувая губы, бормотал я, — как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?
Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.
Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию:
«Телом в Калькутте, душою с вами».
— Ишь какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине, — шептал я, зевая, — а я как будто погребен.
Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи.
Хромая, гладя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы.
Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, — было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти — ничего не помню.
Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое.
Громадный зал во дворце, и я будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико — словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям.
Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время.
И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы «НТ» сверкали на нем.
Я разорвал его, вот он и сейчас, распоротый косо, лежит передо мною (и я увезу его с собой!). В конверте был лист опять-таки с золотыми готическими буквами, и крупным, жирным почерком Фомы Стрижа было написано:
«Дорогой Сергей Леонтьевич!
Немедленно в Театр! Завтра начинаю репетировать «Черный снег» в 12 часов дня.
Ваш Ф. Стриж».
Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом почему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени.
В дверь тем временем стучали властно и весело.
— Да. — сказал я.
Тут в комнату вошел Бомбардов. Бледный с желтизной, показавшийся выше ростом после болезни, и голосом, от нее же изменившимся, он сказал:
— Знаете уже? Я нарочно заехал к вам.
И. встав перед ним во всей наготе и нищете, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его. уронив листок.
— Как же это могло случиться? — спросил я, наклоняясь к полу.
— Этого даже я не пойму, — ответил мне дорогой мой гость, — никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю. что это сделали Панин со Стрижом. Но как они это сделали — неизвестно, ибо это выше человеческих сил. Короче: это чудо.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 15
Серой тонкой змеей, протянутый через весь партер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга.
Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.
Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано: «Волки и овцы-2».
Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов — молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком.
В зале было душно, на улице уже давно был полный май.
Это был антракт на репетиции — актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать, я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться. объяснять, говорить и спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпачком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь.
Мысли мои вертелись только вокруг одного — вокруг моей пьесы. С того самого дня. как прислано было Фомою Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек. как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он. этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.
Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, она заполняла все время — даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой.
В первом наичаще снился вариант: автор, идя на генеральную. забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдание для прохожих — что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет, его не было, хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал…
— Ваня! — слабо доносилось со сцены. — Дай желтый! В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.
Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то. наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком:
— Пюбин! Давай!
Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром. проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», — думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.
— Пюбин! Стоп! — кричали на сцене. — Пюбин, дай назад!
Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка…» — думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост.
В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. «Рампу дал…»
Я щурился во тьму на ту фигуру, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.
«Романус идет, значит, сейчас произойдет что-то…» — думал я, заслоняясь рукой от лампы.
И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная бородка, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами «НТ».
— Сэ нон э веро, э бен тровато
[74], а может быть, еще сильней! — начинал, как обычно, Романус, глаза его вертелись, горя, как у волка в степи. Романус искал жертвы и, не найдя ее, садился рядом со мною.
— Как вам это нравится? А? — прищуриваясь, спрашивал меня Романус.
«Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор…» — думал я, корчась у лампы.
— Нет, вы, будьте добры, скажите ваше мнение. — буравя меня глазом, говорил Романус, — оно тем более интересно, что вы писатель и не можете относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят.
«Ведь как ловко он это делает…» — тоскуя до того, что чесалось тело, думал я.
— Ударить концертмейстера и тем более женщину тромбоном в спину? — азартно спрашивал Романус. — Нет-с. Это дудки! Я тридцать пять лет на сцене и такого случая еще не видел. Стриж думает, что музыканты — свиньи и их можно загонять в закуту? Интересно, как это с писательской точки зрения?
Отмалчиваться больше не удавалось:
— А что такое?
Романус только и ждал этого. Звучным голосом, стараясь, чтобы слышали рабочие, с любопытством скопляющиеся у рампы, Романус говорил, что Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть нет никакой возможности по следующим причинам: первое — тесно, второе — темно, а в-третьих, в зале не слышно ни одного звука, в-четвертых, ему стоять негде, музыканты его не видят.
— Правда, есть люди, — зычно сообщал Романус, — которые смыслят в музыке не больше, чем некоторые животные…
«Чтоб тебя черт взял!» — думал я.
— …в некоторых фруктах!
Усилия Романуса увенчались успехом — из электротехнической будки слышалось хихиканье, из будки вылезала
голова.
— Правда, таким лицам нужно не режиссурой заниматься, а торговать квасом у Ново-Девичьего кладбища!.. — заливался Романус.
Хихиканье повторялось.
Далее выяснялось, что безобразия, допущенные Стрижом, дали свои результаты. Тромбонист ткнул в темноте тромбоном концертмейстера Анну Ануфриевну Деникину в спину так, что…
— Рентген покажет, чем это кончится!
Романус добавлял, что ребра можно ломать не в театре — в пивной, где, впрочем, некоторые получают свое артистическое образование.
Ликующее лицо монтера красовалось над прорезом будки, рот его раздирало смехом.
Но Романус утверждает, что это так не кончится. Он научил Анну Ануфриевну, что делать. Мы, слава богу, живем в Советском государстве, напоминал Романус. ребра членам профсоюзов ломать не приходится. Он научил Анну Ануфриевну подать заявление в местком.
— Правда, по вашим глазам я вижу, — продолжал Романус, впиваясь в меня и стараясь уловить меня в круге света, — что у вас нет полной уверенности в том, что наш знаменитый председатель месткома так же хорошо разбирается в музыке, как Римский-Корсаков или Шуберт.
«Вот тип!» — думал я.
— Позвольте!.. — стараясь сурово говорить, говорил я.
— Нет уж, будем откровенны! — восклицал Романус, пожимая мне руку. — Вы писатель! И прекрасно понимаете, что навряд ли Митя Малокрошечный, будь он хоть двадцать раз председателем, отличит гобой от виолончели или фугу Баха от фокстрота «Аллилуйя».
Тут Романус выражал радость, что хорошо еще. что ближайший друг…
— …и собутыльник!..
К теноровому хихиканью в электрической будке присоединялся хриплый басок. Над будкой ликовало уже две головы.
…Антон Калошин помогает разбираться Малокрошечному в вопросах искусства. Это, впрочем, и немудрено. ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде. где играл на трубе. А не будь Антона, Романус ручается, что кой-кто из режиссеров спутал бы, и очень просто, увертюру к «Руслану» с самым обыкновенным «Со святыми упокой»!
«Этот человек опасен, — думал я, глядя на Романуса. — опасен по-серьезному. Средств борьбы с ним нет!»
Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту, благо Иван Васильевич не появляется в театре, но тем не менее придется театру заплатить Анне Ануфриевне за искрошенные ребра. Да и в союз Романус ей посоветовал наведаться, узнать, как там смотрят на такие вещи, про которые действительно можно сказать:
— Сэ нон э веро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее!
Мягкие шаги послышались сзади, приближалось избавление.
У стола стоял Андрей Андреевич. Андрей Андреевич был первым помощником режиссера в театре, и он вел пьесу «Черный снег».
Андрей Андреевич, полный, плотный блондин лет сорока, с живыми многоопытными глазами, знал свое дело хорошо. А дело это было трудное.
Андрей Андреевич, одетый по случаю мая не в обычный темный костюм и желтые ботинки, а в синюю сатиновую рубашку и брезентовые желтоватые туфли, подошел к столу, имея под мышкою неизменную папку.
Глаз Романуса запылал сильнее, и Андрей Андреевич не успел еще пристроить папку под лампой, как вскипел скандал.
Начался он с фразы Романуса:
— Я категорически протестую против насилия над музыкантами и прошу занести в протокол то, что происходит!
— Какие насилия? — спросил Андрей Андреевич служебным голосом и чуть шевельнул бровью.
— Если у нас ставятся пьесы, больше похожие на оперу… — начал было Романус, но спохватился, что автор сидит тут же, и продолжал, исказив свое лицо улыбкой в мою сторону, — что и правильно! Ибо наш автор понимает все значение музыки в драме!.. То… Я прошу отвести оркестру место, где он мог бы играть!
— Ему отведено место в кармане, — сказал Андрей Андреевич, делая вид, что открывает папку по срочному делу.
— В кармане? А может быть, лучше в суфлерской будке? Или в бутафорской?
— Вы сказали, что в трюме нельзя играть.
— В трюме? — взвизгнул Романус. — И повторяю, что нельзя. И в чайном буфете нельзя, к вашему сведению.
— К вашему сведению, я и сам знаю, что в чайном буфете нельзя. — сказал Андрей Андреевич, и у него шевельнулась другая бровь.
— Вы знаете. — ответил Романус и, убедившись, что Стрижа еще нет в партере, продолжал: — Ибо вы старый работник и понимаете в искусстве, чего нельзя сказать про кой-кого из режиссеров…
— Тем не менее обращайтесь к режиссеру. Он проверял звучание…
— Чтобы проверить звучание, нужно иметь кой-какой аппарат, при помощи которого можно проверить, например, уши! Но если кому-нибудь в детстве…
— Я отказываюсь продолжать разговор в таком тоне, — сказал Андрей Андреевич и закрыл папку.
— Какой тон?! Какой тон? — изумился Романус. — Я обращаюсь к писателю, пусть он подтвердит свое возмущение по поводу того, как калечат у нас музыкантов!!
— Позвольте… — начал я, видя изумленный взгляд Андрея Андреевича.
— Нет, виноват! — закричал Романус Андрею Андреевичу. — Если помощник, который обязан знать сцену как свои пять пальцев…
— Прошу не учить меня, как знать сцену, — сказал Андрей Андреевич и оборвал шнурок на папке.
— Приходится! Приходится, — ядовито скалясь, прохрипел Романус.
— Я занесу в протокол то, что вы говорите! — сказал Андрей Андреевич.
— И я буду рад, что вы занесете!
— Прошу оставить меня в покое! Вы дезорганизуете работников на репетиции!
— Прошу и эти слова занести! — фальцетом вскричал Романус.
— Прошу не кричать!
— И я прошу не кричать!
— Прошу не кричать! — отозвался, сверкая глазами, Андрей Андреевич и вдруг бешено закричал: — Верховые! Что вы там делаете?! — и бросился через лесенку на сцену.
По проходу уже спешил Стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры.
Начало скандала со Стрижом я помню.
Романус поспешил к нему навстречу, подхватил под руку и заговорил:
— Фома! Я знаю, что ты ценишь музыку и это не твоя вина, но я прошу и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами!
— Верховые! — кричал на сцене Андрей Андреевич. — Где Бобылев?!
— Бобылев обедает. — глухо с неба донесся голос… Актеры кольцом окружили Романуса и Стрижа. Было жарко, был май. Сотни раз уже эти люди, лица которых казались загадочными в полутьме над абажуром, мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались… Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг друга. Романус доставил огромное и приятное развлечение.
Рослый голубоглазый Скавронский потирал радостно руки и бормотал:
— Так, так, так… Давай! Истинный бог! Ты ему все выскажи, Оскар!
Все это дало свои результаты.
— Попрошу на меня не кричать! — вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой по столу.
— Это ты кричишь!! — визгнул Романус.
— Правильно! Истинный бог! — веселился Скавронский. подбадривая то Романуса: — Правильно, Оскар! Нам ребра дороже этих спектаклей! — то Стрижа — А актеры хуже, что ли, музыкантов? Ты, Фома, обрати свое внимание на этот факт!
— Квасу бы сейчас, — зевая, сказал Елагин, — а не репетировать… И когда эта склока кончится?
Склока продолжалась еще некоторое время, крики неслись из круга, замыкавшего лампу, и дым поднимался вверх.
Но меня уже не интересовала склока. Вытирая потный лоб, я стоял у рампы, смотрел, как художница из макетной — Аврора Госье ходила по краю круга с измерительной рейкой, прикладывала ее к полу. Лицо Госье было спокойное, чуть печальное, губы сжаты. Светлые волосы Госье то загорались, точно их подожгли, когда она наклонялась к берегу рампы, то потухали и становились как пепел. И я размышлял о том, что все. что сейчас происходит, что тянется так мучительно, все получит свое завершение…
Склока меж тем кончилась.
— Давайте, ребятушки! Давайте! — кричал Стриж. — Время теряем!
Патрикеев, Владычинский, Скавронский уже ходили по сцене меж бутафорами. На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буффонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: «А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен…»
Владычинский побледнел как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие, и бутафоры строем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский с Патрикеевым. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал страшно, не глядя на Патрикеева, говорил:
— Я займусь вообще этим вопросом! Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра!
Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий. поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали печаль, а лицо физическую боль, сиплым голоском отвечал:
— Попрошу не забываться! Я актер Независимого Театра, а не кинохалтурщик, как вы!
Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссорящихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел:
— Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич! Давайте тревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный план срываете!
Андрей Андреевич привычной рукою жал кнопки на щите на посту помощника, и далеко где-то за кулисами, и в буфете, и в фойе тревожно и пронзительно дребезжали звонки.
Строев же. заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой. в это время, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался к посту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь уже давным-давно.
— Где Строев? — завывал Стриж. — Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры!
— Звоню! — отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. — Я вам тревожные даю! — сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих.
— Мне? — отозвался Строев. — Зачем мне тревожные звонки? Я здесь десять минут, если не четверть часа… минимум… Мама… миа… — Он прочистил горло кашлем.
Андрей Андреевич набрал воздуху, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать:
— Прошу лишних со сцены! Начинаем!
Все улеглось, ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно уж пора одернуть.
Глава 16
Удачная женитьба
В июне месяце стало еще жарче, чем в мае. Мне запомнилось это. а остальное удивительным образом смазалось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так. помнится дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватном синем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскую пролетку.
Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочно расставлены стулья, и на этих стульях сидящие актеры. За столом же, накрытым сукном, — Иван Васильевич, Стриж, Фома и я.
С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот период времени и могу сказать, что все это время я помню как время очень напряженное. Проистекало это оттого, что все усилия свои я направил на то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление, и хлопот у меня было очень много.
Через день я отдавал свой серый костюм утюжить Дусе и аккуратно платил ей за это по десять рублей.
Я нашел подворотню, в которой была выстроена утлая комнатка как бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах было два бриллиантовых кольца, купил двадцать крахмальных воротничков и ежедневно, отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, но не в подворотне, а в государственном универсальном магазине были закуплены шесть сорочек: четыре белых и одна в лиловую полоску, одна в синеватую клетку, восемь галстуков разной расцветки. У человека без шапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центре города рядом со стойкой с развешанными на ней шнурками, я приобрел две банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря у Дуси щетку, а потом натирал туфли полой своего халата.
Эти неимоверные, чудовищные расходы привели к тому, что я в две ночи сочинил маленький рассказ под заглавием «Блоха» и с этим рассказом в кармане ходил в свободное от репетиций время по редакциям еженедельных журналов, газетам, пытаясь этот рассказ продать. Я начал с «Вестника пароходства», в котором рассказ понравился, но где напечатать его отказались на том и совершенно резонном основании, что никакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучно рассказывать о том. как я посещал редакции и как мне в них отказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-то неприязненно. В особенности помнится мне какой-то полный человек в пенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации.
— В вашем рассказе чувствуется подмигивание, — сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением.
Нужно мне оправдаться. Полный человек заблуждался. Никакого подмигивания в рассказе не было, но (теперь это можно сделать) надлежит признаться, что рассказ этот был скучен, нелеп и выдавал автора с головой; никаких рассказов автор писать не мог, у него не было для этого дарования.
Тем не менее произошло чудо. Проходив с рассказом в кармане три недели и побывав на Варварке, Воздвиженке, на Чистых прудах, на Страстном бульваре и даже, помнится, на Плющихе, я неожиданно продал свое сочинение в Златоустинском переулке на Мясницкой, если не ошибаюсь, в пятом этаже какому-то человеку с большой родинкой на щеке.
Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия.
С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилия пропали даром и даже, к моему ужасу, дали обратный результат. С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше.
Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет! Здесь была хитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием, как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным. Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а простодушной). Я был идеально причесан, выбрит так. что при проведении тыльной стороной кисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховатости, я произносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, и ничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясь со мною, потом он стал улыбаться все реже и реже и, наконец, совсем перестал улыбаться.
Тогда я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить:
— Иван Васильевич! Видите ли, в чем дело: кинжал, по моему мнению, применен — быть не может…
И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка, глаза глядели из зеркала и прямо и умно, лоб был разглажен, пробор лежал как белая нить на черной голове. Все это не могло не дать результата, и, однако, выходило все хуже и хуже. Я выбивался из сил, худел и немного запустил наряд. Позволял себе надевать один и тот же воротничок дважды.
Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свой монолог, а затем воровским движением скосил глаза и взглянул в зеркало для проверки и ужаснулся.
Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. И из него выскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, если разобьется зеркало. Что же сказать о безумце, который сам разбивает свое зеркало?
— Дурак, дурак, — вскричал я, а так как я картавил, то показалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона, — значит, я был хорош, только пока смотрелся в зеркало, но стоило мне убрать его, как исчез контроль и лицо мое оказалось во власти моей мысли и… а. черт меня возьми!
Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они попадут кому-нибудь в руки, произведут не очень приятное впечатление на читателя. Он подумает, что перед ним лукавый, двоедушный человек, который из какой-то корысти стремился произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление.
Не спешите осуждать. Я сейчас скажу, в чем была корысть.
Иван Васильевич упорно и настойчиво стремился изгнать из пьесы ту самую сцену, где застрелился Бахтин (Бехтеев), где светила луна, где играли на гармонике. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестанет существовать. А ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина. Характеристики, данные Ивану Васильевичу, были слишком ясны. Да, признаться, они были излишни. Я изучил и понял его в первые же дни нашего знакомства и знал, что никакая борьба с Иваном Васильевичем невозможна. У меня оставался единственный путь: добиться, чтобы он выслушал меня. Естественно, что для этого нужно было, чтобы он видел перед собою приятного человека. Вот почему я и сидел с зеркалом. Я старался спасти выстрел, я хотел, чтобы услышали, как страшно поет гармоника на мосту, когда на снегу под луной расплывается кровавое пятно. Мне хотелось, чтобы увидели черный снег. Больше я ничего не хотел.
И опять закаркала ворона.
— Дурак! Надо было понять основное! Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам! Что же ты думаешь? Что ты проведешь какого-нибудь чело века? Сам против него будешь что-то иметь, а ему постараешься внушить симпатию к себе? Да никогда это не удастся, сколько бы ты ни ломался перед зеркалом.
А Иван Васильевич мне не нравился. Не понравилась и тетушка Настасья Ивановна, крайне не понравилась и Людмила Сильвестровна. А ведь это чувствуется!
Дрыкинская пролетка означала, что Иван Васильевич ездил на репетиции «Черного снега» в театр.
Ежедневно в полдень Пакин рысцой вбегал в темный партер, улыбаясь от ужаса и неся в руках калоши. За ним шла Августа Авдеевна с клетчатым пледом в руках. За Августой Авдеевной — Людмила Сильвестровна с общей тетрадью и кружевным платочком.
В партере Иван Васильевич надевал калоши, усаживался за режиссерский стол. Августа Авдеевна накидывала Ивану Васильевичу на плечи плед, и начиналась репетиция на сцене.
Во время этой репетиции Людмила Сильвестровна, примостившись неподалеку от режиссерского столика, записывала что-то в тетрадь, изредка издавая восклицания восхищения — негромкие.
Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или калошах и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, пятьдесят пять лет занимающийся режиссерской работою, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль.
Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике.
Я ручаюсь головой, что, если бы я привел откуда-нибудь свежего человека на репетицию, он пришел бы в величайшее изумление.
Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью.
Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал. Что Патрикеев существовал раньше этого чиновника и каким-то чудом я его угадал.
Лишь только дрыкинская пролетка появилась у театра, а Ивана Васильевича закутали в плед, началась работа именно с Патрикеевым.
— Ну-с, приступим, — сказал Иван Васильевич.
В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев (а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми) сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.
— Так, — сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла, — это никуда не годится.
Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. «И ежели он добьется этого, — подумал я, с уважением глядя на Ивана Васильевича, — я скажу, что он действительно гениален».
— Никуда не годится, — повторил Иван Васильевич, — что это такое? Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?
— Любит ее, Иван Васильевич! Ах, как любит! — закричал Фома Стриж, следивший всю эту сцену.
— Так, — отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву: — А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?
В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно — разобрать было невозможно.
— Пламенная любовь. — продолжал Иван Васильевич, — выражается в том, что мужчина на все готов для любимой, — и приказал: — Подать сюда велосипед!
Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:
— Эй, бутафоры! Велосипед!
Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.
— Влюбленный все делает для своей любимой, — звучно говорил Иван Васильевич, — ест. пьет, ходит и ездит…
Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком: «Влюбленный все делает для своей любимой…»
— …так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки, — распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.
Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису.
В зале заулыбались.
— Совсем не то, — заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился, — зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?
Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы.
Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и Патрикеев поехал в третий раз. повернув голову к актрисе.
— Ужасно! — сказал с горечью Иван Васильевич. — Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их! Неестественная голова, вашей голове не веришь.
Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя исподлобья.
— Пустой проезд, вы едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной.
И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался. подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную. Вертя руль одной рукой, он круто повернул и наехал на актрису, грязной шиной выпачкал ей юбку, отчего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал Патрикеева по кругу, и тот ездил много раз, пока наконец Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он? Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен.
Патрикеева сменила группа гостей. Я вышел покурить в буфет и, когда вернулся, увидел, что актрисин ридикюль лежит на полу, а сама она сидит подложив руки под себя, точно так же. как и три ее гостя и одна гостья, та самая Вешнякова, о которой писали из Индии. Все они пытались произносить те фразы, которые в данном месте полагались по ходу пьесы, но никак не могли двинуться вперед, потому что Иван Васильевич останавливал каждый раз произнесшего что-нибудь, объясняя, в чем неправильность. Трудности и гостей, и патрикеевской возлюбленной, по пьесе героини, усугублялись тем, что каждую минуту им хотелось вытащить руки из-под себя и сделать жест.
Видя мое изумление, Стриж шепотом объяснил мне, что актеры лишены рук Иваном Васильевичем нарочно, для того, чтобы они привыкли вкладывать смысл в слова и не помогать себе руками.
Переполненный впечатлениями от новых удивительных вещей, я возвращался с репетиции домой, рассуждая так:
— Да, это все удивительно. Но удивительно лишь потому, что я в этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны и приемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человек чистит щеткой зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажется странным, что врач, вместо того чтобы сразу приступить к операции, проделывает множество странных вещей с больным, например берет кровь на исследование и тому подобное…
Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончание истории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикееву проехать «для нее».
Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и я увидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев должен был поднести букет возлюбленной. С этого и началось в двенадцать часов дня и продолжалось до четырех часов.
При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все: и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило. Но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает. как всегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, что лучше всего это делали все тот же Комаровский-Бионкур (Людмила Сильвестровна вскричала. нарушая порядок репетиции: «Ах, да, да. Иван Васильевич, не могу забыть!») и итальянский баритон, которого Иван Васильевич знавал в Милане в 1889 году.
Я, правда, не зная этого баритона, могу сказать, что лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз тринадцать, как нужно сделать этот приятный подарок. Вообще, я начал убеждаться, что Иван Васильевич — удивительный и действительно гениальный актер.
На следующий день я опоздал на репетицию и, когда явился, увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна (актриса, игравшая героиню), и Вешнякова (гостья), и Елагин, и Владычинский. и Адальберт, и несколько мне неизвестных и по команде Ивана Васильевича «раз, два, три» вынимают из карманов невидимые бумажники, пересчитывают в них невидимые деньги и прячут их обратно.
Когда этот этюд закончился (а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги), начался другой эпод. Масса народу была вызвана Андреем Андреевичем на сцену и. усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумаге и столах писать письма и их заклеивать (опять-таки Патрикеев!). Фокус заключался в том, что письмо должно было быть любовное.
Этюд этот ознаменовался недоразумением: именно — в число писавших, по ошибке, попал бутафор.
Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены.
— А вам что же, — закричал ему Иван Васильевич, — вам отдельное приглашение посылать?
Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен.
Это вызвало окрик Ивана Васильевича:
— А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?
— Бутафор он! Бутафор, Иван Васильевич! — застонал Фома, и Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром.
И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая Людмилой Сильвестровной (которая в пьесе, кстати, не участвовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам.
Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево.
Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа.
Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, велел всем переживать это зарево.
Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.
— Ах, боже, боже мой!! — кричали больше всего.
— Где горит? Что такое? — восклицал Адальберт.
Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:
— Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисеев!! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасайте детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли!
Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, которая кричала уж вовсе какую-то чепуху:
— О Боже мой! О Боже Всемогущий! Что же будет с моими сундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты!!
Темнея, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно:
— Гряньте… зарево… — и произносит великолепно, что мне совсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево не участвующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.
К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделал арифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю, и все одну и ту же картину. Картин же было в пьесе семь. Стало быть, если класть только по три недели на картину…
— О господи! — шептал я в бессоннице, ворочаясь на диване дома. — Трижды семь… двадцать одна неделя или пять… да, пять… а то и шесть месяцев!! Когда же выйдет моя пьеса?! Через неделю начнется мертвый сезон, и репетиций не будет до сентября! Батюшки! Сентябрь, октябрь. ноябрь…
Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся.
Второй же повод для отчаяния был еще серьезнее. Этой тетради я могу доверить свою тайну: я усомнился в теории Ивана Васильевича. Да! Это страшно выговорить, но это так.
Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет. писать письмо или объясняться в любви. Нет! Он стал каким-то принужденным и сухим и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком.
Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал:
— Ну, насморк его скоро пройдет. Он чувствует себя лучше и вчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите: еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина.
— Ах, черт возьми! — вскричал я, начиная понимать. Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем: «Отпущен с репетиции. Насморк». Та же беда постигла Адальберта. Та же запись в протоколе. За Адальбертом — Вешнякова. Я скрежетал зубами, присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в четвертой картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине третьей, а также и пятой.
И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в американку, Адальберт репетировал шиллеровских «Разбойников» в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком.
Да. эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а пожалуй, была и вредна ей. Ссора между двумя действующими лицами в четвертой картине повлекла за собой фразу:
— Я тебя вызову на дуэль!
И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки за то, что я трижды проклятую фразу написал.
Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился и велел принести рапиры. Я побледнел. И долго смотрел, как Владычинский и Благосветлов щелкали клинком о клинок, и дрожал при мысли, что Владычинский выколет Благосветлову глаз.
Иван Васильевич в это время рассказывал о том, как Комаровский-Бионкур дрался на шпагах с сыном московского городского головы.
Но дело было не в этом проклятом сыне городского головы. а в том. что Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе.
Я отнесся к этому как к тяжелой шутке, и каковы были мои ощущения, когда коварный и вероломный Стриж сказал, что просит, чтобы через недельку сценка дуэли была «набросана». Тут я вступил в спор, но Стриж твердо стоял на своем. В исступление окончательное привела меня запись в его режиссерской книге: «Здесь будет дуэль».
И со Стрижом отношения испортились.
В печали, возмущении я ворочался с боку на бок по ночам. Я чувствовал себя оскорбленным.
— Небось у Островского не вписывал бы дуэлей, — ворчал я, — не давал бы Людмиле Сильвестровне орать про сундуки!
И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе. А было более важное. Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли. И вот тут подозрения мои перешли наконец в твердую уверенность. Я стал рассуждать просто: если теория Ивана Васильевича непогрешима и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена…
<1936—1937>

ИЗ ЖИЗНИ МАСТЕРА

ИЗ ЖИЗНИ МАСТЕРА
Е. А. Земская. Из семейного архива
Владимир Лакшин. Елена Александровна рассказывает
Константин Паустовский. Булгаков
Эти произведения печатаются с некоторыми сокращениями по книге «Воспоминания о Михаиле Булгакове». М., «Советский писатель». 1988
_____
Письмо Сталину

30 мая 1931 г.
Москва
Генеральному Секретарю ЦК ВКП(б)
Иосифу Виссарионовичу Сталину
— Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
«Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда.
Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру.
…мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее.
…я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей чтобы натерпеться, — точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее.
Н. Гоголь»
[75].
Я горячо прошу Вас ходатайствовать за меня перед Правительством СССР о направлении меня в заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года.
Сообщаю, что после полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны, и я прошу Правительство дать мне возможность их выполнить.
С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен.
Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких.
Причина болезни моей мне отчетливо известна:
На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя.
Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе.
Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать.
Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.
Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий.
А если настоящий замолчал — погибнет.
Причина моей болезни — многолетняя затравлен-ность, а затем молчание.
* * *
За последний год я сделал следующее:
несмотря на очень большие трудности, превратил поэму Н. Гоголя «Мертвые души» в пьесу,
работал в качестве режиссера МХТ на репетициях этой пьесы,
работал в качестве актера, играя за заболевших актеров в этих же репетициях,
был назначен в МХТ режиссером во все кампании и революционные празднества этого года,
служил в ТРАМе-Московском, переключаясь с дневной работы МХТовской на вечернюю ТРАМовскую,
ушел из ТРАМа 15.III.31 года, когда почувствовал, что мозг отказывается служить и что пользы ТРАМу не приношу,
взялся за постановку в театре Санпросвета (и закончу ее к июлю).
А по ночам стал писать.
Но надорвался.
<…>
[76]
Я переутомлен.
* * *
Сейчас все впечатления мои однообразны, замыслы ПОВИТЫ черным, я отравлен тоской и привычной иронией.
В годы моей писательской работы все граждане, беспартийные и партийные, внушали и внушили мне, что с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни я никогда не увижу других стран.
Если это так — мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного.
Как воспою мою страну — СССР?
* * *
Перед тем как писать Вам, я взвесил все. Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться. Ключ в этом.
Сообщаю Вам, Иосиф Виссарионович, что я очень серьезно предупрежден большими деятелями искусства, ездившими за границу, о том, что там мне оставаться невозможно.
Меня предупредили о том, что в случае, если Правительство откроет мне дверь, я должен быть сугубо осторожен, чтобы как-нибудь нечаянно не захлопнуть за собой эту дверь и не отрезать путь назад, не получить бы беды похуже запрещения моих пьес.
По общему мнению всех, кто серьезно интересовался моей работой, я невозможен ни на какой другой земле, кроме своей — СССР, потому что 11 лет черпал из нее.
К таким предупреждениям я чуток, а самое веское из них было от моей побывавшей за границей жены, заявившей мне, когда я просился в изгнание, что она за рубежом не желает оставаться и что я погибну там от тоски менее чем в год.
(Сам я никогда в жизни не был за границей. Сведение о том, что я был за границей, помещенное в Большой Советской Энциклопедии, неверно.)
* * *
«Такой Булгаков не нужен советскому театру», — написал нравоучительно один из критиков, когда меня запретили.
Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух.
* * *
Прошу Правительство СССР отпустить меня до осени и разрешить моей жене Любови Евгениевне Булгаковой сопровождать меня. О последнем прошу потому, что серьезно болен. Меня нужно сопровождать близкому человеку. Я страдаю припадками страха в одиночестве.
Если нужны какие-нибудь дополнительные объяснения к этому письму, я их дам тому лицу, к которому меня вызовут.
Но, заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам.
Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.
Вы сказали: «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу…»
Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой,
я год работал не за страх режиссером в театрах СССР.
30. VI 931
Москва Бол. Пироговская. 35-а, кв. 6
Тел. 2-03-27
Е. А. Земская
Из семейного архива

1891 год. Весна в Киеве, на Госпитальной улице, которая, подобно большинству киевских улиц, шла в гору, в доме № 4 у магистра Киевской духовной академии доцента по кафедре древней гражданской истории родился первенец. Отца звали Афанасий Иванович. Мальчик рос, окруженный заботой. Отец был внимателен, заботлив, а мать — жизнерадостная и очень веселая женщина. Хохотунья. И вот в этой обстановке начинает расти смышленый, очень способный мальчик.
Весна в Киеве очаровательна. Кто был в Киеве, знает это. Первые в киевских садах зацветают абрикосы, а потом буйное весеннее цветение киевских садов и парков продолжается. Сирень цветет. Весь город в сирени. И кончается цветением каштанов. Это чудесное зрелище.
Красоты киевской природы и сам город, весь на горах, с большой рекой, которая расстилается под прекрасными горами. — эти красоты города и природы на всю жизнь отложились в памяти у писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Он любил Киев до самого конца своих дней, о чем говорил со мной, уже лежа больным в постели. И он пишет о Киеве в своих позднейших произведениях. Например, «И было садов в Городе (в романе «Белая гвардия» он не называет Киев Киевом, а называет Городом с большой буквы) так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами. с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами» («Белая гвардия»). «А Киев!» — тоскует в Константинополе, вспоминая о Киеве, генерал Чарнота: «Эх, Киев! город, красота! Вот так Лавра пылает на горах, а Днепро! Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет, склоны, долы, на Днепре черторой!» Это «Бег». И даже в последнем романе. И там у Михаила Афанасьевича вырываются строки о Киеве: «Весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода сливалась с горизонтом, потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памятника князю Владимиру Солнечные пятна, играющие весной на кирпичных дорожках Владимирской горки». Это в «Мастере и Маргарите». Даже там Михаил вспомнил Киев.
Михаил рос не одиноко. Появились братья и сестры. Всего в семье было семеро детей: четыре сестры и три брата. Родители сумели сдружить и сплотить эту большую и разнохарактерную компанию. По характерам дети были разные. Конечно, были общие черты, но дети были интересны именно каждый своими индивидуальными способностями. Вывозить такую ораву на наемные дачи было невозможно, и решили купить дачу. В девятисотом году они купили участок в поселке Буча, в 30 километрах от Киева, — две десятины леса, парк, можно сказать. И на этом участке под наблюдением отца была выстроена добротная дача в пять комнат и две большие веранды. Это была целая эпоха в семье Булгаковых. Действительно. дача дала нам простор, прежде всего простор, зелень, природу. Отец (он был хорошим семьянином) старался дать жене и детям полноценный летний отдых. Роскоши никакой не было. Было все очень просто. Ребята спали на так называемых дачках (знаете, теперь раскладушки). Но роскошь была: роскошь была в природе. В зелени. Роскошь была в цветнике, который развела мать, очень любившая цветы. Она еще в Карачеве, в своем родном городе, девушкой занималась цветами, о чем писала отцу, тогда жениху, в Киев.
Цветник. Много зелени. Каштаны, посаженные руками самой матери. И дети вырастали на свободе, на просторе, пользуясь всеми возможными радостями природы. В первый же год жизни в Буче отец сказал матери: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?»
Мать дала свое полное согласие, а мы с восторгом разулись и начали бегать по дорожкам, по улице и даже по лесу. Старались только не наступать на сосновые шишки, потому что это неприятно. И это вызвало большое удивление у соседей. Особенно поджимали губы соседки: «Ах! Профессорские дети, а босиком бегают!» Няня сказала об этом матери. Мать только рассмеялась.
Родители, и отец и мать, оба были из Орловской губернии. из сердца России. Тургеневские места. И это тоже наложило отпечаток. Хотя мы жили на Украине (потом все уж говорили по-украински), но у нас все-таки было чисто русское воспитание. И мы очень чувствовали себя русскими. Но Украину любили.
Семьи и отца и матери были огромные. У отца было в семье десять человек детей, а у матери девять.
Я хочу здесь отметить один факт, на который стоит обратить внимание. У матери в семье было шесть братьев и три девочки. И из шести братьев трое стали врачами. В семье отца один был врачом. После смерти нашего отца потом не сразу мать вышла второй раз замуж, и наш отчим был тоже врачом. Поэтому я опровергаю здесь мнение, что Михаил Афанасьевич случайно выбрал эту профессию. Совсем не случайно. Это было как-то в воздухе нашей семьи — и Михаил выбрал свою профессию, свою медицину обдуманно и сознательно. И он любил свою медицину. Потом я скажу, как он занимался естественными науками. Много работал с микроскопом. То. что я сейчас сказала относительно медицины, это полемика с теми, кто пишет сейчас биографии Михаила Афанасьевича. И надо опровергнуть еще одно мнение. Во многих биографиях мне пришлось прочитать о том, что Булгаков определился как писатель к 30 годам, уже в зрелом возрасте. Это неверно. Он начал писать очень рано. Павел Сергеич Попов, его первый биограф, сразу после его смерти, в 1940 году, пишет: «Михаил Афанасьевич с младенческих лет отдавался чтению и сочинительству. Первый рассказ «Похождения Светлана» был им написан, когда автору исполнилось всего 7 лет». Вы видите, достаточно рано, не к 30 годам. Я не говорю, конечно, что этот рассказ был такой, что его надо было напечатать. Но тем не менее Михаил писал. Сочинял устно и очень много.
Читатель он был страстный, с младенческих же лет. Читал очень много, и при его совершенно исключительной памяти он многое помнил из прочитанного и все впитывал в себя. Это становилось его жизненным опытом — то, что он читал. И, например, сестра старшая, Вера (вторая после Михаила), рассказывает, что он прочитал «Собор Парижской Богоматери» чуть ли не в 8–9 лет и от него «Собор Парижской Богоматери» попал в руки Веры Афанасьевны.
Родители, между прочим, как-то умело нас воспитывали, нас не смущали: «Ах, что ты читаешь? Ах, что ты взял?» У нас были разные книги. И классики русской литературы, которых мы жадно читали. Были детские книги. Из них я и сейчас помню целыми страницами детские стихи. И была иностранная литература. И вот эта свобода, которую нам давали родители, тоже способствовала нашему развитию, она не повлияла на нас плохо.
Мы со вкусом выбирали книги.
Отец у нас умер рано.
Свадьба отца и матери произошла в 1890 году 1 июля, а отец умер в 1907 году, то есть, другими словами, он прожил в семье всего семнадцать лет. Он погиб от тяжелой болезни почек. От такой болезни умер и Михаил Афанасьевич. Да. Болезнь и смерть Михаила Афанасьевича повторили буквально болезнь и смерть нашего отца. Отец умер 48 лет, а Михаил Афанасьевич — 49. И было это. может быть, наследственно, а может быть, и повлияло то. что в годы гражданской войны Михаилу пришлось очень трудно. Он мне писал в письмах (я была в Киеве, а он в Москве): «Едим понемножку. Сахарин и картошку». Думаю, что этот сахарин здорово разрушил его организм.
Так вот об отце. Когда отец умер, мне было 13 лет. Мне казалось, что мы, дети, плохо его знали. Ну что же, он был профессором, он очень много писал, он очень много работал. Много времени проводил в своем кабинете. И тем не менее вот теперь, оглядываясь на прошлое. я должна сказать: только сейчас я поняла, что такое был наш отец. Это был очень интересный человек, интересный и высоких нравственных качеств. Это я тоже считаю своим долгом отметить здесь, где я выступаю впервые с неопубликованными воспоминаниями.
Над его гробом один из студентов, его учеников, сказал: «Ваш симпатичный, честный и высоконравственный облик». Действительно — честный, и чистый, и нравственный, как сказал его студент. Это повторяли и его сослуживцы. Отец проработал в академии 20 лет, и за эти 20 лет у него ни разу не было не только ссоры или каких-нибудь столкновений с сослуживцами, но даже размолвки. Это было в его характере. У него была довольно строгая наружность. Но он был добр к людям, добр по-настоящему, без всякой излишней сентиментальности. И эту ласку к людям, строгую ласку, требовательную, передал отец и нам. В доме была требовательность, была серьезность, но мне кажется, я могу с полным правом сказать, что основным методом воспитания детей у Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых были шутка, ласка и доброжелательность. Мы очень дружили детьми и дружили потом, когда у нас выросла семья до десяти человек. Ну, конечно, мы ссорились, было все что хотите, мальчишки и дрались. но доброжелательность, шутка и ласка — это то, что выковало наши характеры.
Еще одно качество нам передал отец. Отец обладал огромной трудоспособностью. Вот я помню. Он уезжал в Киев с дачи на экзамены. А с экзамена он приезжал, снимал сюртук, надевал простую русскую рубаху-косоворотку и шел расчищать участок под сад или огород. Вместе с дворником они корчевали деревья, и уже один, без дворника. отец прокладывал на участке (большой участок — две десятины) дорожки, а братья помогали убирать снятый дерн, песок…
Отец с большой любовью устраивал домашнее гнездо, но. к сожалению, это продолжалось недолго. Мы начали жить в Буче в 1902 году, а отец умер в 1907-м. Смерть отца для всей семьи была неожиданным и очень страшным ударом. Подумайте, семеро детей осталось на руках у матери, и тем не менее она сумела нам дать радостное детство. Сначала она (видно было это) растерялась, но потом нашла в себе силы. Она была женщина энергичная, очень умная, жизнеспособная и радостная. У нас в доме все время звучал смех. Помню одно письмо от сестры Варвары. Начиналось оно такими словами: «Мы так хохотали». Так вот: «Мы так хохотали». Это был лейтмотив нашей жизни.
Интересно, что произошло после смерти отца. Наша мать славилась среди родных и знакомых (а родных у нас было, как вы видите, очень много, и Булгаковых, и Покровских) как великолепная воспитательница. И вот один из братьев отца, который служил в Японии, привез матери своих двоих сыновей и попросил взять их в нашу семью, потому что он хотел дать своим сыновьям русское образование. Там не было полных русских гимназий. И вот появились у нас в семье два «японца» — так мы их называли: Коля и Костя. Костя — старший, Коля — младший. А через год, очень скоро после «японцев», приехала уже с запада (из г. Холм Люблинской губернии) сестра, тоже Булгакова, двоюродная. Приехала в Киев на Киевские женские курсы. Она кончила гимназию раньше, чем я. И таким образом у вдовы-матери оказалось в семье десять человек детей. И мама с ними справлялась. Маме тогда, когда отец умер, шел 37-й год.
И вот эта женщина сумела нас сплотить, вырастить и дать нам всем образование. Это была ее основная идея. Она говорила нам потом, когда мы уже стали взрослыми: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, — это образование». И действительно, она дала нам всем образование. А вторая ее идея, превосходная идея, была: нельзя допустить, чтобы дети бездельничали. И мама давала нам работу. Мы и сами работали, даже летом. Например, моя обязанность была заниматься до обеда с младшими братьями. А обязанность братьев была сначала помогать отцу в расчистке дорожек, а затем убирать мусор с участка. Братья собирали песок, дерн, листья. И вот Михаил в 15-м году (интересное было лето у нас 15-го года) пишет стихотворение:
Утро. Мама в спальне дремлет.
Солнце красное взойдет.
Мама встанет и тотчас же
Всем работу раздает:
«Ты иди песок сыпь в ямы,
Ты ж из ям песок таскай».
Миша, конечно, смеется. Причем мать сама весело смеялась в таких случаях. И у нас эти слова, когда речь заходила о работе, стали крылатыми словами, как и очень многие Мишины слова. «Ты иди песок сыпь в ямы, ты ж из ям песок таскай». Таким образом Михаил освещал нашу жизнь. Это стихотворение — длинное, большое. Оно целый день наш описывает.
Вся эта компания большая, которая жила в семье Булгаковых, была тоже очень дружна.
Это была шумная, чересчур даже шумная, веселая, способная молодежь. Вокруг нас группировались товарищи братьев и подруги сестер. Иногда летом у нас за стол садилось 14 человек. И это было хорошо. Вот я теперь смотрю, какие это несчастные семьи, где один, от силы два ребенка, и думаю: «А бедные дети!» Мы, между прочим, знали и тяготы, знали и труд, как я вам уже говорила. Например, одна из интереснейших наших работ, которую я, даже будучи курсисткой в Москве, вспоминала, — это штопать носки братьев, а дырки же были с кулак величиной.
Мать была, конечно, незаурядная женщина, очень способная. Вот сказки. Она рассказывала нам сказки, которые всегда сама сочиняла. Она вела нас твердой и умной рукой. Была требовательна. Но помните слова из письма сестры Вари: «Мы так хохотали». Мать не стесняла нашей свободы, доверяла нам. И мы со своей стороны были с нею очень откровенны. У нас не было того, что бывает в других семьях, — недоверия. Были товарищи братьев, были поклонники у нас. Меня спрашивали: «Надя, вам надо писать до востребования?» Я говорю: «Зачем? Пишите, если вы хотите мне писать, на нашу квартиру». — «Как? А мама?» — «А что мама? Мама наших писем не читает». И это правильно. Это было, подумайте, когда. В начале XX века. Мама наших писем не читала. А мы ей сами читали, если нам хотелось ей что-нибудь рассказать.
Конечно, наша компания причиняла ей немало забот, тревог и огорчений, иногда серьезных огорчений, но все-таки она нам не мешала жить радостно, и мы жили радостно. Но в этой компании разнохарактерные были люди, и вот, в частности, Михаил Афанасьевич, старший, первенец, отличался одной особенностью. Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас. давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры. Он был человек всесторонне одаренный: рисовал, играл на рояле, карикатуры сочинял. Действительно, это был редкий случай. Вторым таким, тоже всесторонне одаренным, в нашей семье был брат, пятый ребенок по счету, Николай. Он стал профессором-бактериологом, так что тоже медиком.
Так вот Михаил. Он очень много смеялся и задавал тон нашему веселью, был превосходным рассказчиком (об этом много писали, это все знают). Мы слушали его затаив дыхание. Но были моменты в его жизни, когда он задумывался. Он сидел у себя за письменным столом (студентом уже с папиросой), молчал и думал. О чем он думал? О чем он молчал? О смысле жизни. О цели жизни. О назначении человека.
ТЬперь я расскажу о некоторых бытовых шутливых историях, которые происходили на даче. Один раз возвращаюсь я из Киева на дачу и вижу: мальчики стоят на головах. Я спрашиваю: «Что это такое? В чем дело?» А мне отвечают:
«Надюша! У нас же от алгебры мозги перевернулись. Надо их поставить на место. И вот мы сейчас стараемся, мы ставим мозги на место». Таких интересных веселых, шутливых сценок я могла бы рассказать очень много.
Когда в Киеве появился футбол, Михаил еще был гимназистом. Он увлекся футболом (он умел увлекаться!) и стал футболистом. Вслед за ним стали футболистами младшие братья. Есть снимок — футбольная команда…
Теперь мне хочется сказать о более серьезном. У нас в доме интеллектуальные интересы преобладали. Очень много читали. Прекрасно знали литературу. Занимались иностранными языками. И очень любили музыку. Писали, и многие писали, например Константин Паустовский, о том, что в доме Булгаковых процветала любовь к драматургии. Да, любовь к драматургии процветала, но наше основное увлечение была все-таки опера. Например, Михаил, который умел увлекаться, видел «Фауст», свою любимую оперу, 41 раз — гимназистом и студентом. Это точно. Он приносил билетики и накалывал, а потом сестра Вера, она любила дотошность, сосчитала. Михаил любил разные оперы, я не буду их перечислять. Например, уже здесь, в Москве, будучи признанным писателем, они с художником Черемных Михаил Михалычем устраивали концерты. Они пели «Севильского цирюльника» от увертюры до последних слов. Все мужские арии пели, а Михаил Афанасьевич дирижировал. И увертюра исполнялась. Вот не знаю, как с Розиной было дело. Розину, мне кажется, не исполняли, но остальное все звучало в доме. Это тоже один из штрихов нашей жизни.
Расскажу о занятиях Михаила естественными науками и медициной. Он увлекался опытами, экспериментировал. Ловил жуков. У него есть сравнение в «Театральном романе»: «иссушаемый любовью к независимому театру. прикованный к нему, как жук на пробке». Да, он имел эти коробки, там он препарировал жуков или их высушивал, мариновал ужей. Были случаи когда уж. пойманный младшим братом Колей для Михаила, уходил, и одного такого ужа мать обнаружила вечером (хорошо, что она зажгла лампу перед этим) себя, свернувшимся клубочком, под подушкой. Михаил ловил и бабочек. И конечно, при горячем участии братьев, он увлекался энтомологией, собрал очень хорошую коллекцию бабочек. Причем там были и сатир, и махаоны, и многие другие редкие экземпляры. Потом, уезжая из Киева, я спросила у мамы: «А где же Мишины коробки с энтомологической коллекцией?» Она говорит: «Он отдал ее Киевскому университету, уезжая из Киева». Это уже было в 1919 году. Так вот. Михаил очень много работал с микроскопом. Вы сегодня услышите в чтении артиста Ю. В. Ларионова отрывок из «Роковых яиц» — сценку с микроскопом, в этой повести он играет огромную роль. Да, еще одно я уж скажу. 1915 год, лето. Киев эвакуировался, немецкое наступление подошло к самым границам, а Киев в 300 километрах от границы. В этот год я приехала из Москвы и в окно, из сада, заглянула в комнату, где жил Миша со своей первой женой. И первое, что мне бросилось в глаза, это через всю комнату по оштукатуренной стене написано по-латыни: «Quod medicamenta non sanant, mors sanat» — «Что не излечивают лекарства, то излечивает смерть». Это из Гйппократа, древнегреческого врача. И другое изречение: «Ignis sanat». Это не было написано, но, если вы помните, в «Мастере и Маргарите» огонь лечит. Когда Мастер и Маргарита улетают из своего подвала, огонь лечит, огнем сжигается подвал. Итак, огонь. Ну это, так сказать, мимоходом.
А это вот «Quod medicamenta non sanant» — это очень серьезное изречение, говорящее о том. что Михаил очень много думал о смысле жизни, о смерти. Смерть ненавидел, как и войну. Войну ненавидел. Думал о цели жизни. У нас очень много в семье спорили о религии, о науке, о Дарвине. И он. задумываясь над этим, ставил вопрос о том, кем же, каким же должен быть человек. Я прочту вам то, что написал о нем его ближайший друг. Конечно, Михаил имел друзей в Москве и близких. Но самым близким его другом в жизни, я считаю, был один киевский скрипач. Мы подружились с ним подростками. И эта дружба с Мишей сохранилась на всю жизнь. Этот друг умер в 1951 году. Его зовут Александр Петрович Птешинский. Вот что пишет Александр Петрович, давая характеристику Михаилу в письме, после того как Михаил умер. Он мне тогда прислал письмо: «Что поражало в нем прежде всего — это острый, как лезвие, ум. Он проникал за внешние покровы мысли и слов и обнаруживал тайники души. (Вот это обнаруживание тайников души вы найдете во многих произведениях Михаила, самых серьезных.) Его прозорливость была необычайна. От него не было тайн. Беспощадный враг пошлости, лицемерия, косности и мещанства, он хотел видеть всех лучшими, чем они есть на самом деле, — эту мысль выразил он мне однажды. Он не только боролся с пошлостью, лицемерием, жадностью и другими человеческими пороками, он хотел сделать людей лучше. Проникая в чужую душу, он безошибочно отделял правду от лжи, уродливое от прекрасного и выносил беспощадный приговор самым страшным оружием — смехом! Но это одна сторона, а с другой стороны — этот блестящий непобедимый юмор, это сверкание обаятельной неповторимой личности». Вот что сказал о Михаиле его друг.
Сидя в Киеве за маленьким письменным столом, Михаил думал. Он был мыслителем. Я вот не сказала об этом. Как-то отец написал своим товарищам-студентам: «Будьте честными мыслителями». Михаил был мыслителем, прежде всего — честным и вдумчивым. Отсюда рождение романа «Белая гвардия» и отсюда «Мастер и Маргарита», роман о добре и зле и о справедливости.
У Михаила в жизни было одно увлечение, о котором не известно его биографам. Он очень любил детей, в особенности мальчишек. Он умел играть с ними. Он умел им рассказывать, умел привязать их к себе так, что они за ним ходили раскрывши рот. Вот это качество Михаила Афанасьевича я хотела бы отметить особо, кончая свои воспоминания.
«Мы все были очень дружны»
Выступление Н. А. может быть дополнено другими материалами семейного архива, ярко рисующими жизнь семьи Булгаковых и юные годы писателя. Особенно интересно в этом отношении письмо Н. А. к К. Паустовскому, в котором она дает подробную характеристику наиболее важных линий семейной жизни Булгаковых.
«28 янв. 1962 г.
Москва
Многоуважаемый Константин Георгиевич!
Вам пишет сестра Михаила Афанасьевича Булгакова, Надежда Афанасьевна Булгакова-Земская. Намерение написать Вам возникло у меня давно, в 1947 г., когда я впервые прочитала Ваши «Далекие годы». Трудные события моей личной жизни тех лет помешали мне тогда осуществить это намерение.
«Далекие годы» я очень люблю и часто перечитываю эту книгу, как и все Ваши книги, из которых складывается Ваша «Повесть о жизни». При первом же чтении «Далекие годы» поразили меня многим: созвучием моего и Вашего восприятия чудесного Киева, родного и любимого города всей нашей семьи; общностью наших с Вами переживаний, общностью пережитого в юности. <…>
Здесь я должна написать о нашей семье. Михаил Булгаков был человеком яркой индивидуальности, разносторонне одаренным, очень сложным и своеобразным. Это знают многие. Но мало кто знает, какую роль в формировании его личности сыграла наша большая семья… Мы все были очень дружны. Это была шумная, чересчур даже шумная, веселая, способная молодежь…
Мы много работали: хорошо учились; все старшие рано начали «давать уроки» (репетиторствовать), чтобы облегчить мамины материальные тяготы; мы много помогали по хозяйству, особенно летом; старшие помогали младшим и отвечали за них. Мы знали трудности (ведь отец умер рано), но жили мы радостно. Это сделала наша мать — энергичная, жизнерадостная незаурядная женщина. В доме
[78] у нас все время звучали музыка и пение и — смех, смех, смех. Много танцевали. Ставили шарады и спектакли. Михаил Афанасьевич был режиссером шарадных постановок и блистал как актер в шарадах и любительских спектаклях. Весной и летом ездили на лодках по Днепру. А зимой — каток. Гймназист Булгаков, в кругу зрителей, демонстрировал «пистолет» и «испанскую звезду». Летом у нас на даче (в Буче, под Киевом) процветал крокет; играли со страшным азартом, играли, бывало, до темноты, кончая при лампах. Мама принимала участие в этих крокетных турнирах наравне с нами; играла она хорошо
[79]. Затем крокет отошел на задний план, пришло общее увлечение теннисом. Это была дорогая игра. Ракетки и мячи покупали мы, старшие дети, на заработанные нами деньги. Стали постарше, не бросая крокета и тенниса, увлеклись игрой в винт. Играли и в шахматы, и в шашки; в доме процветали «блошки» — настольная игра.
В старших классах гимназии Михаил Афанасьевич увлекся горячо, как он умел, новой игрой — футболом, тогда впервые появившимся в Киеве; а вслед за ним и младшие братья стали отчаянными футболистами. А мы, сестры и наши подруги, «болельщицами» — (тогда этого выражения еще не было).
Но преобладали интеллектуальные интересы. Мы увлекались литературой и поэзией. В семье все очень много читали. Все, начиная с матери, прекрасно знали русскую литературу. Знали и западную.
Любимым писателем Михаила Афанасьевича был Гоголь. И Салтыков-Щедрин. А из западных — Диккенс. Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно. Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в «Юбилее» Чехова.
Читали Горького, Леонида Андреева. Куприна, Бунина, сборники «Знания». Достоевского мы читали все, даже бабушка, приезжавшая из Карачева (город под Брянском) к нам в Бучу погостить летом.
Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гкмсуна, Оскара Уайльда.
Читали декадентов и символистов, спорили о них и декламировали пародии Соловьева: «Пусть в небесах горят паникадила — В могиле тьма». Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании
[80], об английских суфражистках, об украинском вопросе, о Балканах; о науке и религии, о философии, непротивлении злу и сверхчеловеке; читали Ницше.
Мы посещали киевские театры. Любили театр Соловцова
[81] и бывали в нем. Михаил Афанасьевич — чаще нас всех. Но увлечение оперой преобладало.
Мы увлекались оперой, серьезной музыкой и пением. С детства мы привыкли засыпать под музыку Шопена: уложив детей спать, мама садилась за пианино. Отец играл на скрипке и пел (у отца был мягкий красивый бас). Часто он пел «Нелюдимо наше море» — эту вещь мы все полюбили. В старших классах гимназии мы стали постоянными посетителями симфонических концертов зимой и летом: с нетерпением ждали открытия летнего сезона в Купеческом саду. В доме все играли на пианино. Сестра Варя училась в Киевской консерватории (рояль), сестра Вера пела: кончив гимназию, она стала участницей известного киевского хора Кошица. Да и вся семья пела; у нас образовался свой домашний хор с участием близких друзей. Пели хором мои любимые «Вечерний звон» и «Выхожу один я на дорогу» (запевал нежным тенором младший брат Ваня), а наряду с этим пели «Крамбамбули», «Антоныча», «Цыпленка»; любили петь солдатские песни, чаще других Вещего Олега» и «Взвейтесь, соколы, орлами». Обе эти песни Михаил Афанасьевич ввел в «Дни Турбиных» — «Вещего Олега» мы пели именно так. как эта песня звучит теперь в спектакле.
В доме часто звучала скрипка: играл друг нашей юности, ученик Киевской консерватории, а потом преподаватель Киевской музыкальной школы Александр Петрович Гдешинский. Младшие братья участвовали в гимназическом оркестре струнных и духовых инструментов, у них были свои балалайки и домры, и из их комнаты часто звучали «Светит месяц», «Полянка» и другие народные песни
[82]. Мама сносила все это терпеливо. Но когда один из них принес домой тромбон и начал дома разучивать свою партию на тромбоне, тут уж ее нервы не выдержали, и тромбон был отправлен обратно в гимназию.
У Михаила Афанасьевича был мягкий красивый баритон. Брат мечтал стать оперным артистом. На столе у него, гимназиста, стояла фотографическая карточка артиста Киевской оперы Льва Сибирякова — с надписью, которую брат с гордостью дал мне прочесть:
«Мечты иногда претворяются в действительность».
Михаил Афанасьевич играл на пианино
[83] увертюры и сцены из всех своих любимых опер: «Фауст», «Кармен», «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Травиата», «Тангейзер», «Аида». Пел арии из опер. Особенно часто он пел все мужские арии из «Севильского цирюльника» и арию Валентина из «Фауста», эпиталаму из «Нерона». Когда Киевский оперный театр начал ставить оперы Вагнера, мы слушали их все (Михаил, конечно, по нескольку раз), а в доме зазвучали «Полет валькирий» и увертюра из «Тангейзера».
Мы любили шутить друг над другом (тон задавал старший брат), а шутки бывали острые и задевающие.
Мы выписывали «Сатирикон», активно читали тогдашних юмористов — прозаиков и поэтов (Аркадия Аверченко и Тэффи). Любили и хорошо знали Джерома Джерома и Марка Твена. Михаил Афанасьевич писал сатирические стихи о семейных событиях, сценки и «оперы», давал всем нам стихотворные характеристики и рисовал на нас и на себя самого карикатуры
[84]. Некоторые из его сценок и стихов я помню. Многие из его выражений и шуток стали у нас в доме «крылатыми словами» и вошли в наш семейный язык. Мы любили слушать его рассказы-импровизации, а он любил рассказывать нам, потому что мы были понимающие и сочувствующие слушатели, — контакт между аудиторией и рассказчиком был полный, и восхищение слушателей было полное. В одном из своих писем к сестре Вере в начале 20-х годов Михаил Афанасьевич жалеет о том, что мы не вместе, и прибавляет: «Я прочел бы вам что-нибудь смешное. Помнишь, как мы хохотали в № 131».
Уже гимназистом старших классов Михаил Афанасьевич стал писать по-серьезному: драмы и рассказы. Он выбрал свой путь — стать писателем, но сначала молчал об этом. В конце 1912 г. он дал мне прочесть свои первые рассказы и тогда впервые сказал мне твердо: «Вот увидишь, я буду писателем».
Этот наш дружный детский, а потом юношеский коллектив, эта кипучая, деятельная жизнь семьи, наша семейная спайка не могли не наложить свой отпечаток на наши характеры, не могли не оставить след на всю жизнь. Семья воспитала в нас чувство дружбы и долга, научила работать, научила сочувствию, научила ценить человека. <…>
В начале 20-х годов, даря мне экземпляр одного из своих рассказов, старший брат написал на нем: «Сестрам — я мечтаю, что мы съедемся вместе. Скучаю по своим»… Съехаться нам так и не пришлось…
Я думаю, что подкупающий лиризм и сердечность «Дней Турбиных», некоторых страниц «Белой гвардии» и «Записок покойника» (в печатной публикации — «Театральный роман») идут оттуда — из сердечной связи нашей семьи, из здорового дружного семейного коллектива.
Киев брат нежно любил до конца своих дней. Замышлял написать автобиографическую повесть (уже больной писал об этом другу в Киев).
С
глубоким уважением
Н. Булгакова-Земская»
Отрывки из этого письма завершим синтезирующей характеристикой семей Покровских и Булгаковых, которую дает Н. А. Булгакова. Она была глубоко привязана к родителям, ко всей семье, ее очень интересовали люди вообще, их особенности, сходства и различия. Постоянна тема ее размышлений — Булгаковы (отцовский род) и Покровские (материнский род).
8 янв. 1912 г. она записывает в дневнике: «…«Покровское» — то дорогое и родное, особый милый отпечаток, который лежит, несомненно, на всей маминой семье. Безусловно, что-то выдающееся есть во всех Покровских, начиная с бесконечно доброй и умной, такой простой и благородной бабушки Анфисы Ивановны…
Какая-то редкая общительность, сердечность, простота, доброта, идейность и несомненная талантливость — вот качества покровского дома, разветвившегося из Карачева по всем концам России, от Москвы до Киева и Варшавы. …Любовь к родным преданиям и воспоминаниям детства……связь между всеми родственниками — отпрысками этого дома, сердечная глубокая связь, какой нет в доме Булгаковых. Жизнерадостность и свет».
Добавим некоторые живые штрихи и факты, дополняющие ту характеристику основных линий семейной жизни Булгаковых, которая дана выше.
Увлечение театром было одно из главных в жизни семьи и Миши — гимназиста и студента. Об этом свидетельствуют прежде всего любительские спектакли, в которых принимали участие все молодые Булгаковы. Спектакли ставились чаще летом, в Буче. Первая пьеса, в которой играл Миша, — детская сказка «Царевна Го-рошина» (текст ее сохранился). В ней 12-летний Миша играл лешего и атамана разбойников. Это был благотворительный спектакль для богаделок, как вспоминает сестра Вера. Гимназистом Михаил Аф. играл во многих спектаклях. Он исполнял роли: Лешего — в семейном спектакле: мичмана Деревеева (жениха) — в водевиле «По бабушкиному завещанию», который ставился летом 1909 г. в Буче на даче Лерхе (друзей семьи), роль невесты играла сестра Надя; Хирина — в «Юбилее» Чехова; жениха — в «Предложении» Чехова.
5 июля 1909 г. в Буче была поставлена фантазия «Спиритический сеанс» (с подзаголовком «Нервных просят не смотреть»). По словам Н. А., это был балет в стихах, словом, что-то вроде эстрады; автор стихов — друг семьи Е. А. Поппер. Эта фантазия была целиком сочинена, оформлена и поставлена группой молодежи на даче Семенцовых; М. А. был одним из постановщиков и исполнял роль спирита, вызывавшего духов.
Студентом М. А. участвовал в любительских платных спектаклях, которые ставились в дачном поселке Буча летом 1910 г., под фамилией Агарина. Он исполнял роли
[85]: начальника станции — в комедии «На рельсах», дядюшки молодоженов — в комедии Григорьева «Разлука та же наука». Арлекина — в одноактной пьесе «Коломбина» («Роль первого любовника — не его амплуа», — замечает впоследствии Н. А.). Вот как пишет об этом Н. А. к двоюродной сестре Иларии Михайловне Булгаковой (1891–1982) (Лиле); «В Бучанском парке подвизаются на подмостках артисты императорских театров Агарин и Неверова (Миша и Вера) под режиссерством Жоржа Семенцова… [друг семьи)… В воскресенье вечером мы были в парке, где Миша удивлял всех игрою (играл он действительно хорошо)» (13 июля 1910). И на следующий день запись в дневнике: «Миша великолепно играл 11-го» (14 июля 1910).
Зимой 1913 г. всеобщим увлечением стала постановка шарад. Об этом подробно рассказывает двоюродная сестра Лиля Н. А. Булгаковой в письме от 24 ноября 1913 г. из Киева в Москву, где Н. А. училась на Высших женских курсах. Приведем отрывок из этого письма с позднейшими примечаниями Н. А., который вводит нас в атмосферу семейной жизни тех лет:
«…что в Киеве, у нас дома, на курсах?
К обеду оживляется столовая (обедают Миша с Тасей
[86]; у мамы принципиал. causerlus с Мишей (знаешь, в каком тоне!)
[87], Ваня кричит. Муик
[88] кормит Лелю. Утро и вечер, как и прежде. Вот нечетные субботы
[89] приняли другой характер. Старые друзья (которые хотя и лучше, по пословице. новых) стушевались совершенно. Один Саша (Гдешинский. — Е. З.) стоит, как тень прошлого. Выступили новые люди. Я нахожу некоторых интересными. Началась более общественная жизнь в нашей желтой гостиной. Даже не так! Она приняла «гостинный» характер, хотя шарады гонят маски с лиц. Разделились на две партии, каждая со своим автором — творцом картин. Они уже наметились: Драма — Варя, Юзик Фиало (о нем следовало бы рассказать тебе подробнее; мне он и Ива Фасе кажутся самыми интересными, Мурка Герман, Лисянск<ие>, Миша Фасе, Коля яп<онский>. Ваня, Леля + остальные, непостоянные, случайные члены — одна партия; другая Комедия — Вера, Тася, Миша, Ива Фасе, Мишин товарищ В. В-м, Костя, Коля, Саша Гд<ешинский> + случайные члены… Шарады проходят эволюцию: ставят пьесы из нескольких актов в зависимости от числа слогов: наследник, о-тра-ва. Сейчас шарады гвоздь нечетных суббот, и действительно некоторые номера очень удачны…
В Киеве после Бейлиса делает сенсацию поставленная у Соловцова «Ревность» Арцыбашева. Говорят, вышел вальс «Мечты Бейлиса».
Сочинять Миша начал рано. Как уже было упомянуто, его первое произведение «Похождения Светлана» было написано в 7 лет. Сочинительство продолжалось неутомимо и постоянно: это были и пьесы, и сатирические стихи, и домашние журналы. Н. А. перечисляет в своих записках пьесы «для домашнего употребления», написанные М. А. Поездка Ивана Павловича в Житомир» — Мишина драма о том, как Иван Павлович (врач, друг семьи, за которого мать, когда дети стали взрослыми, вышла замуж) из Киева к тяжелобольному в Житомир, по совету Кости, поехал не на поезде, а в дилижансе-автомобиле, тогда — новинке. По дороге дилижанс сломался. Пациент умер.
И. П. с револьвером врывается в столовую и целится в Костю. Тот мгновенно ныряет под стол, и пуля попадает в Муика, которая со словами «Пианино Леле!» умирает.
Две пьесы были связаны с женитьбой М. А. О пьесе в карикатурах «Тempora mutantur» мы уже упоминали. О пьесе «С мира по нитке, голому шиш» будет рассказано далее — в главе о женитьбе М. А.
Сатирические стихи, описывающие домашнюю жизнь, составляли другую струю творческой активности юного Булгакова Начало стихотворения, характеризующего жизнь семьи в Буче летом 1915 г., было приведено выше. Вот еще несколько отрывков из этого же длинного стихотворения, почти поэмы:
День течет в работе мило.
Все. как надо, в круг идет.
Сенька
[90] выкатил чернила
На штаны и на живот
За калиткой, на просеке
Мама вешает говядину
[91].
Маша с тихой воркотнею
В кухне гладит юбку Надину.
(Наступает вечер. Все развлекаются)
Миша с Сенькой на траве
Прыгают на голове <…>
Ваня в теннисе талант!
Белый мячик, красный бант!<…>
Помоляся Богу,
Улеглася мать.
Дети понемногу
Сели в винт играть.
(Наступает ночь)
Спать давно уже пора.
Все вы жители бучанские.
Спите мирно до утра.
(А молодая компания за калиткой поет)
Пишет-пишет царь Салтан турецкий
Православному царю:
«Разорю я, разорю я,
Сам в Расею жить пойду!»
Мама шепчет: «Разгоню я
Спать их быстро уложу я!»
М. А. писал и эпиграммы. Особенно много на Костю японского.
За усердие всегдашнее
И за то, что вежлив, мил.
Титул мальчика домашнего
Он от мамы получил.
Дружба с Костей, которая сохранилась и в последние годы, не мешала, а, наоборот, способствовала постоянному подтруниванию. 22 окт. 1913 г. в письме к Н. А. Костя пишет: «Приходя домой вечером, иногда нахожу у себя на столе записки приблизительно следующего содержания:
Сижу я перед книгою,
В ней формул длинный ряд.
Но вижу в книге фигу я…
Блуждает мутный взгляд.
За окнами акации
Ветвями шелестят…
Но кончились вакации
И грозен формул ряд.
Будь прокляты фундаменты
На свайном основании
Нелепые орнаменты
«Скольженье» и «катание»
[92].
Или такое:
В горшках ночных (зачем Бог весть!)
Живет, по всем приметам, здесь
Какая то босявка.
Это значит, что приходил Миша…»
М. А. включал «домашние стихи» в письма к родным уже и будучи писателем. Так, в письме к сестре Наде от 23 окт. 1921 г. он дает такой постскриптум, описывающий его жизнь в ставшем знаменитым впоследствии доме № 10 по Большой Садовой:
P. S. Стихи
На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в доме наш брат —
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом
Как какой-нибудь, извините за выражение.
атом.
Жаль, некоторых удобств нет.
Например — испорчен в…р-кл…т.
С умывальником тоже беда:
Днем он сухой, а ночью из него на пол
течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический — странной марки:
То потухнет, а то опять ни с того
ни с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уже несколько дней
горит подряд,
И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос
выводит: «…бедная чайка…».
А за правой играют на балалайке.
Как видим, раннее «домашнее» творчество имело преимущественно юмористический характер. Чувство юмора высоко ценили в семье. Показательны слова М. А., сказанные при обсуждении характера одного дальнего родственника, которые приводит в дневнике Н. А.: «Я уже не говорю о Мишиных словах, как он лез на дыбы и хватался за голову: «Нет, ты подумай, человек, который сам про себя говорит, что у него нет юмористической жилки! Ведь за это расстрелять можно!» (8 сент. 1915).

Владимир Лакшин
Елена Сергеевна рассказывает…

…Вот как писались «Записки покойника». Однажды Булгаков сел за бюро с хитрым видом и стал что-то безотрывно строчить в тетрадь. Вечера два так писал, а потом говорит: «Тут я написал кое-что, давай позовем Калужских. Я им почитаю, но только скажу, что это ты написала». Разыгрывать он умел с невозмутимой серьезностью лица. Е. С., по его сценарию, должна была отнекиваться и смущаться.
Пришли Калужские, поужинали, стали чай пить, Булгаков и говорит: «А знаете, что моя Люська выкинула? Роман пишет. Вот вырвал у нее эту тетрадку». Ему, понятно, не поверили, подняли на смех. Но он так правдоподобно рассказал, как заподозрил, что в доме появился еще один сочинитель, и как изъял тайную тетрадь, а Е. С. так натурально сердилась, краснела и смеялась, что гости в конце концов поверили. «А о чем роман?» — «Да в том и штука, что о нашем театре». Калужские стали подшучивать над Еленой Сергеевной: что-де она могла там написать? Но, когда началось чтение, смолкли в растерянности: написано превосходно — и весь театр как на ладони. А Булгаков все возмущался, как она поддела того-то и как расправилась с другим. Ловко, пожалуй, но уж достанется ей за это от персонажей!
Было за полночь. Калужские ушли, Е. С. собиралась спать ложиться, вдруг во втором часу ночи телефонный звонок. Е. В. Калужский подзывает к телефону Булгакова: «Миша, я заснуть не могу, сознайся, что это ты писал…»
Потом стали бывать и слушали главы книги: Качалов с Литовцевой, Яншин, Марков. Все очень веселились, а Качалов загрустил к концу чтения и сказал: «Самое горькое — что это действительно наш театр и все это правда, правда…»
Оставил, не закончил Булгаков
эту вещь потому, что отвлекли дела с оперными либретто, заказанными Большим театром, и потом — «Мастер и Маргарита». Он уверен был, что умрет в 1939 году, и спешил закончить «Мастера». После этого хотел вернуться, если успеет, к «Запискам покойника» и дописать их.
По моей просьбе Е. С. рассказала предполагавшееся Булгаковым окончание «Записок покойника». Лекция Аристарха Платоновича в театре о его поездке в Индию (эту лекцию сам Булгаков изображал в лицах замечательно смешно). И Максудов понимает, что Аристарх Платонович ничем ему не поможет, — а он так ждал его возвращения из-за границы. Потом встреча в театральном дворе, на бегу, с женщиной из производственного цеха, бутафором или художницей, у нее низкий грудной голос. Она нравится ему, Бомбардов уговаривает жениться. Максудов женится, она вскоре умирает от чахотки. Пьесу репетируют бесконечно. Премьера тяжела Максудову, отзывы прессы оскорбительны. Он чувствует себя накануне самоубийства. Едет в Киев — город юности. (Тут Булгаков руки потирал, предвкушая удовольствие, — так хотелось ему еще раз написать о Киеве.) И герой бросается вниз головой с Цепного моста.

Константин Паустовский
Булгаков
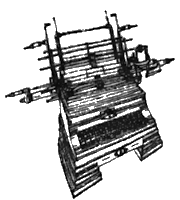
Первый рассказ был им написан в 1919 году.
«Как-то ночью в 1919 году, — писал об этом Булгаков в своей автобиографии. — глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, я написал первый маленький рассказ. В городе, куда затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты»…
Легкость работы Булгакова поражала всех. Это та же легкость, с какой юный Чехов мог написать рассказ о любой вещи, на которой остановился его взгляд, — чернильнице, вихрастом мальчишке, разбитой бутылке. Это брызжущий через край поток воображения.
Так легко и беззаботно работал Булгаков в «Гудке» в те знаменитые времена, когда там подвизалась на «четвертой полосе» компания насмешливых юношей во главе с Ильфом и Петровым. «Четвертая полоса» наводила ужас на лодырей, прогульщиков, чинуш и разгильдяев. Она была беспощадна. Сотрудников этой полосы побаивался даже сам редактор «Гудка».
В то время Булгаков часто заходит к нам, в соседнюю с «Гудком» редакцию морской и речной газеты «На вахте». Ему давали письмо какого-нибудь начальника пристани или кочегара. Булгаков проглядывал письмо, глаза его загорались веселым огнем, он садился около машинистки и за 10–15 минут надиктовывал такой фельетон, что редактор только хватался за голову, а сотрудники падали на столы от хохота.
Получив тут же, на месте, за этот фельетон свои пять рублей, Булгаков уходил, полный заманчивых планов насчет того, как здорово он истратит эти пять рублей…
У Булгакова была странная и тяжелая судьба.
МХАТ играл только его старые пьесы. После семи представлений новая пьеса «Мольер» была запрещена. Прозу его перестали печатать.
Он очень страдал от этого, мучился и наконец не выдержал и написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал на единственном и священном праве писателя — праве печататься и тем самым общаться со своим народом и служить ему всеми силами своего существа. Ответа он не получил.
Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей. Не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека.
Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы — и грустные, и шутливые. Он рассказывал их дома, за чайным столом.
К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось, или, выражаясь старомодно, кануло в Лету.
В детстве я очень ясно представлял себе эту Лету — медленную подземную реку с черной водой, в которой очень долго, но безвозвратно тонули, как будто угасали, любые предметы, люди и даже человеческие голоса.
Я помню один такой рассказ.
Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается: «Терзан».
Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, а одного человека словить не можете!»
Наконец Булгаков пойман и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает не торопясь:
— Это вы мне эти письма пишете?
— Да, я, Иосиф Виссарионович.
Молчание.
— А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает обеспокоенный Булгаков.
— Да ничего. Интересно пишете.
Молчание.
— Так, значит, это вы — Булгаков?
— Да, это я, Иосиф Виссарионович.
— Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай нехорошо! Совсем нехорошо!
— Да так… Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.
Сталин поворачивается к наркому снабжения:
— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут! Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть в габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!
И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:
— Понимаешь, Миша, все кричат: гениальный, гениальный! А не с кем даже коньяку выпить!
Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя.
Однажды Булгаков приходит к Сталину, усталый, унылый.
— Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?
— Да вот пьесу написал.
— Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?
— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.
— А где бы ты хотел поставить?
— Да конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.
— Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись. — Сталин берет телефонную трубку: — Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!
Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.
— Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто! МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте. Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи, пожалуйста, какой нервный народ пошел! Пошутить нельзя!
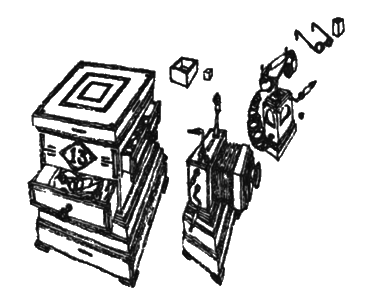
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Выпускник медицинского факультета Императорского университета св. Владимира. 1916

Иван Авраамович Булгаков, дед писателя.
Орел, 1891

Олимпиада Ферапонтовна Булгакова, бабушка писателя.
Орел, 1891

А. И. Булгаков, отец писателя.
Киев, начало 1900-х годов

Семья Покровских. Крайняя справа — Варя Покровская, в будущем — мать М. А. Булгакова. 1870-е годы

В. М. Булгакова, мать писателя.
Киев, 1900-е годы

В этом доме родился М. А. Булгаков.
Киев, Воздвиженская ул., д. 10

Семья Булгаковых на даче.
Буча, август 1913 года

Михаил Булгаков — гимназист.
Киев, 1908

Первая киевская гимназия, где учился М. А. Булгаков в 1901–1909 годах

Дом, где жила семья Булгаковых в 1906–1913 и в 1918–1919 годах.
Киев, Андреевский спуск

Комната М. Булгакова в киевском доме. 1913

Киев. Андреевский спуск и Андреевская церковь

На фотографии М. Булгакова — пояснительная надпись его сестры Надежды Афанасьевны: «Андреевский спуск, 1914 или 1913 год. «Англичанин» (Сэр «Асквит», лорд)

Студент-медик М. Булгаков в госпитале среди раненых.
Киев, 1915

Надежда Афанасьевна Булгакова-Земская, сестра писателя.
Киев, 1912

Сестра писателя Варвара — прототип Елены Турбиной.
Середина 20-х годов

М. Булгаков.
Киев, 1916

Татьяна Николаевна Лаппа — первая жена Булгакова.
1914 год

Москва, Тверская-Ямская улица.
Фотография 1920-х годов

Москва, Большая Садовая, 10.
Дом, где М. А. Булгаков жил в 1921–1924 годах

М. А. Булгаков, 1923. Рисунок А. Куренного

Москва. Дом на Сретенском бульваре, 6, где в 1921 году М. А. Булгаков работал в Лито Главполитпросвета

Билет М. А. Булгакова на вход в читальный зал Библиотеки. им. В. И. Ленина

Любовь Евгеньевна Булгакова (Белозерская), вторая жена писателя.
Париж, начало 20-х годов

М. А. Булгаков. Москва, 1926

Справа налево: М. А. Булгаков, Л. Е. Белозерская, И. Н. Лямин, С. С. Топленинов. Крюково, 1926

Слева направо: И. Файндильберг, В. Катаев, М. Булгаков, Ю. Олеша, И. Уткин. Москва, 1930

М. А. Булгаков. Москва, 1926

Москва, Остоженка. Фотография 1920-х годов

Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна. Надпись, сделанная Булгаковым на этой фотографии: «По примеру великих мастеров»

Елена Сергеевна Булгакова — третья жена М. А. Булгакова

М. А. Булгаков. Москва, октябрь 1935 года
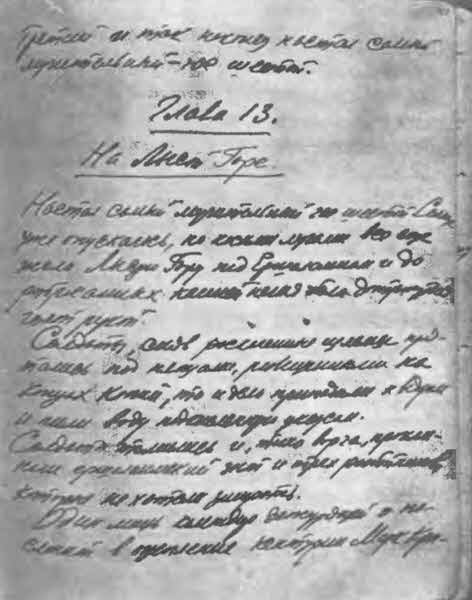
Рукописная страница романа «Мастер и Маргарита»

Москва, Здание Второго Госцирка на Большой Садовой, то самое «Варьете»

Патриаршие пруды. Та самая скамейка

М. А. Булгаков и Е. С. Булгакова во время поездки в Киев. 1934

Почтовая открытка М. А. Булгакова Елене Сергеевне от 7 августа 1938 года

Письмо М. А. Булгакова брату Н. А. Булгакову 29 мая 1939 года

Иван Афанасьевич Булгаков (второй слева), младший брат писателя, в кругу друзей-белоэмигрантов. Париж, 1930-е годы

М.А Булгаков в роли судьи в инсценировке «Пиквикского клуба». МХАТ, 1935

М. А. Булгаков на генеральной репетиции «Мольера» 1936

Торжественное собрание, посвященное 40-летию МХАТа. 1938

На балконе дома в Нащокинском переулке. Москва, 1935

Стол-бюро Булгакова в квартире на Большой Пироговской улице

Любимая собака писателя.
Рисунок М. А. Булгакова

Чета Булгаковых. 1936

В последние дни жизни. Февраль 1940 года
 Сергей Александрович Ермолинский
Сергей Александрович Ермолинский (1900–1984) — писатель, драматург, киносценарист, один из ближайших друзей М. А. Булгакова, не покидавший его до последних минут его жизни… Входил в комиссию по литературному наследию М. А. Булгакова (с марта 1940 года), В конце октября того же года С. А. Ермолинский был арестован. В ходе следствия органами была предпринята попытка фабриковать «дело писателя Булгакова», но следователям не удалось добиться от Ермолинского показаний, порочащих память друга. Теперь эти допросы опубликованы («Независимая газета», 16 мая 1995 г.). После возвращения из ссылки Ермолинский жил некоторое время у Е. С. Булгаковой и помогал ей в подготовке сочинений Михаила Афанасьевича к печати.
Автор сценариев кинофильмов «Друг мой Колька», «Неуловимые мстители» (1-я серия), «Эскадрон гусар летучих» и т. д.
Эта фотография и текст к ней любезно предоставлены издателям Н. А. Филатовой.

М. А. Булгаков с Сережей Шиловеким и С. А. Ермолинским.
Один из последних снимков, 1940
Самое яркое событие
в литературной жизни
России 2000 года!
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА
РОССИИ XX ВЕКА В 50 ТОМАХ
Вышли в свет десять томов серии
Т.1 АРКАДИЙ АРКАНОВ
т.2 ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ
т.3 «САТИРИКОН» И САТИРИКОНЦЫ
т.4 ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
т.5 ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ
т.6 ГРИГОРИЙ ГОРИН
т.7 ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ
т.8 ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ
т.9 ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ
т.10 МИХАИЛ БУЛГАКОВ
В ближайшее время увидят свет книги Антологии
«КЛУБ 12 СТУЛЬЕВ»
НАДЕЖДА ТЭФФИ
ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ
INFO
Булгаков М.
Б 90 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 10. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 736 с., илл.
УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
ISBN 5-04-806177-3 (Т 10)
ISBN 5-04-003950-6
Литературно-художественное издание
Булгаков Михаил Афанасьевич
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Том десятый
Автор серийного оформления Евгений Поликашин
Редактор Е. Остроумова
Корректоры О. Норенкова, Н. Яковлева
Компьютерная верстка А. Филиппов
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.
Подписано а печать с готовых диапозитивов 17.10.2000. Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 38,64. Тираж 10 000 экз. Заказ 5951.
ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»
Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.
АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
…………………..
Отсканировано Pretenders,
обработано Superkaras и Siegetower
FB2 — mefysto, 2023

Примечания
1
Сталин И. В. Сочинения. Т. 11. С. 328–329. М., 1949.
(обратно)
2
В трудную минуту Булгаков написал письмо В. И. Ленину и пошел с ним на прием в Наркомпрос. сотрудником которого недавно числился. к Н.К Крупской. Крупская помогла ему. о чем Булгаков, уже после смерти Ленина, со свойственной ему благодарной памятью рассказал в очерке «Воспоминание…».
(обратно)
3
Письмо М. А. Булгакова В. А. Булгаковой от 26 апреля 1921 г. — Известия АН СССР, серия литературы и языка. Т. 35. 1976. № 5. С. 458.
(обратно)
4
Русский современник. 1924. Кн. 2. С. 266.
(обратно)
5
Рукопись повести вместе с дневниками была изъята у Булгакова сотрудниками ОГПУ во время обыска 7 мая 1926 года. Как рассказывала Е С. Булгакова, автор не раз обращался с просьбой вернуть ему его бумаги. Не получая ответа, он написал заявление, в котором объявлял. что демонстративно выходит из Всероссийского союза писателей (предшественник Союза писателей СССР). Булгакова пригласили к следователю, предложившему ему забрать свое заявление назад в обмен на бумаги. Булгаков согласился, и следователь, выдвинув ящик своего письменного стола, передал ему тетради с дневником и рукопись «Собачьего сердца».
(обратно)
6
Прототипом Преображенского называют родственника Булгакова по матери, профессора-гинеколога Н. М. Покровского. Но, в сущности, в нем отразился тип мышления и лучшие черты того слоя интеллигенции. который в окружении Булгакова назывался «Пречистенкой». В районе Пречистенки жил круг людей из научной и художественной среды, осколков старой московской интеллигенции, близкий во второй половине 20-х годов Булгакову: семьи Арендтов. Ляминых. Шервинских, Леонтьевых и др. (см.: Н. Б. Москва и москвичи вокруг Булгакова. — Новый журнал. Нью-Йорк, 1987. Кн. 166. С. 96—150).
(обратно)
7
Это относится к «Белой гвардии» и «Театральному роману». Но и «Мастер и Маргарита», несмотря на сюжетно-композиционную завершенность текста, мог иметь еще не одну редакцию, а уж шлифовка текста. будь Булгаков здоров, продолжалась бы несомненно. Однажды я передал Елене Сергеевне вопрос молодого читателя: в последнем полете свиты Воланда, среди всадников, летящих в молчании, нет одного лица. Куда пропала Гелла? Елена Сергеевна взглянула на меня растерянно и вдруг воскликнула с незабываемой экспрессией: «Миша забыл Геллу!!!»
(обратно)
8
Публикуется по сб. «Воспоминания о Михаиле Булгакове». Москва, «Советский писатель», 1988.
(обратно)
9
В журнале «Россия» были напечатаны 1-я и 2-я части романа: 3-я часть осталась неопубликованной в связи с закрытием журнала.
(обратно)
10
«Русское слово» — газета (1895–1918), издававшаяся в Москве с 1897 года И. Д. Сытиным, привлекшим к участию в ней известнейших в России тех лет журналистов; марка журналиста «русского слова» оставалась и в 1920-е годы значимой для Булгакова (известно устное свидетельство об этом В. Катаева).
(обратно)
11
Строка эстрадной песенки, популярной в годы войны и революции:
— Мама! Мама! Что мы будем делать.
Когда настанут замни холода?
— У тебя нет теплого платочка, дочка,
У меня нет теплого пальта.
(обратно)
12
Липучка
(англ.).
(обратно)
13
Отсылка к роману К. Гомсуна «Голод». известному русскому читателю с 1892 года (первый русский перевод: одно из изданий романа вышло в Москве в 1920 г.).
(обратно)
14
Возможно, здесь — приближение к замыслу (или ненамеренное отражение его) повести «Роковые яйца», зловещий персонаж которой получил фамилию Рок (в наборной машинописи исправлено рукою автора на «Рокк» — несомненно, под редакторским или цензурным давлением, вместе с изменением имени и отчества персонажа). Фраза «Кто мог… поручить работу!» формулирует один из лейтмотивов будущей повести — обнажение губительной роли в новом обществе невежественных и непрофессиональных его членов.
(обратно)
15
История болезни (лат.).
(обратно)
16
ЦУС— Центральное управление снабжения.
(обратно)
17
АРА — ARA, сокр. от англ. American Relief Administration — Американская администрация помощи (1919–1923 гг.; руководитель Г. Гувер), которая была создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.
(обратно)
18
Главкустпром — Главное управление кустарной промышленности. Пролеткульт — «Пролетарская культура» (культурно-просветительная организация при Наркомпросе 1917–1932 гг.). Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения.
(обратно)
19
Все проходит (лат).
(обратно)
20
На плоской крыше бывшего Нирензее… — десятиэтажный дом в Большом Гнездниковском переулке, построенный в 1912 г. по проекту инженера Э. К. Нирензее. В 1920-е годы на первом и десятом этажах этого дома размещались редакции журналов и газет, в частности московская редакция газеты «Накануне» (см. об этом: Мягков Б. Москва. По следам булгаковских героев. — Дружба, 1986, № 4, с. 117).
(обратно)
21
Незлобинский театр — русский театр, созданный в Москве в 1909 г. антрепренером, режиссером и актером К. Н. Незлобиным. В 1917 г. преобразован в товарищество актеров, просуществовавшее до начала 20-х годов, а в 1922 г. слился с театром РСФСР 1-м и стал называться «Театром актера».
(обратно)
22
Яркое
(фр.).
(обратно)
23
Тестов — ресторан в Москве.
(обратно)
24
Время — деньги (англ).
(обратно)
25
Речь идет о Надежде Афанасьевне Земской, сестре писателя.
(обратно)
26
МОГЭС — Московское объединение государственных электростанций.
(обратно)
27
РОНО — районный отдел народного образования.
Губсоцвос — губернский подотдел социального воспитания.
Губоно — губернский отдел народного образования.
(обратно)
28
Эр-ка-ка — Расценочно-конфликтная комиссия.
(обратно)
29
Рабоче-крестьянская инспекция, Рабкрин (1920–1924 гг.).
(обратно)
30
«Торгово-промышленный вестник», издававшийся кооперативным товариществом «Техносправ». Вышло всего 6 номеров газеты.
(обратно)
31
МОПР — Международная организация помощи борцам революции.
(обратно)
32
Стачка Петр Иванович (1865–1932) — советский государственный деятель, один из организаторов Коммунистической партии Латвии.
(обратно)
33
Эпиграф — неточная цитата из «Конька-Горбунка» П. Ершова.
(обратно)
34
ЧМС — железнодорожное сокращение.
(обратно)
35
ДСП — железнодорожное сокращение: дежурный по станции.
(обратно)
36
Не так ли? (от
фр.: N’est-ce pas?)
(обратно)
37
Чинизелли — фамилия известного семейства цирковых артистов и предпринимателей.
(обратно)
38
Марш Шуберта — Таузига. — Польскому пианисту и композитору Карлу (Каролю) Таузигу (1841–1871) принадлежит фортепьянная транскрипция одного из «Военных маршей» Ф. Шуберта.
(обратно)
39
Литвин Фелия Васильевна (1861–1936) — знаменитая русская певица, диапазон голоса которой охватывал, по выражению специалистов, две с половиной октавы — от нижнего соль до верхнего ре. С легкостью необыкновенной она исполняла Джильду в «Риголетто» и Кармен в одноименной опере Бизе, была непревзойденной исполнительницей партий Брунгильды и Изольды, вообще вагнеровского репертуара. Скорее всего, М. А. Булгаков слушал Фелию Литвин и восхищался ее мастерством.
(обратно)
40
Обыграно созвучие имени польского полководца и короля Яна Собеского (1629–1696) с известной аббревиатурой «собес» (социальное обеспечение).
(обратно)
41
От аббревиатуры «соцвос» (социалистическое воспитание).
(обратно)
42
Использована устойчивая аббревиатура «персимфанс» (первый симфонический ансамбль без дирижера).
(обратно)
43
Парфорс — букв.: колючий ошейник для охотничьих и служебных собак. Парфорсная охота — охота с гончими на зверя. В контексте повести — «гон» Короткова, оканчивающийся гибелью героя.
(обратно)
44
Curriculum vitae (лат.) — жизненный путь.
(обратно)
45
Использовано имя итальянского физика и медика XVII–XVIII вв. Булгаков переносит его в XX в… делая «коллегой» московского ученого.
(обратно)
46
Ресторан на Остоженке.
(обратно)
47
…«Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор»№… «Красный ворон», издания ГПУ» — названия журналов (и одной газеты) воспроизводят существовавшие издания.
(обратно)
48
Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник «Берлинской Таgesblatts»… (от
нем.: Verzelhen Sie. bttte. Herr Professor, daß ich störe. Ich bin Mitarbelter des «Berliner Тagesblatts»).
(обратно)
49
Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять (от
нем.: Ich bin momental sehr beschäfrigt und kann Sie deshalbjetzt nicht empfangen).
(обратно)
50
Стеклов (Нахамкис) Ю.М. (1873–1941) — известный революционный деятель, публицист и историк, с 1917 с — редактор «Известий», журналов «Новый мир» и «Красная нива».
(обратно)
51
Между нами (от
фр. Entre nous soit-dlt).
(обратно)
52
Г. И. Россолимо (1860–1928) — известный невропатолог, профессор Московского университета.
(обратно)
53
Название образовано по аналогии с действующими добровольными обществами Добролет и Доброхим.
(обратно)
54
Обыграна фамилия известного фельетониста Михаила Кольцова (1898–1942).
(обратно)
55
Ныне Белорусский вокзал.
(обратно)
56
Ныне Ленинградский вокзал.
(обратно)
57
Честное слово (от
фр. parole d’honneur).
(обратно)
58
Позже (нем).
(обратно)
59
Хорошо (нем).
(обратно)
60
Цирк Саламонских (к 1925 г. — 2-й Госцирк) помещался на Садово-Триумфальной ул.
(обратно)
61
Осторожно (нем).
(обратно)
62
Московское коммунальное хозяйство.
(обратно)
63
Легенда о холопе, изобретавшем при Иване Грозном летательный аппарат и казненном за это, была очень распространена в научно-популярной литературе первой половины XX в. Никаких сведений в источниках XVI в. об этом факте не обнаружено.
(обратно)
64
Это прозвание никогда при Иване IV не употреблялось; оно относится не ранее чем к XVII в.
(обратно)
65
Дальнейший текст по-немецки: «Великий король шведского королевства послал меня, своего верного слугу, к вам… чтобы вопрос о Кемской волости, которую завоевало славное шведское войско, добровольно привести в порядок…»
(обратно)
66
Ди фраге… — Вопрос о Кемской волости… Шведская армия ее завоевала… Великий король шведского королевства послал меня… и… Это очень серьезный вопрос…
(обратно)
67
Что приказывает царь… передать великому королю Швеции?
(обратно)
68
Марфа Васильевна (Собакина) была женой Ивана Грозного в 1571 г.
(обратно)
69
Жаль! (фр.)
(обратно)
70
Нет, это невозможно, но все дела! (фр.)
(обратно)
71
С удовольствием! (фр.)
(обратно)
72
Он играет! (фр.)
(обратно)
73
Я привезу его (фр.).
(обратно)
74
Если это неправда, то хорошо найдено (
um.).
(обратно)
75
Цитаты из «Авторской исповеди» Н. В. Гоголя.
(обратно)
76
В этом месте нижняя часть листа, видимо с текстом, оборвана.
(обратно)
77
Устное выступление Надежды Афанасьевны Земской-Булгаковой 30 января 1967 года в музее Л. Н. Толстого в Москве, записанное на магнитофон и переведенное в письменный текст Е. А. Земской. Сохранены все особенности этого выступления как живого устного рассказа.
(обратно)
78
Мы жили тогда на Андреевском спуске, в доме № 13. в квартире, куда переехали незадолго до смерти отца; эта квартира в точности описана в — Белой гвардии», с ее оригинальным расположением по наклонному спуску и тремя входами.
«Букеты, как венки, во всех комнатах стоят» — Мишины слова (как-то он сказал так, пройдя по комнатам на даче в Буче или в Киеве). Кремовые шторы и стоячая бронзовая лампа в спектакле «Дни Турбиных» — из нашей квартиры в доме № 13. Лампа цела до сих пор. она стоит в комнате у Веры Афанасьевны.
(обратно)
79
Сохранились шутливые стихи М. А. тех лет:
Пахнет серой над крокетом:
В шар нацелясь молотком.
Мама с бритым Бертолетом
Хочет сжечься шар с шаром.
Бритый Бертолет — гимназический товарищ М. А. — Борис Богданов. В определенные моменты игры в крокет столкновение двух шаров приводит к их «сжиганию» — они уходят с площадки.
(обратно)
80
В дневнике Н. А. замечает, что брат не был сторонником женского образования. Он подсмеивается над «курсихами» Верой и Лилей. «Советует мне идти на медицинский: «Из всех зол женского образования выбирать наименьшее — идти в женщины-врачи» (23 февр. 1911 г.).
(обратно)
81
Театр Соловцова — один из лучших русских провинциальных театров. Создан в 1891 г. в Киеве Н. Н. Соловцовым. Е. Я. Неделиным. Т.А Чужбиновым, Н. С. Песоцким как «Товарищество драматических артистов»: с 1893 г. — антреприза Соловцова, поставившего здесь основные спектакли. Среди них — «Ревизор» Гоголя (1891), «Власть тьмы» Л. Толстого (1895), «Дядя Ваня» (1898), «Три сестры» (1901) Чехова. В 1919 г. театр был национализирован и переименован во Второй драматический театр УССР им. Ленина. —
Ред.
(обратно)
82
Брат Коля и двоюродный брат Коля японский увлекались балалайками. Ваня учился играть на виолончели у сына известного скрипача Воячека.
(обратно)
83
Михаил Афанасьевич взял у преподавательницы музыки, которая ходила к сестрам, всего несколько уроков, научился читать ноты; потом он уже играл самостоятельно самые сложные вещи — конечно, любительски.
(обратно)
84
Михаил Афанасьевич рисовал карикатуры на всех нас и на себя. Есть его рассказ в рисунках «Tempora mutantur (времена меняются), или Что вышло из того, который женился, и из другого, который учился». героями этих рисунков были сам Михаил и наш двоюродный брат Костя.
(обратно)
85
Сохранились афиши этих спектаклей. В них участвовала и сестра Вера под фамилией Неверова.
(обратно)
86
Обедают Миша с Тасей — свадьба Мих. Аф. с Татьяной Николаевной была весной 1913 года: после этого они поселились на отдельной квартире (сняли комнату на Рейтарской улице), но обедали в доме у матери.
(обратно)
87
В этих разговорах затрагивались и житейские, и весьма широкие вопросы мировоззрения, науки, искусства. Мих. Аф. любил поражать мать, как и других своих собеседников, парадоксальностью, оригинальностью суждений, едкой иронией: говоря с матерью, он любил ниспровергать общепризнанные авторитеты; отсюда и замечание Лили: «знаешь, в каком тоне!»
(обратно)
88
Прозвище тетки, Ирины Лукиничны Булгаковой, вдовы младшего брата Афанасия Ивановича — Сергея Ивановича, жившей в семье Булгаковых; Леля, младшая, была любимицей Муика, это слово изобрела она как ласковое имя: старшие дети, не любившие тетку, употребляли это слово иронически.
(обратно)
89
Два раза в месяц, по нечетным субботам, в доме у Булгаковых собиралась молодежь. На этих вечерах было много музыки (пианино, скрипка). пения, бывали танцы и разные игры. Увлекались шарадами и любительскими спектаклями, которые ставились чаще летом. Шарады были основным увлечением зимы 1913 года.
(обратно)
90
Ученик сестры Вари. «Варин урок»
(обратно)
91
За стол в это лето садилось 14 человек. Мясник привозил мясо его покупали большими количествами и хранили на леднике» (примеч. Н. А
.].
(обратно)
92
Костя готовился стать инженером: чертил, делал расчеты…
(обратно)
93
Позднейшее пояснение Н. А.: «У Кости около письменного стола стояли на подставках в больших глиняных вазонах какие-то комнатные растения действительно очень чахлого вида».
(обратно)
Оглавление
Мир Михаила Булгакова
Автобиографии[8]
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ
Часть первая
Часть вторая
РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ
Необыкновенные
приключения доктора
Красная корона
(Historia morbi)[15]
Богема
Москва краснокаменная
Похождения Чичикова
Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом
№ 13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна
Сорок сороков
Самоцветный быт
Из моей коллекции
Самогонное озеро
Повествование
День нашей жизни
Повествование
Псалом
Тайны мадридского двора
Сильнодействующее средство
Пьеса в 1-м действии
Воспоминание…
Площадь на колесах
Дневник гениального гражданина Полосухина
Повесили его или нет?
Москва 20-х годов
Рассказ Макара Девушкина
Охотники за черепами
Приключения покойника
Заседание в присутствии члена
Как школа провалилась в преисподнюю
Транспортный рассказ Макара Девушкина
Как истребляя пьянство,
председатель транспортников истребил
Плачевная история
Три копейки
Египетская мумия
Рассказ члена профсоюза
Игра природы
Рассказ про Поджилкина и крупу
Смуглявый матершинник
Обмен веществ
Записная книжка
Заколдованное место
Круглая печать
Они хочуть свою образованность показать…
Мадмазель Жанна
О пользе алкоголизма
Смычкой по черепу
Двуликий Чемс
Работа достигает 30 градусов
По поводу битья жен
«Вода жизни»
Чемпион мира
Фантазия в прозе
Пьяный паровоз
Воспаление мозгов
Три вида свинства
Английские булавки
ДЬЯВОЛИАДА
Повесть о том,
как близнецы погубили делопроизводителя
I
Происшествие 20-го числа
II
Продукты производства
III
Лысый появился
IV
Параграф первый — Коротков вылетел
V
Дьявольский фокус
VI
Первая ночь
VII
Орган и кот
VIII
Вторая ночь
IX
Машинная жуть
X
Страшный Дыркин
XI
Парфорсное кино[43] и бездна
РОКОВЫЕ ЯЙЦА
Повесть
Глава I
Куррикулюм витэ профессора Персикова[44]
Глава II
Цветной завиток
Глава III
Персиков поймал
Глава IV
Попадья Дроздова
Глава V
Куриная история
Глава VI
Москва в июне 1928 года
Глава VII
Рокк
Глава VIII
История в совхозе
Глава IX
Живая каша
Глава X
Катастрофа
Глава XI
Бой и смерть
Глава XII
Морозный бог на машине
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
Чудовищная история
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Эпилог
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Пьеса в трех актах
АКТ ПЕРВЫЙ
АКТ ВТОРОЙ
АКТ ТРЕТИЙ
ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА
(Театральный роман)
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Начало приключений
Глава 2
Приступ неврастении
Глава 3
Мое самоубийство
Глава 4
При шпаге я
Глава 5
Необыкновенные события
Глава 6
Катастрофа
Глава 7
Глава 8
Золотой конь
Глава 9
Началось
Глава 10
Сцены в предбаннике
Глава 11
Я знакомлюсь с театром
Глава 12
Сивцев Вражек
Глава 13
Я познаю истину
Глава 14
Таинственные чудотворцы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 15
Глава 16
Удачная женитьба
ИЗ ЖИЗНИ МАСТЕРА
Письмо Сталину
Е. А. Земская
Из семейного архива
Владимир Лакшин
Елена Сергеевна рассказывает…
Константин Паустовский
Булгаков
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Самое яркое событие
в литературной жизни
России 2000 года!
INFO
*** Примечания ***