
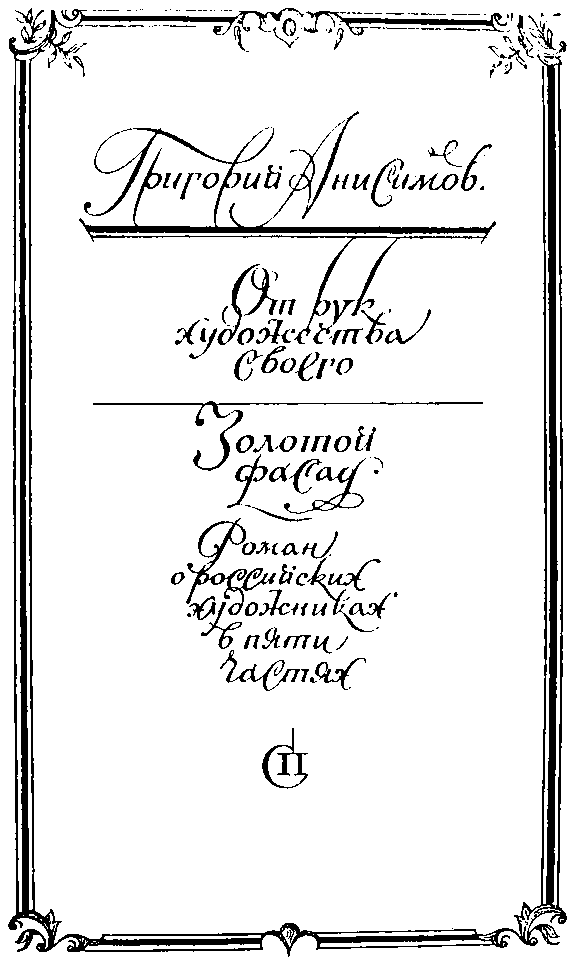


Часть первая
Возвращение

Всё, всё изменилось

Жил-был в прежни времена
Живописец беспримерный…
Пушкин
Посвящаю Юрию Домбровскому
Глава первая
Град святого Петра


ыбилась на палубах башмачная деревянная дробь:
— Все наверх! Канаты очищай!
Убирали и ставили паруса. Словно обращенный в птицу, легко и быстро скользил по воде русский фрегат.
Прошли Толбухин маяк. Матросы набирали воду и втаскивали ее наверх в коротких, узких ведерках. Вахта орудовала пеньковыми швабрами.
Вскоре показался уже и Кронштадт. Ободрились люди: слава богу, доплыли! Ободрился даже фрегат: хотя и морская посудина, все же и ей в порту дом…
Легли в дрейф и взяли на борт лоцмана. Медленно и осторожно вошли в устье Невы.
— Ей, на русленях! Сказывай глубину!
— Восемь сажен!
— Брось лот еще раз!
— Подвахтенные, на низ!
— Пять сажен по лоту! Пять сажен!
— Готовь якоря!
Фрегат из Ревеля прибыл в Троицкий порт Санкт-Петербурга. Вот это, наверное, и называется приехать наконец домой.
«Возвращение блудного сына в отчий дом», — подумал Андрей.
…Да, домой, домой!
На троицкой пристани остро и свежо пахло обжитой землей. Соскочив с причала, Андрей Матвеев огляделся и обмер. Еще и свет едва забрезжил, а столица — град святого Петра — уже проснулась. Дымятся трубы, возы тянутся по мостовой. Двери складов и амбаров растворены настежь, а возле них что-то перетаскивают, отвешивают, привозят, увозят, грузят на возы и на тележки.
Раньше в это время улицы стояли тихие, безлюдные, глухие. Все окна были намертво забиты ставнями и железными болтами. Как сундуки в купецких домах.
Не отрываясь смотрел сейчас на все это Андрей. Тогда, в первый раз, когда попал сюда из новгородской глуши, он был робкий ученик. Теперь мастер голландской выучки, повидавший немало, а смотрел на все с нескрываемым удивлением. Ну, значит, действительно он приехал. Вернулся в родные края, домой. Все ему здесь было знакомо и в то же время как бы не совсем свое.
Откуда же оно взялось, как выстроилось? Как будто со дна моря поднялось и встало само собой… Как будто не великий царь Петр-антихрист, насильно бривший бороды, согнал сюда тысячи плотников, каменщиков, а воля и судьба или сам господь бог создал этот град из камня и воды, с мостами и каналами, с причалами и кораблями, с хриплыми криками простых деревенских мужиков и черепичными крышами, с частоколом высоких мачт, пестрых от английских, голландских, шведских, германских, французских флагов.
Город всплывает из тумана, все растет, растет, растет. Он будто на якоре стоит, как тяжело нагруженный корабль. Матросы разгружают корабль, он легчает, подымается, делается выше, выше — и вот уже весь целиком и явственно прочертился он меж небом и водой.
Когда Андрей уезжал, город тянулся всего версты на две, а ныне и конца ему не видно! Вон куда вымахнул! А по ту сторону Невы проступают неясные очертания храмов и дворцов, подернутые утренним сизым туманом.
Ошалело смотрел Андрей на парадиз. Парадиз — рай — так называл его император всея Руси. Может быть, может быть… Да только рай этот какой-то неприютный, сырой, холодный. «Дивиться-то им можно, а вот жить в нем как? Я-то как буду здесь?» — с опаской подумал Андрей. Глянул он вдаль, и показалось ему, что линия горизонта чуть-чуть качается. От долгого плавания это или со страху?
— Нет, врешь, — сказал Андрей вроде и не себе, а кому-то стоящему рядом и чужому. — Ничего я не раскис. Запугивает, стерва! А я — ничего… Я не боюсь! И ты меня не запугивай. Вот так-то — не запугивай!
Он приложил палец к шляпе на манер голландских рыбаков, а потом по-русски поклонился на все четыре стороны — туманному небу, темной воде, серому камню и черной родной земле.
— Ну, здравствуй! Принимай меня, родная сторона!
Андрей взял свои баулы, связку картин, вышел на плац, кликнул извозчика. «Поеду к Адмиралтейству перво-наперво, посмотрю там, что к чему, кто жив и кто помер, знакомых поищу… А потом прямо к светлейшему князю Александру Данилычу нагряну, к Меншикову, пусть на службу определит». Решил и поехал.
Ехали по непролазной грязи. Камень, доски и ровные дороги были только у пристани, а тут повозка опасно кренилась, лошадь еле-еле вытаскивала ноги, храпела и недовольно фыркала. Кнут щелкал, извозчик негромко ругался. Боже мой, это и была Россия! И Андрей был доволен. Он будто очутился за кулисами, по ту сторону декораций, но ее-то, сторону эту, он знал хорошо и поэтому сразу успокоился. Тут ему было привычней, все как прежде. Даже эта глубокая, вдавленная в грязь колея. Но скоро они въехали на мостовую, и колеса весело застучали по деревянным торцам.
— Ну-ка, братец, постой, останови! — попросил Андрей. — Это чей же дом? — спрашивал он, разглядывая массивное фигурное сооружение.
— Вон энтот? Это — князя Кантемира, а тот — князя Голицына.
— A-а, знаю!
Он вынул кошелек и расплатился. Пошел пешком.
Шел и спрашивал:
— А это чей дом?
— Царского интенданта Мошкова, — отвечали ему. — А ты што, приезжий? — спрашивали
к у Андрея, разглядывая его новомодный шелковый камзол и тупоносые башмаки с серебряными пряжками.
— Да нет! Тутошний! Не был давно…
— Вона што-о…
— А там кто живет?
— Там — вице-адмирал Вильмор. И тот вон тоже вице-адмиральский, его превосходительства господина Шильтинга.
— Ну и вице-адмиралов поразвелось тут, — подивился Андрей.
— А как же! — ответил прохожий и добавил важно: — Флотоводцы!
Подул нежный морской ветерок. Туман рассеялся. И проклюнулось совсем уже ясное санкт-петербургское утро. День обещал быть солнечным, хотя и холодным.
* * *
Над санкт-петербургскими крышами, над домишками и домами кружил легкий дымок. А над одним каменным строеньем он стоял черным столбом. Это Академия наук российских. «Вовсю жарят, — подумал Андрей весело, — чтоб ученые мужи не замерзли. У них мозги слабые под париками! Таких я вдоволь понавидался!»
В прошлые времена люди говаривали: человек начинается с дела, а год — с каждого нового дня. Так оно, видать, и есть. Зазвонили колокола. Первый звон — пропадай сон! Второй — чертям разгон! А третий звон — из дома вон! И в этот же первый день своего приезда Андрей понял: Санкт-Петербург не один, а несколько их — и деревянных, и каменных. А самый первейший, самый черный уже в четыре утра на ногах. Встанет, лоб перекрестит, лицо ополоснет, прожует наскоро что бог послал — пошел руки мозолить: стучать, греметь, пилить, колотить, таскать носилки, тачки гонять. Зажглись свечи в трактирах и австериях. Заметались лоточники. Запахло жареным и пареным. Пристань, к которой причалил Андрей, — Троицкая — была главной в городе, хотя и далеко ей до амстердамской, но все-таки, все-таки!
Так на ней уже с утра содом — купцы, приказчики, фонарщики, матросы, грузчики, шкипера с трубочками в зубах. Носятся, табунятся. Им бы поутру самое время пропустить шкалик, да кабаки-то еще закрыты.
Это уже потом Андрей узнал, что питейных заведений тут около сотни завелось. Так что и работному человеку утеха, и казне свежая денежка.
Разносчики таскают корзинки и подносы с пирожками из требухи. «А вот с пылу, с жару! Вечор резали — сегодня продаем!» И когда же это они только успели напечь, злодеи?
— Хватай, налетай, с мясом!
— Эй, мальчик! — позвал Андрей.
Обжигая губы, сидит он и жует пирожки с луком. Поел, встал и пошел дальше. Даже запеть ему хотелось, так обнадежился. «Ах, милое ты мое санкт-петербургское утро! Как же я этой минуты ждал…»
Когда-то, уже очень-очень давно, князь Меншиков, впервые попав в эти места, написал царю Петру: «Только то бедно, что здесь солнце зело высоко ходит». Да, капризен обычай у этих погод. В августе утра уже холодные, небо серое. От этого и сама река Нева сера, и дома, что по Неве, серы, ну, а что же про людей тогда говорить! Кажется, что даже звон колокольный распадается в вышине на серые куски.
Вдруг послышалась бодрая барабанная дробь, мимо Андрея промаршировала бомбардирская рота: кафтаны красные с обшлагами, камзол и штаны красные, пуговицы медные, чулки полосатые — синее с белым, кожаная шапка с тремя медными гренадами. А рожи у бомбардиров тоже медные, сытые, веселые. И ноги крепкие, солдатские. Такие сто верст протопают — хоть бы что!
На углу газету «Санкт-петербургские ведомости» продают. Ни дать ни взять Европа!
Андрей еще там, на чужбине, слышал, что в прошлом годе лейб-медик Блументрост открыл первое заседанье в Академии наук. Прорвалась, значит, запруда! Полным ходом пошло на Русь просвещенье.
Вдоль улиц фонарные столбы, штука для столицы новая. Почти шесть сотен фонарей поставлено, да каждый по двадцати шести рублев! Шутка ли! Конопляного масла за час восемьдесят золотников сжигает один фонарь, не напасешься! Известно, фонарь не солнце, но непроглядная тьма кончилась — ночных грабежей на столичных улицах вроде поменьше стало. А светло, так и весело!
— Ррраз-два, раз… Взяли!
Грузят мужики лес, тащат мешки с зерном, катят бочки. Подошел — узнал Андрей: это купеческий фрегат под русским торговым флагом идет в Голландию. «Добрый путь! А меня там уже нету!»
Стояла осень 1727 года. На душе у Андрея Матвеева тихо и радостно, так радостно, как редко бывало на чужбине.
* * *
А пробыл он там долгих одиннадцать лет. Был об том указ Петра от 2 марта 1716 года Конону Зотову, чтоб собрать двадцать человек и отправить за границу научаться всяким художествам. Сие и было исполнено. В Голландии вместе с Андреем учились Иван Устинов, Иван Коробов, Михаил Башмаков, Иван Мордвинов — все одногодки. Изучали гражданскую и военную архитектуру, также учились делать шлюзы, сады заводить, и как под фундаменты сваи бьют, и пушкарское дело штудировали, и штукатурное, и ваяльное художество, и живописное, и персонное. Поначалу судьба русских учеников-пенсионеров в Голландии была плачевна, они не знали ни слова по-голландски, потом амстердамский агент Петра фан ден Бург взял им учителя, и они понемногу вразумились, стали говорить вначале только самое необходимое, а потом свободно уже лопотали. Матвеев обучался живописному мастерству у знатных мастеров сих дел. Больше всех полюбил Боонена. И вот посмотрел тот на последние работы Андрея, обнял его, похлопал по спине дружески и сказал: «А теперь пора тебе плыть домой! Больше я ничего дать тебе не смогу!» Было это в 1727 году весной. А после и приказ из России пришел — не мешкая возвращаться!
Ровно за два года до сего закрылись навеки глаза императора, дерзкого смутьяна против старорусских боярских нравов. Горько, искренне оплакивала его венценосная супруга. Был он, Петр Алексеевич, ей мужем, хотя и страшным, неверным, горячим, но второго такого никогда не будет! Умер он — и все как бы сразу замерло. Оцепенело. Прекратился шум и гул бешеных строек на невских болотах. И стало на Руси тихо и страшновато. Год выдался крутой — неурожай, голод. И, спасаясь от великих тягот, потянулись мужики с семьями в Польшу. Будто там лучше…
А бывшие царевы любимцы сидели по домам. Иные тряслись — с ними-то что теперь будет? Иные шевелили мозгами — как к власти пробраться. Пришла на всех нас погибель! А юродивые на всех углах шептали: «Погибель ныне и всему государству, и нам всем тож!»
Но в столице Петровой все шло своим чередом. Только кнуты еще шибче засвистели. Да разве ими поправишь дела!
…Жесток, гневлив был царь, но блага искал не для себя — державе. Это Андрей Матвеев знал твердо. И еще знал он, что ему царь усопший был первым благодетелем. Это он нарек Андрея царским пенсионером, послал учиться на живописного мастера, открыл глаза. За это Андрей по гроб жизни ему будет благодарен. А многие покойного Петра злым и недобрым словом поминали с намерением очернить все его дела — и за то, что благочестие искоренил, и что немецкое платье заставил носить, и что колдовские календари печатал, и что велел парики с хвостами носить, и что завел обычай табак курить. А это, мол, только у одних бесов дым из уст валит! Одним словом, нехорош был прежний государь…
Уж что-что, а шипеть и поганить любого на святой Руси хорошо могут, не зря же сказано: у бога выслужишь, а у людей — никогда! Сколь добра ни сделай, сам же в дураках и останешься!
Даже священного сана служители бога благодарят: призвал наконец господь к себе хулителя и насмешника над православной верой. Среди вельмож и боярства тоже многие рады.
Только черный народ молчит — ему при всех царях и правителях одинаково живется…
А гвардия российская царя добром поминает, она была верна живому, верна и мертвому, ей хорошие деньги без задержки платили. Поэтому гвардия без раздумий поддержала походную супругу Петра и помогла возвести ее на трон, присягала ей. По кончине Петра гвардейцы воскликнули: «Отца нашего Петра Алексеевича не стало. Но здравствует мать наша Екатерина Алексеевна. Она-де будет нам душою! Ура! Ура! Ура! Владей нами, матушка».
В Летнем саду на берегу Невы, у самой Лебяжьей канавки, заколотили крест-накрест царскую мыльню, а любимые собаки Петра Тиран и Лизетта сдохли с тоски.
…Все, все изменилось кругом, вооружилась молва против памяти Петра, а новообращенная держава крепко стояла. «Могущество русских наполовину прибавилось со смерти Петра», — доносил посланник Франции при российском дворе маркиз де Шуазель.
И стала на короткое время государить императрица Екатерина Первая. Царить, да не править. Правил князь Меншиков. Все отдала ему царица, все доверила. Нахватал светлейший денег, чинов и стал самым ненавистным человеком на Руси. К приезду Андрея Матвеева в Россию все были против Меншикова, а он один, как дуб, против всех стоял. Более всего он об одном пекся: быть выше и славнее всех на Руси!
И потому на легкие казенные деньги давались при дворе балы приспешникам правителя, министрам и чужеземным послам. Пиршества не прекращались. Екатерина болела, то почти умирала, то снова выздоравливала. Настроение у нее всегда было преотличное. Спать она ложилась по обыкновению в четыре-пять утра, и любимец ее обер-камергер Левенвольде, красавец и гуляка, не расставался с нею ни днем, ни ночью.
Один иностранный дипломат доносил: «Рискую прослыть за лгуна, когда описываю образ жизни русского двора: он целую ночь проводит в ужасном пьянстве». И то была правда. А Екатерина в указе своем жаловалась: «Наш любезнейший супруг и государь так трудился для установления доброго порядку, однако того не учинено».
Меншиков, столько лет пробыв рядом с Петром, в государственных делах тоже толк понимал. Были отданы указы о наведении порядка в сборе подушной подати, о сухопутной армии и флоте с целью устроить их с наименьшею тягостию для народа и об улучшении внутренних дел государства. Духовенству запретили носить мирскую одежду.
* * *
В это время Андрей Матвеев далек был от всего этого, а потому и не тревожился. Жил он в чужом голландском краю, постигал свою науку живописную. Не знал он, разумеется, и того, что в прошлом годе, 3 декабря 726-го, в день святой Екатерины, императрица выезжала в церковь. Ее сопровождали кавалергарды. Жаль, что не довелось видеть сего живописцу, как они следовали верхами за каретой, а впереди величаво выступал отряд гренадеров. Мундиры у них были как у королевских мушкетеров — такой же камзол без рукавов и такой же мушкет. Вечером же при дворе были иллюминация и фейерверк на льду перед окнами царского дворца.
А через месяц Екатерина присутствовала на крещенском водосвятии. Она все еще была хороша собой, хотя и сильно похудела, но у нее еще нежный рот с сочными губами, волосы блестят, взгляд горячий, зрачки, как темные свежие вишни, отливают блеском. Одета была в амазонку из серебряной ткани и юбку, обшитую золотым испанским кружевом, на шляпе развевалось белое страуфанье перо, в руке она держала царственный жезл. Только мало кто разглядел тогда в самой глубине глаз Екатерины тревогу и тоску смертную. Она чувствовала — дело идет к концу. Двадцать тысяч войска дали троекратный залп. После этого императрица уселась в карету и проследовала во дворец в сопровождении Преображенского и Семеновского полков.
В апреле 1727 года Екатерина при дворе не появлялась, и в день ее тезоименитства уже не пировали и не раздавали орденов. Только графам Левенвольде и Сапеге, сердечным избранникам и любимцам, дарованы были портреты императрицы, осыпанные бриллиантами. Вот тогда-то при дворе и заговорили о престолонаследии. А вскоре последовало и само завещание: «Великий князь Петр Алексеевич, внук покойного императора, супруга моего, наследует мне и будет царствовать с тою же неограниченною верховною и самодержавною властью, с какою я царствовала и управляла Российской империей. А ему наследует законное дитя его».
* * *
Недолго процарствовала Екатерина Первая. Умерла она неизвестно отчего, но для всех неожиданно: то ли подтравили ее, то ли вконец изнурили любовные забавы и беспробудное пьянство. А только 16 мая 1727 года она опочила в бозе, пережив своего мужа на два года, три месяца и восемь дней.
Тут-то, думали, и Меншикову конец. Но он остался. Иностранцы пошучивали, что у русских на этот счет есть справедливое присловье: «Обживешься, попривыкнешь — так и в аду ничего!» Так что им любой повелитель годится, каков бы он ни был. Обжились они!
Васильевский остров переименовали в Преображенский. Там квартировал государь-отрок Петр Второй. Его Меншиков поселил у себя. Стал ему дядькой.
Александр Данилыч, говорили, был недавно опасно болен, даже составил завещанье. Он просил в нем прощенья у всех, кого неправо обидел, а юному государю советовал беречь здоровье свое и в забавах, до которых тот был большой охотник, держаться умеренности и осторожности.
А над Русью стоял вопль, толпы нищих бродили и пели лазаря по всем дорогам, умножились такие, что не могли пропитать себя. Народ роптал, а самые бедовые брались за топоры. Молодцы, для которых чужая душа не стоит и гроша, да и своя шея в копейку, ходили из края в край и добирались аж до самого Петербурга. Местный гарнизон едва справлялся с ними.
И этого Матвеев не знал, а посему, как только весть о кончине Екатерины достигла Голландии, он, живописный ученик и бывший пенсионер, стал собираться домой. Хватит!
Почил император, почила и его державная супруга. Ну, и его ученью, стало быть, наступил конец…
Екатерина то ли по старой памяти, то ли по душевному своему расположению следила за успехами голландского пенсионера, и он, Матвеев, письменно припадал к ногам ее величества: «По именному вашего Царского Пресветлого величества указу оставлен я всенижайший раб ваш в галандии в городе Амстердаме и вручен в каманду господина агента фан ден Бурга ради научения живописного художества к которому имею прилежание великое дабы мне убогому рабу вашего величества верным слугою до скончания быть за вашу царскую милость и за спроприятство». А как только ее не стало, Андрей сел на корабль в Ревеле и через две недели прибыл в Санкт-Петербург.
С собой бывший пенсионер привез свидетельства и реляции. Первое было от фан ден Бурга:
«Мы, агент Его Императорского Величества Всероссийского в аустрийских Нидерландах фан ден Бург и прочая, засвидетельствую сим, что имел дирекцию смотреть на поступки и проживание господина Матвеева, российской нации, который послан по указу Ея Императорского Величества Екатерины I в Голландию для научения у славных мастеров живописному и персонному художеству. Господин Матвеев пребывал у Арнольда Боонена, Кареля Моора, Якоба де Витта и Класса ван Схора. В учении он молодец изрядный.
Науку господин Матвеев продолжал здесь похвально и достойно, не понуждаемый, а по доброй своей охоте.
За многое время моей дирекции он избежал всякого нарекания и знатно преуспел в деле живописном, получив серебряну медаль в Антверпенской академии художеств. И сие подтверждается мною и моей обыкновенной печатью.
В Амстердаме Иуня 14 дня 727 года. Агент фан ден Бург. Отослано в самой скорости».
Не полагаясь на одно лишь свое свидетельство, хитроумный фан ден Бург, необъяснимо великодушный к Андрею, приложил еще и реляцию: «Андрей Матвеев прислан от Ея Императорского Величества, блаженной памяти Императрицы Екатерины, в 716 году, учился живописному художеству в Амстердаме, в Брабандии, також в Антверпене, и его мастерства во всякий год пробы в Петербурх посылал и с собою он, Матвеев, привез. Науке живописной вышеозначенный Матвеев весьма довольно научился, искусен стал отменно, а ныне по приказу с другими обучавшимися возвращается, и уповаю, что он Вашему Императорскому величеству угодные услуги показать может. Агент фан ден Бург в Амстердаме».
Было у Андрея и еще одно свидетельство, пожалуй, самое для него дорогое — от любимого им мастера. При Андрее оно писалось, ему было прочитано, с ним обсуждено, и, видит бог, это было истинное ему благословенье.
«Свидетельство господину Андрею Матвееву, данное мною, персонных и живописных дел мастером Бооненом, в Амстердаме 13 мая 727 года. Я, нижеподписавшийся, живописец, персонных дел мастер, свидетельствую сим, коим образом Андрей Матвеев два года под моею дирекциею был по приказу господина фан ден Бурга, агента и коммерции советника Его Императорского Величества Великороссийского, для науки живописного художества и персонного дела со всем к тому принадлежательством, и как он помянутое время препроводил со всякими рачением и прилежанием, в чем каждый может о нем сказать как о поведении его добром, так и о художестве его, и ныне он так преуспел, что в своем деле разумеет совершенно и в состоянии управить любой персонный заказ и также наитруднейший жанр историчный.
Во уверение подписал я сие в Амстердаме 13 дня мая 1727 года Арнольд Боонен, персонных и живописных дел мастер, о чем имеется печать городского магистрата».
Все это держал Андрей в кармане, у самого сердца.
И вот теперь он ходит по городу, глядит и все не может наглядеться. Такого он и вообразить себе не мог. Улицы, мосты, строенья, каналы, вывески. «Трактирный дом Петра Милле», а сверху намалевано несколько круглых румяных рож — пьют, жуют, хохочут. И под этим надпись: «Продажа всяких питий и табаку». Иноземцы и купеческие люди тут завсегдатаи. Сам царь, что завел эти трактиры и австерии, тоже любил зайти сюда и пропустить на скорую руку добрую рюмку анисовой водки и заесть ее тут же кренделем.
* * *
Да! Разительно переменился город за одиннадцать лет. Застроилась вся набережная линия — от Почтового двора до самой Адмиралтейской крепости. Царь хотел превратить свой парадиз в Венецию или в Амстердам. И его неукротимая воля почти справилась с этим. Еще юношей видел Андрей, как сгоняли сюда мужиков и расселяли их где попало — кого в мазанки, кого в казармы, сколоченные на живую нитку. Десятки тысяч молодых и немолодых мужиков, пропахших потом, дымом, нуждой, строили, голодали, болели, умирали.
После об этом городе напишут так: «Богатырь его построил. Топь костями забутил».
Народу всякого теснилось несметное количество. По улицам текли шумные рои. Каждого из прибывших прозывали на свой лад. Если рязанец, то он синебрюхий, если ярославец — так белотелец, вяземских звали сдобными, а чухломских рукосуями. Отличались рукосуи от синебрюхих не только прозваньем, но и уменьем. Каждый знал свое. Каменщиков и кирпичников поэтому набирали в Суздале, плотников — в Галиче, землекопов — в Белоруссии. Все они жили впроголодь, вставали затемно, взывали к богу и тут же начинали костерить поматерну этот кромешный ад, выплывший из речных волн и болот. Может, и верно, от костей и крови их и стоит город, как скала, не чуя под собой зыбкой основы. На крови он поставлен мужицкой и ею укреплен нерушимо.
А мужики еще и шутили: «Как ни бьемся, а к вечеру напьемся!» А что еще им оставалось?
— Эх, и сладок мед с калачом! — вздыхал кто-то из мужиков.
— А ты-то сам едал ли? — спрашивал другой.
— Я не едал, а летось брат на Москве бывал, так там боярин едал — говорит, что сладок!
— Ну и поцелуй того боярину в задницу, а душу не трави!
Петр завел повсюду хлебные магазины с предписанием иметь в них запас не менее как на два года — ржи, муки, круп, овса, сухарей, толокна и солоду. Теперь они давно пустовали. И, попискивая, сновали там отощавшие, озадаченные мыши. Вот что наделал проклятый голод.
С утра чернь набивалась в харчевни, где задешево можно было получить сбитень, щи, калачи и квас, грешневики и уху.
Страна голодала, а столица ела и строилась.
Появились в ней заводы, один изготовлял черепицу, другой — на Выборгской стороне — водку. Бойко работали компанейский пивоваренный и сахарный заводы, игольная фабрика, мануфактуры. Шла оживленная торговля с иностранными державами. Царь Петр это дело понимал тонко и хитро. Он говорил: «Ее, иноземную торговлю, надобно уподоблять молодой девке. Ту ни пугать, ни печалить не должно, только ласкать и одаривать — вот и будет она твоя». Но половина того, что зарабатывалось, тут же и уплывала в чужие кошели и карманы.
При Петре-то еще дрожали за свою шкуру, там и голову потерять было недолго. Он со всех взыскивал. А после него лихоимства разрослись до пределов, даже на Руси невиданных. О казенных делах мало думали. Зато о себе никто не забывал. Особливо много было охотников вельможных до кушаньев и напитков. Обжирались, опивались на балах, на праздниках, выписывали иноземных кулинаров, любили удивить и поразить. К примеру, научились откармливать свиней грецкими орехами и винными ягодами. От этого свиная печень набухала до неимоверных размеров. Пред тем, как зарезать хряка, его допьяна поили лучшим венгерским вином. Потом искусные графские и княжеские повара рубили свинью надвое — половину варили, другую жарили в толстом слое теста, замешенного на вине и масле. Такая свинья еще у римлян называлась «троянский конь». Скакать на оном коне было уютно, сытно, мягко, потому что грех в мех, а сам вверх.
А подлых людей, что толпились внизу, с троянского коня не разглядеть было. Все они ма-аленькие и черненькие…
С большим толком готовили еды к придворным балам. И чего там только не было! Коли у тебя три горла, и то не уберешь. И филейку по-султански, и говяжьи глаза в соусе, и гуся в обуви, и телячьи уши крошеные, и нёбную часть в золе, и язык под сметаной, и турухтаны жареные. А пили там еще больше. Приказная анисовая хорошо запивалась аликантом, из вин славились ренское, эрмитаж, церковное красное, греческая сладкая романея. Только от ед и от обильных питий быстро уставали и жестоко болели. Умучивались и до смерти. Бывало, сам не изведешься, так лекарь уморит. А если тебе любые сокрушенья — тьфу! — так кути от души: кому карты и охоты, кому танцы и любовь. Томись — больше разу не умрешь! Ну, а кому ни такие жратвы, ни забавы и не снились, тем и так было хорошо. Им телячьих ушей крошеных не подавали, так нужно было своими ушами стричь.
И одно утешенье оставалось: от суда господнего никто еще не убежал, его даже на троянском коне не обскачешь. Не бог весть какое утешеньице, не бог весть, а скажешь вслух, так вроде и полегчает…
Русские историки с понятной гордостью отмечали, что вблизи старой Западной Европы вдруг появилась новая Европа — Восточная. Скрепилась и скипелась связь России с европейским просвещеньем.
Когда известия о смерти Петра дошли и доплыли до всех иноземных держав, то государственные умы там решили: ну, теперь в России все снова пойдет по-старому, по-варварски. Вот тогда им и было объявлено: повеленье русского императора об открытии в столичном граде святого Петра Академии де сиянс, а по-русски — Академии наук, близко к завершенью. Именитым ученым, получившим ранее императорское приглашенье, было оно повторено от имени венценосной супруги Петра Великого. Все понимали: высшее ученое заведение в России — порука начатого умственного общения с Европой. Так что все идет своим путем, не пугайтесь и не радуйтесь, господа. Старому не бывать!
За всем, с чем довелось столкнуться Андрею Матвееву, за всем, что понял в России своим умом и ухватил приметчивым глазом или о чем слыхал от других, — за всем этим стоял Петр Великий. И облик его засел в душе Андрея Матвеева прочно, навсегда.
В последний раз Андрей видел государя в Амстердаме. Был тогда Петр в простом суконном кафтане и в рубашке без манжет. На голове круглый парик без пудры, на широком поясе сабля. Вот и все. Но эта крупная голова со смуглым худощавым лицом, этот острый взгляд черных выпуклых глаз, эти жесткие усы, резко очерченный, энергичный подбородок, эти глубокие, бороздящие складки у рта и носа создавали впечатление чего-то могучего, грозного, непреклонного и ужасного. За ними виделись привычка повелевать, гневливость и необузданность порывов и поистине дьявольская напряженность души. Вот именно это и запечатлел уже и хотел запечатлеть в будущем на своих портретах государя живописных дел мастер Андрей Матвеев.
Он вспоминал неправильные, порывистые движения царя, выдававшие стремительность характера и силу страстей в добре и в зле — все равно в чем. Этот человек всегда и везде чувствовал себя хозяином. Вспоминал мастер и то, какой неприязненный холодок охватывал всех присутствующих, когда лицо Петра подергивалось конвульсией. Да, люди с таким лицом деятельны и безжалостны. И в то же время Матвеев вспоминал почти детскую любознательность государя и то, как изумляла голландцев его жажда понять, схватить и унести с собой все, что имело полезную для России цель, — мореплавание, ремесла, устройство торговли, художества. Все, все унести! Науки о земле и звездах, военные и торговые суда, картины, монстры, курьезы — все это возбуждало ненасытное, жадное любопытство царя.
И еще раз видел Матвеев Петра — в темно-зеленом кафтане с небольшими красными отворотами. На нем были черная кожаная портупея, пехотная шпага, зеленые чулки и старые, изношенные башмаки. Петр стоял прямо, держа под мышкой палку, и разглядывал сверкающий на воде, пришвартованный к берегу ботик. Выглядел он тогда совсем молодым.
А голландцы устроили представленье, старались вовсю блеснуть перед русским царем своей морской выучкой: нарядный фрегат, шесть галер и два швербота совершали на воде различные эволюции — сходились в лоб, выворачивали почти под прямым углом.
И теперь, в Петербурге, Андрею, голландскому выученику, показали портрет Петра на смертном одре.
— Чьей кисти полотно? — спросил взволнованный Матвеев.
Так Петра никто еще не писал.
— Ивана Никитина, персонных дел мастера, — ответили ему.
Это не был подслащенный лик привычно обожествленного тирана. Глядя на полуфигуру и ушедшее в подушки желто-белое лицо, Андрей не мог отделаться от мысли, что перед ним не труп, а мирно спящий человек. Теплый, сложно написанный красный фон оживлял лицо. На Петре была белая сорочка с расстегнутым воротом. И это было живое, только безмолвное. На груди императора желтое покрывало, поверх которого наброшена была голубая мантия с горностаем. Мягкие, желтые, охристые, нежно-голубые тона тоже заключали в себе нечто живое, трепещущее, а густо-черные, зелень, едва уловимый багрянец и открытые зловещие удары красного, густые, как трубный глас, говорили о смерти, о потустороннем. Об успении, а не о сне. О, как мастерски брал Иван Никитин этот красный цвет!
Он владел цветом густой живой крови так же совершенно, как Тициан и Веронезе. Андрей знал, что красный цвет — это не просто красный, он еще и брусничный, и багровый, и малиновый, и вишневый, и таусиный, и алый, и матовый, и червленый. И еще знал Андрей, как необыкновенно трудно взять красный рядом с черным и с белым. А Никитин брал их легко, свободно, сильно. Он владел искусством гармонии, когда все тона, переходы, оттенки и переливы составляют одно целое. Только большой мастер мог так чистокровно соединить. Даже губы он тронул красным. И казалось, что они живут, движутся, дрожат и подергиваются в невысказанной обиде.
И желтый цвет у Никитина тоже заиграл и ожил. Он был то легким соломенным, то светлым осиновым, то мягким песочным, переходящим в светло-лимонный и светлолазоревый. На этих цветовых сочетаниях и контрастах и был построен весь портрет. Андрей видел перед собой лик исполина. Это было даже больше, чем портрет. Целую Россию, эпоху Петра, написал Иван Никитин, как он ее себе представлял. Живописец создал тот идеальный, а потому и недостижимый образ, которого Петр хотел достигнуть при жизни.
Хотел и не смог…
Многое мог бы увидеть, и понять, и соединить в Петре Матвеев, если бы он жил на столетье позже. Вся Европа, а особливо союзные державы, чтили русского императора. Удостоили его почетным титлом Великий. Это был царь-герой, преобразователь. Работал и матерился, как матрос. Курил голландскую трубочку. Держал корректуры. Редактировал русскую газету, устанавливал новый алфавит, пил, горланил, разбил Карла под Полтавой. Его возненавидел собственный сын, и царь за это, суля ему свободу и обманом заполучив, не то засек кнутом, не то просто приказал придушить в крепости. Отец с сыном так поступить бы не мог. А монарх смог. Кровавыми слезами плакал, но не отступил. А ведь как гордился во всеуслышание: «Господь бог дал мне сына, прошу всем, как генералам, офицерам, так и солдатам, о сем объявить и мой поклон отдать». Он работал плотником, кутил и развлекался, казнил и миловал, но больше казнил, чем миловал, бил провинившихся дубинкой, выписывал художников и покупал картины, собирал офорты Рембрандта, мало кем оцененные в то время, мог подправить чертежи архитекторов Леблона и Растрелли, награждал и тумаками. Недаром он верил и говорил: «Розга ум вострит и память возбуждает».
Прорубил окно в Европу и оставил Россию одну у этого окна.
* * *
Странный в Петербурге август стоял в том году. Два дня назад парило. Андрей ходил смотреть, как у Литейного двора на Неве горела барка с маслом и овсом. И вдруг сразу настала ненастная осень. Похолодало, небо опустилось, посыпал дождь, подул резкий северный ветер, погнал волны с моря, они заливали окрестные луга — и все это было предвестником наводненья. Часы в городе отбивал колокол. Начало и конец работ возвещала пушка.
Князь Меншиков принял Матвеева ласково.
— Ну, отмучился в своих заграницах? Надоело небось?
— Вот так, — ответил Андрей, проводя ребром ладони по горлу. — Велите экзаменовать, Александр Данилович!
— Что же экзаменовать! Драгоценный государь наш на тебя большие надежды возлагал. Покажешь потом бумаги в канцелярии — и весь тебе экзамен. Возглавляй живописную команду в канцелярии от строений, я напишу Ульяну Синявину указ.
— Да ведь тут получше меня есть живописцы!
— Это кто ж бы такие из них будут?
— Никитин Иван, Вишняков Иван…
— К ним попривыкли, а ты человек новый, свежий. Жить-то ты где будешь? Как тебя искать?
— У Степана Антропова, кузнечного мастера с Адмиралтейского двора. Он отцов друг, приютил… Я на его дочери Орине женюсь!
— Ну, молодец! Добро! — И Меншиков поднялся, показывая, что аудиенция окончена.
Было в Меншикове подлинное изящество, не сановное, а исконно народное. Тогда же Андрей решил написать его портрет. Его удивила безмятежность Александра Даниловича, выразительность каждого жеста.
Глава вторая
Экзамен у Каравакка

огда на Неве показались первые льдины, Андрей Матвеев уже вполне обжился.
В Петербурге было много иноземных мастеров художества. Всем русским послам было предписано искать по всем странам и вербовать в Россию искусных живописцев. Петр лично следил за этим. В столице на Неве появились Иоганн Танауэр, учившийся в Венеции и затем копировавший Рубенса во Фландрии, Андриан Шхонебек — первоклассный гравер, швейцарец Георг Гзель — первый мастер цветов, рыб, орнаментов, иллюминированных изображений и всякой живности, за ними потянулись Бартоломео Тарсиа — мастер по росписи плафонов, отец и сын Растрелли — скульптор и архитектор. Первым среди всех иноземных мастеров считался француз Людовик Каравакк.
Он приехал в Россию еще совсем молодым и сразу вошел в моду. Петербург жаждал увидеть себя в портретах, да притом в натуральную величину. Ободренный щедрыми посулами, — а на них русские никогда не скупились, — из солнечного Марселя Каравакк двинулся в деревенеющую стынь. Он был наслышан о русском монархе и видел его самого в Париже, этот геркулес, рослый, черноглазый, плечистый, на широко расставленных ногах, покорил его с первого взгляда.
Россия представлялась иноземцу краем дремучих лесов, населенных разбойниками, волками и медведями.
Окунувшись же с головой в петербургский холодный сумрак, он понял, что не ошибся, только разбойники и волки ходят в париках и кафтанах. И еще понял, что тут без верткости и без особой подвижности ума никак не прожить. И тогда ему сделалось страшно, так страшно, что он увяз сразу всеми колесами, как дорожная карета в русской грязи.
Но он был душой француз. И решил — раз уже выбрал эту дорогу, то и идти по ней до конца. А русские дороги тем и хороши, что они помогают идущим и сочувствуют им, как могут.
И одолевают такие дороги не те, что бегут по ним, задыхаясь, лишь бы скорее дорваться до света и тепла, и не те, что в бессильной злобе садятся на обочину и проклинают эту окаянную землю. Русские дороги выносят на себе тех, кто идет до конца, сжав зубы, разбивая башмаки и стирая в кровь ноги. Уже и дорога расплывается, уже едва различима, она и туманится перед глазами, и ног давно не чувствуешь, но пока в тебе трепещет душа и чуешь запах надежды — иди да иди! И дойдешь до цели. А остановишься — пиши пропало. Одни кости от тебя останутся, вон их сколько втоптано во все распутья. Каравакк верил в себя как в великого мастера живописи. Знал, что не подведет рука. «Буду держаться, доколе терпенья хватит!» — решил марселец. Он работал часто по шестнадцати часов кряду. Взял себе за правило — ничему не удивляться. Научился брать с заказчиков немалые деньги. Он любил тех русских девок, что были сговорчивы и не слишком жеманились. Но женился он на испанке, необузданной и свирепой. Он с удовольствием писал портреты Петра: во весь рост, в кирасе поверх кафтана и в мантии, в андреевской ленте и со звездою в шарфе, с жезлом в руке. Старательно писал.
И Петру эти портреты нравились, он был ими очень доволен. Каравакк написал малолетнего цесаревича Петра Петровича и поднес портрет сей Меншикову. Живописец французский понял к тому времени великую силу взяток. У него были легкое сердце и легкая кисть.
Он писал царевен Анну и Елизавету Петровну вместе, на одной картине, в виде гениев с крылышками за плечами, с развевающимися на ветру драпировками.
Каравакк увидел две России. Одну — пропахшую потом и водкой. Огромную бесшабашную страну. Невероятное пространство под скупым северным солнцем, на котором пышнее всего растет трын-трава. Потому и говорят тут: «A-а, все трын-трава!»
И он узнал и увидел другую Россию: любая держава, думал он, могла бы гордиться такими храмами с летящими в небесах колокольнями, такими сказочными дворцами, нежно-прозрачными иконами, узорочьем шитья и деревянной грациозной резьбой.
Первую увиденную им Россию он едва стерпел, но зато вторую принял всей душой художника.
А потому и прижился в ней. Здесь все представлялось ему новым, невспаханным, необжитым, удивительным. Все одновременно влекло и отталкивало — и прежде всего Нева, ее мутные равнодушные волны, запахи смолы, пеньки и огромного водного пространства, подступающего к самому городу. Этот смутный морской дух помогал ему выстоять. Ведь недаром же он был марсельцем!
Каравакк работал не покладая рук. Он рисовал портреты, гербы, знамена, иллюминировал кареты, делал рисунки для стен, расписывал особняки и дворцы, обучал живописи. И печать долготерпения лежала на его южном лице.
В России, знал он, работают либо надрывая жилы, «на рывок», или же ни шатко и ни валко — постучат топором и молотком, помахают кистью да сядут. Перекур… Или водочки сообразят. И заведут длинные разговоры о житье-бытье, о том да о сем… Отсюда и мудрость родилась: работа ведь не волк, в лес не убежит. Но мастер Каравакк исполнял свое ремесло всегда добросовестно. Русские это ценили. Жалованья ему было положено по первому договору пятьсот рублев, а ныне, на десятом году житья в России, тысячу двести — деньги приличные!
Ему оказывались почести. Он сопровождал Петра и Екатерину в их военных походах. Бывал вхож к самым знатным особам. Его портреты были не весьма похожи на модели, но зато розовый цвет в лице, легкий, как пена, он брал так нежно, так воздушно,
как никто из мастеров в Петербурге. И это всем нравилось.
Жил он, придворный первый моляр Людовик Каравакк, на Васильевском острове, во Французской улице, в собственном каменном доме, дарованном ему императором.
Когда Каравакка нанимали, то писали ему ехать в Петербург на три года и работать в живописи на масле в службе царского величества. Нанимали для письма исторических картин, портретов, баталий, лесов и зверей, деревьев и цветов, а еще и для миниатюрной живописи. Вменили ему в обязанность непременную взять к себе из русского народа людей для научения во всем, что касается до живописного художества.
Нанимался-то он на три, а застрял в России на все десять лет, покуда добрался до вершин придворной лестницы. А оттуда и спихнуть могли в любой момент. Это тоже он знал и опасался, но пока его жаловали. Правда, после кончины Петра и он почувствовал холодок вокруг себя. Все больше и больше его начинали использовать как декоратора и ремесленного рисовальщика.
И теперь он все чаще стал подумывать о возвращении на родину. Он попросту устал: на смену молодому бодрому утру приходил трезвый день, а потом и холодные, серые сумерки, и в нем все больше терпкий, упругий мускус молодости превращался в уксус трудной старости.
И все чаще и чаще вспоминалась Каравакку милая сердцу земля Гасконии, теплая и родная. Был
он еще крепок телом, коренаст, и когда он обсуждал заказ или говорил о работе, в его карих глазах загоралось чувство торжествующей жизни — восторг. И по-русски он говорил почти свободно, не задумываясь и мало коверкая слова.
Иноземным художникам на Руси и платили всегда больше, чем своим, и служебное положение их было намного выше. А потому Андрей Матвеев, хотя Меншиков и говорил, что ничего-де не надо, что он напишет — и баста, — по заведенному Петром обычаю непременно должен был пройти экзамен у Каравакка. До этого они несколько раз виделись, но держались друг с другом холодно и отчужденно.
Андрей шел к Каравакку с немалым предубеждением: работы его Андрею не больно нравились, и розовый французский колорит мало трогал. Словом, он шел экзаменоваться к тому, в ком не чтил большого мастера. Притворяться Андрей не умел, но ругаться и ссориться с Кара-вакком тоже не входило в его намерения. Ему позарез нужно было получить от француза отзыв для повышения жалованья.
Было еще раннее утро. Ему сказали, что знатный моляр встает чуть свет и работает дотемна, а посетителей принимает спозаранку.
Тоскливо и монотонно лаяли собаки на дворах ремесленников. Первая заводила с привыванием, ей отвечала другая, третья. Потом они все сразу умолкали, и наступала звенящая тишина. У Андрея и так скверно было на душе, да еще этот сиротливый вой навязчиво оседал в ушах.
Когда он подошел к дому Каравакка под новой черепичной крышей, то увидел, что он весь залит светом.
Андрей негромко постучал.
Открыл слуга, согбенный старик, очевидно вывезенный мастером из Франции. Из-за его спины выглядывал сам Каравакк в рубахе с засученными рукавами и в переднике, перепачканном красками. В левой руке он держал сразу несколько кистей.
Он вгляделся в лицо пришедшего.
— Матвеев? Вот так сюрприз с утра! — крикнул он. — Ну, входи, входи, рад тебе!
Никак не ожидавший такого радушия Андрей немного растерялся.
— Проходи, проходи! — пригласил Каравакк широким жестом, пропуская Андрея вперед, а сзади за ними слуга задвинул тяжелый засов. Сюда, сюда, — Каравакк кистями показал дорогу, — прямо в мастерскую! Я спешно работаю, но получас уделить тебе могу.
В дверях мастерской Каравакк обогнал Андрея, быстро подошел к мольберту с укрепленным на нем недоконченным полотном и отвернул его к стене. Матвееву это понравилось.
«Как и я, не любит показывать незавершенное», — отметил Андрей.
— Портрет князя Черкасского, — пояснил Каравакк. — Несколько дней пишу без разгибу. Погоняют!
Матвеев понимающе кивнул.
Цену-то он себе знал, но чувствовал сейчас себя очень неловко. Работы на Андрея сразу же взвалили много, а платили гроши, приходилось залезать в долги, их накапливалось все больше и больше. Потому и пошел он одалживаться у Каравакка, знатного мастера, отзывом. Удостоверит, что Матвеев живописец немалой руки, тогда и о прибавке можно просить и, значит, из долгов вылезти. А не даст — беда! Придется ему искать другие пути.
То, что Каравакк встретил его непринужденно-доброжелательно, сразу успокоило Андрея. Он быстрым взглядом окинул мастерскую и вдруг задохнулся, остолбенел: в кресле кто-то сидел. И была в сидящем какая-то недостоверная, жуткая странность. По-видимому, это сидел сам князь Черкасский, которого писал Каравакк. На князе был нарядный бархатный кафтан с пристегнутым сзади воротника богатым ожерельем, пола кафтана была отвернута так, что виднелся песцовый подбой. На кафтане сверкали звезда и золотые позументы. Одна рука князя лежала на колене, другая — ее-то Андрей сразу и увидел — покоилась на подлокотнике кресла. Одного Матвеев не мог понять никак — перед ним сидел нормальный человек, но без головы. А голова стояла на столе. Рядом с креслом. Голова как голова — с черными надменными бровями, с горбинкой на породистом носу, с серыми навыкате глазами. Над ушами торчали букли хорошо уложенного светлого парика.
— Фу-ты! — шумно выдохнул Матвеев. — Ну и дела! Гляжу-гляжу и никак в толк не возьму: сидит вроде князь, а головы у него нет! Вижу — она особняком стоит. Что такое? Никак не свяжу, чуть мозги не свихнул!
Француз развеселился, хохотнул, глядя на обескураженного Андрея.
— Я с этим изрядно наловчился, — насмешливо сказал Каравакк, — вылеплю голову из глины, подкрашу, дорисую, одену персону — и пошел мазать! Как по маслу идет. Только успевай кистью разглаживать. Да-да, разглаживать — ведь полотно как шелковое, оно любит, чтобы его гладили, не так ли? Полотно надобно любить, ласкать, как женщину. А, Матвеев?
— Не знаю, — нерешительно сказал Андрей, — наверное, надо… Я его и ласкаю, и бью, и даже насквозь часом проткну, если не по-моему выходит. Когда как… Головы наши молярские завсегда забиты, — вздохнул он, — ни ночью, ни утром, ни днем покою нет!
— Куда там покой! — отмахнулся Каравакк в сердцах, а потом спросил: — А ты с манекеном не работаешь?
— Нет, я больше с памяти.
— Ну, это всяк на свой лад, — согласился Каравакк. — В нашем деле ведь правил для всех не существует. Кто как может, так и красит. А знаешь, мне этот безголовый князь, — он ткнул в манекен кистью, — сто раз милее живого! С тем возня, нужно с ним болтать, развлекать. Это несподручно, рассеивает, а я люблю работать спокойно.
Он пододвинул свободное кресло.
— Садись!
Андрей сел. Хозяин тоже устало опустился на маленький синий диванчик, положил на колени тяжелые локти.
— Ну, расскажи, Матвеев, какие новости на белом свете? Я уже целую неделю живу затворником… Что там делается, в Канцелярии?
— Бог мой, какие там дела! — пожал плечами Матвеев. — Бегают, суетятся, ругаются. Слышно стало, что двор в Москву переедет. Так живописную команду уже подушно расписывают — кому у каких дел быть и что кому делать надлежит. Ну, и пошел раздор, все так перегрызлись, что и не глядят друг на друга! Противно сие. Ушами живут.
Каравакк с удовольствием поглядел на него, сочувственно улыбнулся. Андрей вздохнул.
— Я ныне работаю портрет Ульяна Акимовича Синявина. Сами знаете, начальника писать дело хлопотное… Вот он-то, Синявин, велел мне к вам пойти, сказал, указ Каравакку есть, чтоб Матвеева освидетельствовал в художестве. Вот и пришел! На вас полагаюсь, мастер. Бумага мне от вас нужна.
— Что ж, я готов! — сказал без задержки Каравакк. — Картину твою, что в Канцелярии висит, видел. Покаянье святого Петра. Изрядно написано, с пылом! Ничего не скажешь. Цвет хорош, скомпоновано остро. Я тебя со всей охотой аттестую! Что ж, бумага дело великое! Знаю. Вот меня сам царь вызвал, а как приехал я сюда, мой друг, так первым делом меня экзаменовать стали. Вот натура, вот холст, садись и пиши! Ну, и писал неделю…
Припомнив что-то свое, ему одному принадлежащее, Каравакк сердито повернул голову князя Черкасского затылком к себе.
— Пучится! Я вот уже десять лет в России живу — все портреты, портреты, уж весь двор переписал, все довольны, хвалят, а мне-то что? Одни деньги. Скучно все это. Не в том же совсем дело… Не в том! Верхний слой пишу, кожу одну, а до нутра не добираюсь. Некогда. Вот и цесаревен недавно писал по рисункам, они довольны, хихикают… А-а… — Он махнул рукой.
— Я видел эти портреты, — сказал Матвеев искренне, — их истинный живописец создал. Вашу кисть легко узнать, она везде видна, я не вру! Без всякой лести говорю.
— Спасибо, мой друг! Спасибо! От доброго слова у художника в душе цветы растут. Знаешь, как Леонардо говорил: высшая цель в портрете — уловить в лице душу! Вот в чем собака зарыта! Да нет, не зарыта, она здесь, — Каравакк постучал себя по груди, — она рычит и грызет сердце.
Оба помолчали.
— Матвеев! — вдруг сказал Каравакк иным уже голосом, веселым и бодрым. — Ты уже продумал, что будешь писать? Так вот, посиди, подумай, а я мигом вернусь. Закажу кое-что. А то от этого князя запить хочется. Сатана пучеглазый!
«А человек вроде бы этот Каравакк и неплохой… — подумал Андрей, оставшись один. — Вот не кум я ему, не сват, а встретил как гостя, ласково… А говорят про него всякое… Их, а про кого не говорят у нас?» На душе у Андрея полегчало. Он встал и пошел по мастерской. Теперь можно было осмотреть все подробно, не таясь. В мастерской Каравакка было чисто, светло. Все нужное под рукой. Все налажено для работы. В деревянных шкатулках торчали новые кисти. Штук сто, прикинул Матвеев. Он был жаден до кистей, и красок, и холстов — до всего, что относилось к его ремеслу. Запаслив, однако ж, француз… Десятки банок и баночек со всевозможными маслами и растворителями расставлены на широкой скамье. Палитра вычищена до блеска, и на ней маленькими горками в строгом порядке — цвет за цветом — от холодных к теплым положены краски.
На стене пустоглазый череп, а рядом с ним огромный букет засохших белых роз. В углу, в кадке, большое желто-зеленое лимонное дерево с блестящими глянцевыми листьями. На специальной трапеции на крючках разноцветные драпировки, лисьи меха, кружева, шляпы с плюмажем, позументы, куски алого шелка. В маленьком шкафчике, обрамленном занавесками из зеленой тафты, разложены циркули, линейки, резцы, плоскогубцы, в коробочках гвозди для натяжки.
Узкая и крутая лестница ведет на антресоли. Там штабеля картин, папки большие и свертки, одно к одному, бюсты, головы, и сбегают с антресолей вниз вьющиеся по веревочкам зеленые пушистые травки, какие-то листочки, целые оранжерейные лозы. Все сочное, зеленое, ухоженное. Везде видна заботливая рука хозяина.
На задней стене мастерской большая гравюра Зубова — вид на Васильевский остров. Под гравюрой столбиками стихи. Андрей подошел ближе, прочитал их, потом снова с удовольствием перечел:
Как во городе, во Санктпитере,
Что на матушке на Неве-реке,
На Васильевском славном острове,
Как на пристани корабельной
Молодой матрос корабли снастил
О двенадцати тонких парусах,
Тонких, белых, полотняных,
Не своей волей корабли снастил:
По указу ли государеву,
По приказу ли адмиральскому.
От стихов этих, от запаха зелени, от доброжелательства Каравакка на душе у Андрея стало и совсем светло.
Тут же, рядом с гравюрой, висел небольшой портрет Петра работы Каравакка — даже и не портрет, а только лицо. Написано оно было, как и все у француза, на полутоне, в серебристо-светлой гамме, на нежном, пастельносдобном замесе красок. Розовым ангелом глядел Петр со стены. Удивительно, каким уменьем обладал Каравакк, он мог смягчить суровую строгость любого лица.
А еще висел на стене пейзаж в раме — метра полтора по большой стороне: синяя речка посередине, по ней в лодке стоя выгребает веслом рыбак, за речкою видны кони на выпасе, зеленеющий луг, вдали, за рощей, чуть белеет колокольня. У самого берега плавают утки со своими желтыми пуховыми детенышами, а слева несколько девушек в цветных сарафанах, стянутых под округлой грудью шелковыми поясами. Внизу, под картиной, в правом углу подпись: «Каравакк».
Картина Андрею показалась тихой, приятной. Она открывала в Каравакке, по слухам ловком и удачливом хитреце, какую-то совсем иную сторону, неведомую Матвееву.
Такое мог написать только живописец, остро чувствующий природу, — тихую, неброскую красоту, и у него должна быть нежная, даже кроткая душа. А ловкачу такое не по зубам. Андрей понял теперь, что ему с автором такой картины нет нужды осторожничать, ловчить и хитрить. Да Андрей и не умел притворяться.
Каравакк вошел, держа в руке тарелку с мясом, нарезанным на квадратики, и с крупными блистающими луковицами, в другой у него была бутыль с вином, под мышкой хлебина.
— Ну вот, — сказал Каравакк и засмеялся, — сейчас дело у нас двинется. Передохну немного и снова за князя возьмусь…
Андрею было приятно, что сам хозяин ухаживает за ним. Он улыбнулся Каравакку во весь свой белозубый рот.
— Это и есть счастье жизни, — сказал Каравакк, — когда можно скушать натюрморт, наплевать на портрет и промыть нутро горячительным.
Андрей воодушевился:
— В Голландии говорят: утро начинается с восхода, а знакомство с чарки!
— О! Правильно! Голландцы народ понимающий. Поэтому судьба и забросила тебя к ним, как меня в Россию. А вот сидим за одним столом… Ну, бери, что видишь, ешь. — Он разлил вино в бокалы. — Волэнтэм дикунт фата, полэнтэм трахунт! Как же это по-русски-то будет? А?
И Матвеев одним духом выпалил:
— Вольного судьба ведет, а упирающегося тащит!
— Да, навострили тебя там, коллега, навострили! Ну, давай, Матвеев, за наше знакомство, ведь, живописцы, все немного того, — и Каравакк покрутил у виска пальцем. — Но дело наше возвышенно. Господь призвал нас творить, а от корысти бегать. Да вот беда — далеко от нее, окаянной, не убежишь, жить-то надо…
Они чокнулись и выпили.
— Ты, Матвеев, еще цветешь, как майский цвет, — сказал Каравакк, глядя на румяное лицо Андрея и стукая тяжелый бокал о стол. — Ты приехал только, начинаешь краски месить российские, а я уже намесился тут. Ты — на свадьбу, можно сказать, а я оттуда! Ну-ка, за это! — И он налил по второму.
Андрей отпил немного, посмотрел стекло на свет и поставил. Ему стало совсем легко. Он расстегнул ворот рубашки. Теперь между ними установилась та самая связь, какая бывает только у людей, преодолевающих одни и те же высокие пороги и барьеры. И Матвеев, и Каравакк знали тайны живописи, и каждый раз, подходя к мольберту, им нужно было перешагивать рубикон внешнего и потаенного, прекрасного и невидимого. Это была живая связь одного ремесла, стремленья, направленного в одну сторону: оживить и, мало того, дать жизнь вечную всему преходящему, сиюминутному. Шли они к этому каждый своим путем и работали каждый на свой лад, но у обоих было одно общее — чувство натяжения, словно они натягивали на подрамники не холсты, а самих себя. Каравакк был осторожен, осмотрителен, шел и оглядывался. Туда, где его щелкали по носу, он второй раз никогда не лез. А Матвеев вламывался в каждую картину, как безумный в запертую дверь. Впрочем, это было у него не только в художестве, но и в жизни. Если он чем-то вдруг заболевал, то отдавался этому целиком и без оглядки.
— Послушай, Матвеев, — сказал Каравакк, подымая глаза на Андрея, — я вот что придумал: напиши-ка ты картину историчную! Постой-ка, давай еще выпьем, хорошо идет это вино. — Он вытер черно-красные от вина губы. — Вот ты написал покаянье Петра… Да, это был большой удар для сего человека, твердого, неукоснительного. Напиши же теперь очищенье его. Ангел изводит апостола Петра из темницы. Сделаешь у меня здесь рисунок подготовительный. Вон там, на окне, возьми сепию, уголь, сангину, каштановые чернила — что твоя душа пожелает. А дома исполнишь эскиз и картину. Садись и рисуй, а я пока буду князя доделывать. Ну что, согласен?
— Еще бы, мастер! — взыграл глазами и заулыбался Андрей. — Святого апостола писать для меня отрада.
Могу его хоть с крыльями изобразить! А рисунок при вас, тут же, сделаю углем! — крикнул Андрей весело.
И через полчаса Андрей показал Каравакку отлично выполненную композицию…
Пришел Андрей от Каравакка в свою мастерскую, сел и задумался. Изведение из темницы… Господи боже мой, а что такое изведение из темницы? И сама темница, какая она? Может быть, она походит на одно из тех узилищ, которые он однажды видел? То было еще до его отъезда в Голландию.
Его ввели в узкую каменную клеть. На страже стоял бравый солдат. По коридору прохаживался сержант. Оба скучали от безделья.
Раньше они ходили по соседкам, пили вино, играли в кости, спали. И все у них было в порядке. Один спал, другой сторожил. Обоим сразу спать не полагалось. Теперь их стали проверять. Так что отлучаться нужно было с осторожностью. Кому ж охота получить шпицрутен?
Сержант открыл железную, кованую, звонкую монастырскую дверь. Сразу пахнуло животным теплом, хлевом, гнилой соломой. Это был запах звериного, но не людского жилья. Густой и плотный, он не плавал в воздухе, а стоял недвижно. Только когда Андрей переступил порог и вошел вовнутрь, потянуло человечиной. В углу, чадя, горела масляная лампа. В ее мятущемся свете можно было разглядеть несколько скрюченных тел и голов, которые вскинулись на стук и несколько секунд смотрели на вошедших, а потом опять пропали. И что им было смотреть? Незачем им было смотреть — это они сразу учуяли: зашел кто-то посторонний, праздный, пришлый. Ничего доброго для них он сделать не мог. Верно, это опять заявились зеваки с рынка — поглазеть и поужасаться. Как пришли, так и уйдут. К этому узники давно привыкли.
Солдаты-охранники сделали из острога что-то вроде зверинца или балагана. Брали за показ и впуск деньгу или две. Под вечер на штоф набиралось. И вот спустя много лет Андрею предстояло изобразить темницу и узников в ней. Но воспоминания тех далеких лет давали живописцу только общее — тяжелое чувство отвращенья и ужаса. Но не образы. А ведь художеству всегда нужны свежесть и сила живых впечатлений.
Матвеев же помнил только запах, только жуть темноты и тесноты, виденье человеческого страданья и безысходного горя. Не то это было. Совсем, совсем не то. Прищурясь, Андрей посмотрел на свой рисунок. Не то было узилище, не те узники, и не то ему теперь требовалось. А главное — сам он был уже не тот. И не потому, что образовался в Голландии, стал живописцем, а оттого, что просто душа у него повзрослела и стала совсем иной. Позади остались ученье и молодость. Он возмужал, окреп и научился прятать свои чувства.
Изведение апостола Петра из темницы ангелом. Апостол спит на мокрой соломе, неприметный среди других. Вот к нему-то и явился дух бестелесный. Значит, не фигура, а луч, а может быть, и не луч, а свет, сиянье или звук какой-то, озаренье, огненное чудо. И это вошло сюда. В темницу. И у виденья этого стертые светом, неясные черты. Только на один миг, на один миг их и видишь, потом они исчезают. Хитон, слабая, женственная рука, небольшая голова, что-то хрупкое, призрачное, нездешнее. И почему-то — ему самому это не вполне понятно — он вложил в руку этого лучистого существа, этого призрачного посланника рая белую нежную лилию. Она тоже светилась, но была твердая и четкая, ибо была не с неба, а с земли и, как все земное, имела определенность и форму, а не была только предвиденьем.
А что же апостол? Он встал навстречу ангелу. Встал, и у него упали оковы. Вот они лежат у его ног. У Петра простое, мужицкое лицо. Усы, борода, волосы, взгляд, который вбирает в себя небесный свет, тянется к этому свету, рвется к нему, смотрит и не может поверить в чудо. А узники спят. Даже сон не может их утешить. Они похожи на те серые горбы, на те нищенские дырявые торбы, на те груды тряпья, которые когда-то в остроге на Сенной Андрею показывали за копейку. Дверь свободно распахнута. И воин-стражник спит стоя, опираясь на копье. Он ничего не видит и не может увидеть. И это у него не сон, это какое-то короткое подобие смерти, оцепенение. Он как соляной столб. Дверь распахнута, цепи упали, иди же, апостол, делай свое дело. «Гряди на крест», — как говорили римляне, обращаясь к тем, кого приговаривали к распятию. Но апостол еще не смеет идти. Он колеблется. Он ведь всегда был маловером.
А ведь этот маловер — лучший из лучших. Твердейший их твердых. «Ты Петр (камень), и на камне сем я построю храм мой». Так сказал Христос. Как же все это сочетать — камень, отреченье? Андрей об этом не думал. Он рисовал, потом писал, смывал и сдирал, переписывал. Брал густое белое облако, потом сводил его на нет, оставляя одно сияние, один белый огонь, просто луч, беглый солнечный блик. Луч выводил Петра из темницы… Гряди на крест, иди на смерть. И он, малодушный, отрекающийся, встал и пошел.
Про все, про все позабыл Матвеев. Куда-то ушли и Каравакк, и его задание, и сам экзамен. Как будто всю жизнь он рвался к этой картине и она одна была его путеводной звездой.
Опять в него будто вселился дьявол — так было всегда, когда он входил в раж, — и этот дьявол распирал его изнутри.
Андрею приносили пить, есть. Он вышагивал по мастерской целые версты — подходил, отходил, присаживался на корточки…
За неделю работы Андрей спал с лица, глаза у него разгорелись, стали как у безумного, шея утончилась, и даже уши казались прозрачными. Зато картина была вчерне почти готова. Оставалось пройти фон, пригладить кое-где, поуспокоить цвет. Одно только вызывало у него раздражение — фигуры узников. Они были вялые и неподвижные. Андрей все время видел в них что-то фальшивое. Силы небесные! Да что же это они не лезут в холст, вываливаются наружу! Как ни бился Андрей с ними, узники не выходили. Он просто сломался на них. Сладу с ними не было. Это были не узники, а мороженые яблоки. Такие же пухлые, бурые, спавшие. «Замазать их совсем, к едреной бабушке, что ли?» — тоскливо думал Андрей, снова и снова подступаясь и даже как бы подкрадываясь к холсту. Но вот так взять и замазать их он тоже не мог. Они поддерживали ритм.
Он потоптался туда-сюда, взял в руки «Деяния апостолов», сел, стал читать. Буквы перед ним кружились, прыгали. Потом строчки понемногу выровнялись. «Царь Ирод посадил его в темницу и, задержав его, приказал четырем четверицам воинов стеречь, намереваясь после пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу».
— «…Между двумя воинами… двумя цепями…» — пробормотал Андрей и крепко потер кулаком подбородок, оставляя на нем густой зеленый след масляной краски.
«И вот ангел господень предстал, и свет осиял темницу, ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее!“
И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояшься и обуйся!“
Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду свою и иди за мною“. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительностью, а думая, что видит видение».
«У меня тож скоро видения пойдут от сих узников…»
«Прошедши первую и вторую стражу, они прошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились, они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним». И вот он стоит у Андрея в картине, Петр, коротконосый, с маленькой головой, со скорбно поджатыми губами. Впалые виски, скулы. Апостол разглядывает свои руки, поднятые к лицу. Что же произошло? Петр никак не возьмет в толк. Он ложился спать прикованный к стражнику. Теперь раскован…
Андрей припоминал изображения апостола, зажмурил глаза. «Четыре апостола» немца Дюрера, въедливая точность, апостол одинок, недвижим… А католические иконы… Сколько их скопировал! Какая строгость там! Чудовищное мастерство какое! Руки, ноги, лица, каждая складка отработана. Мастер разгладил все с терпеливостью тяжелого раскаленного утюга… Библейские сюжеты голландцев! Вот где живопись! Какие таланты! Корнелис ван Пулен-бург, Карель Фабрициус, Геркулес Сегерс, Рембрандт Гарменс ван Рейн… У этого все различимо и все — тайна. Андрей вспомнил картину «Отречение апостола Петра». Белый плащ, сильный поворот головы; служанка со свечой в руках, грубая и наглая морда римского воина. Какие там были блики, какие отсветы! Сполохи желтого света вдруг хлынули Андрею в глаза. У него была редкая зрительная память на картины.
«Ну, а тот офорт с фрески Перуджино из капеллы Сикста! Нечего и вспоминать, это совсем уже неземное… Мягкая, как вздох, светотень…» Андрей тяжело вздохнул.
Он подошел к картине, взял кисть, развел колер и еще раз легко прошелся по всему лицу апостола, стараясь усилить в нем выражение боли, раскаяния. Вот сейчас или завтра отречется он от своего учителя. Ну ладно, с этим все… Андрей отошел, поглядел в кулак только на лицо Петра. Вроде бы вышло.
Он старался не глядеть туда, где были нарисованы фигуры узников. Но боковым зреньем видел их, и такая горькая досада его снова взяла за сердце, что не передать. «Они себе спят, несчастные, плевать им на все, они отрешены сном и от апостола, и от темницы, и от самой своей жизни, лишь бы их не трогали».
Андрей ухватил зубами черенок кисти, стиснул челюсти. Ему стало душно. Больно ломило в висках. Голову сдавило как обручем. По всем костям разливалась томящая усталость. «Ну, жизнь как охочая до ласк женушка, все вверх дном, так и помрешь с кистью в зубах… Живопись засасывает, как седая снежная мгла. Так вот и сгложет на ходу. Копаешься в невидимых химерах, умствуешь, выдавливаешь из себя живое на полотно. Потому и говорят, что живопись — это писание живого и писаний живым. А у тебя его остается все меньше, меньше, меньше. И хлоп! Уже все и выкипело!»
Шумно втянув в себя воздух, Андрей стал переписывать узников. Надо сделать так, чтобы они были, но в глаза пусть не кидаются. Не в них суть. Один центр — ангел, другой — Петр. Они связаны невидимой нитью. Между ними идет неслышный летучий разговор.
Андрей писал, подходил к мольберту, отходил: туда-сюда, туда-сюда…
Когда Матвеев привез картину к Каравакку, тот ее недолго рассматривал.
— Недурно, мой друг, недурно писано! Тональность фона верно взята, анатомия в порядке, ангел просто хорош, апостол Петр в колорите и обликом вполне соответствует.
— Вот узники у меня… — заикнулся было Андрей.
Но Каравакк его перебил:
— Узники твои на месте, Матвеев, не мудри!
Андрей с любопытством взглянул на Каравакка, заморгал глазами, потупился. Можно ли было осуждать иноземца за то, что он не постигал духа его картины? Темниц он не видел и не знал — ведь он никогда не сидел в них, а только видел на картинах итальянских мастеров. Это были не узилища, не римские ямы времен цезарей, а именно темницы времен Возрождения. А темницы те были совсем иные — высокие и светлые, с мощными сводами, с люстрами, подвешенными на цепях, с продолговатыми узкими окнами, забранными в толстые железные прутья. Если б ему самому пришлось писать, то именно в такой темнице и поместил бы француз первого наместника Христа на земле, ключаря райских врат апостола Петра. А что рисовал этот Матвеев? Человечье отребье, темень, тесноту. Куда все это годится? Впрочем, слов нет, мастерство высокое и достойное. И ангел был хорош. Для Людовика Каравакка, привыкшего к утонченности и пышным драпировкам, ничего интересного в изображении темницы не было. Он видел, впрочем, что Матвеев мастер высокого достоинства. Ангела он написал так светоносно и совершенно, что ему, Каравакку, вряд ли так написать. «Вот что значит быть в расцвете сил», — горько подумал Людовик. И еще раз взглянул на картину Матвеева. Лихо же он соединил небесное, райское с тяжелой, набрякшей земной плотью — с тряпьем и соломой, в нем определенно засела голландская тяжесть. Те любят изображать вонь, грязь, потасовки, разбитые в драке, сизые от пьянства носы и мясистые женские зады, в которые непременно вцепилась жадная мужская пятерня. Это все не для него, мастера изящного колорита и нежной ласки. Конечно, он даст Матвееву аттестацию, его картина хороша и достойна самой высокой оценки.
— Я восхищен твоей картиной, Матвеев! Ты достоин похвалы. Посиди, я напишу тебе отзыв.
Вскоре Каравакк протянул ему большой плотный лист, на котором было написано:
«Репорт первого придворного моляра Каравакка в Канцелярию от строений, от октября 1 дня 727 году.
По указу Канцелярии от строений помянутого живописца Матвеева Андрея я свидетельствовал.
Первое задал ему нарисовать при мне рисунок из его вымысла, историчный, а именно: ангел изводит апостола Петра из темницы. Что он, Матвеев, и сочинил и по оному рисунку на дому и картину написал не худо. И, как я признаваю, Матвеев имеет больше силу в красках, нежели в рисунках. Потом написал он персону с натураля, которая пришла сходна, и, по мнению моему, в персонах лучшее его искусство, нежели во историях, и потому он, Матвеев, угоден лучше других российских живописцев быть во службе Его И. В., понеже пишет обоя, как истории, так и персоны, и, как видно, имеет он немалую охоту и прилежность к науке. Впредь, чрез помощь школы академической, может достигнути и совершенное искусство… Оному живописцу Матвееву Андрею учинен оклад жалованья по двести рублев в год, а после освидетельствования и по определению моему оклад против у прежнего может быть удвоен.
К сему репорту придворный первый моляр Людовик Каравакк руку приложил».
Матвеев сердечно пожал руку Каравакку, спрятал бумагу. Что же ему делать с узниками, с кем посоветоваться? Нужен человек, который знает, что такое обжорки, вшивые ряды, золотая рота, кутузки, батоги и прочие восточные сладости Российской империи. И тут вдруг перед Андреем блеснуло. Все разом прояснилось.
Он встал и провел рукой по лицу, — как же раньше он не подумал об этом?
— Спасибо, мастер, за отзыв! Я знаю, к кому пойду я за советом. Я к Ивану Никитину пойду!
Глава третья
Иван Никитин

а, Никитин — вот с кем можно поговорить об узниках и темницах.
Ведь это мастер самой большой руки во всем Петербурге.
Было уже темно. Моросил мелкий, нудный дождь. Андрей нёс завернутый в клеенку эскиз своей картины. Изредка мимо него стремительно мчалась богатая придворная карета. Наверно, во дворце было что-то торжественное.
Никитин жил не близко, и поэтому Андрей взял извозчика. Рыжий рослый жеребец бежал резво, но коляску подбрасывало на рытвинах, и внутри у Андрея все дрожало. Он закрыл глаза, вдыхая всей грудью холодный морской воздух.
Лицо его было мокро, но он не вытирал его. Все это напоминало ему Амстердам и верфи.
Вдруг за одним крутым поворотом блеснул желтый угарный огонь и донеслась пьяная песня: это кабак сбивал вечернюю выручку.
Он улыбнулся. Да, это не Голландия — там тоже любили плясать и петь, но не на улице.
Двухэтажный дом Ивана Никитина, выстроенный наподобие жилого здания во Флоренции, стоял на правом берегу Мойки-реки, близ Синего моста" И об этом имелся особый документ: "1721 года мая в 17 день, по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, по объявленному чертежу, живописцам Ивану да Роману Никитиным хоромное деревянное строение на определенном им месте для отправления живописной работы построить на каменном фундаменте наймом вольными людьми".
Это был самый вельможный участок столицы, кругом дворцы, хоромы, храмы. Строено все было затейливо, знатно и добротно. Чертеж дома Никитин сделал сам — он обучился в Италии не только живописи, но и архитектурии.
Снаружи никитинское жилище было строгое, белое и гладкое. Хотя строение было из бревен, но оштукатурено под камень.
Тяжелые створчатые двери из кованого железа казались несокрушимыми, как крепостные врата. Окна — их было четыре внизу и три вверху — не светились. "Неужто спит Иван Никитин так рано? Или ушел куда?" — разочарованно подумал Андрей.
Он легко взбежал по узким высоким ступеням каменного крыльца и постучал в дверь кулаком. На стук никто не отозвался. Тогда он грохнул посильнее. Снова тишина. Андрей стал стучать не переставая.
И вот в доме возник какой-то неясный шорох.
— Кто там? — откликнулись из-за дверей.
— Андрей Матвеев! — ответил он.
Опять наступила тишина. Потом скрипнули шаги, раздались голоса. Загремели тяжелые засовы, закладки, пробои, дверь распахнулась. И он увидел на пороге Ивана Никитина в наброшенном на плечи длинном халате. Сзади с канделябром в руках стоял мальчик.
— Здравствуй, Иван Никитич! — смущенно и почтительно сказал Андрей. — Не обессудь, что потревожил…
— За что ж судить-то? Здравствуй! Хороший гость — радость. Молодец, что пришел! Проходи!
Он взял из рук мальчика канделябр и поднял его высоко, разглядывая Андрея. Потом снова сунул канделябр мальчику.
— Дай-ка я тебя поцелую! Давно что-то не виделись. Нет, ты здорово подгадал! А я, знаешь, наработался и никак не могу уснуть, в голову всякая дрянь лезет — рожи, арапы, кафтаны золотые, попугаи. Зажгу свечи — не читается, погашу — не спится! Снова зажгу. Вот так и маюсь… Ну, встал, достал бутылку зеленого змия, приложился — вроде полегчало, а сна все нет, ни на волос не уснул. Ну, идем, идем! Очень ты к месту сейчас пришел, Андрей!
Никитин шел, зажигая по дороге стенные канделябры, пока все не осветилось ровным белым светом.
— Ну, пойдем, покажу тебе свои владения!
За шесть лет Никитин обжился здесь основательно. Везде стояла резная мебель, кресла с золочеными спинками, висели зеркала, картины иноземных мастеров. Стены сплошь были обиты шпалерами — на желтом фоне сверкали и переплетались зеленые с серебром травы.
В большой гостиной висели кортики с медными рукоятками, в ножнах, в углу на стене крест-накрест блестели две пары пистолетов с золотой насечкой, а рядом висели седло и сбруя.
У противоположной стены изящно выточенная деревянная лестница вела на верхний этаж через лаз, обтянутый красным сукном. Между печью и лестницей Андрей увидал в распахнутую дверь еще одну камору, а в ней полки с книгами, инструменты, кисти, низкий мольберт.
"У Каравакка не мастерская, а оранжерея, французский заповедник, травки да цветочки, а тут не то жилье офицера, не то каюта", — подумал Андрей.
И верно, возле двери в стену были вделаны три корабельных крюка — гака, а на них плащи, треугольная шляпа, подзорная труба, в простенке от пола до потолка высилось зеркало в раме из желтой меди.
И следующая комната была гостиная, только поменьше, поуютней.
Никитин усадил Андрея за стол, а сам — высокий, прямой, узкоплечий — ушел и явился с тем же мальчиком, который нёс на серебряном подносе бутылки, сыр и тарелку с луплеными грецкими орехами.
— Я ныне, понимаешь, один с учеником. Брат Роман подался на Москву расписывать Триумфальные ворота, да и застрял там же — не то женился, не то спутался с бабенкой. Слуги отпросились в город…
Никитин уселся рядом с Матвеевым.
— Ну как ты, Андрей, оклемался? Впрягся? — Никитин ласково смотрел на него. — Куда, спрашиваю, пропал-то?
— Да вот обживаюсь на новом месте… Мне бы, Иван Никитич, сидеть бы в мастерской и писать, писать — и чтоб никто не трогал! Вот рай!
— Ишь чего захотел! — засмеялся Никитин. — Рай ему подайте, в мастерской сидеть ему. И не трогали чтоб! Какой скорый! Милый, да живописцы спокон веков только о том и мечтали! — с жаром воскликнул Никитин. — Да нет! Так не получается. Подожди, войдешь в моду, такой тебе рай устроят — дым пойдет!
— Значит, я не последний из них! — с хитрецой ответил Матвеев и засмеялся. — Об этом же мечтаю… Живописцы братия хитрющая, они завсегда хотели парить в поднебесьях…
— Парить-то хорошо, а вот как бы в парилку не угодить. С лёта! Так тоже у нас бывает.
— Не приведи господи, Иван Никитич, ни тебе, ни мне сие не надобно! Да мне много и не требуется — полотна, красок, подрамников, харч там какой-нибудь, так ведь и этого порой нет.
— Да-а.. — Никитин вздохнул. — Все вздорожало. Лихолетье!
— Посему и пошел я, Иван Никитич, к Каравакке экзаменоваться. Надоела нужда — и пошел к нему. Принял хорошо, уважил. По правде, и не ожидал я такого, подивился чернявому. Задал он мне извод ангелом апостола Петра из темницы. Рисунок при нем сделал, а картину у себя дома писал. Все, знаешь, вроде завязалось. А вот узники… ну никак не получаются, хоть помри. И так я их, и эдак. Нет! Чувствую — не то! А почему — не знаю… Не лезут в полотно: я их туда, а они обратно. — Андрей беспомощно, совсем по-детски, улыбнулся. — Вот пришел за советом, посмотри, научи.
— Посмотрим, Андрей, поглядим, какая у тебя там беда, какая твоя забота… — Никитин усмехнулся, разливая вино. Он ловко вбросил в рот орешину, захрустел, измалывая ее крепкими зубами. — Не лезут — экое чудо! — говорил он жуя. — У тебя что? Все всегда лезет? Инда бьешься над каким-нибудь куском, всю палитру переберешь. Глянешь — все насмарку. Хоть руку отруби. И вроде все на месте — и тут, и там! Вдруг видишь — дыра зияет. Ничем ее не заткнешь. Сдерешь все, перепишешь, с грехом пополам восстановишь, что раньше было. И видишь — запорол картинку, напрочь запорол, сызнова пиши ее. А узников твоих попробуем вместе, помаракуем, все же две головы, четыре руки, авось выйдет путное что-нибудь, а? Не совсем же мы с тобой еще ремеслом оскудели?
Андрей улыбнулся, благодарно кивнул. И Иван Никитин заговорил, будто продолжая давно начатый разговор:
— Вот ты, почитай, десять лет проучился в Голландии, видывал мастеров куда повыше градусом нашего Каравакка, а приехал — и тебя снова экзаменуют, апробацию тебе выдает тот же Каравакк, вот так, брат, всё предел, его не перейдеши". Всю нашу жизнь экзаменуют нас, надсаживают, проверяют, приглядываются. Одному угодишь, так другой недоволен, ему угодишь — третий найдется, от ругателей отвертишься — воспитатели подоспеют. Стригут, бреют. То двор, то Канцелярия. Я, Андрей, спрашиваю себя: до кто ж я таков? Живописных дел мастер или заяц-стрекач? И выходит, что заяц… Так и вижу: несется за мною необузданная свора с гиком, криком, трубами, собаками. Никитина — во дворец! Никитина — в Москву, Никитина — в Курляндию! Пиши их в портрет одного за другим! И так, чтоб каждая персона была во всем достоинстве. Пер-р-рсоны! — злобно пророкотал Никитин и стукнул кулаком об стол. — Этой весной, Андрей, мне картину заказали. Так тоже через Каравакка прошел, экзаменовался. Постой-ка, сейчас покажу тебе бумагу. — Он приподнял клеенку, достал какой-то лист, протянул: — На, читай!
Матвеев стал медленно читать. Это была копия протокола Канцелярии от строений:
"По указу Его Императорского Величества, Канцелярия от строений, слушав поданного сего 1727 года мая 17 дня доношения придворного его императорского величества персонного живописного дела мастера Ивана Никитина, по которому обязуется он в Летнем его императорского величества доме написать подрядом картину Полтавской баталии живописною работою, на полотне, длиною и поперек близ трех аршин, из своих материалов, в два месяца, ценою за 80 рублей, приказали: послать его императорского величества указ к живописному мастеру Каравакку, чтоб подал в Канцелярию от строений известие, за письмо оной картины изо всех его, Никитина, материалов, какие к тому надлежащ какую цену, по мнению его, дать надлежит.
11 августа Никитин представил свою картину в Канцелярию от строений, которая поручила ее освидетельствовать Каравакку и дать заключение. И оный Каравакк признавает, что картина сия писана живописным самым добрым художеством против картины, писанной во Франции, и считает цену ей 70 рублей".
Андрей дочитал, задумался. А Никитин смотрел на него, и синие глаза его в глубоких глазницах мерцали и блестели. "Сколько я уже персон перемалевал, и не сосчитать, — подумал Никитин. — Петра Великого разов десять пришлось, дважды писал Меншикова, императрицу Екатерину тоже дважды, великих княжен всех подряд — Анну Петровну, Елизавету Петровну, Наталью Петровну, герцога Голштинского, канцлера Головкина, князя Долгорукова, духоника Дашкова, барона Строганова… Пустое дело считать всех!"
— Да-a, Андрей, не стало душе моей приюта ни в чем, все больше у нас ложь властвует, а истина — вон она, у меня на потолке, на облаках сидит — не достанешь! А теперь поговаривают уже, что в Никитине нужды больше не имеется, значит, от двора прочь, пусть он, мол, довольствуется от рук своего художества… Руки вот они! — он вытянул их перед Андреем ладонями кверху — сильные, сухие, изящные. — С голоду, положим, я не помру. Меня бесстыжесть их бесит. Клейкая, безбожная кривда их — вот что покою не дает!
Андрей оторопел. Он преклонялся перед талантом Никитина, ему нравились его звучность цвета, душевность, уверенное спокойствие, самоценность живописи. В Венеции Никитин тщательно изучал Тициана, Веронезе, Тинторетто. Мастерство у этого живописца было итальянское, твердое, четкое и в то же время певучее. Невозможно было найти мастера более русского, чем Иван Никитин. Он знал характер тех людей, которых пишет, досконально и отлично понимал все их подспудное, их слабости и сокровенную человеческую суть. Ни французы, ни итальянцы, ни голландцы так писать русских вельмож не умели — иные образы у них были перед глазами и в памяти. Они рисовали герцогов, графов, императоров, негоциантов так, как умудрили их великие учителя прошлого. И даже самого царя Петра иностранные художники — Каравакк, Танауэр, Натье, Моор — понимали и изображали как античного императора.
А Никитин был совсем не такой. Он писал Петра с искренней любовью и расположением и без всякой парадной лести. В художестве он чувствовал себя вровень с государем. Ему были близки и понятны истинность и сущность петровских преобразований. Он смотрел на свою модель острым и трезвым взглядом, и у него выходила на первый план курносость Петра, погруженного в глубокую, почти трагическую думу, полное, круглое лицо Петра — не то солдата, не то мастерового. Уверенными, властными ударами кисти создавал Никитин форму, подчеркивая гордую посадку головы сильным светом, льющимся сверху слева. Он выписывал упрямый, волевой подбородок, подстриженные усы, белесые длинные ресницы, извлекая из темно-коричневой черноты бледное и уже обрюзгшее лицо. Серебристы, серы, зеленоваты были тона в картине, но они создавали гармонию единства, еще больше обостряя поразительный, сияющий лик.
Никитин как никто из российских художников понимал значение деяний Петра, глубоко пережил одиночество размышляющей души и выразил это кистью. Вот запись, сделанная в сентябре 1721 года: "На Котлине-острову, перед литоргиею писал его величество персону живописец Иван Никитин". И еще его величество заботился, чтобы вовремя выдали Никитину денег на покупку красок, полотен, масел и на прочие к тому нужные припасы.
Писал Никитин Петра в упор, глаза в глаза, без регалий и орденов, без притворства и прикрас, прощал его и судил, жалел и утверждал, тщательно изучал и взвешивал, определяя природу и естество этого человека остро и беспощадно.
— Дай бог тебе здоровья, Иван Никитич, — сказал вдруг Андрей, волнуясь, и лицо его запылало. — Хорошо, что ты есть на земле.
— Благодарствую! — Никитин удивленно взглянул на Матвеева и подлил в свою чару.
Они чокнулись.
Андрей понимал, что услышанное от Никитина сейчас на досужий взгляд крамола, да еще какая, за такое еще как могут вздуть! Но он понял, что сказанное Никитиным давно у него наболело, не сей секунд родилось. И гордился доверием, ведь они были знакомы совсем недавно.
— Я, Иван Никитич, душой тебя понимаю, но башка все еще на голландский манер работает. Не обвык еще. А понимаю тебя я из-за того, что у нас, живописцев русских, язык общий. Я приглядываюсь, я глазами живу, не умом еще. Для меня все тут в
диковину. Вот вижу — архимандрита везут в тяжелом рыдване. Стою, провожаю взглядом. Чудо! Улицы по утрам полны народами. Трактиры, купцов тьма, бабы-стряпухи прут с базара, вельможи в париках. Чудо! А работные пошли мужики-ухари! Бочки катят, лес везут, стены возводят. Все кипит у них в руках, ладится, фабрики дымят. Кругом незнакомое, неведомое, ты пойми, уезжал — ничего этого не было! Все обворажает душу, все пленяет меня тут, в граде Петровом, соскучил я в заграницах… Меня цвет и то радует. Гляну на небо — облака несутся рваные: свет — тьма, свет — тьма!
— Так-то оно так, все тут решительно переменилось, содеяно немало. Это верно, — согласился Никитин. И дружелюбно посмотрел на Андрея. — Но сейчас для тебя все больше фасады выступают, в них вся суть, а нутро, брат, меняется к худшему — вот что горько! Ты сам вскоре поймешь, что к чему… Коли к худшему меняется, так это беда!
Андрей повторил по-деревенски:
— Бяда! У нас двух жизней нету.
— То-то и оно, что нету. Мне, Андрей, на тот год сорок стукнет. Ты-то еще молод, поживешь — посмотришь. У тебя запас есть. А у меня нету.
— И ты поживешь, Иван Никитин, я верю, вот тебе святой крест — верю я! А насчет фасадов, — помолчав, снова заговорил Андрей, — ты прав, Иван Никитич. Нутро-то — оно у нас иное, не то, что там… В Голландии какой-нибудь мастер напьется, и ведут его под руку, а он идет важно, только глазами зыркает, как филин. И с ним здороваются все. А вот я вчера иду — вижу, какой-то горемыка прямо посередь мостовой валяется, под головой шапка, и он еще руку подложил. Его экипажи объезжают, люди обходят. Поднять было пробовали, будят, а он — никак, одно только твердит: "Вы, говорит, ребята, по голове только не бейте!" Ну и оставили его в покое, пусть отдыхает, проспится — дальше пойдет. Знаешь, что с ним там, в Амстердаме, сделали бы! Вмиг бы раздавили каретами. А тут — ничего! Лежи, отсыпайся… Хорошо мне тут дышится, Иван Никитич, ей-богу!
— Да, — сказал Никитин, глядя на Андрея и думая о чем-то своем, — это так, конечно. Дышится, конечно, Легко, воздух морской. Это так! Только я тебе скажу — умер Петр, и другой наша Русь стала. Нет, совсем не то нынче, Андрей. Денег не платят, каждый волчком вертится, ворует, казна пуста… Пес с ними. И с двором тоже! Пока живу, как жил и при Петре, — не льщу, не подлаживаюсь. Нам сам господь от трудов своего художества кормиться положил — ин ладно. Прокормимся! Так нет же! Чую я над собой, Андрей, паутину, оплетает она меня, душит, подергивает. Кто-то что-то вынюхивает вокруг меня, сжимает кольцо. Бояться я их не боюсь, а всего выворачивает. Тайная канцелярия — от этих слов у людей язык сейчас отнимается. Более всего мне досадно, что царь Петр тянул-тянул Русь за повод, так тянул, что крестец у него трещал. Ну, и что выходит? Я тебя спрашиваю: что на поверку выходит?
Пшик — вот что… Говорил я об этом, не сдержался. Видать, донесли, дошло по адресу. Слышал я, что Феофан на меня взбеленился. Овод ненависти его укусил! Латинист православный! Ну и… — Никитин мрачно выругался, — и Петербург не тот стал, обветшал, опустел. Это снаружи люди бегают, копошатся, строят, корабли в море гоняют. А внутри-то пустое давно. Бегут отсюда в Москву, только давай бог ноги. Некому их теперь дубинкой гнать. В Кунсткамере небось та дубинка-то! А погуляла бы она по кое-кому. Ох, погуляла бы! Я на Феофана Прокоповича гляжу и дивлюся. Угадыватель воли Петра, вернейший его пособник… А ныне что? Своих же единомышленников рубит. Безжалостен, бессердечен, совести ни на полушку не осталося. А как плакал, причитал, — дескать, Петр дух свой оставил нам. Борзый, наглый, подхалюзничает пред теми, на кого раньше и глядеть считал зазорным. Да еще и кат хороший — ему любо на муки своих жертв глядеть. С самого бы дух выбить!
Никитин говорил отрывисто, резко, громко. Видимо, уже перестал остерегаться… И было ясно из его слов, что он не только искусный живописец, который радел, чтоб в картинах его живые люди были, страсти, истина. Нет! Он, как и Петр Великий, был ревнителем о благе отечества. Гражданин не тот, у кого чины и отличия, жалуемые за службу, а тот, кто болеет за общее дело по долгу совести и обязанности души.
Андрей пил вино, слушал Никитина. Думал: "Вот тебе и парадиз!" И все-таки оставался спокоен. Он уже и сам кое-что странное видел, но не все понимал и думал, что многое Никитину опостылело просто от собственной горечи душевной и от обиды. Как ни говори, что на двор тебе наплевать, а куда денешься?
Спокойствие Андрея понемногу перешло и к Никитину. Он взглянул на Матвеева, на чистое лицо его, на свежий румянец, выпил, крякнул, немного повеселел. Улыбнулся, тряхнул головой, словно сбрасывал с себя все горести. Он испытывал к Матвееву сейчас почти отцовское чувство, как к брату своему Роману. Это было то, чего ему постоянно недоставало и томило. Андрей смотрел на него. А Никитин, гофмалер, персонных дел, молчал, думал. Его большая, твердо вылепленная, красивая, тяжеловесная голова была склонена долу. Над синими глазами кустились черные брови. И лицо от этих густых бровей казалось собранным и суровым. Он был смугл и моложав, над высоким белым лбом" прорезанным глубокими морщинами, нависали черные волосы. На них отчетливо проступали широкие серебряные пряди.
"Надо бы его написать, — подумал Андрей. — Как мощно все завершено! И какой сильный внутренний огонь освещает каждую черту! Если бы со всем этим справиться, какой бы отменный получился портрет!"
— Андрей, я тебе добра желаю! А различие у нас, однако, такое: ты вот только что приехал и ничего толком не видел, и что было, не знаешь. А я видел и вижу… Все насмарку идет, все! Пропивается, прогуливается, проматывается, про… Э, да что там говорить. Тошно, Андрюха, мне. Все попугаи снятся да еще мартышки. Их теперь при дворе много, понавезли из Европ. Давай-ка лучше повторим.
Они выпили. Никитин распахнул окно, и комната поплыла в молчанье и в сон бесконечного и многолюдного города. Где-то рядом неслышно текла Нева. Горели плошки.
— А я как приехал, Иван Никитич, к Адмиралтейскому двору подкатил, так сразу же в трактир пошел, — сказал Андрей. — Думаю: хочешь узнать, чем люди живут, — иди в трактир. А там у самых дверей гуси ходят. Сел, принесли мне супец рыбный, водки, огурцов малосольных. Я выпил, поел, сижу и слушаю, а слов не разбираю, только звуки ловлю, ведь одиннадцать годов нашей речи не слыхал. А хозяин узнал у меня, кто я и откуда, и расстарался, притащил рыжиков. Гляжу я на них — сердце сжимается. Они сметаной, как одеялом, укрыты. Я до жратвы не жаден, сам видишь — кость тонкая, жиру на мне удержаться нельзя. А как я их увидел, слезы пошли. Вспомнил, как они растут в лесу и сколько я их собрал в лукошко! И подумал: из этой земли мы вышли, под небесами этими произросли и в эту землю ляжем… А художество в землю не зароешь. Оно прорастает оттуда. Да еще как!.. Прости, разболтался.
Матвеев говорил так, словно в нем все полыхало. Сам-то Иван Никитич давно уже поостыл от подобного жара. Но поскольку прежде и он был таким же, Андрей ему всем видом своим и разговором смывал с сердца тоску и злобу, принося радость и утешение и настраивая на что-то бесконечно живое. "Удивительное это существо, — думал Никитин, — чудо какое-то заморское, пришел вот — и сразу тепло стало на душе. Он открыт добру и настроен на добро, волнуется, работает, думает. Говорит точно, красиво, вон как разулыбался, точно ребенок, у него и лицо добряка. Совсем он незащищенный, хрупкий, чистосердечный. — И вот, глядя на это простодушное лицо, Никитин подумал, что далеко не случайно, а весьма преднамеренно природа сотворила сего пред ним сидевшего живописца. — Она-то одна, бесконечная, и знает, что творит. А больше никто и ничего не знает. Людям свойственно соскальзывать со своих убеждений, как с полка в мыльне. Иному дай богатство и власть — да ему больше ничего и не нужно в жизни. А этому дай — он помрет. Ему это химически несродно, для него власть отрава и погибель. Для него высшее бедствие, как и для меня, — отнять краски. Все одно что стихотворцу рот закрыть: он и захлебнется своими стихами…"
А Матвеев сейчас и впрямь был отменно хорош. Чистый выпуклый лоб его был перечеркнут смелым росчерком бровей, круто загибавшихся кверху. Они были густые, черные и почти сходились у переносья. Тонкий нос Андрея вплывал на лицо уточкой и при разговоре вздрагивал, выдавая человека чуткого, чувствительного, обидчивого. А над резкими скулами блестели умные глаза. Из этих сияющих очей так и рвалось наружу все, что составляло существо Андрея. Вся его душевная чистота и прозрачность. Было у него выражение приподнятости надо всем, независимости, которое бывает только у хороших художников. Про таких говорят: он знает что-то такое, чего все мы не знаем и даже не догадываемся. "Остудят его, окоротят, сомнут", — горестно подумал Никитин.
Он внимательно слушал Андрея, смотрел на его милое, живое, полное юности лицо и понемногу оттаивал. Голос у Андрея был глубокий, звонкий. "Напорист, раним, но умеет видеть себя и других целиком, без всяких одежек", — подумал Иван Никитич с удовольствием, взглянул в глаза Андрея и улыбнулся впервые за все это время широко и беззаботно.
Андрей, не переставая говорить, весь вспыхнул от этой одобрительной улыбки мастера, великого и необоримо сильного, как он считал, и белозубо улыбнулся в ответ.
— Мне, Иван Никитич, владычица жизнь и господь бог дали немножко какого-никакого талантишка, так хоть режь меня, хоть коли, хоть в смерть забивай, я от своего не отступлюсь, художество мне всего на свете дороже!
— Ну что ж, Андрей, бог тебе в помощь, проси у судьбы удачи, чтоб она везла, а не тащила, и чтоб ты, пока жив, творил добро тщанием кисти.
А про себя Никитин подумал: "И откуда все же берутся такие плоды, кто бросает зерна, чтоб взрастало этакое чудо?
Ответить на это в точности никто бы теперь не смог. Но и на догадку права отнять трудно, а потому и говорят, что лиха беда начало.
* * *
В каждом народе есть люди складом ума и характера корневые, скрепляющие. Их трудами и заботами идет жизнь вперед. Таков был старинный род Матвеевых. Еще при дворе царя Ивана III был дьяк
[1] Матвеев. Его отличали по званию, искусству своему вершить дела. Приобрел он при царе великую силу. Во всем царь его слушался. А дьяковы братья состояли в списке детей боярских.
Дьяки Матвеевы вели дела исправно, следили за государевыми доходами, заведовали судом, приглядывали за наместничьим управлением. Народ они были сметливый, крепкий, неродовитый. И знали хорошо одно: надеяться им, кроме как на самих себя, не на кого.
Сын дьяка, как правило, начинал службу подьячим
[2], знакомился с производством дел, присутствовал на посольских приемах.
Дьяки числились на государевой службе. Одних дьяков жаловали дворянством, женили на богатых, направляли в чужие земли с посольскими делами, других постигала опала. И тогда становилось неизвестным, жили они "воопче" или вовсе даже и не жили. Кому как на роду написано — одному счастье выпадет, на другого божья кара обрушится…
Дьяки Матвеевы землей не владели, богатствами тоже. И все-таки они выжили. В 1664 году служили в Разряде
[3] Матвеев Ивашко-большой, прославившийся верностью государю, и Матвеев Ивашко-меньшой — человек необыкновенно пронырливый, умный и злой.
Сын Ивашки-меньшого Матвей, бывший новгородский подьячий дворцовых волостей, на старости лет проживал в деревне Лужа у Новгорода. А рядом с этой сплошь другие деревни — Шиловица, Белетеево, Яковлево, Хрящ, Жилино. Всех не перечтешь. И жизнь Матвея Матвеева как две капли воды походила на жизнь тысяч тысячей обитателей русских деревень. Что это было? Нанизается один день на второй, второй на третий — неделя прошла, прожита.
Живешь — живи, работай по дому, жаворонки летят, цветы побегут по полям, потом похолодает враз — уж осень, год к концу, лужи подмерзнут прозрачным ледком — быть зиме, то лес зелено шумел, то уже донага разделся. Так и кружится времечко — то вспашка, то всходы. И дети растут, у них свое счастье, свои радости. Да что об этом толковать, жизнь как жизнь — пешие идут, конные едут…
Вот так и ехал Матвей Матвеев в старом добром возке по лесным дорогам и косогорам, глядел на верхушки де-рев, в одной руке вожжу держал, в другой — душистую горбушку, что пахла жаркой печью, воздухом и лошадиным потом.
Все было мило Матвею Матвееву в родной стороне. Надежно и прозрачно.
Костьми был он плотен, ходил наклонясь вперед, как против ветра. Земля, в которой вырос, сурова и неласкова. На ней закостенеешь от стужи. А потому силу и способность для жизни он вынашивает внутри. В сердце. Ладный был мужик. А что нос картошкой вышел и не очень красив подьячий собой, так не в стенку ж его врезать, не картинка.
И детям твердость его передалась, а пригожество им от матери перешло. Она женщина красотная была, тело белое и руки полные. Чистая, кареглазая, к любому труду привычная. Жизнь свою в правде прожила, не погрешила.
Как опустится, бывало, декабрьский вечер над легкими снежными сугробами и раздастся над ними натужный вороний крик: "Кра! Кра! Карах!" — такая тоска найдет! Черные хлопотливые стаи проносятся в небе над мокрыми, голыми деревьями, кустами, над желтыми пустыми травами, над синим снегом. Прокракают — и снова тихо, ничего нет.
Эх, зимние вечера в заснеженных просторах Новгородчины! И станет у дьяка Матвеева на душе особо грустно. И тогда одна ему утеха — водочки в запотелом штофе достать, хлебнуть бражки ли крепкой ему, или еще чего горячительного. Завеселеем, а потом заплачем.
— И для чего пьем, мужики! Ведь не для того пьем, чтоб пить, абы не отвыкнуть!
А утром на опохмелку получишь от супруги Степаниды Ивановны крепкую чару да меру едкого капустного рассола. И хорошо тебе станет…
Больше всего подьячий за детей своих болеет и молится. Их у него четверо. Тогда душа его покойна, когда знает: все они сыты, одеты, и скотинке корму тоже хватит на всю зиму.
Кроме трех дочерей растет у него долгожданный сынок, отцова надежа и отрада — Андрейка. Не чает в нем души отец, но никогда этого и не выказывает. Напротив того, строг с ним, как со всеми.
Только детей обмануть трудно. Они чуют тятенькину доброту сквозь строгость, вьются вокруг — надоели. И не больно его боятся.
По натуре своей подьячий Матвеев на редкость замкнут, угрюм. Его побаиваются в деревне, но знают: Матвей справедлив, никого зря не тронет, не шпынет, поносным словом не обидит. И молчит, молчит. По целым дням ни дети, ни жена, ни белотелая теща Авдотья не слышат от него никакого слова. Зато Андрейка не в пример отцу говорлив, расторопен, не по годам разумен. Вечно что-то мастерит, малюет, постоянно руки и голова у него чем-то заняты.
Раз в полночь, как отправились супруги в постель и свечу задули, сказал Матвей жене:
— На все воля божья, Стеша, а только скажу тебе: дочки наши чужое богатство, повыйдут замуж — только их и видели! А про Андрейку повсегда думаю: не обошел нас им бог, есть в нем и разумение доброе, и не по годам умножается оно.
Словно в благодарность за сына погладил Матвей еще твердую и дородную Стешину грудь и продолжал:
— В Санкт-Петербург ему бы попасть, в обученье ремеслу какому или художеству. Вот весной поедем в Новгород, обдумаем как след, звали меня туда давно.
— Что ты, радость! — всколыхнулась Степанида, и слезы задрожали у нее на глазах. — Как же мы-то будем? Дочек поразберут, Андрейка в ученье уйдет, одни останемся — помрем же с тоски!
— Не помрем, мать! А Андрейке, я чувствую, ученье впрок будет. Может большим человеком он стать. Что же, неужели такую долю мы от него отнимем? Думай, мать, думай…
Ничего не ответила Степанида. Только крепче заплакала.
Посвящение в художники
Кому какое дело — лето на дворе иль зима.
И какой год на Руси? Великая держава не считает текучее время…
Из частного письма
На торговой стороне Новгорода ряды отпирают с рассветом. Испокон веку так было заведено.
Птицы в этот час еще перекликаются сонно, лениво, с деревьев падают последние медленные, тяжелые капли. Ночью пролетел дождь.
А люди уже шумят. Говор, шум, перебранка — это разгружают возы с кладью.
В обжорном ряду стоит неистребимый запах кислых щей. Надрывно мычит скот. И вдруг неожиданно взлетел над землей звонкий певучий звук, а затем мелкая бодрая дробь. Это пришли сопельники и скоморохи. Сладко залились волынки, застучали плясовые ложки. Все закружилось, пустилось в пляс.
— Эх ты, молодые! — восторженно воскликнул чей-то сиплый голос, а другой серьезно спросил его:
— А в морду хошь?
Это, видать, затронули чью-то дочку или жену.
Да, базар место веселое, живое. Тут и морду набьют просто так, любя. И в приказную избу стащат — не вертись под ногами!
— Э-эй, робята, дайте пройтить! — кричит кто-то басом.
— Ужмись! — отвечают ему бодро. — Да не толкайся, черт, лезь боком!
На крыльце трактира, упершись руками в перила и далеко отставив ноги, углом стоит пьяный мужик с бритой головой. У него мокрое красное лицо и выпученные глаза, рот набок вывернут. Иногда он издает мычанье, хриплое, осипшее. Видимо, он хочет запеть… Вино крепкое, дешевое, пей — хоть залейся. И пьют, орут, цепляются, дерутся. Это хмель в голове бродит.
Рядом шарманка по-французски гремит.
— Эй, мальчик! — кричит молодой купец в собольей шапке. — Подай-ка сюда квасу! Да гляди мне! Чтобы мух не было! М-м-му-ха — она только в водке на счастье, — говорит он. Раскачивается и назидательно подымает указательный палец.
Зеваки ходят по базару, прицениваются, мнут товар, а брать ничего не берут. Изгибаясь, ловко проносятся разносчики мелкого товара. Снуют зеленщики с поддонами на голове.
Вдруг раздается вопль:
— Православные! Убивают!
Подымаются любопытные головы, тянутся люди на цыпочках — ничего не видать. Ладно, пусть убивают. Эка невидаль!
— Ты погляди, Евграф, погляди-ко, какая баба пошла! Вот это да! Присест, присест-то какой! Как у хорошей кобылицы. И на каких дрожжах такие зады растут?
— Хороша, да не по нашу честь!
— Да я што!
Мужик и впрямь видит — ничего у нее не добьешься. Плывет, как неприступная пава. Да они-то поначалу все неприступны. И он догоняет, проталкиваясь, задастую, берет за локоток.
— Чего продаешь, молодуха? — спрашивает он. — Давай сюда.
— Не-а, — отвечает молодуха, — не продаю!
— Ну, так так дай!
— Дать — не устать, да было бы что!
— А у тебя быдто и дать нечего?
— Иди, иди, дуралей! Я таких, как ты, сама…
— Хозяин, почем туточка дрова?
— Дрова не трава! Как попало не растуть! Гривна за бревно, милый!
— Гривна?! Да я за такие деньги во Пскове целу рощу покупал!
— Ну и ступай себе во Псков! Чего тут шляешься!
— Тпру, тпру, проклятая! Стой же ты!
— И куда ж ты на людей-то прешь, гад?! Вот дать тебе по зубам!
— Солдат, а солдат, я что спросить у тебя хочу… Скажешь?
— Ну, спрашивай, коли приспичило.
— А чего ты, солдат, генералом-то не вышел, а?
— Пошел ты в…у! Там все енералы, и ты, гляди, станешь! Вот пристал, господи прости!
— Да ты не серчай, браток. Ты сапоги торгуешь? Давай я у тебя их куплю! Почем продаешь? А где это, солдат, тебя так стебануло? Да что ты из рук рвешь? Что? Украду твои говенны сапоги, что ли?
Высокий парень с пышными усами пляшет в кругу, приговаривает:
Эхма, эхма! Приходи ко мне, кума!
Приходи-ходи, кума, разговляйся,
Хоть не любишь ты меня, заголяйся!
"Эхма! Эхма!" — глухо стонет земля ему в ответ.
А тот все орет:
— Душу я в тебе вижу! Душу — вот что! — потому и покупаю. Да не дери ты, ирод, сапог, мать твою так!..
Но солдат уже отошел.
А в небе безмятежные облака толкутся. Движутся. Тают.
А на Софийской стороне города во всех церквах звоны, звоны, звоны.
Красным звоном залились, зазвонились колокола. Говорят, сам царь прибыл. На богослуженье присутствовать будет!
И базар сразу поутих, растаял.
Царь! Царь! Царь! Когда его еще узришь? Надо поспешать! Все улицы новгородские всполошилися: Бордова и Кончанская, Холопья и Запольская, Щитная и Малая Лубенка, Янёва и Рогатица…
А трезвон все пуще, радостнее и на все голоса.
Пономари стараются из последних сил, раззвонились на славу.
Богоданный государь, царь и великий князь, всея Руси, самодержец и монарх изволил припожаловать на новгородское богослуженье. Купцы жребий меж собой бросили, кому везти на себе их императорское величество. Пробовали везти заместо лошадей царскую карету, только не хотел этого царь, отогнал…
Но зашевелились по городу люди — духовные и мирские, служилые и приказные. Все вовлечены в царский приезд — послушники, монахи, попы, протопопы и протопопицы. Каждому поглядеть хочется. Тут и воевода, и жена его. Тут купцы и купчихи. И чернь.
А его царское величество у обедни уж стоит в Софийском соборе. На уготованном месте. Служба идет торжественно, медленно. Синий ароматный дым стелется по церкви, серебряно кадильница позвякивает.
Иногда вдруг взлетает стеклянными молодыми голосами хор, под самый купол прозвенит, пролетит, и снова звучит четкий литургический речитатив.
Сумрак и пенье объединяют всех.
Только царь Петр стоит как бы один или как бы в пустоте.
Кругом люди, а он как сгусток силы, как удар молнии в землю. Там, вверху, бог. Здесь он! Захочет — убьет, похочет — вознесет выше облака. А стоит не шелохнется, будто к месту прирос. И высок же он, высок! Нечеловечески огромен и прям, точно колокольня надо всеми. Не солжет аршин: три раза ему по государю отмерять.
Новгородский епископ, весь белый и золотой, воссылает хвалу богу — отцу и сыну, святому духу — и русскому царю, монарху и самодержцу.
А хор певуче и богомольно подтверждает:
Се ныне светло праздне-е-ствооооооо!
Предивного чудесе наслади-и-и-имся!
Никто не входит, не выходит во время возглашения и здравия. А епископ, взглянув на государя, вспомнил то, чему был он сам свидетелем тому лет пять в Санкт-Питербурхе. Тогда иностранные гости не захотели перед русскими иконами снять свои шляпы. Взбесился Петр, но прошел мимо. И только вечером, когда ужинали, услыхал епископ Петровы слова: "Не будь они чужеземцами, я бы велел прибить им шляпы эти гвоздями к их глупым телячьим головам". И наверняка так бы и сделал. Гневен бывал монарх, не дай господь!
А на площади у собора кипит простой народ, который в церковь не пустили. Выстраиваются по богатству и чину. В руках держат подносы с подарками. Ослепительно горит солнце.
А царь Петр стоит в черном кафтане с белыми обшлагами и красной лентой на груди. И глаза у него темные, неразличимые, густые, как ночная вода.
Окинет взором всех, повернет крупную голову свою туда и сюда, сверкнет белками и снова опустит. Себе под ноги смотрит. А все тянутся да так и стреляют глазами в царя, чтоб ничего не пропустить. Неподалеку от государя стоит юноша, большелобый, курносый, глазастый. Он тоже тянется, ловит взгляд государев.
Петр юношу отличил, взглядом скользнул по нему, запомнил.
Какая-то особая желтая тьма в храме, — шарахнется она в один конец, и возникнут бурые, ребристые, изогнутые тела святых, кинет ее в другой край, в самый центр, и вспыхнут иконы благостные по стенам и на крещатых столбах. Вытянутая, изящная и хрупкая фигура Богоматери, которая стоит, едва прикасаясь, сам Господь в светлых ризах и лежащие на земле апостолы, ослепленные исходящим от него светом. А на ризах жемчуга, и яхонты, и красные камни. Каждый камень ценой с хорошее село. И еще, и еще скользит луч, и взлетают, парят, устремляются ввысь голубокрылые ангелы. Взмахи от крыльев направляются к Богоматери, к ней же слетаются святые и пророки, девы и отшельники. Скачет на белом коне юный Георгий с мечом в руке, он пронзает змия, а змий — огонь и дым. Во всю свою прыть скачет белый конь, сверкающий, как молния. И все летят и летят ангелы, и кажется, что воздух колышется от их легких крыл, а рядом трех отроков загоняют в огненную печь, и языки пламени уже облизывают их.
Ликование твари небесной отзывается и в твари земной.
Только юноша занят своим, ему дела нет до ангелов и апостолов, он сам ангел, и в нем самом бушует алое пламя. Он на царя земного глядит, а рука его чертит на клочке бумаги.
Кончилась служба. Посторонился народ и открыл великому государю дорогу к западным вратам, но царь неожиданно двинулся к южным. Подошел вплоть к юноше, легонько тронул за плечо:
— Покажи!
Юноша вздрогнул, да так и застыл. Сжал в руке карандаш и клочок бумаги.
— Ты что во время обедни делал? — спросил царь.
Он смотрел прямо, не моргая, но и гнева не было в его глазах.
— Лик твой чертил, государь.
— А ну-ка, покажи, покажи! — И Петр протянул огромную ладонь. — Зачем же тебе лик-то мой понадобился? А? — уже строго спросил царь.
— Образ твой сохранить на память.
Петр глянул остро на юношу, потом перевел глаза на лист, затем опять на курносого и снова на лист.
— А звать как? — спросил он, не выпуская из руки рисунок.
— Андрей Матвеев.
— Учиться хочешь на художника, Андрей Матвеев? Ну, что молчишь? По рукам?
Петр достал из кармана тетрадь, взял из рук Матвеева карандаш и быстро начертил несколько неразборчивых косых слов. Он отдал бумагу Андрею и сказал:
— Возьми! К Александру Даниловичу, князю Меншикову, пойдешь в Петербурге, понял?
У Андрейки сердце похолодело, как увидал гербовую бумагу.
— Отдашь записку, учиться художествам будешь! Приедешь в Петербург весной, в начале марта! Гляди не опоздай!
Петр спрятал в карман камзола тетрадку, отдал Андрею рисунок. И направился к выходу, странно разбрасывая длинные ноги. Вот как это было. А может, и не было. Может, и не было этого вовсе так. Может, придумали всю эту притчу о счастливчике? Кто же знает?
Кто что видел, тот не рассказывал, а кто рассказывал, тот ничего не видел, а так, слышал что-то похожее на сказку и поверил в нее. Ведь человек всю жизнь верит в волшебную сказку — и в дни молодости, и в сиротливые ночи старости. Верит как в неотвязное воспоминание о чем-то давно утерянном и забытом. Верит, как старик в свой сон о юности.
Вот идет усталый, запыленный путник по дороге, обожженной солнцем. И кругом ни травинки, ни дерева, ни тени. И вдруг догоняет его карета, останавливается, и выходит из нее кто-то очень прекрасный и добрый. Протягивает путнику руку: "Садись!"
И с этого момента начинается для путника счастье. Вот стоял в соборе оборванный паренек, чертил что-то такое. Может, так бы и сгинул безвестно он в стылых новогородских землях. Так нет! Подошел к нему детина, могучий и веселый, протянул руку и определил: "Быть тебе художником! И писать тебе прекрасные полотна, учиться тебе за границей, свет повидать, себя проявить и не думать ни о чем суетном". Что же? Может ли быть так? Наверное, может!
Говорят, что так и было. И так именно решилась судьба первого русского живописца Андрея Матвеева.
А правда ли это или нет, кто скажет…
* * *
— Значит, говоришь, изведенье из темницы? — спросил Никитин тихо. — И тебе нужен мой совет? Я был в Риме в катакомбах, где сидели добровольные узники — христиане, был в камерах замка Святого ангела, спускался в подземную мемертанскую темницу, где людей душили и сбрасывали в колодец. Но это все тебе не годится. Петр… Император наш был назван так в его честь. Мы живем в городе его имени. Малодушный и твердейший, вернейший и маловерный. "Отойди от меня, сатана", — сказал Иисус и сделал своим наместником. Петр — камень. Петр, упросивший своих палачей распять себя вниз головой. Слишком большая честь для такой птицы, как я, быть сораспятым, как Христос. Это все надо здраво учесть тебе. Никакой приблизительности, все должно быть точным и главным. Темница, узники, Петр, воины и ангел. — Вдруг Никитин хохотнул. — А ты, Матвеев, видел ли живого ангела? Нет! Так вот, он все равно должен быть таким, будто ты его видел вот так, как меня!.. Да-да, молчи! Тебе Каравакк задал картину для экзамена? Задал. Но останется она за тобой, С твоим именем. Уразумел? Для нас каждая картина — экзамен. Твое лицо и твой дух будут жить в картинах твоих всегда. Потому что живописи без лица нету. Ты эскиз принес? Дай-ка сюда, посмотрю, как там у тебя скомпоновано…
Никитин внимательно и долго разглядывал эскиз, поданный Андреем, хмыкал, водил по нему рукой, что-то прикидывал, щурился. Прикрыл пальцем одну фигуру, потом другую.
"Чего он там колдует?" — подумал Андрей, а сам замер, нетерпеливо ждал слова собрата, как приговора.
— Эскиз хороший у тебя, Андрей. Что правда, то правда, ничего не скажешь, но думка у меня одна имеется…
Никитин подошел к широкому подоконнику, на котором лежали аккуратно нарезанные листы, карандаши, уголь, стоял пузырек с каштановыми чернилами.
Он взял бумагу, карандаш, сел за стол и стал набрасывать штриховой рисунок. Андрей жадно следил за его уверенной рукой. Он был поражен той быстротой, с которой Никитин понял самую суть.
— Вот! — сказал он Матвееву, подавая рисунок. — Гляди! Я бы так сделал. Здесь, слева, у тебя ангел. Он будто в облаке из света. Так? Темница идет фронтально, тут вот стоит Петр, а там узники лежат — один туда головой, а двое сюда, остальные сидят, привалившись спинами к стене, по бокам воины-стражники. Свет выхватывает узников из темноты…
— Слушай, Иван Никитич, — перебил Андрей, — а может, мне убрать этих узников насовсем, а? Может, ну их…
— Убрать? Дурья твоя голова! Как же ты их уберешь? И что тогда? Нет, ты их оставь, они нужны. Скажу тебе так: без узника и темницы нет. Понимаешь меня? Узнику темница не нужна, она ему могила, но темнице узник нужен, она без него жить не может! Она его ждет, жаждет, зовет. Тянет в себя, ищет, чтоб облечь его немощную плоть.
Никитин глянул на Андрея обжигающе, белки глаз у него враз покраснели.
— Ты напиши этих узников вот как! — Никитин сжал кулак и потряс им перед лицом Андрея, — Вот так! — Он поднял и второй кулак и тряхнул ими вместе. — Вот так они сжаты этими проклятыми стенами — в кулак! Они — как глыбы! Вот! Вот! Вот! Понял меня?
Андрей слушал его, приоткрыв рот. Он пристально глядел на Ивана Никитича и радовался, что догадало его прийти именно сюда.
А Никитин говорил горячечно, желчно, бешено.
"Ну и огня в мужике, так и пышет! — подумал Андрей, следя глазами за каждым движением Никитина. — Знатный мастер".
— Ну вот как я разошелся, — оборвал тот сам себя. — Ты, Андрей, сделай этих узников не римлянами, а русскими, пусть они хотя в твоей картине поживут вольно. И пусть пребудут за страдания свои, за муки адовы, их не сегодня завтра жизни лишат… Левенвольды, ушаковы, остерманы, минихи — не счесть их, врагов наших, придворных шаркунов, недругов. Поразвелось, как блох на постоялом дворе. Узники и лба перекрестить не успеют, а из них дух вон! Так ты хоть дай им пожить в картине, дай движенье и волю. Дай! Дай! Дай! Пойди на базар, сделай наброски с мужиков, с натураля. Сам знаешь, ради живописи во все тяжкие пустишься! Потрудись, помучайся. Тогда и выйдет. — Никитин взял в руки свой рисунок. — Видишь, я
тут немного изменил положение узников, расположил одного позади другого, а третьего посадил к стене. Ты видишь — ритм сразу усложнился. Тут правдивость нужна, Андрей, трагизм и напряженье… Я бы так все оставил. А ты гляди сам…
— Здорово! — радостным шепотом сказал Андрей. — Ловко, вот диво! Мне бы до такого ни за что не додуматься!
— Брось! — Никитин потрепал его по плечу. — И сам бы додумался. По норову тебе? — довольно спросил он. — Ну и ладно! Ты знаешь, Андрюша, живопись более дело практики, нежели изученья. На опыте своем вижу сие.
Андрей разглядывал рисунок Никитина придирчиво, не находя в нем ни одной погрешности. А Иван Никитин изучающе, искоса смотрел на Матвеева. "Ба, он же совсем еще желторотый, со всей его голландской ученостью!" Потом еще подумал: "Добрый малый, умен, хватка есть. И талант — от бога. Крепкий орешек, новогородский! Малость расслабился на чужбине. А у нас на Руси давят по-российски, по закону — задами давят! Надобно в постоянной готовности быть, а он совсем еще неопытный щенок, рот пухлый, как у отрока… Узников-то он напишет, но понять их — где ж ему?"
Никитин горестно покачал головой. Ему-то уже довелось увидеть в упор подлость, коварство, злобу, а Матвеев еще набарахтается в черном омуте придворных интриг, козней. Узников в темнице пишет. Что он знает о них? Ровным счетом ничего…
"Может, в крепость его свозить? Сегодня какой день? Суббота? Начальство в городе, плац-комендант меня знает, пропустит. А что? Пусть поглядит Андрей на юдоль слез русских. Задумается, что к чему… Злосчастную жуть увидит воочью".
— Послушай, Андрей, — сказал он вдруг, — думка мне одна пришла тут. Давай-ка вот что сделаем: давай зараз поедем и поглядим с тобой натуральных узников — это получше, чем итальянские гравюры разглядывать… Натура — лучший оригинал для картин, но даром она не дается. А? Хочешь? Едем?.. Ну вот и хорошо, и ладно. Тебе это сразу даст разбег. Ты погоди чуток, я мигом вернусь.
С нежданной легкостью он вскочил из-за стола и вышел из комнаты, почти выбежал.
"Как верно Никитин сказал, что живописи без лица не бывает. В самую точку попал. Два лица в ней — автора и картины. Живопись двуедина, двулика. Значит, выходит, я с моей картиной — вроде вечный двойной портрет… Какой мастер! Не знаешь, чему в нем больше удивляться — душе, уму, ремеслу?"
Андрей подошел к полкам и стал смотреть книги. "Русско-италианский лексикон", — читал он по корешкам, — "Введение в гисторию Самуила Пуффендорфера", "Наука статическая или механика" — это еще зачем ему? — "Увещание от святого Синода невеждам", "Евклидовы элементы"… Он стал листать Евклида, как вошел Никитин.
Он распрямился и стал еще моложе на вид. На нем был добротный тафтяной желтый камзол, а на боку на лосиной портупее кортик с вызолоченным эфесом. На плечах кафтан мастера — без воротника, с продольными и узкими карманами, обложенными золотым галуном. В руках он держал изящную трость.
— Ну, Иван Никитич, — выпалил Андрей изумленно, — ты прямо вице-адмирал! Ей-ей! — Ему казалось, что выше и звания нету.
— Вице-адмирал не вице-адмирал, а в крепость Петропавловскую иначе не впустят. Военные парад любят. Хлебом не корми!
Они вышли на улицу. Город спал. Дул порывистый сырой ветер, завывал, черепицы крыш издавали стреляющие звуки.
— Гляди, Никитич, мужичонка навстречу, будет нам удача!
— Это что, примета такая?
— Да!
— Ну, дай-то бог!
Иван Никитич, приостановившись, искоса посмотрел на свой дом. Немалой крови стоил он ему. Строительство затянулось на несколько лет. Он любил эту хоромину, будто сложенную из белого чистого камня. Здесь он узнал зыбкое, тревожное счастье краткой семейной жизни. Здесь пережил униженье развода. А все другие огорченья уже были не в счет. Они не могли свалить его с ног, а только сбивали с шага.
Петр ему пожаловал звание гоф-малера, любил всей душой. После смерти государя Никитин был передан в распоряжение Канцелярии от строений. Это было пониженье и знак равнодушия к нему. Никитину перестали выплачивать жалованье, приходилось постоянно посылать напоминания, слезницы. После пришел новый указ — оставить в ведении гофинтенданта. То есть в прежней ведомости. Это верчение радости не добавляло. Раньше он работал под личным царским надзором Петра. А после его смерти все зашаталось, пошло-поехало и наконец до того докатилось, что ему с подпискою объявили, что нужды в нем более не имеется. Живи, моляр, как сам знаешь…
Когда извозчик остановился, Никитин крикнул:
— Сколько тебе надо, отец?
— А сколь дашь, все наши. — Мужик хитровато сощурился на богатый кафтан седока, на кортик и на всякий случай назвал двойную цену: — Десять денег пожалуй, драгоценный!
— Ну, раз драгоценный, то бери все двадцать, знай, что живописцев вез. — И он отдал деньги.
При виде мрачного строения, от которого на расстоянии веяло холодом и сиротством, Андрею стало не по себе. А Никитин как ни в чем не бывало тщательно приводил себя в надлежащий вид, приглаживался, поправлял парик и шляпу.
Российская бастилия молчала. Глубокий мрак окружал толстые немые стены. Небо прорезал устремленный ввысь шпиль собора — четыре года назад его обшили медными, позолоченными на огне листами. Тогда же установили статую ангела с крестом и часы-куранты. Статую эту вылепил Никола Пино, друг архитектора Трезини, построившего каменные Петровские ворота. А над вратами этими царил святой апостол Петр. Гордо и незыблемо стоял он на ветру, держа в руках ключи. По сторонам апостола, по концам фронтишпица, сидели архангелы Страшного суда с трубами. Еще пониже помещены две женские фигуры — Благочестие и Надежда. Но ни то, ни другое никто в Петропавловской крепости в глаза не видал.
Какие там надежды? Кто здесь сохраняет благочестие? К чему оно тут? Что же касается ангелов-архангелов, то здесь они были, но особого вида.
Петропавловская крепость
Каменная громада, казалось, вставала из Невы. Ей не суждено было охранять город, никогда неприятель не слыхал ни одного выстрела крепости и в нее саму никто не стрелял. Вместо тех летописей, в которые вписывают страницы воинской славы, тут составлялись совсем другие книги. Звались они пыточными. Записи в них велись с похвальною точностью и должным раденьем. Кнут управлял этими записями, считалось, что он отрезвлял, а потому неутомимо свистел и щелкал, переносил людей из настоящего в прошлое и оставлял их там навсегда. Эх вы, кнуты ременные, сыромятные, витые, поволочные, батоги, арапники, погонялки, не было б без вас стеганья и битья, скучно жить бы стало заплечным кнутобоям!
Стояла крепость посреди столицы, противу Зимнего дворца — ее всегда могли видеть в окна русские цари и царицы. Видеть, но не слышать.
— Вон там, — показал Никитин Андрею рукой, — в Трубецком бастионе, в каземате, томился царевич Алексей. А первыми обновили крепость мятежные матросы с корабля "Ревель". И младшие морские чины…
Никитин сдавленно вздохнул, продолжал тихим, едва слышным голосом рассказывать и пояснять. Он произносил каждое слово жестко и весомо, и страшный смысл, который открывался в этих скупых словах, вызывал в Андрее ужас. Он усиливался тревожной чернотой неба, сырым, беззвучным сумраком, безысходностью судеб тех, кто был сейчас там, за этими толстыми стенами.
— В прошлом году умер тут Иван Тихонович Посошков, большой души и немалого ума человек был, царство ему небесное… Написал он трактат "Книгу о скудости и богатстве". Не читал? Она ходила по рукам в тетрадочках…
— Читать не пришлось, а слыхал много, — тихо ответил Андрей. — Один листок мне в Голландии — кто-то из русских привез — показывали, я еще подивился тогда, как это он так смело и дерзко пишет, помню, там слова были, что человек на земле счастлив должен жить, а не искать защиты у бога, и путь к истине чтоб лежал ему близостный и нетрудный.
— Да, здесь, все пути нетрудные, в крепости-то. Старцу было семьдесят два года, когда уморили его…
За стеной зашумели вдруг голоса, стали передвигаться огни, осветились стволы деревьев. Один раз Андрею послышалось, что он услышал слово "ужин". А может, то было "нужен" или "не нужен", кто ж его знает… Тут все слова звучали одинаково и сводились к одному — к пытке.
Андрей думал о том, как крепко сидит судьба на человеке, будто миндаль на прянике. Вот они подъехали сюда на вольном извозчике, по собственному желанью, по художницкому своему капризу, а те, которые тут сидят за этими стенами и затворами? И кто мог бы знать, сколько сюда еще повезут! Ни Матвееву, ни Ивану Никитину и не снилось это. Такое тут еще будет, что и быть, кажется, не могло, а ведь сталося, сталося! Повезут сюда барона Остермана, скользкого и вкрадчивого лицемера… Во всех регалиях повезут, а до того он еще сыграет свою кровавую роль в судьбе живописного мастера Никитина, что стоит сейчас, не ведая о том. Повезут и обер-гофмейстера Левенвольда, гуляку и картежника, ухажера и драчуна. К этому-то лощеному и красивому лифляндцу уйдет потом жена Ивана Никитина Мария Маменс. Повезут сюда и фельдмаршала Мини-ха. Уж он-то постарался для крепости — и стены укрепил, и равелины возводил, изощрял фортификационный талант свой. Не на свою ли голову? Препожалует хитрый, битый, опытный вояка в сию цитадель, не избежит ее.
— Ну, с богом, Андрей, отдышались — и баста. Я стучу!
Он оттянул массивное железное кольцо, громыхнул несколько раз и крикнул:
— Открыть по важному делу!
И подмигнул Андрею весело.
"Ишь генерал какой! Еще кричит!" — подумал Андрей. Мол, не маленький человек сюда пожаловал — двери настежь. Тем, кто привык окрику подчиняться, это ясно.
Резные деревянные ворота тут же отозвались:
— Кто такой? По какому делу? Чей приказ? — все это громко прокричали залпом.
Иван Никитин спокойным басом громко выговорил, чеканя каждое слово:
— Его императорского величества живописных дел мастера! По срочному делу! К плац-майору Насипову! Открывай, вражья утроба! — добавил он резко, окриком.
Сейчас же со стуком в воротах открылось малое квадратное оконце, из него просунулся один только рот — твердый, зубастый — и спросил:
— Какие имена, фамилия, поголовно?
— Никитин Иван, Матвеев Андрей — всего два человека!
После рта в оконце вставились два глаза. Они были черны, неподвижны, наведены, как два дула; но глядели не видя, хотя площадка перед воротами по ту сторону была отменно освещена и живописцы стояли на ней незащищенно, как голые в бане, будто на ладошке.
Потом глаза в оконце ожили, увидели, повеселели, повелись туда-сюда, отодвинулись. Заместо них снова появился рот и сказал добродушно:
— Зараз доложим!
"Куда нас несет! — обмер Андрей и еще подумал: — Пристали к этой крепости, как слепые к тесту, приперлись — здрасте. Не гремело, не звенело, подкатилося". Ему было и жутко, и весело.
Он схватил Никитина за руку.
— Иван Никитич! А может быть, нам…
— Не робей, дёру давать поздно, все в порядке. Коли б начальство на месте было, нас бы уже схватили… Под стражу… До выяснения! А сейчас суббота, начальства нет. А с плац-комендантом мы приятели.
"Поперлись на свою шею", — мелькнуло у Андрея. А Иван Никитич, чувствуя его состояние, подбодрил тихо:
— Я этому плац-майору Насипову портрет подарил. Он им премного доволен, так что сделает все, что в его силах…
"С ним не
пропадешь", — подумал Андрей, глядя на подпертую воротником сильную шею Никитина и его крупную опущенную голову.
Ворота распахнулись минут через десять.
Впереди четырех солдат в форме Преображенского полка стоял высокий, как жердь, майор. У него было длинное, остроносое лицо, сведенные к переносице брови, по краям рта свисали вниз длинные и тонкие, как у сома, пшеничные усы. Весь он был какой-то оскаленный, недовольный, нахмуренный. Все это Андрей разглядел подробно, когда вперед выступил фонарщик, который обеими руками держал большую корабельную лампу.
Майор хрипло рявкнул:
— Которые тут живописные мастера? Вы, што ли? Проходи! Быстро!
Солдаты обтекли живописцев с двух сторон, втолкнули их во двор, ворота захлопнулись. С нарастающим воем, до упора заехала на свое место задвижка. Все!
Андрей почувствовал в спине легкий колик, а Никитин вдруг засмеялся:
— Ну, попались художнички, суши кисти! Прости господи!
Плац-майор повел голову в их сторону, ухмыльнулся одной щекой и громко приказал:
— Капрал! Внести этих в поименную записную книгу!
— Здравствуй, Иван Никитич, — приветливо, совсем другим, мягким и уважительным, тоном сказал плац-майор, подойдя вплотную к Никитину и протягивая к нему руку.
Он приветливо поздоровался и с Матвеевым. Андрей увидел, что лицо майора стало вдруг оживляться, оно оттаивало кусками, как льдина в воде.
— Идите за капралом, запишут вас в книгу, и я провожу куда надобно. Такой тут порядок! Обычай!
Он развел руками.
Капрал ввел живописцев в чистую, просторную, жарко натопленную караулку. Он взял огромную серую книгу, послюнил палец, медленно отвалил влево исписанное, дошел до чистой страницы; обмакнул перо и старательно записал фамилии, имена. Потом встал.
— Извольте к майору.
Они снова вышли во двор. Майор стоял чуть поодаль, чертил прутиком по земле. Андрей подумал: "Им тут небось тоскливо!"
— Записались? — спросил майор.
— Не токмо записались, внесены в вечные списки, — весело ответил Никитин.
— Не шути так, Иван Никитич, — усмехнулся майор, — не ровен час… Все под богом ходим, постучи-ка в дерево!
Никитин стукнул три раза костяшками пальцев в ствол тощей березы.
Матвеев разглядывал внутренность крепости. Низкие строенья, чахлые деревца, город затворников и солдат. Ничего примечательного. Майор, глянув на Андрея, пояснил:
— Там вон обер-комендантский дом, рядом — мой, плац-майорские хоромы, вон там дома соборных священников и причетников, правее — солдатские казармы, рядом с ними плясовая площадка — тут провинившихся солдат сажают на деревянную лошадку, спина у нее острая, как нож. За казармами провиантские магазины, аптека, а в ту сторону гарнизонная канцелярия… Иван-то Никитич все это знает, бывал, а ты впервой у нас?
— Да, в первый раз, — робко выговорил Андрей.
— Он недавно из Голландии вернулся, — пояснил Никитин, — ныне живописный мастер в Канцелярии от строений.
— Вон оно что, — кивнул майор.
— У нас к тебе, Денис Петроич, великая просьба, — сказал Никитин, — нам для картины нужно узников поглядеть, если тебе не нагорит за это, сделай милость!
— Узников? — Майор призадумался. Лицо у него снова стало строгим, холодным. — Ну что ж, — протянул он, — по уставу не положено, конечно, но он устав, и мы от него устав… Живописцам не помочь — тоже грех на душу… Дело у вас благое. Покажу! Одно только потщитесь — чтоб накоротко, пока начальствующих нет.
— Да мы одним мигом, мы сразу, глянем — и все тут! — быстро сказал Андрей. Ему не терпелось поскорей увидеть, что требовалось, и выбраться!
— Ну вот и сговорились. Пошли! — Насипов вместе с живописцами направился к равелину. — А знаешь, Иван Никитич, — сказал майор, дотрагиваясь до плеча Никитина, — портрет твой так мне глаз радует, так много доволен я им, все гляжу на него — не нагляжуся. Все, кто ни придет к нам, пялятся на него, диву даются, до чего ж у тебя краски живые, так и дышат! Не приму в рассудок никак, в чем тут дело-то…
— Слышать такое живописцу отрада и бальзам, — благодарно ответил Никитин.
Они вошли во внутренний треугольный дворик, оттуда в коридор тюремного здания, устланный толстыми матами. Шагов часовых тут не было слышно. Старший караульный по приказу майора отворил первый нумер.
"Стой! — сказал себе Андрей. — Белу свету тут край!" Он переступил порог темницы. Это была камера подстражной тюрьмы. Три сажени длины, столько же ширины и две сажени высоты. Вместо окон в темнице были амбразуры, такие узкие и редкие, что они почти не пропускали света.
Солдат охранной команды внес еще одну лампу и повесил на крюк, ввинченный в балку потолочного перекрытия. Андрей мельком глянул в красную, заспанную рожу солдата и снова повернулся так, чтобы видеть разом все. Чуть наклонив голову набок, он смотрел на людей, что лежали на соломе. Солдат, пятясь задом, вышел в коридор.
— Порох у нас тут сыреет, не запаляется, — сказал стоявший позади майор. — А людям хоть бы что!
Узников в темнице Андрей насчитал семь человек. Четверо спали вповалку навзничь. А трое сидели с цепями по рукам и по ногам, сложив руки накрест перед собой, привалясь к стене.
— Эти трое за оскорбление словом царствующей фамилии, — пояснил майор. — Они тут временно, завтра переведут. Их велено держать в совершенном отлучении от прочих и ни с кем словесного и письменного сношения не иметь… А другие — раскольники, взяты за то, что крестятся не по-нашему, своевольно складывают мизинец с большим пальцем. Им наказанье невелико будет, закон смертью не грозит, кнут и отправка в Сибирь на житье вечно.
Крайний узник зашевелился и сел, повернув лицо к вошедшим. По-видимому, он не спал, а прислушивался, у него были серые зоркие глаза, выступающие скулы. Он был широкогруд, костист, крепок. Над верхней губой змеилась черная полоска усов.
Когда узник взглянул на Матвеева и словно ожег его взглядом, тот не выдержал и сказал:
— Мы живописцы!
Узник удивленно поднял брови и ухмыльнулся.
— А тут все живописцы, — вдруг сказал он спокойно, — только расписывают они заместо красок кнутом.
— Это поручик Блудов, — подсказал Насипов. — Осужден за злонравный пасквиль. Верно говорю? — спросил он у поручика.
Тот кивнул.
"Все провинности изучил, все и вся знает наперечет", — подумал Матвеев с неприязнью.
Темница и узники ошеломили Андрея. Ничего подобного он не видел и вообразить себе не мог. Говорят, что амстердамские, венецианские, австрийские казематы ничуть не лучше! Но тут мрачность была природно русская — ужасная, безысходная, губительная. Андрей стремился разобраться в том, что хлынуло ему в глаза мутным серым потоком, и боялся захлебнуться. Он чувствовал, что душа в нем похолодела и как бы умертвилась. Он не старался ничего запомнить, его не интересовали движения, повороты Головы, подробности. Он смотрел на узкий деревянный стол посреди темницы, на горькое лицо поручика Блудова, которому суждено было сгинуть в этих крепостных стенах, на мутно-желтый свет, оставляющий свежий черный след на закопченном и без того потолке, нависающем над самой головой.
Все это видел и Никитин. Он стоял, насупившись и напрягшись, как стальная пружина. Но думал он сейчас не о темнице, и не об узниках, и не об их плачевной судьбе, а о своей собственной жизни думал.
У него было чувство обреченности и тщетности всего им сделанного. Возникло оно сразу же после смерти Петра, а усилилось после женитьбы на лифляндке Марии Маменс. Неторопливый, основательный во всем Никитин, женясь на этой придворной даме, словно вспрыгнул помимо своей воли на спину разгневанного быка. Его понесло, безудержно закружило, ввергло в пучину. Его природная склонность к созерцанию, к тишине, к спокойствию внутри себя и к несуетности была смята и сломана. Жена была и должна была быть непременной участницей придворных балов и развлечений. Молодую женщину завертело волчком, и в этом хмельном водовороте она недоглядела и потеряла своего единственного ребеночка. Это как будто остановило Марию, но водоворот был сильнее, наглее, настойчивее, и скоро все закрутилось по-старому. А в Никитине медленно произошел душевный перелом. Он поседел, осунулся, жил будто в каком-то затмении. И одно, одно только оставалось в нем неизменным — любовь к живописи. Он мог все снести, все вытерпеть, все отдать, во всем усомниться, но только б не разлучили его с живописью, только б слышать, как ударяет кисть в звонко натянутое полотно, только бы видеть, как одна краска ложится на другую, как на эти две набегает новая, и еще одна, и еще, и они растворяются друг в друге, дополняются, рождая новый тон и новый колер, набирают силу, и многослойность эта возрастает наново, отзываясь новым чистым звуком в душе живописца.
Всмотревшись в лицо поручика Блудова, Иван Никитич вдруг ознобисто содрогнулся. Ему показалось, что это не поручик, а он сам сидит в темнице — пытаный, бледный, затравленный, спутавший день с ночью. И словно видение суда божьего коснулось его, оглушило, ослепило, отражаясь в сотнях невидимых зеркал. Ему стало жарко, будто никогда не проникавшее сюда солнце ворвалось в узкие амбразуры и полыхнуло в лицо близким огнем и пожаром. Он едва сдержался, чтоб не броситься из темницы, не закричать. Переведя дыхание, Никитин сказал, обращаясь сразу ко всем узникам, бодрствующим и спящим, совсем уже преступая все тюремные и крепостные законы и предписанья:
— Бог вам всем в помощь, други!
Плац-майор недовольно поморщился, укоризненно посмотрел на Никитина и глухо сказал:
— Всё! Всё! Пошли отсюда! Вахтенный! Первый нумер закрыть!
Через несколько минут Матвеев и Никитин очутились за воротами. Оба облегченно перевели дух.
Они молча отошли на порядочное расстояние от крепости, прежде чем Иван Никитин сказал, потирая шею ладонью:
— Потомство и отечество наше, Андрей, милый мой, много потеряют, если не узнают, каково тут живется. — Он вытянул указательный палец в сторону крепости. — Может быть, и я это напишу когда-нибудь, а уж ты — непременно! Усердие твое и труд не сгинут с лица земли, не сгинут! Пойми, апостол Петр — один, а узников — тьмы и тьмы. Их рассаживают по клетям, как диких зверей. А они — люди. Вообрази, что ты один из них. И напиши! Напиши не откладывая, Андрей, все как увидел…
Оба уходили в город, отдавшись своим мыслям. Андрей Матвеев никогда уже больше не переступал порога Петропавловской крепости.
…А Ивану Никитину пришлось! И ох как мучительно пришлось, царствие ему небесное! Въехал он в те ворота, куда они с Андреем входили, но только в тяжелом черном закрытом рыдване, как особо опасный государев преступник.
Живописный мастер, каких не много, предстал перед Тайной канцелярией как простой колодник, равный разбойникам и убийцам, обвиненный в лютеранской ереси, в предерзостных рассужденьях о Феофане Прокоповиче, в чтении подозрительных тетрадей с государственными противностями, о коих он, Никитин, не донес куда надлежит.
С того дня, как вышли они с Андреем Матвеевым из ворот, пройдет несколько лет. И будет стоять Иван Никитин в крепости перед мрачным начальником Тайной канцелярии генералом Ушаковым. Случится это 15 августа 1732 года. Великий, необыкновенный, единственный в своем роде талант российского художества вступит здесь в смертельную схватку с главной ищейной собакой двора, льстивой и коварной, привыкшей заискивать и мучить.
Ушаков будет смотреть на художника своими коричневыми кровожадными глазами и прикидывать, какую руку ему сломать раньше — левую или правую. А Никитин, полный достоинства и спокойствия, будет ждать своей участи. Таким он останется и после жестоких истязаний, ибо обрушится на его бедную голову тяжелая, не знающая меры злоба палача.
Ушаков считал, что нужно подвергать одинаковому насилию и духовную, и телесную природу человека — и он не выдержит. А Никитин молчал.
Лазутчики и доносчики были излюбленными собеседниками начальника Тайной канцелярии. Он наставлял их:
— Повсюду, и при дворе тоже, наводите страх на вельмож и простолюдинов, чтоб никто из них не мог спать спокойно и потерял бы всякую уверенность проснуться утром на той же постели, на которую лёг с вечера.
Ушакову было шестьдесят два года, и его крайне раздражало, что хотя лицо у Никитина было измученное, смятое, серо-желтое, он держался все так же независимо. А кто ж не знает, чего стоит раздраженье старика да еще заплечных дел мастера, которому Остерман в приватной беседе приказал с Никитиным не церемониться.
Когда-то в юности Ушаков перенашивал на руках крестьянских девок через лужи. Они удивлялись его силе и повторяли: "Ай, детина! Ай, детина!" Это сделалось у лютого кровососа генерала любимой пословицей.
Слышал почти отеческое и сочувственное "ай, детина" и Иван Никитин, смотрел на палача с ненавистью и спокойным бесстрашием и, делая над собой болезненное усилие, придушенно, тихо, но твердо отвечал:
— Сущую правду говорю, ваше сиятельство, без всякой утайки!
Безвинно терпел на допросах живописец. Но так ничего и не скажет Иван Никитин Ушакову. Не ошибется в показаниях, никого не выдаст и уже едва живой от пыток будет выгораживать любимого брата Романа, слабого здоровьем.
Да и нечего ему было говорить, виноват
он был в том лишь, что по-своему мыслил, а просить не привык. Голодный, обносившийся, истерзанный пытками, он молчал и стоял на своем. А рядом с ним мучились два его брата — Иродион и Роман. Сводили их на очных ставках. Иван Никитин словно окаменел в застенке. Братья не выдержали, подписывали все. Насипов, чтоб не видеть мук человека, которого ценил и уважал, попросил перевода.
Почему пошел Никитин с Андреем смотреть узников? Каким зовом позвало его? Где ж разглядеть это нам в густейшем лесу жизни… И пяти лет не прошло, как вышли живописцы за ворота крепости и услышали, как бьют ординарные часы на Троицкой церкви, а Иван Никитин уже сидел в темнице, вспоминал, и мысли его путались.
"Бить плетьми и сослать в Сибирь на вечное житье" — был ему приговор, подписанный Анной Иоанновной.
Глава четвертая
Два портрета в Петровском
Юдольной жизнию не дорожи, художник,
Росою бытия печаль свою считай.
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!
Мандельштам

ыло указано 10 октября 1727 года объявить всенародно: император Петр Второй возложит на себя корону в Москве, там же будет и его резиденция.
Двор спешно готовился к отъезду. Все! Конец финским болотам! К черту петербургские дворцы и хоромы, куда их силой загнал Петр!
Придирчиво подбирали лошадей. Делали смотры ездовому парку. Смазывались дегтем — в который же раз! — колеса. Они должны были вертеться бесшумно и легко. Выкатывали кареты — розовые, голубые, черные с золотыми орлами: ремонтировали, подкрашивали, обновляли.
Срочно готовили парадные одеяния для московских балов. Не уставая сверкали иглы в руках портных. Кроились горностаевые мантии и накидки. В ход шли разные меха — куница и бобер, лисы и соболя, лбы и лапы.
Дни и ночи корпели ювелиры — шлифовали, огранивали, оправляли. Все торопились. Теперь уже скоро, скоро зазвонят колокола и поскачут кони…
Сановная знать ликовала: ждали-ждали, молились-молились — и домолились. Упросили всевышнего. Услыхал, помог. А ныне в Москву, подальше от вечных туманов, треклятых ветров и потопов! Давно бы так сбежать божьим людям, да Петр — пропасть бы ему раньше! — ни за что не отпускал. А вот внук-то его, вот он-то поумней вышел…
В это время Андрей Матвеев жил в подмосковном сельце Петровском, в имении князя Ивана Голицына. Там ему подвернулся выгодный заказ на два портрета их сиятельств. Не случись этого, худо пришлось бы Андрею…
Князья Голицыны приняли моляра радушно, обласкали, поселили с комфортом в барском доме, ничем не стесняли, и он зажил в полное своё удовольствие. Вольготно бродил по пустошам и отхожим пашням, ненадолго останавливался передохнуть, ходил в окрестные деревни — в Булатово, Оринкино, Бузланово, любовался тихой речкой Липочкой.
Андрей брал с собой альбом — вдруг захочется срисовать ландшафт или еще что, — но потом забывал о нем.
Пришли к Матвееву те редкие радостные минуты, когда хотелось спокойно разобраться в самом себе — что у тебя в голове, что в руке, что на душе… Но, даже размышляя, живописец вбирал в себя все: цвет неба, песню зорянки, слушал, как монотонно шумят в листве дождевые капли. Постепенно к нему приходила здоровая усталость, и на щеках проступал румянец свежести, простора и жизни.
Одетая в багрянец природа, грустная и торжественная в своем предзимнем увядании, вызывала у Матвеева чувство какого-то светлого упоения. Он отдыхал и ничего не ждал больше — ни от людей, ни от судьбы, ни от себя самого.
Какое блаженство — никуда не спешить, никому не повиноваться, а только глядеть, думать и вот так шагать и шагать без конца!
В замок, как почтительно называл свой дом князь Иван Алексеевич Голицын, Матвеев возвращался только вечером и еще довольно долго сидел на лавочке, разглядывая его. Замок ему нравился, он был прост и легок: стрельчатая готика, большие окна, много комнат. Весь фасад занимает галерея. Боковые двери соединяют ее с флигелями. Почти к самому замку подступал густой лес. В треугольнике воды, там, внизу, где сливались Истра и Москва-река, отражались деревья и низкое небо. В непогоду оно было серым и туманным.
Очень хороша была каменная церковь в Петровском — высокий восьмигранник с четырьмя полукруглыми выступами. Башня венчалась куполом, а из него подымалась еще маленькая башенка, в ней помещалась звонница. Утром и вечером на ней пели на разные голоса колокола.
Удивительный иконостас был в этом храме Успения. Благоговейно всматривался в него Матвеев. Он знал, что иконостас этот писали тут же, в Петровском, Симон Ушаков со своими учениками. Бывшие владельцы замка — Прозоровские — засадили иконописцев и сказали: "Вот харч, вот водка — и сидеть, пока не окончите!" И все было сделано — семь саженей в высоту, а в них пять иконных рядов. Каждый в человеческий рост! Матвееву помимо портретов теперь предстояло подновить иконостас. Вот это дело было ему по душе. Он еще в Голландии полюбил работать по дереву.
Немного обжившись, Андрей заговорил о первом сеансе. Начать он захотел с княгини и сговорился о времени с дворецким.
* * *
Княгиня не вошла в комнату, а въехала, как парадная карета. Она вся была на пружинах — золотая, багряная, голубая. На небольшом медальоне сверкал портрет Петра.
Голицына милостиво кивнула живописцу и опустилась в штофное кресло.
— Так? — спросила она.
— Позвольте, ваше сиятельство, — изогнулся в поклоне Матвеев и тут же ринулся к ней. — Так! Но вот тут бы…
Он взялся за подлокотники и вместе с княгиней развернул кресло к свету. Потом посмотрел, покачал головой, еще чуть выдвинул кресло вперед, а после этого легко и артистично двумя пальцами взял княгиню за подбородок и тоже поправил ей голову по-своему.
— Вот теперь совсем хорошо! — сказал он удовлетворенно, еще раз сощурился на княгиню, проверяя освещение, и отошел к мольберту.
А Голицына вдруг засмеялась:
— А ты того… ухватист…
Голос у ней был чистый, как говорится, без трещинки. "Ох, и заливалась же она, наверно, в молодые года!" — подумал Матвеев.
Княгиня была полна, белолица, румяна и еще хороша собой. Оделась она в темно-красное платье-роброн с глубоким вырезом, на груди золотая брошь. У ворота и на рукавах платье имело белые оборки. "Белое на винных тонах взыграет", — мимоходом подумал Матвеев.
С плеча Голицыной сползал коричнево-фиолетовый плащ, схваченный двумя золотистыми камнями на зеленой ленте. А медальон в бриллиантах висел на голубом банте.
"М-да, колоритна", — подумал Андрей, разглядывая княгиню жестким, колким взглядом.
— А мы ведь с тобой давно знакомы, моляр, — заметила княгиня, — ты в Голландию ехал в нашем обозе, а я с императрицей в карете сидела… А ныне ты вон какой стал: гоф-малер, кафтан шелковый… Хвалю! Сумел — и добился!
Андрей поклонился и слегка провел кистью по щеке, пробуя ее мягкость.
— Хвалю, моляр, хвалю! — повторила княгиня, вкладывая в это слово уже что-то иное.
— Благодарствую, ваше сиятельство!
— Себя благодари, — холодно вздохнула княгиня, — я к тебе не причастна.
Палитра у Андрея была заранее подготовлена, и он без задержки начал работать. Наметил коричнево-красный фон, йотом черной жирной линией сделал овал. "Будет сидеть у меня как в круглом зеркале", — решил он. Очертил разворот фигуры, потом уточнил его и набросал легкий рисунок массы лица, наметил подбородок, губы. Натура стала плавно и ясно ложиться на полотно.
Живописец уже заканчивал первую прописку черного парика, как вдруг ее сиятельство негромко сказала или позвала:
— Эй! — и даже будто прихлопнула ладошками.
Матвеев опустил кисть.
— Вы меня? — спросил он.
— Да нет, не тебя, — с легкой досадой сморщила нос княгиня и повторила уже громче: — Эй, эй!
И тут створки белой блестящей двери с золотыми амурами над скачущим всадником с поднятым мечом — фамильным гербом Голицыных — бесшумно распахнулись и по-солдатски четко и серьезно вошел с подносом стройный молодец в белом камзоле и парике. На подносе стояли два кубка. Княгиня сделала какой-то неопределенный жест пальцем. Слуга опустил поднос на подзеркалье и вышел.
Княгиня, сохраняя ту же неподвижность талии и лица, взяла один кубок и кивнула моляру на второй:
— Бери!
— Так, ваше сиятельство, работа же, — смутился Матвеев.
— Бери, бери, — добродушно воркотнула Голицына. — Ишь заусердствовал, работа — она не медведь…
— Так-то оно так, — улыбнулся Матвеев, — но ведь…
— Вот тебе и ведь, бери! — Она постучала ногтем по кубку. — Ром. Бордоский. Особливый. Он только у Голицыных бывает. Такого и во дворце не подадут. Я его более чего другого по утрам почитаю… Ну-ка, ну-ка, погляжу, как ты его…
Матвеев робел. Он едва дотронулся до ножки серебряного бокала.
Княгиня нахмурилась.
— Э-э, дрянь… дрянь! Красная боярышня ты, а не мужик. В наше время таких-то… Вот гляди! — Она откинула голову и сразу опорожнила кубок. Двумя пальцами вытерла опущенные уголки губ.
И, словно только ожидая этого, вошел слуга и поднес княгине тарелочку с какой-то снедью. Она слепо пошарила по ней, взяла что-то, зажевала и махнула рукой. Слуга исчез, а княгиня снова приняла точно такое же положение, как раньше. И Матвеев удивился: до чего же здорова и гибка сиятельная, ничего ее не берет, сидит прямо, будто мраморный статуй!
— Да, не видел ты, моляр, как пивали при дворе его императорского величества, государя Петра Великого. Впрочем, это он другим был император, а для меня "господин бомбардир" и "корабельный мастер Петр Михайлов", а то "господин шаутбенахт"… Ну, не ставь, не ставь! Пей до дна, да духом, духом единым. Не тяни за душу глоточками, а не то рассержусь!
Тут за спиной моляра послышались какие-то робкие звуки. Он обернулся и увидел в дверях высокого тощего старика с утиным носом. Старик кашлял для деликатности в платок и что-то показывал на пальцах.
— А тебя, князюшка, и не догадались пригласить, — спокойно засмеялась Голицына, — такие мы тетери! Ну, мы люди работные, занятые. А им, — она кивнула на дверь, — я еще задам…
Князь слабо махнул рукой и не то что-то сказал, не to о чем-то тихо предупредил.
— Ладно, ладно, оставь, — с ленивой раздражительностью проворчала Голицына, — сама знаю! Лучше подойди — поцелую!
Князь подошел к креслу, и его пьяно, мокро чмокнули в щеку. Он погладил княгиню по плечу, а та поморщилась и отмахнулась от него тонкой, худощавой ладонью.
— Иди, батюшка, иди. Тебе в кабинете приготовлено.
— Да я… — начал было князь.
— Ты мне скучишь, Иван, некогда. И моляру мешаешь!
Голицын робко глянул на сердитое лицо княгини, закивал головой, двинулся было к двери, но через несколько шагов в нерешимости замер, снова вернулся к жене и что-то пошептал ей в самое ухо.
— Да неужто? Да ты что? — шутливо переспрашивала княгиня, слушая мужа, а сама подмигивала Матвееву.
Потом она положила ладонь на рот Голицына и легонько оттолкнула от себя, князь повернулся и исчез так же незаметно и бесшумно, как дворецкий.
— Видал? — засмеялась княгиня. — И в чем душа держится? А все за свою честь радеет, петушится… Эх, старость! А знаешь, какой орел прежде был! У-у!
Матвеев улыбнулся, не переставая работать.
— Это он за язык мой боится, — объяснила Голицына. — Да что нам теперь-то бояться? Пусто-ое! Бойся не бойся, а смерть у порога. Да… Все изведали — и царскую милость, и гнев государев. Там была, куда и солнце не светит… Подвалы и тьмы — саму себя не узришь! А вот опять те же самые звезды носим. Так-то, моляр. А ты знай работай. Крути кистью. Со мной не пропадешь, а коли пропадешь, так так, что и следа не отыщут! Значит, и плакать нечего! Так? Так! Ну-ка, покажи, что там у тебя выходит…
Настасья Петровна прищурилась, нагнула голову туда-сюда, отклонилась назад, разглядывая.
— Да неужто я так еще ладна? — смущенно и недоверчиво засмеялась она. — И волосы у тебя особливо хорошо легли. Эх, смерть моя волосы! Бывало, Петр ухватится за них двумя лапищами, потреплет и спрашивает: "И откуда на тебе, Настёна, густота такая, паче меры взошла?.." Работали они дотемна.
Затем, уже при свечах, еще выпили. Вернулся к себе Матвеев пьяный, но довольный. В особенности удались ему губы княгини — тонкие, надменно-обиженные, смешливые и жестковатые.
На другой же день Андрей снова стоял у мольберта. Княгиня уже успела причаститься ромом. Держалась она с Матвеевым совсем по-свойски. Называла его "душа моя" и рассказывала.
— Ныне времена совсем иные настали, — говорила она, — сейчас вон любая краля как хочет, так тебе и спляшет, ей что менуэт, что контраданс, что полонез — все одно давит ноги, как конь, и все тут. А прежде сам царь показывал, как надо правильно выходить, как стоять, как поворачиваться. Все он умел, все! И это тоже…
А пьют зараз как! Да разве ж так пьют? Так только, балуются. Вот ты кубок берешь двумя пальцами и тянешь глоточками… Питухи! — презрительно сказала Голицына. — Раньше кубок брали во как! — в кулак сграбастают, как хорошую девку! И до самого дна. И кубок, и девку — до дна!
Трезвого по царскому приказу с ассамблей отнюдь не выпускали. В Летнем саду всюду часовые стояли, следили, чтоб никто не улизнул. Царь, бывало, утомится пить да хохотать и со своей Екатеринушкой отбудет к вечеру во дворец опочивать, а все на месте остаются — и генералы, и сенаторы, и чужеземцы. Всем один почет.
А ночью царь возвернется, даст приказ: "Выпускать!" И расползаются, кто жив остался. Да не все оставались. Иные так упьются, что и дух отдают. С теми лично князь-кесарь Ромодановский управлялся. И все без шуму, с полным приличием правил. Стащат мертвяка так, что никто и не догадается: хмельной, мол, перебрал сильно, на ветерок его надо! Давайте, мол, за его здравие выпьем, чтоб жить ему еще сто лет! Хох! Ура! И пьем! Сначала чарочками, потом стаканами, а под конец уже и с тарелок лакали.
Ну, и закуска, надо сказать, истинно царская была. Не скупились — индейка с орехами, рыбы в лохани не помещаются, хвосты отдельно несут. Седло дикой козы, пирожки всевозможные, соленья, разносолы — как тут не пить! И дамы — первые при Петре, их тогда не много было, не то что сейчас развелось. Вот слушай, сочту тебе, кто был, — княгиня Кассандра Кантемир, жена молдавского господаря Дмитрия, Васса Строганова, дочь тайного советника Новосильцева, да я… Три грации, три сдобных ангела… Отцу моему, государеву казначею, бог сынов не дал, а дочки были две, я и сестра моя Аграфена, она младше меня была, а померла двадцать уже годов назад, а мне, видишь, через десять дён шестьдесят два годка стукнет… Так-то, милый моляр, душа моя…
Княгиня вспоминает что-то свое, думает, вздыхает, смахивает слезу. А Матвеев то неотрывно пишет, слушая Голицыну, то прикидывает и колдует. Ну как это обычно бывает у живописцев.
Княгиня вдруг улыбнется, сверкнет глазами и продолжает:
— Царь Петр Алексеевич добрый был, царствие ему небесное… — Настасья Петровна взяла в руки медальон с портретом Петра и приложила его к губам. — Назовет он к столу своему простых людей, подлую чернь — канцеляристов каких-то, сторожей, мастеровых, — и никто не был в обиде. И сидит меж князьями знатными черная кость вровень с голубой кровью. Тут тебе адмиралы и господа дворяне, столпы отечества, вперемежку с ними певчие, музыканты, и садовник Ян Розон, и резчик Яков Лей, и аптекарский огородник чужеземец Денис — ну, тот учоный был, его царь из Парижа привез. А Петр, монарх всемилостивейший, кричит мне:
"Настёна-сластена, ты изюмных ягод-то не жри больно да грецкие орехи тоже оставь! Я ими обезьян кормлю, товар заморский, большие деньги плачены!"
А я горстями, горстями их в рот.
"Тебе ж говорят, не жри! Мартышек уморишь, все с голоду передохнут!" — во все горло хохочет Петр.
"На них, говорю, и проса хватит!"
"Помилуй детушек моих! На просо у них нет спроса, они этого не потребляют. Им орехи да изюмы надобны! От этого у них и задницы красные!"
Все кругом заливаются, катаются по столам. А я царю:
"Питер, бомбардир сердечный! Господин вице-адмирал! У вас кораблей много понастроено. Еще понавезете изюмов и орехов. Моя губа не дура, сей прокорм и мне по нраву! Буду жрать!"
"А-а-а, так ты и есть мой главный обезьян? Ну-ну!
Жри-жри! Черт с тобой! А я завтра же — хо-хо-хо! лично досмотрю — ха-ха-ха! — что там у тебя под юбкой приключилось, если не больно красная, крапивой подкрасим!"
И
я тоже со всеми хохочу от души. Эх, и весело было нам! Ты не думай, моляр, я себе цену знала. Хоть и забулдыгой-гуленой была, шутихой… Я все, все разумела. И что я княжева дочь, и что князя Голицына жена, и что царю утеха…
Я всех насквозь видела, и себя тоже! Не скажу, что красавица, и получше меня попадались, но все у меня тоненько, аккуратненько, все на месте. Молодость — она молодость и есть: как ни встань, а все ладно! Бывалоча, надену наилучшее немецкое платье, волосы черные накладные распущу, на них перевязь золотная с канителью — статс-дама хоть куда! Да где ж она теперь, наша молодость с золотым ободком!.. А знаешь, душа моя, ведь и ваш брат моляры на царских пирушках часто бывали, их государь очень любил. Помню Шхонебека, маленький такой, кривоногий, бровастый, Пикара помню, часовщика Якима Горноля, Зубовых-братьев, Бунина-грыдыровальщика, Никитина Ивана — персонных дел мастера, Закройщикова Василия — живописца, красив был и плясун отменный. Знакомы они тебе?
— Как же, как же, ваше сиятельство, не только знаком был, но и дружб их удостаивался… Первостатейные мастеры! Дивлюсь только лишь одному: как вы все помните — имена, фамильи?
— А что ж не помнить? Постоянно видывала их… Я ведь, моляр, жила как бы в двух ипостасях. Одна — это князь-игуменья, бездонное горло, сорвиголова, всешутейный собор, всепьянейший сброд. Соборяне сплошь обжоры и пианицы, блудники — пей, жри, любодействуй, пока назад не попрет! А у меня еще и другая ипостась была. — Княгиня приподнялась с кресла, легко сделала пируэт вокруг него, потом снова уселась по-прежнему. — А другая ипостась моя — статс-дама, наследница знатного боярина Прозоровского, начальника Оружейной палаты. Вот видишь, как черт и ангел воедино сплелись во мне. Шутиха и статс-дама. И как это, а? Смекай. И все шло хорошо. Двое сынов у меня народилось. Первенца родила в тридцать четыре года, князя Федора Ивановича, а второго, князя Алексея Ивановича, как раз в тот год родила, когда первый гром надо мною грянул, в 717-м…
Мне тогда уж пятьдесят два года было. За границей я сопровождала императрицу Екатерину в поездке. Тут и пошло, и разразилось. Срочно из Копенгагена-города требуют меня в Москву. Все бросить и лететь стрелой. Ну и поскакала на свою голову. Домчалась! А меня сразу же в каталажку, в Суздальский розыск. Матом допрашивают, дыбу показывают, заплечный мастер вокруг меня ходит и ухмыляется: "Ах, и хороши же вы, ваше сиятельство! Ах, и в теле же!"
А у меня леденящие мурашки по спине, хоть я и не из пугливых. Душа во мне застыла. Да еще и царя в Москве нету и царицы тоже. И хотя меня тут пока не трогают, а вокруг стон и вой стоят. Не заснешь. И все по одному делу — за царевича Алексея Петровича. Уже и головы рубить начали, на кол сажать, на колесе ломать. Дворцовые обыкновения я-то хорошо изучила, слава богу. Кто и чем держится, знаю: угодничают, льстят, подстилкой подножной простираются. А чуть что — утопить всегда готовы…
Матвеев тем временем быстро прописывал платье от шеи донизу. Он работал сиеной и радовался, что ему удалось кое-что схватить в облике княгини. Все время, пока он работал и слушал, от него что-то ускользало, не давалось в лице. Он уже изучил этот спокойный облик Голицыной, ее невозмутимый взгляд, высокий гладкий лоб. Писал Андрей и ощущал горчинку неудовлетворенности, беспокойство. Внезапно несколькими незаметными для себя мазочками живописец соединил наконец ускользающее, уцепил какую-то мелочь в мимике — и все стало на свое место незыблемо. Андрей радостно ухмыльнулся, а Голицына, не глядя на него, продолжала:
— Меня, моляр, в двух винах обвиняли. Первая — недонесение слов на расстригу Демида (это его потом расстригли, чтобы можно было пытать). И вторая вина моя — в перенесении слов из дома царского к царевне Марии Алексеевне, двоюродной сестре Петра. Ну, я во всем отрицаюсь. Признаться — так из тебя каленым железом будут тащить новые признанья, да еще и других, безвинных, под пытки подставишь. А что толку? Знаешь, моляр, все можно простить, все. Но три действа никому на свете не прощаются — измена, предательство и оскорбленье. Остальное же — вины, только вины… Да. Ссохлась вся, изболелась от дум. Сижу месяц, второй, третий. А следствие идет. Меня отец навестил, поддержал духом маленько, успокоил. Говорит, государь скоро вернется, сам во всем до истины дойдет. И вот наконец прибыл Петр Алексеевич в Москву. Царь ты мой небесный, думаю, чудотворец, неужто Настёне своей дашь пропасть, вызволи, помоги!
Меня к нему допустили. Взглянула я на него — не узнала! Черсн, страшен, рот в сторону дергается, губу большим пальцем придерживает. Я сразу же в ноги:
"Яви мне свою защиту, батюшка!"
Он зверем глянул, обматерил и кулаком в нос мне как ткнет!
"Защити! — воплю. — Вызволи!"
Всякого я его видывала, а такого еще не доводилось.
"А, запросилась! — рыкнул. — "Защити"! "Вызволи"! А меня кто защитит? Кто-о? Все вы против меня, все! И ты туда же, прогалина чертова! Один я! Один! Никого вокруг. Сын — и тот…"
"Помилуй, батюшка! Не виновата!" — ору.
"Вспомнила?! "Батюшка"?! Не-ет! С кем по грибки, с тем и по ягодки!"
И пошел на меня:
"Вон! В батоги ее! Назидайся батогами! Собачина! На прядильный!"
И как глянул на меня, а глаз у него хлесткий, шибче кнута… У меня ноженьки и согнулись, руки плетьми и повисли, голосу как не было. Как меня уволокли, и не помню. Одно только дошло до меня — пощады не будет. Ну, думаю, готовь, княгинюшка, спину и зад под батоги. Вот шутили тогда, что зад будет красный, как у мартышки, да и дошутились. Хорошо, если еще живой останусь. Баба — она всегда баба и есть. Ну, отпустили мне горячих, но вот жива, не запороли. Жива… Ром попиваю, вот тебе в портрет списываюсь. А тогда, помню, молилась: "Господи, господи милосердный! Огради меня святыми ангелы твои!" Оградил, только батогами. Ну, я не сильно печалилась: жива осталась — и ладно. А завсегда так бывает: портной ошибся, а повара бьют. Да. Отодрали меня изрядно, неделю на спину лечь не могла. Водой колодезной меня поливали, чтоб скорей затянуло, потом тряпки с каким-то зельем стали класть, чтоб шкура срослась. На животе спала. И верно как та мартышка стала. А только покорилась я с христианским терпеньем, никого не выдала. Слава богу, думаю, не каторга, не ссылка. От двора меня, конечно, отвадили. Я в деревню уехала, на Мологу, в Ярославскую губернию. Ну, матушка государыня, дай ей бог царства небесного, меня вскоре возвернула, упросила Петра. Так-то вот, дружок.
…Матвеев работал. Теперь он уже точно знал, что и как ему надо писать, сам собой нашелся нужный цвет. И цветом этим, легкими прикосновеньями кисти, отметил Андрей в лице княгини характерный привкус ее губ и шалые глаза, все еще юные, дерзкие, козьи. И губы! губы! — а в них вся жизнь и судьба. И весь облик Голицыной открылся ему вроде бы заново. Непокорство, трезвый ум, гордость. Обиженная надменность — вот смысл портрета княгини Анастасии Петровны Голицыной кисти Матвеева.
А что шутихой была при царе Петре, так кто ж из нас в этой жизни шутом не был? Кто, скажите, люди добрые?
Окончив портрет княгинюшки, Андрей Матвеев тут же решил приступить к следующему. Пришел черед писать князя. "Махну его в три дня, и дело с концом", — подумал Андрей.
В назначенный час моляра ввели в покои его сиятельства. День был пасмурный, и у князя ярко горели свечи. А сам он сидел бодрый, подтянутый, в звездах и лентах и чему-то надменно улыбался.
Андрей глянул на него и смешался. "Боже мой, да ведь это совершенная деревянная кукла! — думал он. — Живое пугало, как же его написать?" Его душил смех, и чтобы не рассмеяться, Андрей спрятался от князя за подрамник с натянутым холстом и стал там намеренно громко перекладывать кисти и скребки. "Ну, попал! Ну, положение!" Андрей собрался с духом и выглянул. Князь встретил его взглядом, полным детского любопытства. Он сидел и терпеливо ждал.
"A-а, так вот в чем дело! — сообразил Матвеев. — Портреты ведь парные, висеть будут рядом. Значит, князя и княгиню надо представить на равных. Во всем блеске их сиятельного величия. Представить учтиво и прилично, ничего не умалить, не укоснить. А чего нет — добавить, прикрасить. Против княгини, конечно, ничего не скажешь. Она в портрете выступает павой. А вот князь-то, князюшка… Подгулял, подгулял малость — стар, дряхл, лицо табачного цвета… Не одобрит его таким потомство. Явно не одобрит. И что толку, если губы его тонки, презрительны, властны, породисты? Тут на них не спляшешь… А горло? Все в петушином пуху. И на брабантских кружевах тоже не отыграешься, если из них торчит эдакая похожая на желтое голенище шея…
Как же все это приподнять? Ну, закрою я ему шею белым платком, а с этими совиными глазами что делать буду? И чего это он на меня так вытаращился? — Андрей поднес к глазам ладонь, чтобы не видеть лица князя. Смотрел, как освещена фигура. Потом еще раз пристально посмотрел на длинное, скучное лицо Голицына и совсем запечалился. — Не за что, совсем не за что зацепиться! Во всем лице ни одной черточки, негде остановиться, но, — вспомнил он слова своего учителя Якоба де Вита, — "Начинай, а там колорит сам потечет с кисти". Как же, потечет… Но делать-то все равно нечего. Перекрестился Матвеев и начал…
Широкими короткими мазками он проложил по теплому красно-коричневому грунту белые облака с серо-розовы ми краешками и сделал синее-синее небо. "Может, что-нибудь и выйдет, — чуточку успокоился Матвеев. — Фон будет живее, а дальше?"
Он обмакнул вдруг кисть в одну краску, в другую, в третью, в четвертую и, сразу накалясь яростью, крутанул по палитре, стал остервенело записывать холст как попало. Не нравился ему князь, не лежала к нему душа. Андрей не писал, а просто махал кистью бездумно и злобно, как борзописец.
Когда-то в Антверпене, в Академии художеств, его учили так: "Колорист, — говорили ему, — идет от мазка к мазку, словно путник по тонкому льду, мазнул — будто пощупал ногой, выдержит или не выдержит, убедился, что выдержит, и пошел дальше…"
Эх, какой там, к чертовой матери, колорит с этой куклой! Матвеев замазал цветастой грязью весь холст, оставив нетронутым только верх с кусочками фона, потом развел кистью, чтоб везде был слой одинаковой толщины, и стал втирать краску пальцем.
Так, постепенно, он вызвал из этой грязи лицо, вначале застывшее и неживое, но густо написанное, охристое, потом дал ему небольшой продых розовым и подбавил света. Вроде стало что-то вырисовываться, но сделать князя умным и значительным Матвеев не мог. Это было совсем уже против его правил: писать не саму модель, а фантазировать по поводу… Так пусть Голицын будет суровым и замкнутым. Он искал для этого хотя бы маленькую зацепочку в костюме. Прикинул, как выглядел бы на плече князя красный плащ, наметил его, навел блик на кончике носа, осветил щеку и разрез губ, усилил тени. Получалось как будто ничего. Воинствен князюшка… Ну что ж. Это уже что-то.
От этого можно танцевать дальше. Тут и плащ как раз пойдет…
Что бы еще такое придумать? Поставить голову фронтально? Совсем фронтально? Так писал Иван Никитин, и у него это получалось. Что же, попробуем и мы. Позаимствуем методу, оправдавшую себя. Доброму вору все впору… Ага, кажется, что-то проглянулось. Что-то похожее на значительность выскочило на этом индюшачьем лице. А что, если одеть князюшку еще и в латы? Ого! Вот это будет горазд! Да, засунуть его дряблость и дребезжание в сверкающую, чистую, холодную сталь… Да, латы, латы. Андрей сразу повеселел. Быстро написал латы, высветил бликами, а поверх набросил красный плащ в крупных острых складках, Гляди-ка, совсем складно учинилось…
Моляр принялся за напудренный парик, подбираясь к главному в портрете — к голове. "Наша кисть пляшет так, как звенят серебряные крестовики", — смеются живописцы. А что? Так оно и выходит. "Странное все ж у нас ремесло, — подумал Матвеев. — Вот сидит перед тобой человек, но это не человек, а модель, потому что ты ничего про него не знаешь и, значит, волен придать ему любую форму, одеть его хоть в капот, хоть в латы, превратить его в солдафона, или в короля, либо в сирую старушку мужеского пола. Думай, проникай, создавай, входи в нутро, как искусный лекарь, который должен суметь определить хворь, только мельком взглянув на больного. Кто же знает, каков этот Голицын? Добрый он или злой, мягкий или жестокий? По виду безобидный, много вынесший, в преклонных летах, глаза кроткие, лицо мятое, безвольное. Весь он вроде придатка к своей сиятельной шутихе".
— А латы зачем? — вдруг громко спросил князь Голицын, и голос его был нормальный, без скрипа.
Андрей на минуту растерялся, так этот голос не подходил к наружности князя. Моляр совсем уже свыкся с мыслью, что рисует куклу или чучело.
— У живописцев, ваше сиятельство, — ответил он, — есть свои хитрости, тонкости, секреты. Если я
напишу темно-серые латы и оттеню их темно-красным плащом, это сразу же придает вашей фигуре движенье, а лицу вес и форму…
Голицын кивнул головой:
— Вон оно что. Понимаю, понимаю… Ну что ж, коли так ремеслу твоему следует, то делай с богом…
— Вы не огорчайтесь, ваше сиятельство, я все надлежаще исполню. Латы — они вроде наружного фасада, а мне главное — во внутренние покои заглянуть, душу ухватить. А это сразу не дается. Душа — она ведь, знаете… — Словечко "егозливая", которое у него на языке вертелось, он произнести не посмел.
— Знаю, знаю, — подхватил князь, — душа — она бестия хитрая. — Князь усмехнулся. — Это ты прав. Вот из княгини ты душу здорово вытащил наружу, с отменным художеством, да!
"А он ведь не такой глупый, хоть и пух на нем петушиный, — подумал Матвеев. — И фамилию свою, пожалуй, оправдывает. Голица — это железная перчатка. Рыцари ее носили. А рыцарю быть дурнем не полагалось — враз голову снесут!"
— Значит, вот какова у меня душа, — удивленно довольный покачал головой князь Голицын, — гордая да воинственная… Таковая только в баталиях вырастает, а в них я употреблений не имел, не довелось… Зато огорчений в жизни моей столько приключилось — на целый лейб-гусарский полк хватит, не перечтешь все. Как не пропал! Как не пропал… А вот и не пропал. Живу! Хотя задом наперед, как рака, живу. Впрочем, сейчас уже только дымлю, как курилка. Тебе княгинюшка рассказывала небось про все наши беды? Она любит рассказывать.
Его тусклые, совиные глазки вдруг блеснули остро и жестоко.
— Да мы все больше вокруг портрета говорили, — уклончиво ответил живописец.
— Ну-ну! Ты, Матвеев, меня не бойся, ей-богу! Мы, Голицыны, всегда чести старались придерживаться, душу свою хранить в чистоте да опрятности. Хотя скажу тебе, что душа не только хитрая бестия, но порой даже и воровская… А бить нас били… Да еще как! А я всегда потом богу молился, милости его испрашивал… И ныне молюсь. Да… У меня уже две тысячи рублей на помин души моей отложено, а там хоть трава не расти. И местечко я себе в Богоявленском монастыре, что на Никольской улице, присмотрел. Удобненькое! Там березка. Там родничок. Утром птички прилетают, поют… Только лежи! Лежи! — повторил он с какой-то не то скорбной, не то злой ухмылкой и задумался. Погодя немного добавил: — Лежи до трубного часу!
"Птичка, родничок… Тебе вон на помин одной души твоей целых две тысячи надобно, а мне б их на десять лет жизни хватило".
Матвеев тяжело вздохнул.
А Голицын ушел в себя, позабыл про Матвеева, шеве ил губами и говорил будто сам с собой:
— Тяжело мне и одиноко жить… Тяжело, скучно… Впереди ничего не видится, а позади не жизнь, а одно безумство, суета, толчки, швырянье денег, унижения… Жена… благая… драгая… княгиня Настасья Петровна… С детства она избалована была, взапуски веселилась. Мысль о чести ей и на ум никогда не всходила. Где она, эта честь? Кто ее видел? Это ныне она тихая, напьется и спит. А прежде разве ее остановишь? Куда там! Все разнесет в щепы! Никто не мог ее усовестить. Попойки вечные, гульба… Мне все доносят. А что я? Прибегу: "Душечка Настасьюшка, ты хоть потише… Не срами публично…" Поколачивал даже. А что еще оставалось? Убить? И об этом, грешный человек, думал, да не взял на душу, убоялся… Брат мой Борис Алексеевич воспитатель царя, достойный человек. А я? Мужем придворной шутихи состою. Это несмотря на чины, на звезды, на знатный род. "Светлейшая с жаровней" — так ее царь окрестил. Часом сам с ней тешился да другим передавал. Вот куда ты, князь Иван Голицын, докатился. Я тогда не сдержался, письмо царю написал. Всемилостивейший, пишу ему, государь наш Петр Алексеевич, припадаем с малыми детьми своими к стопам вашего царского величества, чем вам не угодил, что могу еще воздать, чем услужить? Почто, мол, вы жену мою и меня на посмешище поставили? Ужели мои деды да отцы заслужили сие?
— Что же государь, ответил? — тихо, вскользь спросил Матвеев.
— Что? Мызу мне под Ревелем подарил — вот и весь его ответ. Таись, мол, там от стыда да молчи знай!
Князь Голицын замолчал, словно впал в небытье.
Каменные часы-пирамида с колонками и бронзовыми львами пробили полдень.
Матвеев взглянул на них и на висевший над ними казенно исполненный портрет Петра в черном камзоле, обвел взглядом всю гостиную. И как будто впервые увидел ее — богатые текинские ковры, расшитые попоны поляцкие, шкатулки, поставцы, хрусталь, бронзу итальянской работы, английские золоченые подносы с выбитыми на них крупными сверкающими конями, стенные зеркала в дорогих резных рамах. Все было расставлено, развешено, размещено с умом и со вкусом, во всем проглядывали богатство и знатность. Замок Ивана Алексеевича и Анастасии Петровны Голицыных и внутри, и снаружи устроен был для тихой, полюбовной, беспечной жизни. Только ничего этого не было тут. И радости тоже не было.
Князь тихо поднялся с кресла.
— Прощай, моляр. Пойду. Адмиральский час пробил. Надо того… принять кой-чего… Душа-то, она, говорю, хоть и хитрая, да хлипкая… трепыхается…
Но, подойдя к двери, Голицын задержался, словно ждал чего-то от моляра. И моляр это почувствовал.
— Это чей портрет, ваше сиятельство? — спросил он у князя.
Голицын осклабился:
— Это князя Бориса Прозоровского, а писал его масляными красками Эрнст Грубер из немецкой нации.
Они постояли у большой картины рядом, поглядели и словно еще что-то поняли друг в друге.
— Знаю, что писано не шибко, хотя взял немало, шельма.
Голицын вернулся в комнату, подошел к матвеевскому портрету, всмотрелся, отдалился на несколько шагов и вытянул вперед худую синюю шею.
— А ты хорошо свою работу делаешь, — сказал князь. — Спасибо тебе, уважил!
Потом постоял, подумал, вернулся, сел и продолжал давешнее:
— Да, скажу тебе, друг мой, в простоте сердца своего, роду нашему скрывать и таить нечего… Когда княгинюшка моя по пирушкам да разным потехам шастала, стал я завидовать своему родственнику Василью Борисовичу Голицыну. Его потолком вместе с супругою за столом у князя Кольцова-Масальского раздавило. Ррраз — и нет! Даже испугаться не успел. Вот бы, думаю, и мне такой бы конец. Не дал бог. Не то пожалел, не то покарал. Не знаю… Вернее, что покарал. Все живут как люди, а я… А мы-то… У брата моего Бориса четыре сына и шесть дочерей. А у меня никого. Хоть бы на это у моей дурки ума хватило. Сорок пять мне стукнуло, когда мне она первого сына принесла. Дождался-таки! Смекаешь? Смекай, моляр. Шесть лет тогда княгиня неотлучно при Екатерине находилась, понравилось ей там, полюбилось, а я жил бобылем. А как ей, несчастной, 28 марта 1717 года всыпали батогов на прядильном дворе, так я снова вроде жену обрел, битую да бритую. Помню, даже с радости ката серебром наградил: бери, мол, да заруби себе на носу, чью задницу расписывал, холуй!
Ну, встренулись мы с княгинюшкой, обнялись, ужаснулись: что не поделили, что не жили прежде, как следовало? И зарыдали оба…
Ну, а по 722 году она снова вернулась ко двору, только ненадолго. Три годка еще погуляла, и уволили ее с богом на покой. А в 725-м мы сына своего женили — вот радовались-то! А жена его Марья Нарышкина померла через три месяца от преждевременных родов. Все одно к одному липнет. А мне тогда уж шестьдесят было. Вечерним сумраком, брат, окутана моя жизнь. Светла, прозрачна пелена, а не разглядишь, где и что…
Князь ушел поглубже в кресло, умолк. Не то задумался, не то задремал.
А Матвеев все писал и писал. Он был искусным живописцем. Знал все, что ему надлежало знать. И даже более того. Он видел и чувствовал то, что другим и вовек не понять. Рассказанное князем не коснулось матвеевского холста, а впиталось в него невидимо, поневоле.
Князь Иван Алексеевич Голицын стар, но тверд и даже воинствен на портрете Андрея Матвеева. Такой была его душа. Таким и сохранился он доселе в портрете. Бывалый воин, хотя и не воевал, сын боярина и воеводы, комнатный стольник царя Ивана Алексеевича. Гордый рыцарь, который, истратив все силы, ничего не выслужил, но и побежденным себя не признал…
Благодаря матвеевскому портрету избежал князюшка забвенья и смерти.

Часть вторая
Живописного дела мастер


Глава первая
Яган-часовщик


ысоко над Санкт-Петербургом среди предрассветного неба висел человек. Он отчаянно ругался.
Ему казалось, что он болтается в петле, как мелкий карманник.
Сонные солдаты, что нехотя подняли его, остались внизу. Где-то на самом дне этой ужасной бездны была твердая земля, а тут он стоял в люльке, и люлька эта ходила под ним, как утлый бот в непогоду. Его подташнивало, как при морской качке, только сейчас под ногами была не белесая вода, а темная каменная пропасть.
Яган Ферстер, голландец, мастер часового цеха из Амстердама, старался не глядеть вниз, в эту бездну, но когда все-таки не удерживался и взглядывал (люлька в это время вставала чуть ли не торчком), у него сразу заламывало под ногтями.
Проклятый канат! Он скрипит и перетирается. И сколько он еще выдержит? И подвешенная душа Ягана тоже перетирается.
Уже было почти светло, и с Невы клочьями плыл туман.
Да, было, было отчего ругаться Ягану Ферстеру!
Какого черта ему, уважаемому человеку, известному мастеру курантов, болтаться здесь?! Увертливая доска под ногами ходила-кренилась, и ее постоянно нужно было выправлять и вылавливать ногами. Тысяча чертей!
Ой, он просто сбесился! Когда нужно обращаться к господу, рн поминает нечистого… Вот нечистый и пустил его волчком, и не дает добраться до единственной твердой опоры. А она, эта опора, была совсем рядом — амбразура узкого, продолговатого оконца в куполе колокольни.
Ах, проклятые, ах, немытые! Сулили рай, орден, а засунули чуть ли не в преисподнюю. И он, старый идиот, поверил им! Поделом ему, поделом, чурбак поганый! Снова выругался. Куда только не полезешь ради проклятых денег! На русских, на город ему, видите ли, захотелось посмотреть! А в этом городе ровно никому нет до него никакого дела! Болтайся себе, срывайся, убивайся! Ах ты господи, боже мой! Где еще найдешь такого идиота? Паче всего, трепетнее всего, дороже всего Яган любил часы и колокольную музыку. Ее он изучил, ей был предан, только ей и поклонялся. Она, проклятая, и завлекла его в Санкт-Петербург. А деньги он бы и дома заработал. Так нет, понесло!
Люлька чудовищно дернулась, заскрежетала о кирпичи колокольни.
Часовщику показалось, что с него сдирают кожу. И сколько ему тут изводиться?
Он раскачивался вдоль стены, как маятник.
"Вот перетрется канат — и все!" — устало и почти безучастно подумал голландец. И конец, и останется от него мокрое место! И на что тогда деньги, ордена!.. Тысяча чертей — больших и маленьких! Господи, он опять призвал нечистого…
Черный провал окна в колокольне скользил, надвигался и уходил назад.
Да стой же, наконец! Стой, окно! Стой, башня! Стой, люлька!
Стойте, стойте, стойте!! Он из последних сил рвался к окну, а бес вел его в сторону. Он всем телом жался к шпилю поближе, а черт его гнал от шпиля, от шпиля.
А тут еще вдруг поднялся от Невы сырой ветер, и он сразу продрог до зубов. Через минуту Яган уже и рук не чувствовал — ни ту, что держалась за веревку, ни ту, что дрожала и пыталась забросить маленький железный якорь в черный провал окна.
Как ему удалось это все-таки сделать, он и сам не понимал. Но в первый раз за все это время он подумал о себе хорошо — хоть на что-то он еще способен. Мужик все же, не баба! Люлька дернулась и замерла, будто она всегда так послушно была пришвартована к окну. Скрип прекратился.
Стало очень тихо. Только снизу, с земли, кто-то из солдат удивленно и весело крикнул:
— Гляди-ка, немчура-то наш, залез все-таки! Ну, хват!
— Лучче б он шмякнулся, дьявол! Нам не мерзнуть, и делов поменее.
А Яган на коленях и на руках, а потом просто на пузе протиснулся в узкое окно. И очутился почти в барсучьей норе. Что-то хрустело под ним.
Пахнуло мокрым кирпичом. Часовщик перевел дыхание. Грязной рукой, отер потный лоб. Подтянулся, встал на ноги. Выглянул в окно. Через туман было видно желтое расплывчатое пятно фонаря и неясные фигуры людей.
Потом как сквозь мутную бумагу Яган-часовщик увидел город — волшебный, холодный, перламутровый. Он вставал церквями, соборами, дворцами, слободами, каменными бастионами. Мастер различал Петергоф, Кроншлот, Ораниенбаум, в которых он уже успел побывать.
Город походил на правильный овал с розоватыми краями. При самом взморье, между посверкивающей Большой Невой и Малой Невою, лежал Васильевский остров. По правую же сторону город прорезан был каналами. С колокольни открывался вид на длинный и прямой проспект, похожий на аллею — столько здесь было деревьев.
"Вот дьяволы, какой город спроворили! — Яган ругнулся уже беззлобно и не боясь бога, ибо бог ему был сейчас не нужен. — И что за диковинный народ, — с легкой неприязнью подумал мастер, — город на болоте могут поставить, а довести лестницу до самого купола — так нет, на это ни рук, ни головы не хватило. Ведь была же она до пожара. Ведь была. Вот и лезь, как кошка, царапайся, а сорвешься — туда и дорога!"
Яган Ферстер постоял еще, приходя в себя, перевел дыханье и даже что-то такое крикнул туда, вниз, солдатам: "Ви, шеловеки, мать вашу в крест и в оглоблу!" Но горло его пересохло, да и ругался он по-русски не так, как все в России, — голосисто и горячо, а с натугой и с боязнью. Солдаты внизу и не поняли, но дружно захохотали и тут же ответили ему — кто по-голландски, кто по-немецки. Что-что, а ругаться в Санкт-Петербурге умели на всех сущих языках.
Яган спрыгнул на кирпичный пол колокольни, расстегнул широкий пояс и начал снимать инструменты. Тут поверх ватного кафтана у него оказался весь необходимый набор — гаечные ключи разных размеров, зубила, конус, метровка, молоток увесистый, скребки мягкие и жесткие, щетки такие и эдакие, масленки большие и малые, плоскогубцы, кусачки, резаки и еще какие-то заковырины и крючки, названия и назначенье которых знали только дел часовых мастера.
Яган послушал ход часов, они шли исправно, но колокола давно уже молчали. А их тут было изрядно — тридцать пять больших и малых колоколов. Целый музыкальный город. У всякого колокола было по два молота и по одному языку, часовые куранты играли молотами, а полуденные — язычками. Яган был этим часам земляк, их привезли из Амстердама в 1720 году, заплатив мастерам сорок пять тысяч рублей.
Часовщик засветил фонарь и приступил к работе. Она была срочная, особая царская. Надо было срезать застывшие куски масла, отладить часовую музыку, заново смазать все части самыми лучшими маслами, все протереть и проверить, подтянуть ослабевшие конуса, установить степень крепления болтов. Работы было много, но Яган был примерный мастер, его знали и в славном городе Потсдаме, и в Лондоне. А уж там-то каких только не было умельцев! И все же Ферстер Яган был и среди них мастер мастеров, и впрямь ли руки у него золотые, или ухо золотое, только эту музыку, наверное, один он и мог сладить. Не знал он, верно, что еще и верхолазом придется ему побыть. А то бы и на аркане его не вытащили. Он работал с великой охотой, споро, но и не больно торопясь. Как и надлежит мастеру его ранга и достоинства.
К рассвету эта деликатная, особая царская работа была окончена. В последний раз ощупав, огладив, словно лаская, и осмотрев каждый колокол, нежно потрогав каждый молот и язык, Яган вздохнул облегченно, обтер руки тряпкой, собрал инструменты, подпоясался и уже уверенно спрыгнул в неподвижную люльку. Там он вытащил молоток и несколько раз ударил в привязанную к борту медную тарелку. Это был условленный знак.
Внизу зашевелились. Люлька, покачиваясь, медленно пошла вниз.
А еще через час, в половине шестого утра первого дня масленицы, как того и требовала императрица Анна Иоанновна, в Санкт-Петербургской крепости на Петропавловском шпице вдруг звонко и празднично затрезвонили все тридцать пять больших и малых колоколов. Они играли заказанную мастеру музыку на лад российский. И звон их был чистый и хрустальный. Словно они радовались, что вновь обрели голоса!
Было уже порядком народу на улицах. Тут же готовились играть на трубах и гобоях полковые гарнизонные музыканты. Но все они остановились и благоговейно слушали мощные, тяжелые удары молота и ласковые переливы меди.
Сам Яган в новом кафтане с бантом, опершись на длинный посох, стоял, строгий и подтянутый, раскуривал трубку и тоже слушал звон курантов. Любой часовщик по одному звону мог бы сказать, что здесь поработал первостатейный мастер. Яган был доволен. Он обо всем забыл. Слаженность бронзовых колес, согласованная работа всех механизмов — это было его ремесло, но тонкое, мелодичное колокольное играние — совсем другое дело. Это было искусство капризное, своенравное, привередливое.
Благодушно наслаждаясь происходящим, Яган совсем не заметил, как к нему метнулся какой-то человек. А тот вихрем налетел, стал тискать, чмокать часовщика в отвислые щеки. Наконец Ягана отпустили. Он перевел дух и тут увидел перед собой Матвеева. Для того Яган был живым приветом из Голландии. А для Ягана встретить в дикой России давнего амстердамского знакомца, ученика его закадычного друга Боонена, было и вовсе нежданной удачей.
— Ах, Андреа, как я тебе рад! Как рад, если б ты знал! Теперь я не один. Уж как струсил я здесь, так струсил! Ты слышишь этот чудный звон? Так знай, старый Яган еще на что-то годен.
Андрей стоял и слушал, наполняясь звоном.
И когда его поздравляли с успешным исходом царской работы, когда удивлялись его уменью и спрашивали, как это он сумел заставить колокольную музыку заговорить такими чистыми, ангельскими голосами, Яган, нахмурив брови, отвечал:
— Ну как же! Ведь и град-то каков! Парадиз.
И совсем уже недалеко было то время, когда с первым весенним ударом грома пробудятся от зимнего сна лягушки и запоют они по всей великой, необозримой Руси, вторя крепостным курантам.
Глава вторая
Автопортрет с женой

ндрей Матвеев родился в первый год восемнадцатого века. Тогда Петр Великий после неудачи под Нарвой пришел к ним в город и, опасаясь преследования шведского короля, повелел строить в Новгороде бастионы по валу вкруг кремля.
К работе употреблены были новгородцы без разбора чина, пола и возраста. Даже здешний митрополит Иов, дабы участием своим утешить и облегчить своих сограждан, несмотря на старость свою, работал при копании и возке земли.
В несколько недель работа совершенно была кончена.
Радовались люди — век начался! Начинался он с первого месяца — януария, получившего имя от Януса, бога мира. Значит, быть миру вовек.
Петр заводил в России новое летосчисление — не от сотворения мира, а от рождества Христова. В указе своем напомнил, что нужно сообразоваться с остальной Европой. Тому много недовольных нашлось. Говорили они, что не мог мир заключен быть зимою, в январе, а непременно в сентябре, во время жатвы и собирания плодов.
Однако вышло так, как того царь хотел, — стали считать с 1 генваря. А для крепости Петр и еще указ издал: "В знак того доброго начинания и нового столетнего века перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным хотя по древцу или ветви на вороты или над хороминою своею поставить и чтоб то поспело ныне, будущего января к первому числу".
И еще предписано было не только поздравлять друг друга с новым годом и "столетним веком", а и производить стрельбу из пушечек и, буде у кого есть, из мушкетов.
Пальба не умолкала целую неделю. Ночью везде горели огни и хлопали ракеты.
В стольной Москве в темно-зеленых кафтанах стоял в параде Преображенский полк, рядом с ним выстроены были на Москве-реке другие полки хорошо обмундированных и вооруженных солдат.
Нововведение требовало торжественности.
Шестого января был крестный ход, но Петр в процессии не участвовал, а стоял с солдатами в полку своем.
* * *
Андрей любил встречать рассвет Он подходил, вставал у темного окна и, подняв глаза, смотрел вверх, туда, где нависал опрокинутый над землей небосвод.
Объятие ночи разжималось, все было втянуто в тусклую, холодную пустоту — в воронку вечности.
В немой тишине что-то происходило, тайное, невидимое, своим непреложным порядком.
Восторг недавней ночной работы еще жил в нем. Он зажмуривал глаза, и куски только что намалеванной картины толклись в нем, как речные льдины по весне.
Когда все еще спало вокруг, небо медленно стало изменяться, дрогнуло. Черный цвет стал серо-фиолетовым, после — густым синим. В тлеющий костер ночи вторгся слабый свет. Тихо прошел он по небу, словно мазнул широкою кистью. Рассвет весь еще был там, наверху, в сумрачном пространстве. И там возникло маленькое светлое окно.
Зоревой плеск, голубея, серебрясь, едва шевельнулся, он не находил отзвука на земле. В этот миг не крикнула птица, не дрогнула ветка, не колыхнулось темное зеркало вод. Только соседка Матвеевых Манька, белотелая курносая девка, невинно раскинув ноги и неслышно дыша во сне своем, улыбнулась привидевшейся ей картине, и горделивая Манькина нагота созвучна была нарождающемуся дню.
Живописец все так же стоял и смотрел на светлеющее небо, и душа его распахивалась навстречу новому дню.
* * *
Андрею исполнилось двадцать восемь лет. К большой его радости, он был жив, полон планов и сил. Писал с радостью и увлечением, каких давно не испытывал. Дни его не походили один на другой — то затишье, а то спешка, гонка, суета. Вот и сегодня его весь день гоняли по канцеляриям, перебрасывали от одного стола к другому — не хватало каких-то бумажек, и каждому столу нужно было что-то объяснять и доказывать.
В мастерскую Матвеев вернулся разбитый и одуревший. "Да ну вас всех к чертям!" — подумал он зло, рухнул на кровать и сразу заснул, а проснулся только вечером. Было темно, он встал, зажег свечи, подошел к столу, сел и стал разглядывать хитрые стенные голландские часы в виде готического собора. Каждый час в них отскакивала дверца, выходил монах в черной рясе, дергал за шнур, и колокол на колокольне отбивал время. Это напоминало Андрею прошлые счастливые минуты жизни. Он купил часы по приезде в Петербург по случаю. Ох, какое тогда было времечко! И Андрей был тогда совсем-совсем другой. И в тогдашней жизни его было что-то простое, ясное, свободное. Жил тогда только настоящим. В те дни он уходил в свою мастерскую еще затемно, зажигал свечи, брал кисть и начинал работать. И работал от утренних свечей до вечерних. А сейчас — не так. Тогда было безмятежное счастье от новизны, от работы. Помимо команды теперь силу жизни отнимают заботы — семья, дети, ученики. Выдаются дни окаянные, нагруженные невыносимой тяжестью. Придешь вот так, как сегодня, домой, почувствуешь свой тяжелый, чугунный затылок — и не пил, а пьяный, и голова ничего не варит. Где уж тут работать… Деньги, как голуби, то прилетят, то улетят неизвестно куда. Вот и сердце начало шалить. И для чего все к чему? Мир все сужается, сужается и в один день сойдет на нет, и ничего не поделаешь. Сего никто не минет… Он подумал: "Не дай бог, если кто-нибудь войдет и заговорит". Он не сумеет ему ничего ответить. Нынче был Андрей вял, тяжел, рассеян. А в голове независимо от всего что-то ворочалось, всплывало, вспоминалось. Что-то виденное в Голландии, подсмотренное тут, в мастерской Ивана Никитина, в дворцовых залах. Громоздились один на другой какие-то цвета, образы. Он встал, прошелся по комнате, подошел к какой-то картинке, висевшей на стене, постоял возле нее и внезапно поразился чему-то, словно что-то щелкнуло в его мозгу. Он даже вздрогнул. До сих пор он жил, работал, как бы подсматривая чужую жизнь. И вдруг ясно и трезво увидел самого себя и рядом Орину, любимую, близкую. Нужно непременно написать радостное, свободное состояние женщины, разгадав сущность ее жизни, соединенной с моей. Да! Двойной портрет. Он и Орина — вот что надо. Точно, точно! Усталости как не бывало. Какой-то восторг произошел в нем. Он быстро схватил карандаш, набросал композицию. Значит, так: на переднем плане Орина. Она сидит в свободной позе и улыбается — так, еле-еле, а чуть позади он сам, в кафтане и в рубашке. Он держит Орину за руку, лицо его спокойно, взгляд твердый, с неким вызовом даже.
"А ведь у нас на Руси никто еще вроде бы и не писал автопортрета, вот так штука!" — подумал он и представил себе вдруг всю картину. Неужто и впрямь никто не писал?
Ошеломленный, он бормотал себе что-то под нос, чертил, зачеркивал, потел, краснел, снова чертил. И не было уже ни злости, ни памяти об обидах. Были только он и то, что ему представилось. Теперь он был снова счастлив своей судьбой.
День угасал. В Андрее все колобродило. Он прикидывал в уме цвет фигур и фона. Двое влюбленных. Он и она. Живописец и его модель. Вот что он соединит в этом двойной портрете. "Да, да, так и только так, и к дьяволу все остальное! И ничего я не хочу видеть, знать, слышать, говорить, пока не напишу эту картину. Она уже есть в голове. Есть! Теперь надо только вытащить ее оттуда на холст…"
* * *
Матвеев отодвинул засов, открыл дверь, окованную железом. Сейчас в просторной светлице было темно и тихо.
Мастерская была не только его обителью, покровом, защитой и отдушиной. Она была и лекарем, снимала усталость, раздражительность, омывала тело и душу, приводя их в спокойное равновесие.
Дохнул в лицо застоялый запах краски, джутового холста и скипидара. Он тяжело и плотно затоплял все вокруг. Андрей потянул ноздрями с наслаждением запах родного приюта, потом вдохнул всею грудью. Этот дух волновал, въедался в вошедшего. Густой масляный дух отшибить нельзя ничем и на трех возах не увезти. Его можно было ощупать пальцами и даже услышать. Странный и душный запах родился в Европе, когда Иоанн Ван Эйк изобрел способ смешивать стертые краски с маслом, а случилось это в 1410 году.
Случайному человеку невдомек, как можно тут дышать: ест глаза, забивает рот, одуряющей тяжестью сдавливает горло. А для художника это услаждающий аромат, врачеватель и успокоитель. Он приводит живописца в согласие с окружающим.
Матвеев уверенно шел в темноте по мастерской, здесь все было тысячи раз промерено его шагами. Он зажег большую масляную голландскую лампу на окне, и его черная тень встала поперек комнаты. Потом зажег вторую лампу на столе, и другая тень легла на потолок. Потом и третья тень его оттиснулась резким силуэтом, прорезав стену наискось. Лампы были добротные, давали ровный желтый свет. Два больших, от пола до потолка, застекленных окна выходили во двор, и мастерская смотрела через них в ночь, а днем они давали боковой неяркий свет, вполне достаточный для того, чтобы виден был на треногом мольберте весь холст.
Стены были обшиты досками, а поверх обиты узкими лентами голландской позолоченной кожи. Прямо против двери висел портрет Петра Великого, который Матвеев написал еще в Гааге.
Художник надел рабочий фартук, некоторое время перебирал и бегло рассматривал кое-какие из повернутых к стене работ. Потом подошел, задернул занавески на окнах, будто отделился ото всего, и сел на большой сундук, застланный войлоком. Закрыв глаза, Андрей глубоко задумался, сильно напрягши внимание на том, о чем никто и сам даже бог не знал. Постепенно лицо его как-то странно сократилось и сжалось: почти не стало расстояния между верхней частью носа и подбородком. И тело тоже уменьшилось, а жизнь в нем будто прекратилась вовсе. Теперь уже ни кровинки не осталось на всем лице — ни на лбу, ни на щеках. Все черты смазались и обрели оттенок восковой, даже перламутровый. С двух шагов это уже было видение не человека, а небольшого темного свертка.
Матвееву виделись лица, руки, глаза, которые нужно написать. Они были реальные и расплывались. Сделать хотелось легко, с первого мазка, и гладко прописать. Держать в душе искусство голландцев. Разобрать на части и понять на холсте ценность человека, а после составить одно целое и выразить сокровенное в нем, отбросив светский поверхностный лоск, рассудочность и холодную застылость форм.
Он вспомнил Голландию, подернутую серой дымкой времени…
…Ныне Голландия была далеко. Но все еще наполняла она душу живописца, рисовалась часто его воображению как сквозь легкий сон. Она была для него сокровищницей древностей, обычаев, традиции. Помогала жить.
В Амстердам Матвеев ехал в обозе Екатерины, которая в 1716 году отправилась в большое путешествие в Данциг, Шверин, Фридрихштадт, Копенгаген. Когда ехали, впереди себя и чуть слева художник все время видел карету графа Головкина с фамильным гербом. И сейчас Андрей мог бы нарисовать этот герб-щит, разделенный на четыре поля, посредине другой щитик, в коем в золотом поле стоял лев на задних лапах, потом шла рука с обнаженным мечом, черный орел с золотым носом, а наверху щита на графской короне выбит был лев со шпагой в лапе.
Ехал он, чтоб обучиться у голландских живописцев их науке с прилежанием, дабы самому воротиться домой искусным мастером. Посылаемых за границу за немалые деньги русских Петр хотел так обучить, чтоб они со временем оказались необходимыми государству.
В том же году Андрей писал в Петербург, к Екатерине:
"По именному вашего царского величества указу я всенижайший раб ваш в галандии в городе Амстердаме оставлен и вручен в команду господина Агента Фанденбурха ради научения живописного художества, к которому имею великое прилежание дабы мне убогому рабу вашего величества верным слугою быть до окончания за вашу царскую милость и за спроприятство".
Письма ко двору писались еще в уничижительной форме, а в другом новые порядки пошли: не снимать зимой шапки перед дворцом, не падать перед царем на колени. Петр говорил: "Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству — сия почесть свойственна царю".
Долгие одиннадцать лет, проведенные вдали от родины, из которых Андрей Матвеев девять лет прожил в Амстердаме и Гааге, обучаясь у Арнольда Боонена, и Кареля де Моора, и Якоба де Вита, а два года в Антверпенской академии, у Класса ван Схоора, не размыли его русскую душу. Годы оттачивали руку, растили талант петровского пенсионера. Матвеев свободно разъезжал по большим, как Роттердам, и маленьким городам нидерландских штатов и без устали писал. Росли груды зарисовок, этюдов, набросков. Посылал в Петербург пробы своего мастерства. По его портретам, баталиям, историческим картинам виделось: молодой живописец времени зря не проводит, царскими деньгами не тунеядствует.
И теперь, после приезда в Россию, Матвееву вспоминалось тамошнее житье. Ему казалось, что он дышит крепким и горьким запахом торфяников. Его влекли к себе отодвинутые в прошлое маленькие чистые домишки с несмолкаемо галдящей возле них детворой, удобные мастерские художников, рисовались подернутые легкой дымкой каналы, завораживала светлота неба, закругляющегося над полями.
Вспоминались низкие горизонты Голландии, наподобие петербургских, а с ними приходили пейзажи с дюнами, ярмарки, народные гулянья, грусть обволакивала нутро, виделись мягкие, томящие закаты и тяжелые облака, движение которых как бы вторило ничем не нарушаемому течению жизни на земле.
Приезжая в Голландию, русские чувствовали себя поначалу скованно. Ничего общего с Россией здесь не было и быть не могло. Но голландцы были людьми простыми. И даже Петр в Амстердаме был как дома, хотя находился в окружении голландских купцов, мореплавателей, инженеров, фабрикантов, ученых и ремесленников.
Учитель Матвеева Карель де Моор был признанным, уважаемым мастером портрета. В молодости он дружил с Герардом Доу, хотя и осуждал его за то, что тот всегда искал успеха у богатых заказчиков. Бас
[4] де Моор, как его с почтительностью называли все, ненавидел кукольную манерность, которой от него требовали бюргеры. Нужно было разрываться надвое. То, что он делал для себя, оставалось в его мастерской и, казалось, не имело будущего. Но если б он писал только так, как для себя, щедро оплачиваемые заказы уплывали бы из его рук к другим. И тогда б ему не хватало не то что на хлеб — на холст и краски. На заказ де Моор изображал модели скрупулезно. Он хотел в заказах остаться профессионалом, душевным художником, но поневоле становился сухим ремесленником. Рыночный спрос укорачивает, принижает художника. Покоришься — тебя забудут еще при жизни. Пойдешь наперекор — готовься к нищете и непризнанию.
От заказов перейти сразу к своему, к настоящей живописи, он не мог, хотя был опытен, обладал дьявольской хваткой. После заказов нужно было отмыться, забыть. Де Моор ждал, не работал, занимался с учениками. Он бесился и не находил себе места. Убеждал себя: "Я такой же продавец своего товара, как бондарь или пирожник". Старому художнику странно было чувствовать, что уже давно сданный заказ "не уходил из памяти, тяготил. Он поселялся в теле, словно некий порок, грыз нутро. Де Моор замыкался, уползал в свою скорлупу, отсиживался в сторонке.
Если в заказных картинах ему нужно было заглаживать, прятать свои чувства, то Матвеева он учил писать свободно, не упираясь в изображаемое лбом. Он говорил, что нужно найти здоровый цвет и сплавить его с рисунком, растворить предмет в живописной среде. Так, чтоб все можно было потрогать рукой и в то же время чтоб всего этого как бы и не было.
…Суровые тона картин голландцев обретали для Андрея сейчас новый характер. Он часто с удивлением думал об этих людях. Каждый из них умел оставаться самим собой. У каждого глубоко спрятанный внутри огонь. Их грубые, сильные сердца умели быть нежными. Матвеева постоянно влекло к тем, кто умел так страстно и правдиво изображать нищих и бродяг, страдания и муки простолюдинов, прелестных девушек, ждущих счастья.
"Это сама вечность", — как будто говорил кто-то Андрею, и он благодарно кивал головой, думая о многосильном и резком зрении этих добрых мастеров. Никто никогда так не писал и писать не будет… Андрея приводили в дома горожан, набитые картинами. У многих полотен Матвеев стоял как возле больших костров. Не выдерживая, выбегал на улицу с горящим лицом. Ему хотелось сгореть в этом пламени, но понять, как добиться такого же растворения цвета, который выходил изнутри, освещал все вокруг и уходил обратно в картину.
Голландская живопись была идеальна и полна жизни, она могла сбить с толку, поколебать любого художника, сотворить из него слабого подражателя, если в нем не было своего, устоявшегося. Она умаляла авторитеты и славы, способна была поработить зрение и забить его россыпью цветных осколков.
Хорошо сиделось тут, где было все привычно. Краски, холсты, кисти. Здесь было все, что помогало жить.
В мастерской Матвеев находил опору, он ссорился и мирился со стихиями, знавал минуты бессильной ярости и тоски, когда хотелось повеситься, и минуты пьянящей радости. Там, на людях, вовне, нужно хитрить, прикидываться, все рассчитывать, раскладывать, галантно раскланиваться с заведомо известными подлецами и сквернавцами. А здесь, в мастерской, ты сам себе и царь, и бог, и слуга, и господин. Здесь Матвеев ничему не изменил, ничего не предал. Тут все просто: что было начато, надобно было окончить, неудачное записать, удавшееся завершить. Придумать что-нибудь новое.
Вспоминались Андрею прежние разговоры. Давно это было, а будто вчера…
— Ты знаешь, кто помог сдвинуться с места всем нам? — спрашивал де Моор, и хитрые глазки его блестели из-под густых бровей. — Рембрандт, думаю я, — отвечал он сам себе. — Я это знаю, только он. Когда я в молодости увидел его картины, мне хотелось бросить живопись. Какая у него гармония, как взят красно-коричневый, черный! Он меня всего перепахал. И открыл глаза. Это он меня научил видеть, кто красильщик, а кто живописец.
Вспомни, как он клал краску. Грузил всей лапой, до тех пор, пока краска не начинала возвышаться на полпальца. Он намазывал ее, как повидло на хлеб. Да суть и не в том, как грузить… Можно и гладко прописывать, лишь бы не мертвило, не отдавало кунсткамерой. А что делали красильщики? — снова спрашивал он.
— Гульдены, думаю я, — в тон ему отвечал Матвеев.
— Вот именно! — соглашался мастер. — Они наносили краски жестко, одну рядом с другой. Ты представь себе. Одну рядом с другой! — возмущался де Моор. — И что получилось, Андреа? — смотрел он на своего ученика беспощадными, насмешливыми глазами.
— Дерьмо, сладкие слюни!
— То-то и оно! Картины красильщиков больше походили на ящички красок. Каждая отдельно. Любой цвет можно было заменить другим. Холсты походили на куски плохо покрашенной ткани. Живописью там и не пахло. Только дураки раскошеливались на этот товар и платили за такую мазню свои гульдены. А Рембрандту на все было наплевать. Он был вольный человек. Он рисковал всем. Только так и можно быть художником. Он знал, что любая зависимость для художника гроб. А потому и говорил, что жить нужно свободно и писать все подряд — небо и землю, море и животных, добрых и злых людей. Пиши, пока жизни хватит, в отечестве откроешь много любезного сердцу. Вон они — города, рынки, церкви, ратуши, каналы, равнины, деревья, холмы. Жизнь покажется тебе слишком короткой, чтоб все это правильно воплотить. А будешь суетиться, рыскать, гнаться за славой, успехом у богатых, за достатком, пересчитывать гульдены, потворствовать похоти — грош тебе цена в базарный день на самой захудалой ярмарке.
Матвеев влюбленно взглянул на лицо своего учителя, который говорил с "Автопортрета" на стене.
Художник подходит к чистому холсту, и ему из ничего нужно сделать что-то, чего не было. Воплотить никому до тебя не ведомое. Когда Матвеев копировал великих голландцев, ему приоткрывалась завеса над их жизнью. Он как будто заново постигал все загадки живописи. Все тонкости ремесла. Они учили его подыматься над сиюминутным временем. И все же в Голландии он был учеником. А самим собой стал в России. Робость бывшего голландского выученика с Андрея стряслась, свеялась. Он окреп как русский мастер. Голландская живопись нравилась Матвееву простотой, она говорила ему, что все в природе живет своей, неведомой жизнью. Цвета гармонировали друг с другом, один контраст тянул за собой новый. Голландцы писали с любовью, с проникновенной правдой. Натюрморты, пейзажи, бытовые сценки. Им нравилось изображать уют домашнего очага. Русские в Голландии, глядя на эти картины, грустили, вспоминали отечество. Виделось им свое солнце, своя земля, свое небо. И снежные долины, и ельники, и бескрайние поля, и черный ворон, что каркал с березы. Иному вспоминалась старушка мать, и желтый песок у речки, и лицо милой, и обличья разных людей русских — вольных и кабальных, пришлых и бедных, страдных и неписьменных, отхожих и нетяглых. Голландцам нравились в русских учениках упорство и сметливость, они жили за границей подолгу, учились настойчиво, умели работать до изнеможения.
При любой возможности увидеть что-нибудь новое для себя Матвеев ни с чем не считался. Де Моор, как мог, способствовал тому, чтобы показать своему ученику лучшее. В богатых амстердамских домах и у безвестных людей они вместе смотрели картины Рембрандта. Его горячий, неистовый колорит нравился Матвееву, это был теплый золотой свет, который согревал. Мастер водил Андрея к друзьям и знакомым — к художникам, купцам, ремесленникам, они подолгу сидели и разговаривали у холстов Фабрициуса, ван Остаде, Броувера, Корнелиса Трооста, Питера ван Слигеланда, Хендрика Аверкампа. В Амстердаме часто проводились продажи-аукционы драгоценных живописных полотен кисти самых лучших мастеров, не только голландских, но и немецких, английских, итальянских.
Смотрел Андрей, и приоткрывалась русскому живописцу тайна: воссоздавать живую природу, а не рабски ее копировать, чтоб она была на холсте совсем другой, чем в натуре. Он учился писать человека, одухотворяя его на свой лад. Матвеев изучал законы цвета, голландцы показывали, как разумно и непритязательно сочетать краски, как использовать все тона.
Когда в мастерскую приходит нехудожник, ему кажется, что все картины, которые он видит, сделаны легко и просто, в чистоте и тишине, обычными касаниями кисти к холсту. Представляется уют спокойного труда — рисования людей, цветов, птиц, знатных персон и баталий.
Постороннему невдомек, что творящие токи души рождаются нечеловеческим усильем. Что художник ощущает почти физическую боль от каждого неверного мазка, что он валится обессиленно, словно пришлось ему ворочать тяжелые каменья. Бог весть как удается добиться того, что хочешь.
Снова и снова становишься к холсту, отмеряешь бесконечные версты от окна к мольберту. Совсем уже заканчиваешь холст, а что-то раздирает душу. Соскребаешь ножом, сцарапываешь, смываешь все, начинаешь писать сызнова, как будто черный, злой воздух, пропитанный красками, сжимает тебя, стремясь раздавить у подножья мольберта. А ты противостоишь этому, чувствуя, что силы твои идут на убыль.
Когда Матвеев писал, у него были горящие глаза блаженного. Из его мастерской доносилось невнятное бормотанье. Наверное, так бывает со всяким, кто влечется роковыми силами к открытию тайны.
Куда как просто — нарисовать человека или действо: списал с натураля, придумал позаковыристей — и готово. Но художник истинный — герой и мученик. Ему в неясном сумраке видятся иные пути для того, чтобы изобразить самое простое. Мчится, взбудораживается яркий вихрь видений. Художник глядит на него восхищенными, чистыми очами ребенка. Он приближается к простоте как бы на некрепких ногах, делает из нее фундамент, ищет гармонию, примешивая к видимому самое сокровенное из глубоких тайников своей души.
Матвеев сидел один в своей мастерской, безжизненно свесив голову, не помышляя ни о предстоящей работе, ни о себе, ни о ком. Обо всем забыл.
"Уснул я, что ли? — подумал художник. — Как в преисподнюю провалился. В голове — блажь".
Он открыл глаза. Смотрел, как старательно, со тщанием разложены папки с рисунками, которые он привез из Голландии. В антресолях лежали тугие свертки композиций за все годы ученья. На широких полках стопами почти до потолка сложены были небольшие этюды маслом, которые он делал для себя, когда компоновал большие картины с многими фигурами. Раз в два года Матвеев перебирал этюды, рисунки, холсты, безжалостно отбирал и резал ножницами на мелкие куски,
выбрасывал, точно они мешали ему, затрудняли и стесняли работу.
Он встал, медленно прошел через всю мастерскую, открыл шкаф, в котором хранил отдельно рисунки и наброски, сделанные с Орины. Ее он писал и рисовал много — одетую и обнаженную, лицом к окну и против света. Всем, что срисовал с милолицей Орины, Матвеев дорожил. Он любил безмятежный покой ее румяного лица, ее тело и круглые, как яблоки, налитые груди, вскормившие двоих детей.
Андрею нравилось смотреть на ее густые, чуть вьющиеся волосы, на доверчивые, кроткие глаза. От нее всегда оставался у Андрея в душе мягкий и чистый свет.
Теперь он перекладывал рисунки, как поэт и влюбленный перебирает свои старые, исписанные стихами листки.
Он чувствовал себя собственником.
Андрей забылся, прикорнул на руке. Снилось ему, что стоит он в ясный, звенящий день среди просторной зеленой долины. В легком, струящемся воздухе плывут и дрожат теплые токи. А в небе вовсю пылает огромное солнце, похожее на распластанного в беге коня. Потом солнечный свет вдруг как-то странно наклоняется, падает, поворачивается. Все чудным образом сдвигается, и происходит нечто невиданное, необычайное. Андрей поворачивает голову и замирает, беззвучно кричит от страха, потому что из-за горизонта выскакивает второе солнце-конь, такое же громадное, как первое, и несется во весь дух по небу. Они сближаются, сближаются и вот-вот должны столкнуться. Белый жаркий огонь опаляет лицо, кожу, волосы, одежду. И тут за вторым солнцем появляется третье. И все они начинают скакать, кататься и резвиться в бескрайнем просторе неба. Свет и цвет постоянно изменяются. Бакан, празелень, желть, голубец веницейский, светлая охра, берлинер блау, бейн шварц, сурик, киноварь, английская красная, неаполитанская желтая, темная грунтовая охра, голландские белила, крутик с рахпигментом — Матвеев, будто на экзамене, называет все краски. Время этого светопреставления замирает.
Он открыл глаза и увидел Оринушку.
— A-а, это ты! Который час теперь?
— Ночь, Андрей, ночь. А спать не могу, страшно мне. Страшно. — Она всхлипнула и закрыла лицо рукой. — Я боюсь, сама не знаю, чего боюсь… За тебя, за себя, за детей. Мне рожи лезут со всех темных углов. Корчатся, пялятся…
Орина встала на колени рядом, уткнулась в него. Матвеев обнял жену. Сейчас он чувствовал в ней опору, защиту. Это была его радость и лучшая из всех картин на его мольберте. Андрей остро понял, почувствовал непреходящую вину перед ней. Он всего себя до последней капельки отдает живописи. Для этого он и возник на белом свете, больше ему и делать тут было бы нечего. А Орина тоже ничем не виновата. На ее плечах дом, дети, ей приходится все сносить и жить рядом с его картинами. Другая б давно лыжу навастривала. А эта — нет. Сколько раз, бывало, приходил Андрей домой средь ночи, сдирая пропахшую потом и красками рубашку, и замертво валился. А она просыпалась и лежала часами, не смыкая глаз. "И то хорошо, — думала она, — что Андрей рядом". А сколько ночей он проводил в мастерской, и Орина постеловала одна. И тогда душа в ней ныла от жалости к себе и от одиночества.
Знал Андрей, что Орина была ему ангелом-хранителем. Самой желанной. Жили они хорошо, у них ссоры случались редко — из-за его вечной занятости, из-за пьянок, без ссор и неурядиц семейной жизни, верно, ни у кого не бывает. Но все плохое таяло, уходило, а чувства оставались. Как зазвенит Орина смешком, как запоет, как обнимет и затормошит его любовью, так все с него и смоет. И Андрей утром встанет обновленный, отмытый. Будто вечного блаженства достиг. И на душе светлей, и жить не тошно.
Для Орины, дочери кузнечного мастера Адмиралтейства Петра Антропова, замужество было счастьем. Она гордилась художеством мужа. Всем сердцем привязалась она к нему, научилась сносить тяжкую долю жены художника. И он в Орине был уверен до последнего лоскутка.
— Слезно прошу тебя, Андреюшка, — говорила ему Орина в первые дни после свадьбы, — что б в нашей жизни ни случилось, как бы ни повернулось, ты меня от себя не отрешай. Ладно? А то руки на себя наложу, мне без тебя не жить.
И то была правда.
Кто б сказал Андрею об нем самом либо об Орине, как кому из них жить или помереть, — никогда б он не поверил. Да и не сказали бы ему, потому что никто и ничего не знает. Одно только Матвеев наверняка знал — что с Ориной ему поталанилось, а потому возносил живописец мольбу к богу, чтобы хранил он жену от всех злых напастей.
И Орина свое знала — что радость любить — высшее, вечное благо на земле. Раз тебе предназначено, располагай по своему разумению. Для Орины любовь Андрея была наивысшим благом в ее судьбе и счастьем. И любовь эта вложена была в Орину как сила, которую вырвать можно и подрезать только вместе с сердцем.
Обыкновенному грешному человеку радость любить помогает бороться с забвением. Хотя Сократ еще сознался: "Я знаю, что я ничего не знаю". И все же художник или сочинитель знают, для чего они живут. Оставляют людям свои труды, свои вдохновения, поселяют среди них свой дух. Они ставят камни труда своего посреди бурной реки времени. И в ней вызываются водовороты. Камни-то стачиваются, а воронки остаются. Другие в эти воронки ставят новые камни. И на этом крепком основании восходит новое художество, всеми силами души пропитанное, взрастает новое сочинительство. И всходы тогда истинны, когда сотворенное свободно, как небо. В давние еще времена мудрецы говорили: кому что дано, так пусть не жадничает, а кому много дано, с того много и взыщется. Матвеева Андрея судьба, слава богу, не обделила! Должно быть, и Орину бог не обидел. Несла она в сердце своем что-то такое светлое, чистое, смиренное, от чего Андрей возле нее просто душою богател. Она была открыта людям, верила в них. И они платили ей тем же.
Андрей знал Орине настоящую цену, но никогда никому не говорил об этом и не старался найти свидетелей своему счастью.
Когда уж становилось невмоготу жить от безденежья, Андрей говорил жене:
— Ты же знаешь, что, горестей дымных не терпев, тепла не видать.
И Орина успокаивала его, откликалась:
— Переживем как-нибудь, переможем, пока ты у меня есть, Андрейчик, солнышко мое, муж мой милостивый и отец детям нашим. Мне знаешь в чем наибольшая отрада? Что ты не только ко мне добрый, но и ко всем остальным. Вижу, как тебя все любят. Только боюсь я, что на износ ты в работах силы разбрасываешь. Ни себя не щадишь, ни меня, ни деток. Что они и я без тебя? Пыль придорожная.
— Ну ладно, ладно! Ты вот что, Оринушка, иди и надень выходное платье, причешись. Я с тебя портрет сработаю.
— Да ты, Андрей, умом рехнулся! Ведь ночь на дворе. Завсегда у тебя горячка, напасть…
— Ну, иди, иди, Орина.
Матвеев достал папки и стал разглядывать свои рисунки, сделанные с Орины. Лицо у нее будет одухотворенное, решил Андрей, а глаза с царственным достоинством. Под руку ему попались два подходящих рисунка. Андрей вспомнил, что сделал их тоже ночью, когда Орина, не дождавшись его, пришла в мастерскую, простоволосая, в длинной тонкой рубашке. Тогда она подошла к нему, обхватила за шею, прижалась, а в следующий миг он почувствовал ее руки у себя на животе. Он стоял, беспомощно улыбался и только отводил в сторону руки с кистями, чтобы не испачкать жену красками. Он смотрел на нее и видел, что щеки у нее пылают и она прекрасна. Ведь люди всегда считают хорошим то, что любят. Андрей нарисовал тогда Орину карандашом, обнаженную, поместив тело и голову в пространство, полное движения и света. Он подчеркнул блики мелками, согрел рефлексы сангиной, смягчил тени промывкой.
Другой рисунок изображал Орину, стоящую у окна вполоборота. Когда рисовал, вспоминал рисунки голландца Корнелиса Висхера, которые очень ему нравились. Тот умел пользоваться светом как цветом. Найдя нужное, Андрей с облегчением вздохнул, как всякий ищущий, когда совсем уже было отчаялся найти и вдруг наткнулся на то, что ему нужно. Затем он снял занавеску с холста, стоящего на мольберте. Там уже была начата фигура Орины, намечено лицо. Все не так! Негоже, бедно, бледно, ничего не выражено, ничегошеньки! Он положил рядом рисунки, поставил небольшой холстик, один из образов своей музы, и почувствовал некоторое удовлетворение. Налил в блюдечко белой нефти, смешал ее с александрийским маслом, обмакнул в раствор белую мягкую тряпицу и как следует протер затвердевшую масляную пленку на холсте. Особо в тех местах, где писаны были лица. Теперь уже верхний слой холста смягчился. Теперь можно писать все, что хочешь. Андрею больше всего хотелось вместо куклы с комнатными щеками, какими всегда были люди на придворных портретах, написать свою Орину, выросшую на воздухе, при солнце и дожде, живой, трепетной. Годами воспитанная у холста стойкость помогла ему быстро настроиться на работу. Вошла Орина, одетая, причесанная, но еще немного заспанная. Он усадил ее. И дело у него пошло. Нужно Орину написать такой, какою любил ее Андрей, всю, до последнего пальчика. Давно известно — кто не мил телом, тот не мил и делом.
Андрей развел телесный колер, взял неаполитанскую желтую с белилами, добавил бакана флорентийского красного, снова смешал, зачерпнул из банки светлой охры и английской красной, подбавил для румянца кремор-тартара, и пока совокуплял краски, смешивал все, уже что-то и решалось, прикидывалось в голове. Вдруг он и совсем ясно понял, как надо писать, лепилось уже вместе, мазок к мазку, вспыхнуло решенье окончательное. Он знал уже наверняка, что делать и как раскладывать цвет на холсте, точно ему открылось неведомое.
Прикоснулся к картине широкой беличьей кистью, чтоб все записать, и в сердцах резким отмахом швырнул кисть в сторону. Неожиданно для себя Матвеев решил не замазывать, а писать по старому рисунку, изменяя его на ходу.
Это было намного трудней, потому что нужно было преодолевать всю моделировку, которая мешала. Зато и давалось другое — можно было вылепить лица светом и тенью, мягко, постепенно.
Андрей сосредоточился на Орине, а себя решил приписать потом, взялся за маленькую кисть и стал осторожно выправлять прежний рисунок. Он наносил краску мелкими мазочками, едва касаясь холста, затаив дыхание. Отходил, смотрел издали, прописывал каждую линию вначале на лице Орины, изменяя очертанья, смягчая и подтягивая цвет. Андрей писал, усмехаясь и похмыкивая. Доводил, скрашивал резкость переходов. Забыл о времени начисто, только раз, подойдя к окну, увидел в щель меж занавесками, что небо уже высветлилось.
Как добьешься, чтобы кистью, слабым этим беличьим помазочком, выкричалась душа, чтоб вся радость, и вся жизнь, и вся горечь надрывной работы вошли в краски, улеглись на холсте не мертво, а держа внутри себя горячую, живую силу? Ясно Матвеев этого себе представить не мог и, когда писал, ни о чем таком не думал, но знал с неотступностью, чувствами и разумом знал, что добиться этого возможно.
Он зажег еще несколько свечей в чугунных канделябрах, расставил их так, чтобы свет падал туда, куда нужно было, чтобы не бликовало, не отсвечивало.
Ну вот! Теперь, кажется, он стал полным хозяином того, что варилось на холсте. Добился, чего хотел… Он писал и приговаривал:
— Орина-малина, душа бунтует, волосы дыбом…
— Дурачок ты, Андрюшка, ровно дитя малое. Среди ночи поднял!
— Глаза извольте на меня… Отменно! Среди ночи! Среди ночи!
…Головку, пожалуйте, вниз…
…Смотрите прямо вот сюда, нет! Сюда!..
…Что ж это вы губы поджали? Не годится…
…Свободно сидите, сва-абодна, сва-абодна…
…Бровей не хмурьте. Не хмурьте, ваше высочество!
…Так… Плечико чуть развернуть. Нет-нет, не так сильно… Во-во! Годится.
Андрей жил зрением и рукой. Он делал что хотел, а что хотел, то и мог. Разговаривал с самим собой, с той, кого знал, любил, кого писал. Глядел на Орину, сердце в нем оживало, словно держал ее в объятиях. "А себя в упор и взахлёб напишу". Глянул мельком на себя в зеркало, довольный, улыбнулся, скорчил себе рожу. Глаза блестели, пылало лицо. Натура была что надо! Все отдай, не греши.
Матвеев писал себя, и выходил у него человек счастливый. Молодой, полный сил и надежд. И трагически обреченный, словно на краткое время возникший. Видел он себя сейчас таким, каким возникал из маленького зеркала. Андрей художника открывал и отыскивал, беспокойного, неукротимого. Мастера, обуреваемого жаждой творить, и человека бесконечной пытливости. Писал себя так, словно укладывал в одну свою жизнь многие остальные жизни. Он прежде никогда не ощущал себя победителем. Шел ощупью, И вот он стал так прочно, как никогда раньше не стоял.
Художник изображал юношескую свежесть, и рождался образ молодого человека с гордым взглядом умных, пристальных глаз. Это был все тот же Матвеев, которого он хорошо знал, — мальчик, случайно замеченный царем Петром и посланный учиться в Голландию, юноша, что стал мужчиной вдали от родимой земли, дотошный, сметливый ученик, что бродил по амстердамским улицам, живописный мастер, который сумел сохранить и пронести нетронутой целизну своего сердца. Это был достойный придворный живописец, что портил себе кровь на мелочных, незначительных заказах, мечтатель и фантаст душой.
Лицо Матвеева, которое сей момент намечалось и едва оживало на холсте, отличала твердость и даже жесткость, знак таланта, данного природой человеку. Она сливалась с удивленной восторженностью и наивной детскостью, постоянно живущими в лицах истинных художников.
Матвеев облазил кистью каждую линию, каждый кусочек лица, и в ответ на этот усердный и ревностный образ каждый мазок заключал в себе не пустозвонкую отвлеченность, а живую плоть и горячий, летящий дух.
Матвеев был сейчас как бы не земным существом, а пухом или небесной звездочкой, телом без веса, плотью неведомого существа… Художник — это живитель. Он проникает в неведомую и протяжную толщу сфер. Он животворит и одушевляет. Матвеев жил у мольберта. Вне художества он существовать не мог. Работа давала ему жизнь, силу, здоровье. Он уже вволю настонался и намучился у своих картин и, хотя был при дворе, не ссучился, не угодничал, а жил просто, и душа у него была чистая и лучезарная, как береста. Больше всего хотелось ему, чтобы в двойном портрете с Ориной отразилось не лицо его, а некое душевное движенье, какое — он и сам не знал. Чувство совести, что ли, с которым был Андрей во всю свою жизнь смертно неразлучен.
Рано утром через день Матвеев повел Орину в мастерскую. Привел, повернул картину к свету. Орина охнула, широко раскрыла глаза и, слабея ногами, присела на кожаный стул у мольберта.
— Что ты наделал, Андрей! Ты рехнулся?! — воскликнула она в ужасе. — Да за такое… И как угораздило! Тебя же на дыбу поднимут, распнут! Эка стрельнуло тебе — нас в виде царствующих особ! Ежели кто проведает, пропали мы! Спрячь это, спрячь, Андрей, или разрежь! Ей-богу, пропадем! — Она захлебывалась словами, чувствуя, как сердце ее колотится в горле, в висках. А глаза ее приковались к картине, не могли оторваться от нее. — Горе мне с тобой, беда! Лихая твоя голова, живописец!
Андрей Матвеев стоял и устало улыбался. Белки его глаз были совершенно красные. Наконец-то! Он сделал то, что хотел, о чем мечтал. И чего Орина так перепугалась?! Перед ним был автопортрет в наилучшем виде, автопортрет с женой, и это он его написал, вот этими вот руками. Художники издавна писали себя. Автопортреты были в Голландии, Италии, Франции. Только в России никто на это не отважился. Если б это был заказной сановный двойной портрет, он выглядел бы сухо, жестко, отрешенно. Теперь уже сам он, Андрей Матвеев, глядел с портрета с достоинством. Это он, живописец, стоял на портрете, словно принц, одетый в коричневый дорогой кафтан и белую рубашку с бриллиантовой запонкой у горла. Это у него темные волосы обрамляли высокий чистый лоб. Рядом была не знатная особа, не какая-то там принцесса, нет, это была его Орина в сером царственном платье и красной накидке. С лица Орины смотрели гордые темные глаза, в которых вера в жизнь сочеталась с женским очарованьем и могуществом. Взгляд этой удивительной модели струился победно. Он исходил из дальних закоулков души. Хотя Андрею и не удалось до конца убрать с ее лица некоторую сонливость.
Слева в фоне картины проступала едва различимая колонна, справа, чуть намеченное, голубело небо с розовыми облаками. Изображенная пара — мужчина и женщина — словно плыла куда-то. В "Автопортрете с женой" Матвееву больше всего хотелось избежать той сухости, что привычно и по всем канонам возникала в придворных парных портретах. Там все подтянуты, замкнуты, отчужденны. Никаких чувств, упаси бог, тем более — никаких объятий. Андрей поставил два лица рядом с необъяснимой для самого себя смелостью. И лица эти были живые, свободные, раскованные. И фигуры такие же. Что-то простое и всевластное веяло над художником и его женой. Андрей хотел нащупать кистью солнечную основу обыкновенной жизни и простой любви — без всякого жеманства. Без всякой манерности. Ему нужно было сохранить на холсте невероятную теплоту, что была в жизни меж ним и Ориной. Себя-то он, когда приписывал к Орине, писал на неудержимом, страшном доверии к натуре. Она не отпускала художника. А Орина выступала во всей своей живой плоти, сердечности и неотразимой трогательности. Это была чистая, первородная русская женщина. Художник возвышал свою модель, придавая ей собирательные черты и признаки. Милая, влюбленная, с пробужденной чуткой душой. И пробуждающая душу в других, которым она доверчиво смотрела в глаза.
Орина не отличалась той строгой, классической красотой, какую всегда любили и всегда воплощали художники с древних еще времен. Но светлое ее лицо, достоинство, ум и гордость, обаяние бесконечной женственности Андрей стремился передать так, как это виделось его влюбленному, доброму и восторженному взору. Орина в его портрете не утратила еще девической свежести, ясности, молодого горенья и стыдливости. Но важней всего для Андрея была мысль закрепить в портрете Орины, запечатлеть навсегда бессмертную душу человека, его способность любить. Думал об этом Андрей много, но больше полагался на то, что чувствовал. Где ж взять художнику разум, рассудок, когда у него в руках кисть? Художник — стихия. Он как ветер — неуправляемый, порывистый. Попробуй разгадай, что у него на уме. Портрет надобно одушевить, вложить в него высший смысл, и тогда он заживет своей обособленной жизнью. И человек, что на портрете, уже не временной лик, а живая душа, с любовью своей, с судьбой, с неисповедимым и непонятным в ней. Не один краткий миг бытия в портрете, а вся жизнь целиком. И сколько ласки к Орине, нежности сколько у живописца к модели! Матвеев удивительно быстро отрешился в художестве от стремления, свойственного всем почти голландцам, да и французам и итальянцам, которых он видел. Непременно познать себя в автопортретах. Спокойная сосредоточенность Орины, скупая точность в рассказе о ней и несколько правее и выше ее лица сам Андрей — дерзкий, независимый мастер, исполненный надежд и внутренней силы. Полная духовная раскрепощенность обоих и полный сплав, единство. Игра рук Андрея и Орины передает заразительное их жизнелюбие. Такой "Автопортрет с женой", как у Андрея Матвеева, мог сотворить только мастер, в своем молодом стремительном разбеге не знающий ни страха, ни препятствий. Знал Матвеев, цепким своим российским разумом понял он, что художник похож на заряжателя. Только его заряд особый, вместо пороха с ядром, пулей и дробью он начиняет картину свою сильной привязанностью, которая начинается простой склонностью, а кончается большой страстью, всепоглощающим огнем любви. И в огне том все равны, потому что художество соединяет времена и всех людей воедино. Труд художника не делится на века, он их перешагивает. Художник живет на земле и имеет дело с земным, но ему не прожить без небесного, заоблачного, того, что посещает его в звездные ночные часы.
* * *
Когда Матвеевы позавтракали, к ним по дороге в Канцелярию от строений завернул ненадолго друг Андрея Иван Вишняков. Они пошли в мастерскую. Вишняков возвышался над худощавым Андреем на целую голову, был кряжист, лицо его носило отпечаток особой твердости и ума. Угрюмые черные глаза смотрели взыскующе, тяжело. А руки были большие, сильные. Руки мастерового. Андрей, глядя на товарища, приободрился. Вишняков был мужик мудрый, основательный. Он если взглянет на картину, скажет тут же все без утайки, как есть, не слукавит. У него слово твердое, хоть терем клади на нем. Андрей развернул мольберт к свету, ухмыльнулся, отошел в сторону. Вишняков смотрел, изумлялся, молчал. У него возникло этакое чувство расширения, как будто он вдохнул в грудь излишек воздуха. Думал Иван Яковлевич про себя: "Вот это картина, гляди-ка ты. Вот оно, русское художество. Оказывается, и так может быть. И позитуры необычны. Ни шаблона, ни кокетства! Ни ремесленной сухости. Умно, сильно сделано! Формы и приемы голландской живописи использованы, но на русский манер. До чего ж правдиво и естественно! Все свое, ни у кого не заемное. Нет каравакковской белесости, фарфоровости. И особенного-то вроде ничего нет, а здорово как написано! Душевно, и каждый вершок хочется рассматривать долго, все хорошо, все!"
— Молодец ты, Андрюха! Просто молодец! Здорово! И как это у тебя вышло! — с жаром сказал Вишняков.
Андрей насторожился. Восторгов от Вишнякова дождаться было не просто. Матвеев посмотрел на Ивана вопросительно и спросил:
— А что здорово-то, ты скажи, Иван, сделай милость.
— Ну что тебе объяснять, сам все знаешь. Ну, сильно мне энто нравится, ну, сильно! И как тебе это в голову пришло? До этого у нас еще никто не додумался. А ведь проще простого!
— До чего до этого? — с хитринкой спросил Андрей.
— У других научась, мы теперь и сами поучить можем, а? — ответил и спросил Вишняков. — Нет, ты скажи, такая сердечность и такая чистота есть в каком иноземном художестве? Есть-то она есть, да совсем не такая! — Он подошел к картине вплотную, стал рассматривать какой-то кусок, потрогал пальцем. — Ты знаешь, Андрюха, мне всего более глаза нравятся.
— Да все с глаз-то и началось, — просто сказал Андрей. — Уж так мне захотелось сделать, чтоб они из самой души смотрели.
Радость распирала Андрея, любил он свою профессию беззаветно и счастлив был безмерно похвалой друга, ибо знал наверняка, что счастье художнику в России, да и в остальной земле тоже, улыбается редко, как ясное солнышко стольному граду Санкт-Петербургу.
Андрей Матвеев, живописных дел знатный мастер, вырвался на простор большого художества, он почувствовал себя уверенно, ничего в пути не растратил. Только в том была препона ему, что надрывался заказами. Так и, глядишь, известись недолго. А все ж сколько ему ни осталось жить, еще поработает. Повезло ему! Работать рядом с такими первостатейными мастерами живописными — Иваном Никитиным и братом его Романом, с Мишей Захаровым и Коробовым Иваном да с этим вот Вишняковым, людьми удивительными, первенствующими среди всех истинностью своего таланта.
После матвеевского "Автопортрета" многим легче было уразуметь ту истину, что с Петра началось, а после него все больше и больше живописное художество распространялось для славы и пользы России. О многом заставлял задуматься этот матвеевский "Автопортрет". К примеру, о бескорыстии. Матвеев вопрошал от своего портрета: "Может ли быть достоин художник сего звания, если он не преследует никаких целей, кроме собственной пользы?" Говорят, что ничего нет на белом свете страшнее болезней и смерти. А корысть для художника куда хуже смерти…
* * *
Начальник живописной команды в Канцелярии от строений Андрей Матвеев был человек душевный и компанейский. А потому слава пришла к нему не по чину и должности, а по праву доброты, достоинства мастера и таланта. С ним считались и при дворе, и за его стенами. Такое бывает редко, ибо живописцы всегда хорошо знают цену тем, кого жалует двор.
Матвеев силу своей немалой власти никому не употреблял во зло, хотя он мог приказывать, гнуть и даже наказывать любого, кто состоял в живописной команде. Все знали, что Андрей Матвеев человек, на которого смело можно положиться. Такой не подведет. Конечно, на него наваливали сочинение исторических композиций для моделей, всяческих дурацких аллегорий, фейерверков, плафонов, виньеток и иллюминаций, украшений для дворцовых балов и увеселений. Это бесило Матвеева, и он, как мог, изворачивался, но никогда не подставлял чужую спину вместо своей, потому что сам терпеть не мог никакого навязывания и угнетения. И потому даже в самых серьезных разговорах он вдруг переводил все на шуточный тон, а мнение свое выражал мягко и только тогда, когда это было нужно.
Живописцы ценили в нем мастера, искусного и сильного и в портретах, и в рисунках, и в баталиях, знавшего все приемы, манеры и хитрости фламандской школы. И когда кто-нибудь в команде, подвыпивши или со зла, отпускал в адрес Матвеева подлое слово, его быстро окорачивали, ставили на место.
Особенно удачен вышел у Андрея портрет императрицы Анны Иоанновны в рост, в короне и порфире, со скипетром и державой, на фоне алого занавеса, за которым открывался вид на Неву и Петропавловскую крепость со шпилем. Это была центральная картина над средней аркой триумфальных ворот на Невском проспекте, воздвигнутых по случаю торжественного въезда самодержицы в Петербург после коронации в Москве.
Тут Матвеев сумел соединить сознательное возвеличение, в котором было его отношение к идеальному облику властительницы России, с мягкостью живописной трактовки и наиболее характерными чертами лица Анны Иоанновны.
Работа вышла отменно хороша. На нее даже приезжали поглядеть московские живописцы, которые прознали об этом. И сама императрица была в восторге. И это еще больше укрепило славу Матвеева. Но она почему-то тяготила Андрея, по натуре он был скромен, хвастовства и высокомерия не выносил. Слава-то у него была, вот денег вечно не хватало. И время от времени он писал прошения, в которых горько жаловался на свои нужды и безденежье. В одном из них он говорил, что "набрал для обучения художеству восемь человек малолетних детей, которых обучает рисовать и лепить", и заверял, "что из них впредь можно ждать успения и приплодия всероссийского, а жалованья определено ему по двести рублев на год, которым пробавляется в домашних нуждах с нималою нуждою". Андрей напоминал, что Каравакку определено жалованья по тысяче рублев на год, да на квартиру двести рублев, всего тысяча двести рублев. И просил он, чтобы ему за живописное художество и за обучение учеников пожаловали прибавочных денег, а також и именоваться живописным мастером. В ответ на это прошение указано было полковнику от фортификации Трезини и архитектору Земцову свидетельствовать живописца Матвеева. От них Андрей получил наилучший отзыв. 14 июня 1731 года в протоколе Канцелярии от строений значилось следующее: "По указу Ее Императорского Величества, Канцелярия от строений, слушав дела о живописце Андрее Матвееве, который в прошлом, 27 году августа 7 дня в ведомстве Канцелярии от строений прислан при письме бывшего Меншикова; и при этом письме с рекомендации из Амстердама, от российского агента фан дер Бурха копия, в которой написано, что оный Матвеев в Амстердаме и в Робандии учился живописному мастерству и истории писать, и его мастерства по всякий год пробы в Петербург посылал и с собою он, Матвеев, привез, надеется, что Его Императорское Величество им доволен будет. И того ради велено оного Матвеева освидетельствовать живописцу Каравакку, который об нем и объявил, — первое задал ему нарисовать при себе рисунок из его вымысла историчный, а именно Ангел изводит апостола Петра из темницы, что он, Матвеев, и сочинил и по оному рисунку на дому и картину написал он не худо. И, как он признавает, имеет он больше силы в красках, нежели в рисунках, потому написал он персону с натураля, которая пришла сходна, и, по мнению его, в персонах лучше его искусство, нежели во историях, потому он, Матвеев, угоден лучше других русских живописцев быть на службе Его Императорского Величества, понеже пишет обоя — как истории, так и персоны, и, как видно, имеет он не малую охоту и прилежность к науке впредь, через помощь школы академической может достигнути совершенное искусство. И по резолюции Канцелярии от строений оному Матвееву учинен оклад жалованья по 200 р. на год. А по данным генваря 1730 году прошением оный Матвеев объявил, что в ведомстве Канцелярии от строений обретался он у живописных работ при домах Ее Императорского Величества и в С.-Петербургской фортификации, к Св. церкви Петра и Павла живописные работы и модели писал определенными ведомства Канцелярии от строений живописцам, с которых оные писали гистории или повести евангельские в оную церковь; також и данных учеников обучает, а определенным жалованьем пробавляется немалою нуждою. И требовал, чтобы за вышереченное его живописное художество и за обучение учеников определить прибавочным жалованьем и именоваться б ему того художества мастером. И по тому прошению на посланные из Канцелярии от строений указы архитектор Трезини и архитектор Земцов рапортом объявили, что они оного Матвеева в живописном художестве освидетельствовали, который как в рисунках, так и в письме красками гисторий и персон силу знает совершенно; модели гисторические и евангельские, с которых писали определенные ведомства Канцелярии от строений живописцы в Петропавловскую церковь картины, он издавал и по его искусству в пиктуре он, действительно, мастером именоваться достоин и награждением Ее Императорского Величества прибавочного жалования, понеже он обоя — как гистории, так и с натураля персоны искусно пишет, как доброму пиктору надлежит. Но и сверх оного из Канцелярии от строений послана была промемория в Академию наук, которою требовано о свидетельстве в живописном художестве оного Матвеева, на которую июня 4 дня сего 731 году под № 1192 проме-мориею ж из оной Академии ответствовано, что помянутый Матвеев, по задании из оной Академии, принес через его намалеванный портрет и образ Богородицы в печатном виде и рисунок, которые штуки предложены профессорам и художникам при собрании, где как от профессоров, так и от художников, по прилежнейшему рассмотрению оного Матвеева работы, объявлено, что в портрете как сходство, так живость в красках и свободная в живописи рука находится, историческая штука, хотя негораздо сильна, однакож довольная похвалы и немалого достоинства есть; а рисунок гораздо изящно и искусно сделан и что его пробы довольно видеть можно, что оный Матвеев к живописанию и рисованию зело способную и склонную природу имеет и время свое небесполезно употребит, если он впредь в своем художестве с прилежанием упражнятися будет, то он весьма искусным мастером быть может, к которому его совершенство немалое вспоможение учинить прибавлением довольного и нескудного жалованья, чего он зело достоин. А в адмиралтейском регламенте напечатано: "Ежели кто из адмиралтейских служителей явится знающий в морском ходу или на верфи в работе и тщателен в произвождении своего дела паче других, о чем должны командиры их доносить в коллегии и их представлять, где коллегия должна то рассмотреть и оных за их тщание повысить чином или прибавкою жалованья, или иным каким награждением, по человеку и делу смотри". А понеже речей ному живописного дела мастеру Каравакке Ее Императорского Величества жалованье и с квартирою дается в год по 1096 р., — приказали: оному живописцу Андрею Матвееву быть живописного художества мастером для того, что мастер Каравакк напред сего объявил, что он, Матвеев, знает больше силу в красках нежели в рисунках. А ныне по свидетельству в Академии показано, что и в рисунках гораздо искусен; к тому же архитектор Трезини и архитектор Земцов объявили, что он, Матвеев, по его искусству в пиктуре, действительно мастером прибавочного жалования достоин. А Ее Императорского Величества денежного жалованья давать ему сего июня с 16-го числа 1731 году по 400 руб. в год, а впредь бы он, Матвеев, в своем художестве упражнялся с прилежанием, дабы мог быть весьма искусным мастером, и для того со оным его окладом и чином написать в штат Канцелярии от строений… а за повышение того ранга при выдаче первого жалованья вычесть у него за месяц… и в верности оного Матвеева привесть к присяге".
И тогда светский авторитет Матвеева возрос и стал почти непререкаем. Ему все чаще поручали теперь самому освидетельствовать живописцев. Даже чужеземных. Теперь он мог себе позволить более свободную трактовку баталий и икон для храмов — вольность, которая не была дозволена никому. Те, кто его прежде не принимал, старались теперь зазвать к себе. Андрея все чаще стали именовать "гоф-малером", хотя таковое звание официально носил только Никитин, а после его ссылки — Каравакк. И все же Андрей утвердился в звании придворного живописца. Это означало многое: близость ко двору и некоторую безопасность, выдачу бесперебойно заказов. Звание и положение его как бы обеспечивало некоторое превосходство, ставило выше иных собратьев, российских и чужеземных мастеров, которые довольствовались одним только трудом от своего художества. Другой бы на месте Матвеева быстро освоился, нажил бы сильных покровителей, влез бы им в уши и в другие места, раздулся б и укрепился. А Матвеев? Ему страшнее всего было увидеть осуждение в глазах друзей или, не дай бог, услышать худое слово от них. Он знал, что всякое звание требует определенной платы от его носителя, оно, правда, дает опору в жизни, положение, большую близость к венценосцам, способно разжечь большую охоту к большим деньгам и к богатству. Оно уводит от нищеты и направляет к достатку, подталкивает к отверстым местам, в которые надобно проскальзывать без задержки и промедления, а главное — без раздумий. При упорстве, охоте вящей и прилежности — ого-го! — такое можно натворить, что присовокупишься к избранным, к тем, кто гребет деньги лопатой и смотрит на всех исподлобья. Словом, к тем, кто пришел в этот мир разделить власть, а не трудиться в поте лица. Но Матвеев по природе своей как был простодушным и наивным, так им и остался. Ровнехонько ничего он из своего положения не выжал для себя.
Еще замечено будет, и не однажды это оправдалось, что никакие таланты не возвысят человека в государстве российском при разных самодержцах без угождения и лебезения. А Матвееву не досталось этих свойств от рождения, да и жизнь их не взрастила в нем. Он не лакействовал и — как ни странно — был в чести и почете. А других пинали, хотя они очень уж старались и со всех ног бросались, чтобы подальше скакнуть и поглубже лизнуть.
Когда на Невском был установлен портрет Анны работы Матвеева, придворный первый моляр Людовик Каравакк, который тоже был автором коронационного портрета императрицы, лично прибыл для осмотра. Андрей краем глаза увидел француза и, смутясь, стараясь прошмыгнуть незамеченным, повернулся к нему спиной, пошел в другую сторону. Он решил прогуляться по Невскому. Но, вернувшись через час, Андрей застал Каравакка все там же — он спокойно сидел на плетеном стульчике возле своей кареты, а лакей держал над ним зонт. Каравакк увидел Андрея, пошел ему навстречу. Он показал вверх, на портрет, щелкнул пальцами, молча и почтительно пожал Андрею руку. Тот в смущении низко поклонился.
Это была большая честь!
Глава третья
Письма в Лондон

утра над Санкт-Петербургом туман. В нем всё растворено — небо, земля, деревья, люди, строенья. Все плавает, колышется, смещается, замирает. Туман поглощает даже звуки. Еле слышен слабый звон издали — звонят к обедне.
Во дворе, отгороженном от узкой улицы каменным забором, паслась темно-гнедая лошадь. Пройдет — остановится. Понюхает землю — снова переступит. Поведет головой туда-сюда и опять ходит, ходит, ходит.
Перед окном, задумчиво глядя на двор, сидит красивая женщина, покручивая на пальце светлый локон. Пожалуй, она даже красавица. У нее тонкое, нежное, розовое, породистое лицо. Такой цвет бывает только у дорогих ваз и шелковых тканей. Это леди Рондо, жена английского резидента при русском дворе. Ей скучно, ей некуда девать себя. И вот она неотрывно следит за лошадью, загнанной в такую же тесную ограду, как и она. А та все ходит и ходит по двору. Ходит и нюхает чужую холодную землю. Скучает призовая английская лошадь, скучает и английская молодая леди. Однако свое одиночество она переживает стойко. Судьба забросила ее на чужбину, в, страну непонятных людей. Ее чуть ли не каждый день приглашают во дворец — на гулянья, балы, иллуминации, машкерады. Поэтому она постоянно напряжена и неспокойна. Русские интересны до тех пор, пока в них нет доброго фунта водки. А после они становятся опасны, хватают женщин за что попало, орут, ругаются, дерутся. Потные, грубые, того и гляди обесчестят. А то и по голове хватят в раже. Зачем ей нужны эти варварские развлеченья? Толкотня, мордобой. Дня не проживешь, как тебе хочется, всегда надо хитрить, ловчить, выгадывать. Одна отрада и осталась у леди — письма в Лондон. Она часто пишет своей подруге. Вот и сейчас она начнет такое письмо, вернее, целое послание, подробное и обстоятельное. А там подоспеет время ехать к принцессе Елизавете Петровне в карты играть.
Последний раз она взглядывает в окно. Туман все сгущается и сгущается, и вот уже через него смутно проступают очертания лошади. Она стоит с поднятой головой, как памятник. Леди Рондо вздыхает, усаживается за стол, берет в руки перо. "Петербург. 1738 год, — выводит она медленно. — …Не думайте, что можно заставить женщину говорить о другой или других, если к этому не примешивается что-нибудь скандальное, — пишет леди Рондо, — по крайней мере вы увидите, что я не отступаю от остальных женщин… Недавно у меня была одна из здешних красавиц, супруга русского вельможи г. Лопухина, которого вы видели в Англии. Она статс-дама императрицы и приходится племянницей той особе, которая была любовницей Петра Первого и историю которой я вам рассказывала (то есть Анны Монс), но скандальная хроника гласит, что она не так твердо защищала свою добродетель. Она и ея любовник — если он у нее только один — очень постоянны и в течение многих лет сохраняют друг к другу сильную страсть. Она приезжала отдать мне визит после родов".
Леди Рондо бросила перо в чернильницу и задумалась. Душа ее потянулась туда, в Лондон, где она жила весело и беззаботно. Многое ей тут вспомнилось, и она даже застонала от острой жалости к самой себе. Но надо было держаться, держаться во что бы то ни стало. И она снова взяла перо.
"Когда она родила, то при первой встрече с ея супругом я поздравила его с рождением сына и спросила о здоровье его жены. Он ответил мне по-английски: "Зачем вы спрашиваете меня об этом? Спросите графа Левенвольде, ему это известно лучше, нежели мне…" Видя, что таковой ответ меня совершенно озадачил, г. Лопухин прибавил: "Что ж! всем известно, что это так, и это меня нисколько не волнует. Петр Великий принудил нас вступить в брак, я знал, что она ненавидит меня, и был к ней равнодушен, несмотря на ее красоту. Я не мог ни любить, ни ненавидеть. И в настоящее время продолжаю оставаться равнодушным к ней, к чему ж мне смущаться связью ея с человеком, который ей нравится, тем более что, нужно отдать ей справедливость, она ведет себя так прилично, как только позволяет ей ея положение".
Судите о моем удивлении и подумайте, как поступили бы вы в подобных обстоятельствах? Я же скажу вам, как поступила я: внезапно я оставила его и обратилась к первому, кого увидела. Эта дама говорит только по-русски и по-немецки, а так как я плохо говорю на этих языках, то наш разговор вертелся на общих местах, и потому я могу сказать вам лишь о ея наружности, которая действительно прекрасна. Я презираю себя, однако, за злоязычие, которое вы едва ли захотите мне простить. Мы все очень заняты приготовлением к свадьбе принцессы Анны с принцем Антоном Брауншвейгским. Кажется, я еще не говорила вам, что шесть лет назад его привезли сюда, чтоб женить на принцессе. Его воспитали вместе с нею, дабы заронить в них взаимную привязанность, но, по-видимому, это привело к совершенно противоположному результату, потому что она оказывает ему нечто худшее, нежели ненависть, — презрение. Полагая, что супружество их примирит, или, как говорят в России: обживутся — так и слюбятся, императрица решила заказать одному из лучших русских живописцев двойной портрет принца и принцессы. Императрица рассуждает так: поскольку они в парном портрете будут рядом, как голубь с голубкой, и этот портрет будет у них всегда перед глазами, значит, так и в жизни их случится. В настоящее время говорят, что этот портрет любви поручен для спешного исполнения какому-то Матвееву, живописцу, который считается здесь искуснейшим мастером. Он долгое время обучался за границей. Скажу вам кстати, что здешние живописцы ни в чем не уступают европейским.
В императрице больше расчета, нежели ума: по-видимому, она надеется посредством этого портрета сблизить будущих супругов. Брак этот должен поставить венскому кабинету преобладающее влияние при русском дворе.
Все сказанное мною должно оставаться между нами, вы, конечно, не знаете, что за готовность мою удовлетворить вашему любопытству меня могут повесить, поэтому-то, не желая рисковать, я не отправлю настоящего письма с обыкновенным курьером… Как бы то ни было, но делаются большие приготовления к свадьбе, которая будет праздноваться с возможным великолепием и о которой теперь только и говорят. Итак, будьте верны вашей и проч.
Леди
Рондо".
Она поставила точку, встала, подошла к зеркалу, оглядела себя и подумала: "А ведь я еще чертовски хороша. Выбраться бы отсюда поскорей в Англию, родить детей и жить в свое удовольствие".
Писала свои письма леди Рондо в Лондон. Наполняла их сплетнями, слухами, анекдотами, сведеньями. А Матвеев писал свои картины.
В 1773 году письма собрали и не отделывая издали под заглавием "Письма дамы, проживавшей несколько лет в России, к ея приятельнице в Англию, с историческими комментариями". По замечанию историка К. Бестужева-Рюмина, письма леди Рондо — произведение наблюдательной, образованной, умной и веселой светской женщины, чуждой всякого педантства, претензии и предвзятых мыслей.
Наш живописец тех писем не читал. Да и на что они ему нужны были? Многое из того он и сам знал. Ведь художники народ дошлый, догадливый, а чего не знают, так придумают и недорого возьмут. Не про них ли сказано: лапти растеряли, по дворам искали; было шесть, а нашли семь.
И все же очень-очень далек был Андрей Матвеев от всех печалей и забот леди Рондо. Какое ему дело до людей знати, своих
забот полон рот, деваться некуда. Ничегошеньки не знал он о своем новом заказе, о котором леди почти воровски успела уже сообщить подруге в не близкую от невских берегов Англию. Да и самое леди Андрей тоже не знал. Видел, правда, ее несколько раз, когда приезжала она с мужем в живописную команду и в Канцелярию от строений заказывать портрет своей матушки.
Леди Рондо вращалась среди вершителей судеб, а Андрей был всего лишь мастер живописного художества, мелкий казенный чин при дворе, от которого старался подальше держаться.
Но кое-кто из тех, кому леди перемывала косточки в письмах, был ему известен. К примеру, Наталью Федоровну Лопухину увидел он еще до отъезда своего в Голландию. Ей тогда, как и ему, было шестнадцать лет. Наталья была дочерью сестры Анны Монс — Матрены Ивановны. Отличаясь замечательной красотой, Наталья вызывала зависть у придворных дам. Страстная, слепая любовь ее к ветреному Левенвольде сыграла в ее жизни роковую роль. Перевернула, исковеркала судьбу. Ненаглядный ее Карлуша беспрестанно изменял ей, издевался над ее чувствами. А она все не отставала и даже при восшествии на престол Елизаветы Петровны, когда Левенвольде был арестован и сослан в Сибирь, все хлопотала о нем, обращалась с прошениями и ходатайствами. Императрица во всем отказывала Лопухиной, и та возненавидела ее. В кружке родных и друзей Наталья не скрывала своей неприязни. Обернулось это для нее весьма скверно — самодержцы не терпят ропота. Наталья Лопухина была наказана плетьми и урезанием языка, сослана в Сибирь, где прожила в нужде и бедности много лет.
Знал Андрей и мужа Натальи Лопухиной. Прежде тот долгое время жил в Лондоне, обучался морским наукам, был человеком знающим, умным, образованным. Его Андрей часто встречал в Адмиралтействе. Между ними существовала даже какая-то симпатия, хотя Степан Лопухин был уже камергером и генерал-лейтенантом.
Лучше других знал Андрей Карла Левенвольде. С него постоянно заказывали живописной команде портреты. От этого живописцам был немалый прибыток. Граф был отменно хорош собой, а на красный цветок и пчела летит. И много этих пчел женского полу прилетало в руки Левенвольде. Покоритель сердец, картежный игрок, жуир и пьяница, он был душой и устроителем самых блестящих придворных праздников. Еще при Екатерине он сделался фаворитом этой государыни, хотя начинал службу простым камер-юнкером. Но в мутных водах придворных интриг он плыл, как старая, опытная щука. Камергер, граф, александровской ленты носитель, владелец портрета императрицы, осыпанного бриллиантами. Все это валилось на него прямо с неба, а получал он из самоличных рук Екатерины.
При дворе Петра Второго граф уже не занимал особенно видного места. Но был одно время дружком и собутыльником Ивана Долгорукого, сына князя Алексея Григорьевича. Сестра Ивана Екатерина была объявлена невестою царя, ей дан был титул "ея величество государыня-невеста", хотя питала она большую страсть совсем не к Петру Второму, а к шурину австрийского посла графу Мелиссимо. Что ни говори, а двор такая яма и так глубоко протязается, что сам черт захромает!
Но вот уж кто был истинным чертом и дьяволом, так это Иван Долгорукий, ближайший любимец Петра Второго. Наибольшее удовольствие ему доставляло уводить чужих жен. Так, увел он жену у Никиты Трубецкого Настасью Головкину и без всякой закрытости жил с нею, да еще бивал и ругивал мужа, имеющего чин генерал-майора. Было бы болото, а черти всегда найдутся! Князь Иван на месяц и на два увозил молодого царя Петра от дел на охоты и пиры, на балы и распутства, на медвежью травлю и кулачные бои. И все это пролетало вдали от Андрея Матвеева, о нем вспоминали только, когда нужно было срочно написать портрет, украсить триумфальные ворота, нарисовать орнаменты, обои, миниатюры, написать иконы или баталии.
Но разбойный вертеп все же больно задел и русское художество. Князь Иван Долгорукий обратил как-то нетрезвый взор на Марию Маменс, жену персонных дел мастера и гоф-малера Ивана Никитина. Стали шептаться об этом при дворе, там тайн нет никаких, все и всё знают обо всех. Дошло и до Никитина. Да еще прибавили к известию этому, что ждет Мария ребенка от князя Ивана. С тех пор, говорят, и стал Никитин угрюм, нелюдим, работал мало, а все больше читал "Жития святых" и "Молитвослов". Верил живописец, что правого и неправого рассудит бог по своей правде, но когда? Кто ж знает?
…Если б дольше пожил Иван Никитич, то узнал бы, что Левенвольде, до которого ему дела не было, сослан в Соликамск, где и почил, а Иван Долгорукий совсем плохо кончил при Бироне — колесовали князя на Скудельничьем поле, в версте от Новгорода.
Глава четвертая
Варфоломей Растрелли

ывший флорентинец, а ныне русский итальянского происхождения, высокий и грузный, шел он по Невской першпективе как хозяин, думал что-то свое, сводил что-то в уме и раскидывал, а ухом подслушивал, как шелестит и потрескивает ледок под мостками через Фонтан-реку.
Живописный мастер Андрей Матвеев любил этого человека и, когда его звали с ним работать, являлся сразу же. В растреллиевских дворцах он охотно писал плафоны, расписывал триумфальные ворота, украшал новый Зимний дом, тоже построенный Варфоломеем Варфоломеевичем.
Откуда — и понять нельзя, — но была в этом флорентинце-графе крутая мужицкая закваска. Работал как бешеный. Русскими ветрами его пообдуло, и ко всему он привык. Но как увидит, бывало, граф нерадивость, кось да перекось российскую, как попадет ему на постройке человечишко, что стоит и почесывает то затылок, а то и где пониже, так и вскипит граф и уже совсем по-нашенски заорет: "Ах ты лентяй, огузок собачий!" — да и прибавит еще пару словечек, таких, что каждый россиянин чтит и понимает сразу же. На него не обижались, знали, что зря позорить не станет, что не со зла это. Другой бы и унизил, и поучил собственноручно, да еще б добился у начальства, чтоб вложили нерадивому ума туда, куда следует. Растрелли только огорчался, даже заболевал частенько, когда постройка не ладилась. Вздыхал и жаловался, что в России его служба изрядно тяжела. А строил все равно быстро. Упорен был и добросердечен. А ругань-то — она что? Она на вороте не виснет…
Граф жил в России давно, обрусел порядком, говорил без акцента. И пил порой граф тоже, как самый серый русский мужик. Это у него называлось "вырваться на волю", Тогда обширность Петербурга становилась ему тесна, он брал тройку и летел мимо сосен и берез, над верстами и ночами, над зарослями и прибрежными кустами, по косогорам и лугам, по долам и по горам и оказывался под конец почти под Москвой.
Проезжал он Владимир с его вишневыми садами, лебяжьими церквами, мчал большой излучиной Клязьмы-реки и, еще не вполне пьяный, а только подгулявший, останавливался где-нибудь в Торжке на постоялом дворе. И тут как из-под земли появлялись грудастые блудные девки. Слухи о том, что столичный граф приехал и гуляет, разносились сразу, и девки спешили к нему. Нарядные, веселые, в румянах, пахнущие чисто выстиранным бельем и белым марсельским мылом. Ведь и чужеземные купцы, бывавшие здесь, тоже не скупились ради гульбищ и женской прелести на духи, пудру, сурьму и мыло.
Приезд столичного гостя, крепкого мужика с полным кошельком, был событием, явлением ангела женам-мироносицам. Граф терпеть не мог крохоборов, сам никогда не был таким, и потому веселье захватывало не только постоялый двор, но всю округу. Итальянцу было хорошо и просто. Он лапал своими огромными ручищами всех подряд, при каждом дотроге блажливые девки закатывали глаза и визжали не сильно, а так, как положено, — от этого у графа троилось и плыло в глазах, он переводил взгляд за окно и видел там русское небо, запрокинутое за тощие песчаные пастбища, черные избы, занесенные метелями, колодцы и кресты, и ему становилось еще лучше: там — нищета, грязь, слезы, хлеб с мякиной, калечь и голь, а здесь — тепло, хорошо, укромно. И ничто не запрещено. Дуй, Дунька, поддувай, Дунька! А она, пышная и багровая, дело свое знает, не первоучка, у нее груди по два фунта каждая, таких ни в Европе, ни на придворных балах не увидишь. Хоть тресни глаза. Шум, смех, кто-то на гитаре бренчит, полунагие девки-визгуньи с ногами-колоннами пляшут, они совсем обомлели от сладкого. Нежится Растрелли, легко и приятно здесь.
Знатно! Знатно!
Чем дальше отъезжал Растрелли от двора с его вечными сплетнями, интригами, подлостями, тем веселей он становился. Неслись кони мимо ветхих изб, шарахались бредущие куда-то люди. Беглые, что ли? А далеко ли тут убежишь-то? Ведь вся Русь — одна бескрайняя равнина, заваленная глубокими снегами, и конца и края ей нет — небо да снег. Куда же бежать-то, милые?!
И такая тоска иногда вдруг навалится на графа, что он смахнет слезу и крикнет кучеру: "А ну, поворачивай к дому!"
И тот покачает головой: сдурел, чай, Варфоломеевич-то — с утра велел к Москве мчать, а теперь подавай ему к дому, в Петербург, значит. Ну что ж, дело хозяйское! Эй, милые! Эй, залетные! Впрочем, это случалось с графом редко, обыкновенно он докатывал до своих любимых мест — до Торжка или Валдая, а вот сегодня случилось так…
Растрелли нравилось все — и белая земля внизу, под ногами, и бесконечность неба над головой, он был зодчим России, свод над ним казался ласковым кровом, смягчающим морозное дыхание каменного города-сфинкса… Веселый, румяный, жизнерадостный шел Варфоломей Варфоломеевич по Невской першпективе. Издали завидев Матвеева, заулыбался. Матвеев почтительно снял шляпу.
— Добрый день, ваше сиятельство! Бог в помощь!
— A-а, Матвеев, здравствуй, здравствуй, спасибо! — Растрелли приветливо кивнул ему, крепко пожал руку.
— Далеко ли путь держите? — спросил Матвеев.
— И не спрашивай, ой, не спрашивай, Матвеев, — махнул рукой граф. И помрачнел лицом. — Добродетель губительна, мой друг. В Юстиц-коллегию иду вот давать показания. В пользу мужа. Обвинила его супруга в неисполнении брачныя должности…
Растрелли чертыхнулся, сверкнул глазами, а после беспомощно улыбнулся, а Матвеев расхохотался без удержу.
— Вольно же вам, ваше сиятельство! И кто ж это уклоняется от столь сладкой работы?
— Лицо тебе известное! Оно увещевает свою жену, чтоб жила с ним как ангел и таковые скотские и грешные мысли оставила бы навсегда. Ну, муженек и поучил ее малость. А она за поругание и убытки телесные требует с него ежегодно две тысячи рублев. Я и графиня Растрелли ныне в свидетелях ходим, простым словам нашим не верят, заставляют свидетельскую присягу учинять. А мы учинять ее отрицаемся. Не по нашему закону сие. Уж весь город смеется. А что толку-то? На высочайшее имя прошение подано и отвечено — неукоснительно разобраться. Вот и гоняют нас!
— Ну, если так, то непременно разберутся, — улыбнулся Андрей.
— А черт с ними обоими! — взорвался вдруг архитектор. — Оба они продувные бестии, да там еще любовник-ротмистр объявился. Так что такая там каша, такая катавасия заварилась, что… — Он крепко выругался. — Ты вот что лучше скажи, Матвеев, тебе что, срочный заказ из дворца передали?
Андрей удивленно поднял брови и отрицательно покачал головой:
— Нет! И разговора не было…
— Так вот, — деловито нахмурился Растрелли, — государыня поручила Остерману срочно найти живописных дел мастера для парного портрета принцессы Анны и принца Брауншвейгского.
Андрей замер: неужто счастье само идет в руки?
Он достал из кармана этюдную тетрадь, раскрыл лист с набросками двойного портрета и молча протянул Растрелли.
Тот посмотрел и удивленно спросил:
— Так ты уже знал?
Живописец быстро ответил:
— Не знал, не знал, Варфоломей Варфоломеевич! Никто мне ничего не говорил. Это я для себя пробовал, так, само пришло в голову написать. Если мне дадут, я вам вовек благодарен буду!
— Ах, какие там благодарности! — рассеянно отмахнулся Растрелли. — Считай, что заказ твой! А знаешь, у тебя вот тут отличная композиция, — он ткнул пальцем в один набросок. — Это просто и хорошо. Я верю, что ты сделаешь. Твои эмблемы и картины для триумфальных ворот превосходны!
Матвеев благодарно поклонился архитектору. Он был до глубины души растроган и счастлив. Они тепло распрощались.
Андрей Матвеев словно опьянел от нежданной удачи. "Это ж надо случиться такому совпадению, — думал он, — осенило, и на тебе — сходный заказ!" Теперь в нем разгорался тот огонь, что дает крылья и может поднять ввысь. И этот огонь всегда был в его картинах.
Он шел по городу как будто в первый раз, все виделось остро и свежо. "Ламан тя возьми!" — ругнулся живописец добродушно, глядя, как разросся город. По берегу Большой Невы, словно на плане, стояли подряд морская аптека и лютеранская церковь, шли обширные архиерейские и монастырские подворья и дворы. Каменные строения принадлежали важным сановникам — вице-канцлер Головкин жил рядом с фельдмаршалом Минихом, дом губернатора Плещеева соседствовал с домами князей Голицыных, Долгоруких, Черкасских. Потом шли дома вдовы архитектора — полковницы Трезини, поэта Сумарокова, аптекаря Ягана Грегори, хозяйства купцов и трактирщиков. А во дворах шумные людские и прочие покои, конюшни, сараи, погреба, огороды, амбары, пруды. Откуда побралось что? Голландская пивоварня, артиллерийский лагерь с мортирами, кабаки, харчевни, питейные, гончарная слобода, канатный двор… Царь Петр всему был доброй погонялкой.
С его легкой (да уж, "легкая" — куда там!) руки поплыли по Неве нарядные корабли и барки, полубарки и коломенки, шитики и расшивы.
Смотрел Андрей на Неву, а вспоминались ему голландская речка Амстель с серебристой водою и ратуша из белого камня, улицы амстердамские с каналами, а по сторонам их бежали удобные дороги, в иных местах такие широкие, что можно было цугом проскакать. Вспоминались и великие деревья при канале на берегу. И вдруг так отчетливо заиграли в его ушах башенные амстердамские часы, что даже звон курантов ему почудился. И вспомнилось доброе щекастое лицо мастера Ягана Ферстера. Вот уж кто завораживал колокольным игранием!
Когда Андрей возвращался и думал-гадал, как устроится его жизнь в России, он больше всего уповал на покровительство князя Меншикова. И не ошибся. Но вышло так, что в августе 121-го он вернулся, а в сентябре светлейшего запичужили в ссылку, в Березов. Хорошо, что успел Андрей портрет князя написать, преподнес ему перед арестом и отправкой. Запомнил живописец провожанье князя. Весь город вышел тогда смотреть. Экипажи были у князя собственные, великолепно убранные. Процессия была знатная: шли пять берлинов, шестнадцать колясок, десяток фургонов. Ехали с Данилы чем в ссылку дворецкий и подьячий, повара и сапожники, приказчики и певчие, лакеи и шорники. Опальный вельможа вооружил всех служителей ружьями и пистолетами. С Матвеевым он ласково простился, наказал, как ему себя держать. Сказал на прощанье:
— У нас в столицах полно выскочек, они вот и меня слопали, смотри в оба, обходи их стороной, не мудрись. Но и теснить себя не давай! Знаешь, говорят: жены стесняться — детей не видать… Твои картины — твои дети, гляди за ними. А я жив буду, бог даст, не оставлю тебя… Прощай, сынок!
Глава пятая
Молчал матвеевский портрет

е сладко в Березове, не сладко… Вой ветра похож на человеческий крик. Истошный, отчаянный. С ума можно спятить.
Боже, боже! Вот занесло Меншикова. Даже его привычная выдержка изменяет, озноб словно льдом всего обхватывает.
В большой, просторной светлице сумрак, три плошки горят, толстые фитили постреливают. Вздыхая и проклиная свою судьбу, сидит Александр Данилович и пьет горькую — сам не сам!
Косая слепящая пурга за окном гонит целые стога снега, наваливает сугробы. Казалось, весь белый свет померк и по всей земле разливается этот страшный вой. Но только в Санкт-Петербурге не так: здесь веет ссыльно, а там вольно. И кто же он, что сидит в этой трущобе? По временам Ментиков забывает, кто он и где. Это не он ли наголову разбил прославленного шведского генерала Мардефельда при Калише? Не его ли, Меншикова, царь Петр называл "дитя сердца моего"? Не у него ли были девяносто одна тысяча крестьян и семь миллионов деньгами, бриллиантами и банковыми билетами? Все прахом, все ушло… Не ему ли даден был диплом князя Римской империи? И что же? Вот так и смерзнуться в этой березовской мгле?
Приехал Меншиков сюда с надеждами, гоголем держался, думал: "Ну, погодите, еще пожалеете, еще попросите. Ох, как еще попросите!"
Пождал-пождал — нет, не просят! Словно его и не было… И стал светлейший понемногу сдавать. Какой-то дряхлый стал, какой-то подержанный, несостоятельный какой-то. Никто ему, сердечному, в утешенье словечка не скажет, поясница ноет, дочери ходят с постными лицами, будто по ним качалкой прошлись. И так уж прескверно на душе-то, такая побежденность и растоптанность, так уж подло, мрачно и каторжно, что и не высказать!
И за что на них, на Меншиковых, такая напасть! Все эти проклятущие минихи, головкины, левенвольды, князья да графья… Ведь лебезили же, без мыла лезли, заискивали, а он, сын капрала петровской гвардии, едва имя свое мог подписать. Свели-таки счеты, сволочи!
"Нет! — так и вскинулся Меншиков. — Нет!" Шмякнул кулаком в стол. Ссылкой его не возьмешь. Не сломишь. Не таковский. Знаем мы и сами, что кривы наши сани. Да только разве муха может убить орла, а муравей может ли повредить льву! Нате-ка! Выкусите!
Злоба пробежала в потухших старческих глазах Александра Даниловича. Налил он себе еще стакан водки, выпил, крякнул, утерся ладонью, не стал закусывать.
Ордена, ленты, бриллиантовые звезды — все было! Шпаги с драгоценными каменьями, женские ласки, власть, сундуки с золотыми деньгами, зеркала из Парижа, мраморные столы, люстры, наилучшие картины, английские кареты — все было, и все Меншиков оставил дома, в Петербурге. А здесь, в Березове, у него одни только простуды, головные боли, смятенье духа, тоска по невозвратимым утратам.
Совсем Александр Данилович в Березове задубел. Холодно и сыро ему стало жить, а еще и шестидесяти не стукнуло. Все он ждал чего-то, да так, видно, и не дождется никогда. Отчаялся и поник светлейший. Разлюбил жизнь. "Что остается впереди?" — сам себя спрашивает. А ответа нет. Охоты, гульба, пьянки, бабы развеселые, всеобщее уваженье — все враз отпало. Покуражился — баста!
Нынче аминить пора, вроде как об угол острый головой ударился. Одной радости ему осталось — это глядеть на свой портрет, что Андрюшка Матвеев списал с него. Перед самым отъездом в ссылку принес. В неделю намахал и в добром художестве. Хорошо в Голландии научился, мастак!
Засиживался Меншиков с глазу на глаз со своим портретом, беседовал, шептал что-то, качал утвердительно головой. Так они и сидели: по одну сторону ссыльный старик с ноющей печенью в животе, по другую сторону, на портрете, — орел мужик, ладный, удачливый, в орденах и лентах, а главное — в соку, с кровью, естеством. Да, такому, как в портрете, хоть два века жить, ничего не сделается. "Постарался Андрейка", — ласково думал о живописце Александр Данилыч, любуясь картиной. С душою писал, раскусил он его, понял, каков он человек! Многие ценности побросал Данилыч, а эту картину матвеевскую увез с собой. Особливо нравились ему в картине глаза. Умные, твердые, наигранные, открытые настежь, это глаза властелина с веселым нравом.
Умилялся Меншиков. Будто ему из масляных красок проглядывало прежнее ясное солнышко. Да, переменчива жизнь: на всякий час ума не напасешься, и хорошее до святок никак не растянешь.
Вон ничего уже и не хочется, а каков был молодец!
Не забыть ему никогда, какой у него был вид, какой гордый манер. Вон он, портрет. Персона! Герой, поклонник наук и свободных художеств, законодатель, друг и соратник Петра, царство ему небесное, тот судил, да не ссылал, знал цену! Десять лет по судам таскали за казнокрадство, а не трогали. Петр Алексеевич умел прощать промахи. Знал он, что Алексашка до всего своим умом дошел. А что на руку нечист, так кто же чист!
Храбр был Александр Данилович, талантлив, за дело Петрово радел, за это, за муки и затраты свои, и стал светлейшим князем, и герцогом Ижорским, и наследным господином Аранибурха и иных городов, и первым действительным тайным советником, и генерал-фельдмаршалом, и генерал-губернатором Санкт-Петербургской и многих других провинций, и кавалером Святого Андрея, и Слона, и Белого и Черного Орлов, и прочая и прочая…
Молчал матвеевский портрет, а мог бы и сказать…
Молчал матвеевский портрет, а Меншиков Александр Данилыч пил горькую, житья ему оставалось два года. Нашел он могилу свою там же, в Березове.
А портрет его кисти гоф-малера Андрея Матвеева затерялся…
…Когда Матвеев вернулся домой после разговора с Растрелли, Орина, серьезная и взволнованная, подала ему письмо с печатями. Андрей торопливо вскрыл его.
"
Господин гоф-малеру Матвееву. Объявляю тебе мое соизволенье: чтобы ты в незамедлительное время исполнил в живописном добром художестве парный портрет с принцессы Анны и принца Антона Брауншвейгского. Дальнейшие распоряжения получишь у графа Остермана. В прочем пребываю благосклонна.
Анна".
Собственноручное письмо императрицы! Настал наш черед садиться наперед!
Андрей схватил Орину, притянул к себе:
— Ну, Орина, заживем, денег будет — ого! И работа по мне!
А про себя подумал: "Писать буду их высочества, а видеть на полотне себя с Ориной. Вот повезло так повезло! Будь здоров, граф Варфоломей Варфоломеевич, подгадал ты мне, дорогой, сто годов тебе жить, а что прожил — не в зачет!" Страсть как ему подфартило!
Глава шестая
У Остермана

утра у вице-канцлера графа Остермана болела голова. Подобное может быть со всякой живой тварью. Лекаря считают, что происходит сие от полнокровия. А люди говорят, что от дурного характера и злобства. Ломило глаза, напирало на затылок. Боль была такая, что граф мычал в подушку и его всего выворачивало.
Подошла жена с деревянной банкой в руке.
— Ну что ты расстонался, не всякая болезнь к смерти. На вот, выпей, Андрей Иваныч, аптекарь сказывал, что мед с морсом от головы спасенье.
— А что, Марфенька, ты доверяешь этим прощелыгам?
— Пей ты, пей! И от прощелыг польза бывает.
Андрей Иваныч поморщился и залпом осушил кружку.
И действительно, вскоре ему стало вроде бы полегче.
— Пойду к себе, там и лягу. Как спросит меня живописный мастер Матвеев, вели, чтоб ко мне проводили!
Вице-канцлер Остерман, по мнению многих, считался лучшим в Европе дипломатом, искуснейшим политиком. На язык остер был и крайне изворотлив. О нем говорили, что вертится он, как лысый бес перед заутреней. Как орехи расщелкивал граф тайны придворных каверз. В прошлом у него был успех — заключение выгоднейшего для России Ништадтского мира, тогда он стал любимцем царя.
— Ну, Андрей Иваныч, этот мир для нас такое благо, такое счастье, — сиял Петр, — я уж не знаю, как мне тебя и наградить!
Остермана возвели в баронское достоинство, осыпали деньгами и орденами. Пожаловали деревнями.
— Ну вот, — сказал царь, — ты теперь, Андрей Иваныч, знатен и богат, но в России ты еще чужой человек, без родства. Я хочу тебя просватать. Есть у меня на примете одна невеста. Как смотришь?
И через несколько дней Петр женил его на дочери ближнего стольника Марфе Стрешневой.
Зажили молодые счастливо. Остерман к России привык. Мужчины уважали его за трезвость ума, женщинам нравилось, что граф большой любезник и к каждой умеет найти свой манир. В свою очередь Остерман смотрел на женщин как на забавные игрушки. Ему приятно было слушать их легкую, заливчатую болтовню. Вице-канцлер был не жаден до богатства, образцово честен. Не станет Петра, и его бывшего любимца приговорят за несуществующие вины к смерти, замененной пожизненным заключением в Сибирь. И окажется вдруг вершитель судеб Европы на берегу Сосьвы-реки, там, где она впадает в Обь, в Березове, посередине тайги. А вослед ему полетит особая инструкция — содержать арестанта под крепким и осторожным караулом, наблюдая, чтобы никто с ним не разговаривал. Ему не позволят ни с кем видеться, ему запретят иметь чернила и бумагу и станут смотреть, чтобы служители его ходили в город только для закупки провизии раз в сутки, не иначе как в сопровождении солдата. А обо всем прочем доносить в Сенат. В случае же чего виновных под строжайший караул и о том обстоятельно рапортовать в Сенат же.
Туда, в Березов, Остерман поехал вместе с женою Марфой, десятком гвардейских солдат, тремя лакеями, поваром и двумя горничными. Увидел он край суровый, где порой так прижмет мороз, что птицы мертвыми валятся в снег. Холод теснит дыханье. Кругом кедр, ель, сосны. Не убежишь. До ближайшего большого города Тобольска от Березова отмерена ровным счетом одна тысяча шестьдесят шесть верст. Через озера и протоки, через зыбкие болота и хвойный лес, через погибель и дремучую чащу.
В Петербурге о ссыльном не забудут. Императрица, зная, что бывший вице-канцлер лютеранин, пошлет ему пастора с жалованьем в полтораста рублев в месяц. Молись, дескать, о душе. Но и пастор не поможет. Проживет в Березове граф пять лет и помрет. А жена его верная Марфа вернется в Петербург. Два сына их будут служить капитанами в Преображенском полку. Один станет московским генерал-губернатором, другой — президентом Коллегии иностранных дел. Детки умом в отца… Но это все потом.
А пока еще вице-канцлер в полной силе. Его слово — закон.
К нему-то и велено явиться живописцу Андрею Матвееву. Чтоб уяснить спешный царский заказ на двойной портрет.
* * *
Матвеев встал рано. Он проспал сряду часов шесть беспросыпно, что с ним редко бывало.
Наконец-то потеплело. Вместо серого, тяжелого и пасмурного неба над головой разлилась нежная синь. А солнце стало белое, теплое, ласковое. Прямые его лучи подсушили землю. Дышать стало легко. Матвеев, приятно освеженный сном, почистил камзол, надраил туфли с медными пряжками.
Живописец одну в голове держал мысль — не спугнуть бы, не проворонить этот заказ. Быть начеку в разговоре с Остерманом. О коварстве и хитрости канцлера Матвеев знал хорошо.
* * *
С течением времени Матвеев почувствовал себя в Петербурге вполне уверенно. За эти двенадцать лет приходилось ему взбираться на все более крутые высоты — и в жизни, и в художестве. Вечное карабканье закалило его, отняло хрупкость. Но и теперь, опытный, тертый, наторелый, гнался он только за одним — чтобы каждая новая работа была искусней предыдущей. Он был признанный художник в столице, глава живописной команды в Канцелярии от строений. Боже мой, что с того, что ушла молодость и нет уже тех мыслей и порывов, что были у него прежде! У него внутри еще жил солнечный зайчик его юности, а это и есть в человеке самое главное. Если в молодости можно жить просто, радостно и бездумно, то в зрелости каждый прожитый год дает тебе право видеть все яснее и четче, как в новом зеркале.
Мысли Андрея вертелись вокруг предстоящей ему работы — двойного портрета. Это был его выигрыш, вселявший счастливое спокойствие полной уверенности в себе. Предстояло взять еще последний барьер — разговор с Остерманом, — и можно натягивать холст на подрамник.
Денек, как на заказ, выдался отличный, солнце горело победно. Вокруг все сверкало, и Андрей подумал, что погода хороша не случайно — она тоже и порука, и благословенье. Он верил и даже веровал в погоду, как в защитника.
Андрею было хорошо и весело, он шел большими упругими шагами, и вспомнился ему Петергоф, где он расписывал царские покои. Может быть, потому пришло это в голову, что сейчас было тепло, солнечно, мягко, а там стоял сырой полумрак. Спину там сводило так, что даже теперь, при одном воспоминании, охватывала дрожь. Андрею рассказывали, что вся царствующая фамилия страдала от ревматизма. В комодах и шкафах императрицы взрастали грибы и кудрявилась плесень, а в ее спальне, находившейся на одном уровне с землей, появлялись в дождь маленькие крикливые лягушки.
Андрей взглянул на слепящее серебряное солнце, и впечатление сырости ушло.
— Ну, Матвеев, — сказал Остерман приветливо, сановито подступая к нему, — здравствуй. Весь Петербург на тебя смотрит. — Он говорил против силы бодро, подходя к живописцу и вперяя в него тяжелый взгляд. — Присядем-ка вот здесь, побеседуем! Рассужденье приличествует мужчинам, мы не прекрасный пол. Это они больше чувствуют, чем думают.
Андрей смотрел в колючие выпуклые глаза Остермана, стараясь предельно собраться и побороть холодок в груди.
Губы у Остермана были плотно сомкнуты, и Матвеев вдруг подумал, что вице-канцлер привык жить в мире, где каждое слово взвешено, где его нужно раскалывать, как орех, чтоб добраться до сердцевины. Часто иностранные дипломаты беседовали с Остерманом по нескольку часов и ничего не могли от него выведать. Если он не находил, что отвечать, то смотрел вверх и молчал, а то вдруг начинал говорить так загадочно, что от этакой занеси у него самого уши вяли. Такому палец в рот не клади — отхватит до самого локтя не моргнув.
Как человек, наделенный большой властью, — не зря ж его звали "царем всероссийским", — Остерман был готов пойти на все ради достижения цели. Ни подлость, ни обман его остановить не могли. Жажда власти обостряла его чувства, ведь он постоянно ходил по острию ножа. Власть, а вернее, боязнь потерять ее, вскормила в нем сильную волю, безжалостность и решительность. Положение при дворе все время требовало самоконтроля и жесточайшей осторожности.
Когда-то этот сын пастора из Вестфалии учился в Иенском университете. Будучи изрядным повесой, он попался, и одна его история наделала много шуму. Пришлось спешно менять место, почти бежать, и он переехал в Голландию и поступил на службу камердинером к известному мореходу Корнелию Крюйсу, а тот как раз по уговору с царем Петром собирался в Россию. Так Остерман появился на берегах Невы.
А Матвеев? Что взять с живописца? Он корпел над моделировками, изучал технику, краски, все свое существо подчинял волшебству кисти, учился несколькими мазками выразить то единственное, сокровенное, что таится за внешностью.
В минуты тоски и разочарований он напрягал все силы для того, чтобы не отчаиваться и повиноваться только своему внутреннему голосу.
И вот они сидят друг против друга. Один — служитель верховной власти и другой — служащий чему-то еще более высокому, почти недосягаемому, небесному. Один непроницаем и бессонными ночами обдумывает быстрые ходы в политической и дипломатической игре. Другой открыт, наивен, простодушен. И покорен до конца только одной власти — художеству.
Остерман пытливо оглядел Матвеева с ног до головы. Черный камзол живописца сильно оттенял его слишком бледное лицо. Вице-канцлер, привыкший смотреть в неверные и ласковые глаза царедворцев, видел теперь перед собою совсем иной взгляд. Прямой, гордый, светлый. "Умен, строптив", — отметил Остерман и позавидовал, подумав, что человеку с такими глазами ничто уже не страшно. Нет духа повиновения, и он уж не свернет с избранного пути. А живописец меж тем спокойно разглядывал не хозяина, а его кабинет. В нем было множество латинских и греческих книг, библий, статуэток, гравюр, географических карт. Порой Матвеев выжидающе взглядывал на Остермана, и тот снова отмечал про себя: "Да, с характерцем молодец, с характерцем. Такого не заставишь рабствовать, уж слишком много в нем независимости. Такие не гнутся — только ломаются".
Матвеев знал: здесь живет политик, который, быть может, творит историю. Карты тут были расцвечены особыми значками, кружками и стрелками. На них все было поделено, засечено, расписано. Остерман покалывал Андрея взглядом, то есть вроде и не смотрел, а высматривал.
Матвеев простодушно переводил глаза с одного на другое. То его как будто привлекала голландская гравюра на стене, то он дураковато таращился на чучело какой-то сизо-голубой птицы, то рьяно изучал линию рисунка на поставце из красного дерева.
Голова у вице-канцлера прошла, стало совсем легко. Остерману Матвеев нравился, но, как всегда, он сразу подавил в себе даже тень тени личной симпатии. Ведь речь шла о государственном заказе.
— Итак, — начал Остерман, насупив брови и глядя вверх, — принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон станут вскоре супругами. Это имеет свои важные причины. О них пока лишь немногие лица, коим сие надлежит знать, осведомлены. Этот брак имеет важное для России политическое значение. Таким образом, Матвеев, это не просто картина, а некий важный государственный акт. Посему императрица изъявила намерение заказать двойной портрет с бракосочетающихся.
Матвееву вдруг стало необыкновенно весело, он прикрыл глаза рукой, чтобы Остерман не увидел его взгляда.
А тот продолжал ровным, холодным тоном:
— Граф Растрелли, коему я очень доверяю, рекомендовал тебя как отменного мастера персонного письма, способного сделать и выразить то, что нам надобно. А надобно в обличье сочетающихся запечатлеть согласье. Писать будешь во дворце. Исполнение работы должно быть окончено в один месяц. Срок достаточный. Заплачено будет двести рублей. Ну вот, теперь говори ты! Какое твое на этот счет намерение? — Остерман уставился на Матвеева настороженно и выжидающе.
На минуту наступила тишина. Живописец делал вид, что раздумывает.
Потом он коротко вздохнул и сказал:
— Премного благодарен вам, ваша светлость. Для меня сие честь великая. Я наперед знаю, как надобно писать такой портрет. Ваши пояснения мне много помогут. Подобную мотиву я и ранее обдумывал. Когда будет приказано приступить?
Остерман поглядел на него мягче, усмехнулся, встал.
"Хорошее все же у этого Матвеева лицо, — подумал он с некоторой даже завистью. — Видно, добряк и славный парень, справится с делом".
Но он снова сжал губы и сухо сказал:
— Обо всем остальном узнаешь завтра у гоф-маршала двора, он будет ждать тебя во дворце пополудни. Не опаздывай, и с богом, милый!
Матвеев почтительно поклонился.
Пейзаж с ласточками
Весеннее утро, бодрящая свежесть, ласточки… Великое множество птиц живет на Руси. Но ласточка птица особенная, нежная.
Матвеев сидел на крыльце, щурился от яркого солнца и смотрел, как мелькают в струящемся воздухе черные с синим блеском спинки ласточек. На душе у него было хорошо и тихо.
Си-зить! Сии-зиить! От ласкового тепла и душного медвяного запаха глухой крапивы на душе вольней, беспечней. Как значительна жизнь в своей простоте, одиночестве! Сколько суеты и ничтожности в мирских делах! Вон ласточки гнездо строят, и нерасторжимо их единство с лазоревым небом, с радостной свежестью земли. А ласточки работали так славно, споро и слаженно, будто сам всеизвестный архитект Растрелли невидимо отдавал им нужные приказанья. Нырком скользили они на своих длинных и острых крыльях к земле, исчезали куда-то, затем снова падали уже сверху с соломинкой и глиной в плоском широком клюве. Ласточки непрерывно спорили, ругались, переговаривались, мостили гнездовище пухом, скрепляли прутиками, снова улетали.
Сколько в них жизни, совершенства, терпенья!
Матвеев старался не шевельнуться, чтоб не помешать их делу. А день был удивительный — мягкий и такой тихий, что слышно было, как трутся птичьи крылья об воздух.
Какое блаженство на родной земле! Где-то в самых глубинах ее всегда есть охранительные силы, которые поддерживают в нас исконное право на простую и счастливую жизнь, на то заветное, что живет в увеличенной любовью душе и отталкивает из нее, просясь наружу.
* * *
Прошения писать — вроде пополам гнешься. А во дворец писание особое. Тоскливое, нудное, и тщательство требуется отменное.
С тяжелым чувством вывел Андрей: "Доношение гоф-малера Матвеева вседержавнейшей императрице Анне Иоанновне".
Рука стала писать как бы сама, без насилия:
"Всепресветлейшая, державнейшая, великая Государыня императрица Анна Иоанновна, самодержица всероссийская! Нижайший чрез присланного ко мне своеручно приписанного и бесценного письма Вашего императорского величества имел я сего числа получить, о чем донести честь имею.
Яко сиятельного заказу касается, то оный быть не чаю, как в живописании нетерпеливо сотворить. Наперед верен, что сей знак чести и монаршего благоволения вашего похвальное мне поощренье к оказанию отечеству вящих услуг и к приобщению большей милости вашей, августейшей самодержицы.
Что же впредь об исполнении того, о чем всенижайше донести не премину. Уповаю на ваше императорское величество в том деле моего художества свое надзирание и приращение ко успеху сделать соизволите. Осмеливаюсь усердно благодарить Ваше величество за многие милости, на каковые я покусился, нижайший, уповательно по силе указу блаженные и вечной славы достойные памяти его величества государя императора Петра Великого.
С отменным усердием в исполнении вверенного дела писания двойного портрету принцессы Анны и принца Антона отныне устремлюся. Как оный портрет, так и впредь готов на добрые услуги в моем художестве потребные. В уповании, что не оставите благосклонностью меня, нижайшего и фамилию мою Вашего императорского величества всеподданнейший раб
Гоф-малер
Матвеев Андрей".
Глядел Андрей на листок, на буковки и крючочки, и тяготило что-то его. Со въедливостью перечитал каждое словечко по нескольку раз. Морщился. Видел все фразы отдельно, одна другую отодвигающие. Укоризненно, с гадким чувством читал слова свои.
Глубоко вздохнув, Андрей скомкал исписанные листки, отшвырнул их прочь. Сразу полегчало — освободился. Подумал о том, что во все времена пишутся царям прошения, и прежде писали, и чрез сто лет кто-то униженный будет писать такую же мерзость и просить о добродетели. Мыслишка крохотна, а действует вполне успокоительно.
Взял Андрей чистой бумаги, твердо стал писать новое доношение:
"Гоф-малер Матвеев Андрей — Ее величеству императрице Анне Иоанновне.
Нижайший услугою себе признаваю великою всемилостивейшее участие, принятое Вашим величеством в деле моего художества.
Совершенно ничтожное занятие мое новое дарует счастливое благо. Послушно внимая указу Вашего императорского величества, буду без задержки приближать развязку в деле двойного портрета.
Вашего императорского величества всеподданнейший раб гоф-малер
Матвеев".
И письмо почти такое же, как прежде, а неприятное чувство у Андрея рассеялось.
Он запечатал письмо, почувствовал прежнюю в себе твердость.
Двор всю минувшую неделю занимался смотрами трех полков гвардейской пехоты, конного гвардейского и кадет в присутствии двенадцати щеголеватых высших французских офицеров, специально приглашенных для этого в Петербург.
День первого сеанса во дворце, имеющий быть неделю тому назад, все откладывался: принцесса Анна сказывалась больной.
Матвеев с нетерпением ждал вызова и в этом ожидании получил второе собственноручное письмо императрицы. Дело затягивалось, и это беспокоило Анну Иоанновну. "Господин гоф-малер Матвеев, — писала она, — по случаю, что недомогает принцесса, как о том донес ты мне, я предоставляю тебе учреждать писание портрета, взирая на соответствование ея здоровья. Уведомляй чрез нарочного об исполнении ево. Пребываю благосклонна.
Анна".
Вниманье двора все же чуточку льстило живописцу. Но не только льстило. Настораживало. Собираясь во дворец, Андрей невольно перебирал свои возможные вины. Так, на случай. "А что, как там спросят, зачем взял к себе мальчишек-сирот в учение от попавшего в опалу доброго приятеля своего персонных дел мастера Никитина Ивана?" Ненависть к сосланному в Тобольск живописцу раздута была до ярости. Она шла из Тайной канцелярии, подогревалась дворцом, била всеми четырьмя копытами, как табунная лошадь, спущенная с аркана. "Как бы не лягнуло!"
Не за себя Андрей боялся. А за Орину и деток…
Каждый человек в империи жил своим законом. Вчера Матвееву повстречался знакомый царедворец, бывший дружка Стучалкин. Узнав, что Андрей будет скоро во дворце, чтоб писать, придворный удостоил советом:
— Как увидишь императрицу, не оплошай, и как пожалован будешь к руке, не суетись! И помни: каждый раз, как нам выпадает честь поцеловать руку государя своего, — монотонно цедил Стучалкин, — мы тем самым возобновляем свою верноподданническую присягу. Уразумел?
Андрей Матвеев думал: "Ну и хорошо же его вышколили, вдолбили крепко!" Он молчал, потом пристально взглянул в глаза царедворца.
— Слушай, брат… — И так горячо, по-свойски кончил Матвеев речь свою, что Стучалкин на миг оторопел.
— Бестолков же ты, Матвеев, — хладнокровно, однако, сказал он. — Вы, моляры, все какие-то бешеные! Тебе говоришь по-дружески, как лучше, а ты свое гнешь. Гордость в тебе бесовская. Вы, рукоделатели, только и можете, что образа знаменовать…
Он сказал это важно, махнул рукой и пошел, не прощаясь, от Андрея.
"А ведь он хорошо понимал хитрость врачебную, — подумал Матвеев ему вслед, — лучше б лекарем стал, чем царедворцем. Там подержат и выбросят, а в добрых лекарях всегда нужда!.."
Глава седьмая
Клубок дворцовых интриг

ешению вызвать живописных дел мастера во дворец и поручить ему парный портрет Анны Леопольдовны и принца Антона предшествовали события, смысла которых Матвеев не знал и не мог знать. Да и на что они ему, художнику? Он понимал толк в пропорциях, умел пользоваться всем богатством цвета, оттенков, тонов и полутонов, по-настоящему любил и чутко понимал художество.
Он постиг тайны самых хитрых учителей, знал, как надобно смешивать синило и желть, как трутся краски на водке и прибавляется к ним немного желчи рыбьей — из щуки или же карпа, как добиваться звучания кремор-тартара — алой краски с квасцами, как смешивать мел с крушинным соком, чтоб вышел отличный желтый шижгиль, умел готовить отменные белила на пшеничном клею, вязать кисти, перепускать краски, грунтовать холст тонким пшеничным тестом, помазывая поверх водою, знал секреты камеди александрийской, на которой растворяются все краски и киноварь, мастерски варил рыбий клей — корлук. Художество, как любая профессия, имело множество секретов, и Матвеев знал их совершенно. Не зря же Академия наук со своей стороны заключала, что оной Матвеев к живописанию и рисованию зело способен и склонную природу имеет.
И все же в штат Академии наук Матвеева так и не
зачислили.
Но где была первопричина, почему двойной портрет нужен? Узелок развязывался скрытно, манекены издавали звуки, нажимались невидимые пружины, мчались гонцы, происходили тайные совещания, перешептывания, посылались записочки, клубком свивались дворцовые интриги, и в этот грозный водоворот оказался втянутым бедный и скудный наш художник, удостоверясь печальным опытом в своем полнейшем неразумении корыстей, неправд и подсидок. Все дворцовое вызывало в Матвееве духовное отягощенье. Он часто страдал от срочных заказов, писать приходилось то, что требовал двор. Зато он мог все, завяжи ему глаза — напишет получше прославленного Каравакка или Ротари. Матвеев был невольником своей жизни, потому что в картине никуда не спрячешься, колер все выдаст, распахнет дальше некуда.
Причина же вызова ко двору гоф-малера Матвеева была вот какая. Вскоре после вступления на престол императрицы Анны Иоанновны, так как она была бездетна, граф Остерман и граф Левенвольде-старший стали опасаться самых дурных последствий для немецкой партии в случае внезапной кончины бездетной императрицы. Они забеспокоились о престолонаследии, зашевелились. Имея намерение утвердить престол в своем роде, императрица решилась выдать дочь своей сестры, герцогини Мекленбургской, за какого-нибудь иностранного принца. А потом уже избрать наследника престола из детей, которые произойдут от этого брака, не обращая внимания на право первородства. Остерман и Левенвольде указывали прямо на будущих детей Анны Леопольдовны, а не на нее лично, имея в виду, во-первых, утвердить на троне мужское поколение и, во-вторых, устранить всякое влияние и вмешательство находившегося еще в живых отца принцессы, беспокойного, непутевого герцога Мекленбургского, который не замедлил бы причинить России много затруднений и неприятностей, если б дочь его сделалась русской императрицей.
После некоторых колебаний царица согласилась на такое предложение и поручила графу Левенвольде отправиться за границу и высмотреть где-нибудь рядом, под рукою, принца, достойного сделаться родителем будущего русского императора.
Узнав об этом решении русской самодержицы, австрийский император Карл Шестой поспешил в интересах своей политики рекомендовать в женихи Анне Леопольдовне племянника своего, принца Брауншвейг-Беверн-Люнебургского Антона-Ульриха. В ход были пущены все средства — и дипломатические, и подспудные, о которых знали только те, кто их употреблял.
Благодаря представлениям венского двора и стараниям задобренного Карлом Шестым Левенвольде принц Антон был приглашен в Россию и в феврале 1733 года приехал в Петербург. Двумя годами раньше Анна Леопольдовна, которой шел тринадцатый год, была взята ко двору, помещена в императорских покоях, воспитывалась в правилах православной веры и была торжественно миропомазана и наречена Анною, тогда как ранее она звалась Елизавета Екатерина Христина. Некоторые иностранные писатели о России уверяли, будто императрица "удочерила" Анну Леопольдовну.
Девятнадцатилетний принц, худой, небольшого роста, неловкий и застенчивый, произвел весьма невыгодное впечатление на русскую императрицу и уж совсем не глянулся Анне, будущей своей супруге. Несмотря на это, был принят очень вежливо — русский двор был по-европейски учтив. Антон сделан был подполковником кирасирского полка, названного в честь его Бевернским.
"Принц нравится мне так же мало, как и принцессе, — говорила Анна Иоанновна своим приближенным, — но ведь высокие особы не всегда соединяются по склонности. Впрочем, он кажется мне человеком миролюбивым и уступчивым, и я, во всяком случае, не удалю его от двора, чтобы не обидеть австрийского императора".
В ожидании совершеннолетия невесты принц остался жить при русском дворе. Он попытался сблизиться с Анной, но все его старания встречали с ее стороны холодность и явное нерасположение. Вскоре еще и открылось, что сердце молодой принцессы уже принадлежит красивому саксонскому посланнику графу Линару и что гувернантка ее госпожа Адеркас вместо наблюдения за своей воспитанницей содействует развитию в ней этой страсти. Адеркас была немедленно выслана за границу, а Линар по просьбе императрицы отозван своим двором.
Между тем Бирон, убедившись в полном равнодушии Анны Леопольдовны к принцу Антону, задумал воспользоваться этим обстоятельством и женить на ней старшего сына своего Петра, подполковника конной гвардии, именовавшегося наследным принцем.
Чтобы иметь более свободы и времени для достижения цели, Бирон под предлогом военного образования принца Антона отправил последнего в армию Миниха волонтером. Принц участвовал в турецкой кампании 1737–1738 годов, успел несколько раз отличиться.
По возвращении в Петербург в награду за оказанную храбрость получил чин генерал-майора.
Надежда Бирона на доставление своему потомству русского престола не осуществилась. Когда императрица предложила племяннице сделать окончательный выбор между сыном Бирона и принцем Антоном, Анна Леопольдовна, ненавидевшая Бирона и все его семейство, отрубила:
— Если на то воля вашего величества, я лучше пойду за принца Брауншвейгского, потому что он в совершенных летах и старого дома.
Императрица была счастлива тем, что Анна во всем покоряется ей, хотя и не сразу, но безропотно. Ответ принцессы и настойчивые представления венского двора решили наконец судьбу принца Антона. И еще до того, как было совершено торжественное бракосочетание, с целью сблизить будущих супругов Анна решила прибегнуть к помощи искусства. "Я их сведу в парном портрете, рядом, рука в руке, — думала Анна Иоанновна, — может быть, хоть так зародится в них намек на взаимную привязанность. Пока будет писаться портрет, они привыкнут друг к другу, меньше станет в них притворства, убавится неприязнь". Тут же императрица вспомнила слова Анны, что она всегда покоряется приказаниям ее величества. Но готовилась к свадьбе Анна с отвращением и говорила, что желала бы лучше умереть.
Анна Иоанновна представила себе парный портрет, на котором принц Антон, женственный и белокурый, стоит рядом с Анной, которую он обнимает правой рукой, держа в своей левой ее левую руку. Он одет в красный кафтан и белый камзол, — да, так будет хорошо — в контрасте чистоты и молодой страсти, голова повернута налево. А во что же нарядить Анну? Вопрос этот надолго занял императрицу, она перебирала весь свой гардероб мысленно, пока не остановилась на простом сером платье с розой на груди, которую на портрете Анна будет придерживать правой рукой. А по левому плечу пойдет красная драпировка. Пусть все это будет изображено моляром на фоне голубого неба, колонн, неоглядных далей молодой жизни. Она тут же велела нарядить принцессу и Антона так, как задумала. Достала из потайного ящичка с драгоценностями ожерелье из яхонтов с бриллиантами и позвала Анну к себе.
— Возьми, душечка, эту прелесть, надень, — сказала императрица, протягивая ожерелье Анне. — А? Ты посмотри только на себя в зеркало! Чудесно, чудесно!
Анна улыбнулась. Ей мало было утешенья в той красоте, которую она видела в зеркале, потому что суждено было отдать ее плюгавому заике Антону, он, кажется, так и не избавился еще от страха, в котором находился постоянно со времени своего приезда в Петербург.
Анна вспомнила графа Линара — бойкого красавца с приятным, воркующим баритоном, с точеным профилем. Вот уж это был настоящий мужчина — с твердостью в глазах, в руках, во всей фигуре.
А как он бывал страстен… Счастливая улыбка осветила лицо принцессы, она обняла Анну Иоанновну, и та подумала: "Ну, слава богу, кажется, мои усилья были не напрасны". Она заглядывала в сухие, блестящие странным возбуждением глаза племянницы, словно говорила ей: "Отдай, милочка, свое сердце Антону, а больше — мне и русскому престолу. У тебя все впереди, и ты еще научишься скрывать свои чувства".
Императрица велела пригласить к вечеру живописца Матвеева, подготовить ему комнату для первого сеанса.
Судьба Антона, невзрачного прусского цветка, не прижившегося к русской почве, и впоследствии ломалась и раскалывалась на крутых русских ухабах. Жена родила ему сына Ивана, потом еще четырех детей, Антон получил звание генералиссимуса русских войск, впоследствии был арестован, содержался с семейством в рижской крепости, в Динамюнде, Ранненбурге и, наконец, в Холмогорах. Здесь он лишился жены, оплакал сына, задушенного в Шлиссельбурге, ослеп и умер, проклиная день и час своего отъезда из родного дома.
Глава восьмая
Пейзаж с галкой

зимнем императорском доме господствовали тишь, отупенье, полусон, полумрак. Все зевали. По залам неслышно, совсем по-мышиному, скользила прислуга, на ходу потягиваясь и мелко крестя отверстие рта. За высокими окнами ничего более не было, как этот нескончаемый равнодушный дождь. Он проникал, казалось, во все, что встречал на своем пути, — в дерево, в человека, в птицу, в дома и амбары и даже в матово поблескивающий шпиц на петропавловской колокольне.
Ненастный санкт-петербургский ситничек сеялся и сеялся, одевая весь белый свет в серо-лиловый саван.
Императрица подошла к окну во двор, отворила его и некоторое время тоскливо глядела в небо. Назвать то, что она видела, небом едва ли кто-нибудь мог, потому что оно обычно шло, двигалось, менялось, а теперь вот уже несколько дней стояло беззвучно и заморенно. И было это небо тусклое, неясное, грязное.
Клонилось уже к вечеру. Караульный внизу встрепенулся, узнав государыню. Он подтянулся и замер, стремясь вжаться в голубую дворцовую стену. В него вонзился страх, ноги разъезжались, и солдату казалось, что набухшая земля вот-вот начнет выталкивать влагу обратно и что повсюду забьют фонтаны.
В глубине сада кружила над старой липой одинокая галка. Она беспокойно и горько вскрикивала, слетала с верхних веток на землю и снова в несколько сильных взмахов подымалась вверх.
Потом птица резко взмыла и странно подымалась, распластав крылья. В этот миг из окна раздался оглушительный выстрел. Галка, приняв в свое тело лишний вес, остановилась в воздухе, зависла и, заваливаясь на одно крыло, камнем упала под дерево.
Со страху караульному стало трудно дышать, в груди сперло. Он попятился, не отрывая спину и зад от стены, завернул за угол и тотчас же растворился во мгле.
Отшвырнув от себя тяжелое ружье и поморщившись от грохота, императрица велела комнатному лакею призвать девицу Анну Федоровну Юшкову, дочь боярина. Та обещала для развлечения государыни доставить во дворец Настасью Филатовну Шестакову, давнюю знакомую Анны Иоанновны.
Юшкова неслышно вплыла в опочивальню. Но государыня имела звериный слух. Не оборачиваясь она спросила:
— Ты обещала Филатовну. Доставили?
Юшкова встрепенулась:
— Доставили, доставили!
— Зови немедля!
Филатовну привели, когда императрица уже изволила раздеться ко сну.
Ее величество позволила Филатовне пожаловать к ручке и взяла ее за плечо так крепко, что с телом захватила.
Она подвела ее к окну, разглядывала, засматривала в глаза. Потом сказала:
— Стара ты очень стала, Филатовна, не так, как раньше была. — Она тяжело вздохнула. — Пожелтела вона как!
— Уже, матушка, — запричитала Филатовна, — запустила я себя, прежде пачкалась, белилась, брови марала, румянилась, так и получше была. А ноне захирела!
Анна Иоанновна улыбнулась.
— Румяниться не надобно, а брови марай! Получше будешь! Ну, а я, Филатовна, стара ли стала, погляди-ка?
— Никак, матушка, ни капельки старинки в вашем лице, ну ни капельки в вашем величестве нет!
— Ну, а толщиною я какова? — спросила государыня. — Небось уже с Авдотью Ивановну Чернышову? А? Только не ври!
— Господь вам судья, матушка, нельзя и сравнить ваше величество с нею, она же вдвое толще!
— Вот, вот видишь ли! — удовлетворенно протянула императрица и строго приказала: — Ну, говори, Филатовна!
Та замигала часто, замешкалась:
— Не знаю, что, матушка, и говорить. Дай отдохнуть, матушка!
— На том свете отдохнем! На том! — Императрица рассмеялась, видя неловкость и смущение Филатовны, и приказала: — Ну, поди ко мне поближе!
Филатовна плюхнулась пред нею в самые ножки.
— Подымите ее! — крикнула Анна Иоанновна.
Мужеподобная шутиха, что неотлучно была при императрице, бросилась со всех ног подымать Филатовну. А та еще пуще растерялась, не умея встать. Наконец кое-как Филатовну поставили на ноги.
Императрица снова велит:
— Ну, Филатовна, говори! А то отдам Бирону на конюшню! Он на тебе ездить будет!
— Спаси и помилуй, не знаю, матушка, что и говорить!
— Рассказывай страшное, про разбойников. Живо!
Гостья про себя подумала: "Вот навязалась, ведьма, на мою голову", — а вслух сказала:
— Да я же с разбойниками, матушка, и не живала.
— Не живала! Ну, так выдумай! Ну что, не можешь? Ладно уж, иди спать!
Обрадованная Филатовна выплыла из опочивальни лебедем. Уже за дверьми передохнула: "Фу, слава богу, отцепилась!" А поутру, в десятом часу, ее снова призвала императрица.
— Чаю, тебе не мягко спать было, Филатовна?
— Мягко, матушка, мягко, уж так выспалась! — Филатовна снова упала в землю перед ее величеством.
Императрица тешилась. Она встала с утра в хорошем расположении духа.
— Подымите ее, а то сызнова уснет! Ну, Филатовна, рассказывай! Не томи!
— Да что и говорить, матушка! Вчерашний день я была будто каменная. С дороги устала. И ко встрече, как к исповеди, готовилась.
— Ну, Филатовна, говори, говори еще!
— Не знаю, что и говорить, всемилостивая!
— Эко ты поглупела, милая, к старости! Где твой муж, у каких дел?
— В селе Дединове, матушка, в Коломенском уезде, управителем служит. Живем хорошо с ним, ладно.
— А вы же раньше были в новгородских?
— Да, матушка, а нынче эти волости, государыня, отданы в Невский монастырь.
— Ну, и где же вам лучше?
— В новгородских лучше было, государыня! А в энтих беднее…
— Ну, а мужики в ваших местах богаты ли?
— Богаты, матушка, в достатке.
— Почему вы от них не богаты?
— А кто знает! Может, они ловчат, может, воруют… А у меня, всемилостивейшая государыня, муж честен и беден. Он спать ляжет и говорит: "Я сплю и ничего не боюся, и подушка в головах не вертится".
— Так-то лучше, Филатовна! Не богатство пользует, а честь, не воровство избавляет от смерти, а правда! Или не так?
— Так, матушка, истинно так!
— Ну, Филатовна, говори, говори!
— Да уж все высказала, матушка!
— Еще не все! А скажи-ка, стреляют ли дамы у вас в Москве?
— Видела, государыня, князь Алексей Михайлович Черкасский учит стрелять княжну из окна. А мишень у них на заборе поставлена. Вот и тешатся…
— Ну, а попадает ли княжна в мишень?
— Иное, матушка, попадает, а иное кривенько.
— Ну, а в птиц стреляет ли?
— Да, видела сама, государыня, посадили голубя близко к мишени и застрелили в крыло. И голубь, бедный, ходил накривобок, уж так, сердешного, жалко мне было, а в другой раз его княжна и пристрелила.
— Ну, а другие дамы стреляют ли?
— Не могу, матушка, донесть, не видывала. А врать не стану!
— А я, Филатовна, страсть как люблю стрелять! У меня возле Аничкокой слободы сад для охоты заведен — ягдгартен прозывается. Так там устраиваем гоньбу и стреляние оленей, кабанов, зайцев. Ну, что скажешь, Филатовна?
— Вольному воля, матушка, стреляй себе на здоровье! Все благо, в чем душа подможение находит!
— Верно говоришь, Филатовна, верно! Не зря тебя сюда завезли.
Императрицу пришли одевать, и она, занятая туалетом, оставила Филатовну в покое.
— Отпускаю тебя, Филатовна, пока, только прости, а я опять за тобой пришлю. Вот тебе сто рублев. Гляди, на безделку не трать! А знаешь, Филатовна, я помню ваше Дединово, с матушкою ездила молиться к Николе Родовицкому, между Коломною и Рязанью. Места там хороши! Не то что у нас — сыплет дождик, как горох, на все двенадцать дорог.
— Вот бы, матушка, ты и ныне к Николе-то чудотворцу пожаловала помолиться!
— Куда там! Молись богу, как мир будет, а пока что турка надобно воевать. А ты сходи-ка, Филатовна, в сад мой, погляди, а уж после тебя домой возвратно отвезут! Моих птиц погляди-ка!
Филатовна вышла в сад. Там все было ухожено, подстрижено, посыпано. Только сильно тянуло сыростью. Там Филатовна передохнула от расспросов державных. Радехонька она была — и сотне за пазухой, и близкой дороге домой. Ходила-ходила да вдруг и вышла на диковинных птиц, и рот от их чудного вида разинула. Птицы те от копыт до головы были величиною с лошадь. Копыта на них были коровьи, а коленки лошадиные и бедра тоже лошадиные. Птицы ходили величественно, что-то выискивали в траве. Они подымали крылья, выклевывали под ними, сверкали голыми бедрами. Их длинные, лебяжьи шеи несли гусиные головки с черными бусинами глаз. Перья на птицах были необычайно длинные — такие Филатовна не видывала на шляпах.
— Как же их зовут-то, птиц энтих? — спросила Филатовна у лакея, что стоял неподалеку.
— А ляд их знает! — Лакей поскреб по спине тремя пальцами. Потом он поправил камзол и сказал Фила-товне: — Ты постой-ка здесь, я мигом сбегаю!
Он помчался во дворец и вскоре вернулся.
— Страхокамин! — выпалил он. — Тьфу, пропади они пропадом, забыл! Строфокамил! — вскричал он радостно. — Точно, стро-фо-камил! Привезены из жарких стран. За великие деньги! Они яйца несут во какие! В одну руку не уберешь. Не видала? Эх, ты! В церквах такие яйца по паникадилам привешивают.
— Ну, спаси тя Христос, милый! Так уж ты мне хорошо разъяснил.
Филатовну пришли звать в дорогу. Карета была снаряжена.
Глава девятая
Пейзаж с купцом

вольные, и казенные живописцы — народ глазастый, приметчивый. Все вокруг высмотрят. И знают, и помнят. И любая малость страсть как любопытна. Имеют свойство глядеть на все земное спокойно, неторопливо, основательно. А там — помогай бог! — употребят в дело то, что сгодится.
В стольном городе гвалт стоит, снуют, ровно им нашатырем под хвост плеснули. Девки попадаются сдобные, румяные, круглые, взоры в них горят опасно. Тут на все свой закон, своя форма.
У Матвеева-живописца глаз вострый, так и нижет, так и раздевает. Его не оттолкнешь, не вытравишь. На спор Андрей может ловко отгадывать, что за человек ему встретился. Поглядит на прохожего и тут же говорит, кто есть кто. Уже не раз ему собратья художники и пивы ставили за проигрыш, и водку.
Нынче идет Андрей, глядит, не для спора, а для себя отмечает. Вон тот, к примеру, носом шмыгает, будто не знает куда его девать, — наверняка стряпчий. Щами от него за версту прет. А этот семенит — церковный причетник. Вон бабенка, растерянная улыбка на устах. Видать, любви ищет, скучает. А сама тельная еще. Вдова! Взор потух оттого, что мужика у ней давно не было. А талья точеная и бедра полны. Этот суровый дядя, бровастый, с иголками, заколотыми в борта, в короткой поддевке — суконного дела мастер. И выпить мастак, бровка дугой, а в глазу искра так и взыгрывает.
Ага, шведский капитан пожаловали морем. Посадский человек. Корабельный мастер. Монастырский слуга. Все спешат. И отчего, думает Матвеев, люди больше свою телесную жизнь устраивают, а о душе меньше думают?
Молодость ведь пташкой скачет, а старость черепашкой добирается. Суета сует!
А тот вон гусь с длинным, книзу носом — канцелярист? Точно. Руки
чо локоть в чернильях. Этот, верткий, в лоснящемся камзоле, — провиантмейстер, должно быть. Их ты! Вот так чучело-мучело. Из-за моря или наш купец так вырядился? Они теперь толк узнали, как поездили по чужим землям, все норовят на заморский манер вырядиться. О, камзол зеленый — суп несоленый… А ну, дай-кось спрошу, кто таков. Рожа добродушная. Или мимо пройти?
— Слушай, ты кто будешь-то, мил человек? — спрашивает Андрей приветливо. — Уж не обессудь на любопытстве, я живописных дел мастер, свой интерес имею…
— Я будет сдесь торговайль, — охотно отзывается зеленый камзол, а рожа у него вся лоснится улыбкой и довольством. Он тычет себя в грудь, называется: — Эзоп Мариот аус Гамбург, кюпець. — И губы складывает на манер куриного зада. Ему, гамбургскому купцу, нравится, что так сносно у него по-русски получается.
А Матвеев ему в ответ на чистом германском режет:
— О, du bist hipsch kaupon! Primal
[5]
Гамбуржец и рот открыл, смотрит на Андрея как на духа или же на привидение. "В этой России все непросто, первый встречный, и не с пьяных глаз, по-немецки к тебе заговорит. А выпьет, так того и гляди Вергилия читать начнет".
— Чтоб какой-никакой торговлишкой промышлять, — Андрей вдохновенно говорит, — первое — хитрость каналью нужно, — он на руке пальцы загибает, — второе — твердость, а третье — ловкость. А? Разве не так?
Купец согласно кивает.
— Двум купцам на одном дереве тесно, не усядутся, — продолжает Андрей, — в вашем деле семечки лузгать некогда! Только гляди. А еще и крепость нужно, — он показывает сжатый кулак, — ну как у каната в двойную нить.
— Kabelgaren, ja?
[6] — переспрашивает купец. Он в восторге, что все понимает, что русский говорит со знанием их тонкого ремесла. — О, хорошо говорить рюс, ошшень хорошо говорить, — от удовольствия у немца в горле клокочет. — Давай пьем небольшой стаканчик? — Немец хлопает себя по горлу указательным пальцем.
— Благодарствую, но не могу. Вызван в царский дворец, а туда надобно быть как стеклышку. Не дай бог холуйский нос почует запах, пропала моя голова тогда. Понял, друже? Я бы с радостью поговорил с тобой без толмача, и хлопнули бы по фляжечке под грибки. Ну, еще встретимся небось… Таскает нас по свету, как почтарь депешу, все бегом-бегом, а там и шмякнет обземь. Прощевай пока что!
Андрей крепко жмет руку немцу — и дальше. А купец долго смотрит ему вслед, улыбается, качает головой.
Глава десятая
…С разумом и намерением
Все на свете мне постыло.
А что мило, будет мило!
Пушкин

атвеев любил петербургскую осень, когда затихали и унимались люди, жизни и дела. Весь город становился тише. Повсюду читался след осени, неспешной ее поступи — на серой мокрой земле, в светлых сумерках и в светло-сером небе, что подымалось прямо из невской воды.
Приезжему могло показаться, что невской столице спокон веку свойственно было такое притишье. Ах, не видывал он Петербурга шумного, взбудораженного, когда зажигались фейерверки! Гудели питейные дома с галереями, катился огненный шар веселья, поджигая гульбу по обоим берегам Невы. Тогда-то и выказывал Петербург свой норов, скованный до того холодом и застегнутый на все немецкие и французские пуговицы. Тогда говорили друг другу: "Хорошо пить да гулять — ни забот, ни печалей".
И пили, и гуляли, не помня себя, дети и внуки тех самых подкопщиков, мастеровых крестьян, что все это выстроили. Многие из них лежали тут же, под мостовыми, проглоченные болотом и голодом. Раньше на месте домов и улиц были временные кладбища, потом их сровняли с землей и позастроили. И редко кто вспоминал, что было раньше, потому что красота зачеркивает убогость. Шел Андрей, смотрел, как холодные лучи солнца расписали и осветили меншиковский посольский дворец, где принимают иноземных послов, и палаты Кикина, и дом вице-канцлера Шафирова. А на дворцовой набережной с золотыми лепными наличниками, превосходя нарядностью все здания Адмиралтейского острова, выступали хоромы генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Их-то и облюбовала себе для житья Анна Иоанновна. Стояли хоромы на самой середине между Миллионной улицей и Невой. К ним пристроили набережные палаты и залы для торжеств.
Анне Иоанновне понравился этот обширный теперь дом. Она избрала его для жительства после торжественного своего приезда в Петербург в 1732 году. А в старом своем дворце поселила придворных музыкантов и служителей.
Внутренняя отделка дворца, в которой принимал участие и Матвеев со своей живописной командой, отличалась редкостной роскошью.
Пышность Анна Иоанновна любила до крайности, денег не жалела до расточительности, считалось, что ее двор превосходил великолепием все европейские.
Лакеи, встретившие живописца, чинно шли рядом. Они не спешили, так как им велено было повременить.
Андрей мог спокойно разглядывать каменные вазы в бронзовой оправе, изящные терракотовые статуэтки, чудесный кубок розовой слоновой кости с крышкой, на которой толпились амуры.
Когда Андрей работал здесь, он просил для вспоможения из Москвы Ивана Вишнякова и Мишу Захарова как мастеров искусных в писании фигур, но они были тогда при Каравакке, который тоже обретался в Москве. Тот уперся, пока не последовал указ императрицы — выдать средства и подводы и отправить в помощь Матвееву одного Михаила Захарова. Тогда они вместе с Мишей писали баталии в "Залу для славных торжествований" и картины в Петропавловский собор. Их все время понукали, подгоняли, они писали до изнеможения, похудели, осунулись, но были веселы и никому не жаловались. Для Андрея Миша Захаров был истинным идеалом живописца. Он учился в Италии вместе с братьями Иваном и Романом Никитиными, много знал, много видел, но был всегда скромен, искренен. И беззаветен в художестве. А такого верного в товариществе человека, как Миша Захаров, трудно было сыскать! Вот кто был даровит, самостоятелен в суждениях. От него Андрей всегда черпал духовную силу. Он без труда вызвал в памяти бледное Мишино лицо, густые черные брови, острые скулы, большой рот, всю его ладную рослую фигуру с крупной головой, упорным взглядом карих глаз. От него веяло тихой отрадой, а для такой добрейшей души, как у Миши, не жалко было пожертвовать и своей. На таких, как Миша Захаров, Вася Ерошевский, Вася Белопольский, Логин Гаврилов, Иван Вишняков, Иван Милюков, держалась не только живописная команда. Они были опорой всему русскому художеству. Люди это были стойкие, твердые, все устремления ума и духа отдавали они ремеслу своему. А больше им ничего и не требовалось.
Из них многие усвоили европейскую манеру, но с годами выработали и свой собственный, очень трогательный и простой почерк, открывая в художестве новое, дотоле никому не известное, дерзкое, свое.
Они были наделены редкой чуткостью не только к ремеслу, к цвету, но и ко всему окружавшему их. Эта отзывчивость впиталась в них как бы сама собой от икон и парсун. В художестве для них не было пророков, они соглашались с советами, предписаниями, но делали по-своему. Они писали мягко и любовно, сочно и резко. У них было и прирожденное, и вполне сознательное понятие об истине и лжи в художестве, о воле и любви. Среди них мало было кротких и тихих, а больше буйных, вспыльчивых, неуживчивых. Их художество начиналось и оканчивалось самоотверженьем, которое всегда согласуется с честью и достоинством человека.
Они вывернули льстивый парадный портрет с изнанки на лицо. От них требовали жеманной и кокетливой грации в портретах, вельможное дворянство хотело видеть себя величественным, красивым и умным. Портреты оплачивались наличными, но кисть этих художников оставалась неподкупной.
Они ломали и отбрасывали каноническую точность, не боясь обвинений в наивности и неумении. Они исправно молились, взывали к богу, но в ремесле хотели проникнуть в святая святых души и слушали только свою совесть. Они свершали то, что считали нужным. У них обо всем были свои понятия. Они были верны в дружбах и не раз спасали Матвеева всякой помощью. Глядя на труды своих сотоварищей, Андрей не раз думал, что искреннее и самобытное российское художество таит в себе разума и живости гораздо более того, чем это кажется на первый взгляд. Хотя давалось это нелегко, много было отреченья, мук и доблести.
Один писатель о художниках и сам художник Иван Урванов составил "Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах". В нем говорится: "Что же касается до кисти художника, оная должна быть смела, легка и приятна, и чтобы из оной каждому можно было усмотреть, что живописец употребляет ее везде с разумом и намерением". И вот с таким-то разумом и намерением и Никитин, и Вишняков, и сам Матвеев, и вся его живописная команда трудились в поте лица.
"Академии мы проходили Флорентийские, Антверпенские, — думал Матвеев, — краска у нас ирис-грин да лазурь берлинская, а судьба-то русская, никуда от этого не уйдешь. В наших-то российских европиях начнешь писать облака или снега, так бери белила московские, или немецкие, или бьянка ди Венеция. А что утеплить нужно, добиться тельного цвета, так тут тебе бакан, киноварь, сурик, кармин. Хочешь фона да цветы списывать, празелень есть и ярь веницейская, черные тучи желаешь изобразить — бери кость слоновую и кельнские земли, в плафоны небеса делать из ультрамарина, и горной синей, и голубец хорош. Шпарь себе на доброе здоровье. А еще под рукой и умбра, и охры, индиго и шафран. Одни краски свет поглощают, другие отталкивают от себя. Холст от этого то темнеет, то ярче горит. Тени, светотени, тона, переходы, оттенки… Все дает живописи свободу и полет.
Вона я как "Автопортрет с женой" писал, так мазок стушевывал, краску жидко разводил на масляном лаке, а ныне гуще писать стал и уж такого тонкого ровного слоя не придерживаю. А все равно краска имеет мягкость и нежность, ежели её положить куда следует. Упаси бог промазать!" Андрей хмыкнул…
* * *
Он не упустил ничего из увиденного — ни бронзовой головы фавна итальянской работы, ни кресел, обитых гобеленами, ни большого серебряного, вызолоченного кувшина с двумя ручками и с изображением на шейке грубо исполненных портретов Петра Первого и Екатерины Первой. В покоях рядом над зеркалами по стенам между резьбою писаны были под натуру цветы, искусно исполненные Захаровым. Его руку Андрей узнал сразу. И хотя делалось это при нем, он смотрел так, будто видел впервые. "Мишка — бес, всю земную красу на стене намахал".
Войдя в следующие, отделанные золотом хоромы, прямо от дверей живописец увидел на стене большой рисунок Микеланджело в массивной раме. Это расстарался кто-то из русских послов. С рисунка выступала мадонна с прильнувшим к ней ребенком. Андрей обмер от напряженного звука в каждой линии, которые разбегались по всему ласту мягко и плавно. Он видел в рисунке удивительную святость и красоту. Он принимал в себя тепло сердца мастера, который как бы протягивал к Нему с рисунка руку и говорил: "Ну, здравствуй, Матвеев!"
Мадонна смотрела в сторону, устремив взгляд прямо в окно, за которым шумели молодые деревья. В ее ангельском лице была сама жизнь, поразительная в своем искушающем спокойствии. Весь ее облик был ласков и ясновидящ, он вырывался за пределы бренного бытия и парил по залу, не прикасаясь ни к стенам, ни к потолку.
Увлеченный необыкновенным лицом мадонны, в чертах которой было движение доброго материнского чувства, Андрей думал о том, какая высокая мысль владела Буонарроти, когда он рисовал.
Великий итальянец не старался подражать живому, но и не отказывался от той помощи, которую предлагает природа художнику.
Вся эта нежность и все благородство мадонны, ее женственность, чистота, доверчивость были достижением руки художника, послушной ему до конца. "Каждый художник, — думал Матвеев, — таков, каков он есть, с его успехами и промахами. Он не может быть лучше себя, не может прыгнуть выше. Он дает жизнь красоте. Художество заставляет понять ничтожество всех мирских превратностей. Каждый час нашей жизни оно напоминает, что радости непрочны и мимолетны. И среди всех огорчений нас успокаивает одна мысль: ничто на этом свете не продолжительно, только искусство — вечно. Нашему брату не прожить без спокойной веры в свои силы, без самоотверженной любви к художеству. Кажется, еще Рубенс говорил, что она, эта любовь, не желает знать соперников и права свои она уступит не охотнее, чем властитель свой трон и жених брачное ложе. Плавная семейная жизнь или светская и вообще всяческая размеренность нам не по зубам. Наверно, поэтому в жизни живописца все чрезмерно — и любовь, и горе, и радость. Мы чувствуем как тысяча душ вместе. В художество надобно вложить, как в утробу, все, что знаешь и умеешь, что слышишь наяву и что выходит извне. Великие живописцы постоянно проявляли в своих творениях такую мощь духа, что только диву даешься…"
Устремив глаза на рисунок, Матвеев подумал, что его собственная жизнь складывалась трудно, но счастливо, и если бы ему пришлось начать ее снова, то он снова стал бы художником. Только, может быть, не следовало быть таким аскетом во всем, что было за художеством. Так ведь набело прожитое не перепишешь. Многим невдомек: как это художники умеют так по-ребячьи жить — то веселы и беспечны, то задумаются глубоко и скорбно… Зато счастью каждого мига жизни они предаются всей душой.
Звук угодливого голоса вывел Андрея из оцепенения. Его вводили в следующую залу — обширную, нарядную, светлую. Здесь еще не успели убрать после пышного бала. Увитые зеленью стены и потолки производили впечатление рая. Только там могло быть такое.
Зала была украшена померанцевыми и миртовыми деревьями в полном цвету. Деревья, расставленные шпалерами, образовывали с каждой стороны аллею. А среди залы оставалось еще много места для танцев. День на дворе был холодный, но печи в зале поддерживали тепло.
Воображение Матвеева разыгралось, и он быстро населил залу людьми, представил себе разноцветье бала, шумное торжество, естественность предметов и тел, освещенность и тени. И тогда то тут, то там замелькали перед ним красивые женские головки с большими завитыми локонами, закружились грациозные легкие фигурки, зашелестели платья, вспышки света вырывали из пространства красные, синие, зеленые, желтые мундиры сухопутных и морских офицеров, камзолы иностранных негоциантов, парики и банты чинов Академии, упитанные фигуры министров и царедворцев.
Андрей увидел, как вдали составляются кадрили. Первая пара была одета в домино оранжевого цвета с маленькими, такого же цвета шапочками на головах, с серебряными кокардами и с маленькими воротничками из кружев, затем шли зеленые домино с золотыми кокардами. За ними — голубые домино с кокардами розового цвета, потом лимонные с зелено-серебряными кокардами.
Живописец так был поглощен картиной, представшей перед ним, так поражен, что остановился в рассеянности и стоял, сощурив глаза, чтобы еще яснее и лучше видеть все. В своем возбуждении он даже стал явственно слышать музыку, которая гремела со всех сторон. А мимо, все убыстряясь, обдавая его пахучим легким ветром, проносились танцующие и лакеи с чаем, кофеем, горячительными и прохладительными напитками. Лакеи были стремительны и почти бесплотны. Изящные кавалеры старались потеснее прижаться к своим очаровательным дамам, одетым в корсажи из белой ткани, с серебряными цветами на платьях.
Мерцали восковые свечи в позолоченных люстрах. Они оплывали, давая струящуюся копоть. Чтобы избежать этого, на них надевались специальные банкетные налепы большой и малой руки, белого, желтого и зеленого цвета. Повсюду слышались говор и женский смех. Матвеев достал карандаш в дереве и толстую тетрадь, с которыми никогда не расставался, и бегло, почти не отрываясь, набросал всю сцену, представшую внезапно перед ним. Сопровождавший его слуга удивленно поднял брови и смотрел на тонкую руку живописца, уверенно чертившую в тетради. Не справившись с любопытством и сломав колебания, он наклонился над художником и разглядывал его рисунок, поражаясь, что тот рисовал фигуры, которых в зале не было.
Тогда как Матвеев находился в цветущей и благоухающей роще, за окном дворца видны были только мокрый снег и лед, и этот контраст наполнял душу живописца странной мечтой и отрешенностью небытия. Он и впрямь был уже в раю, нежданном и странном, обители полубогов и небожителей.
А еще взял себе на заметку Андрей то, что во внутренних покоях часто попадались ружья. Ему рассказывали, что они всегда были заряжены. Государыня императрица стреляла из них в летавших мимо окон птиц. Все знали, как страстно любила она охоту, особенно парфорсную — с гоном зверя собаками. Посему в галерее дворца находился большой тир, где назначалась призовая стрельба, в которой должны были принимать участие все придворные, не исключая и дам.
Анна Иоанновна приобрела в стрельбе большую сноровку.
Глава одиннадцатая
Первый сеанс

ебольшая комната, в которой установили мольберт и где предстояло писать Матвееву, была не роскошна, опрятна, покойна. В ней были гладкие белые стены. На одной из них висело овальное зеркало в раме с бронзовою оправою. И расставлено было несколько стульев с высокими овальными спинками и черными кожаными подушками. Маленький круглый столик на искривленных ножках был приготовлен для красок. В углу высилась огромная печь, сложенная из синих изразцов. По всему полу настелена была узорчатая клеенка на войлоке. Тут было тепло, хорошо, ничто не мешало.
Мольберт Матвеев переставил так, чтобы свет из окна правильно падал на холст. С наслаждением расставлял он баночки с красками и раскладывал кисти.
Матвеев решил сделать предварительный рисунок черным голландским мелом. Он давал отменную черноту и широкую густую тень. Сам он не считал себя портретистом, но уверенность глаза, свобода руки, а более всего любовь к работе во всех ее мельчайших подробностях вселяли в него радость и надежду.
Он всегда боготворил работу живописца, его мускулы становились упругими, голова ясной, душа вольной. Ему не нужно было приспособлять себя к живописи. Он жил только ради нее одной, и она жила в нем. Он испытывал счастье, когда под его кистью оживали безразличные до того времени люди и предметы, художник оживлял их, они оживляли его. И тогда радость его была паче меры.
…Матвеев часто взглядывал на смуглое и привлекательное лицо принцессы Анны, встречался по временам с ней рассеянным взглядом, но у него это было мимолетно, потому что он старался запомнить посадку головы, движение бровей, склад губ…
Его особенно поразило ожерелье на шее Анны. Оно было из сапфиров и изумрудов в серебре, с бриллиантами. "Ух какое знатное ожерелье, чудо! — думал Андрей, разглядывая подробней, как оно лежит на шее. — Оно создает вокруг себя какой-то удивительный, сияющий воздух, это пригодится". Он дивился красоте яхонтов, чистоте и силе цвета, вложенных в камень самой природой. Видать, этот яхонт належался где-нибудь в глубине крутой горки против солнышка, набрал там силенок.
Самоцветы сияли, испускали свой собственный свет, который прыгал снопами летящих искр. Они перебегали в длинные лучи, вспыхивая и дрожа. Камни словно рвались из глухих закрепок, и нежные ажурные лапки, казалось, едва сдерживают их. Мерцающий свет канделябров будто дразнил бриллианты, и они лучились всей своей огранкой, манили глаз радужностью.
Андрею всегда самое большое наслажденье доставляла игра цвета. Весь мир виделся ему цветным, и каждый раз он восхищался игрой дополнительных цветов и оттенков.
Бесконечный перламутр, праздник цвета его зачаровывал. Его глаза схватывали цвет на лету, в паренье, и Матвеев уже не видел ни близкого, ни далекого — все сходилось в одной точке. Цвета сталкивались и колебались, все подчиняя своему движению. Цвет становился формой, которую Андрею предстояло воплотить в рельеф и рисунок.
Живописцу внезапно захотелось увидеть это чудное яхонтовое ожерелье на шее Орины, чтобы оно шло поверх царского платья. "А что, как заместо принцессы напишу я когда-нибудь Оринушку в таком же одеянье? — подумал вдруг Андрей и улыбнулся своей мечте. — Повторю по-иному "Автопортрет с женой", но уже спустя десять лет после того… А что, возьму и впрямь напишу, — уже твердо решил он. — Пусть будет что будет, хоть трава не расти!"
Дрожь злобного наслаждения сотрясла его. Он широко и простодушно улыбнулся принцессе. А она, приняв улыбку художника как знак восхищения ее красотой, улыбнулась ему в ответ.
Затея будто подхлестнула Андрея. Он стал писать яростно, заметно повеселел, что тут же вызвало тревожное любопытство у принца Антона, который сидел поодаль. Принц взглянул на живописца с удивлением.
— У тебя пошло дело, не правда ли? — тихо спросил Антон по-немецки.
— Так точно, ваше высочество, — быстро и с поклоном ответил Матвеев по-немецки же и поморщился.
Спрашивая, принц не думал даже, что художник поймет его. Он удивился, инстинктивно чувствуя какую-то неприязнь со стороны этого мужлана.
Андрей делал подмалевок английской краской, прописывал платье от шеи, прорисовывал мягкой кистью глаза, намечал вохрой красной губы, искал выразительный поворот и думал про себя о том, что у этих немецких принцев, — а их он повидал достаточно еще в Голландии во время учебы, — странная манера налезать на человека. Пишут тебя, ну и стой покойно. Андрей был хлесток рукой и глазом, не зря попал в лучшие ученики в Антверпенской академии художеств. За эту резкую манеру письма полюбил его ректор Клас ван Схоор, суровый старик с желчным лицом, который увидел в Матвееве единомышленника и собрата, крепко привязался к нему.
Андрей с удовольствием вглядывался в черты Анны, она нравилась ему своей непосредственностью, простодушием, порывистостью. Принцесса тоже прониклась к живописцу симпатией и, сама не зная почему, улыбалась ему. Может быть, чтобы досадить принцу Антону.
"И она будет принадлежать этому пучеглазому прусскому заике", — думал Андрей с неприязнью. Он даже осмелился ревновать Анну. От этого еще яростнее шваркал кистью по холсту. Упоенно отбегал от мольберта, возвращался обратно. Был странно, непонятно счастлив и даже тихонько поскуливал от полноты чувств.
Он видел только холст и пятно белого нежного лица Анны в резко очерченном овале.
Принцу Антону вся эта возня с двойным портретом казалась пустой и ненужной затеей императрицы, оспорить которую он конечно же не мог. Да и сам живописец производил на него довольно странное и неприятное впечатление. "Все эти пиктуры с придурью, — думал Антон, бледнея от злости. — От них всего можно ожидать. Давно известно: художники и сумасшедшие — одного поля ягоды".
Принц с недоумением увидел на лице Матвеева ухмылку и несколько даже взъярился. Но вдруг живописец сделал два больших шага к Антону. Тот вздрогнул от неожиданности. Это не
скрылось от Анны, и она, не показывая виду, от души веселилась. Испуг принца не ускользнул и от Андрея. Но внешне он оставался сосредоточенным, нахмуренным, погруженным в работу.
Антон негодовал. Он презирал этого самодовольного, дерзкого моляра и смотрел на него с нескрываемым раздражением. "Всыпать бы ему горячих, чтоб знал свое место!" — думал принц.
А живописец поводил головой в сторону, смотрел в кулак, отходил в дальний угол комнаты, снова подходил к холсту, что-то там тер, размазывал, подтирал, скреб. В его угрюмых глазах загорались веселые искорки, по тонким губам пробегала довольная улыбка.
Антон недоумевал. "Что бы это, — думал он, — значило?"
— Получается? — нетерпеливо спрашивал он у художника.
— Непременно получится, ваше высочество, — односложно отвечал Матвеев.
Антон досадовал, что принужден тратить время, которое он мог бы с большей пользой употребить в обществе юной француженки, капризной пылкой камерфрейлины Мари.
— А ты обучался у Каравакка? — спросила Анна у художника.
— Он желал меня привлечь, ваше высочество, к учению у себя, — отвечал Матвеев. — Полагая ошибочно, что я в том весьма нуждаюсь. Сие могу объяснить тем лишь, что иные иноземцы думают, будто русские все еще находятся в глубоком невежестве. Мы же убеждать их можем самим делом, что они в таком своем мнении изволят заблуждаться!
— Да, — сказала принцесса, — русские не раз показали себя. Есть среди них отменные мастера живописного художества.
— Осмелюсь спросить, ваше высочество, вы любите ли на качелях качаться? — негромко спросил Андрей у Анны.
— Да, — быстро ответила она, — это прелестно. А почему ты спрашиваешь? — удивленно сказала Анна.
— На качелях человек счастлив, ваше высочество. Все внутри обрывается… Ничего более не надобно. Подобное и в живописном художестве. Когда получается что в задумке. Не знаю, как объяснить, но вы это поймете, ваше высочество.
— Да, я очень понимаю, — задумчиво сказала Анна, и лицо ее сделалось грустно.
У Анны было мало общего с Ориной. Но все же какое-то неуловимое сходство существовало. То ли в выражении лица, то ли в глазах. Жену свою Андрей обожал и теперь, как в первые годы супружества. Считал ее для себя невероятным ангелом.
Ему хотелось видеть Орину свободной от забот по дому. Чтоб не стирала, не варила, не обихаживала детей. Чтоб была гордым, красивым животным, каковым, по мнению Матвеева, надлежит быть истинной женщине. "Такой я ее и напишу! В этом ожерелье и в царском платье, — решил Андрей, — эта картина — крик любви".
Здесь, рядом с Анной, жизнь представлялась Матвееву светлой и полной. Он работал, соображась со своими набросками, сделанными раньше. Взглядывая на Анну, он старался бежать внешней похожести, старался изучить, насколько возможно, все ее особенности. Постичь душу и даже уловить наклонность мыслей. На принца Андрей смотрел косо.
Он видел одну Анну. Ему неожиданно захотелось поцеловать ее. Но невозможно, никак нельзя. Головой поплатишься за одно только желанье, да еще этот с угреватым лицом сверлил его рыбьими глазами.
— Живописцу, вероятно, открывается в людях много злого, нечистого? — снова спросила Анна у Матвеева. — Вы ведь насквозь видите. — И поглядела на Антона, который вслушивался в их разговор с явным недоброжелательством. Они разговаривали по-русски, а он почти ничего не понимал. "И откуда у этого живописца взялось такое словотечение?" — думал принц.
— Ваше высочество, — воскликнул Матвеев, — вы очень правы! От нашего глазу не укроешься. — Он даже топнул ногой от удовольствия.
Принц Антон дернулся и остолбенел. "Распустили этих моляров, они имеют еще наглость топать и выкрикивать в царском дворце".
А живописец растирал весь холст большим пальцем, держа кисти во рту. Он горячо добавил:
— Художеству, ваше высочество, всем нашим творениям, потребно вечно бдящее, совестливое сердце. Без душевного трепетания и к холсту нет нужды подходить. Оно одно способно возвысить живописное дело, одушевить его.
Андрей потер рукой подбородок, оставив там жирный след черной краски. Анна улыбнулась, даже Антон осклабился. Но живописец этого не заметил.
— Я знаю совершенно точно, ваше высочество, что такое грех в живописи, но что такое грех в жизни, этого мне знать не дано. С этим всечасным терзанием души я и помру, ваше высочество. Простите мою болтливость.
Анна внимательно слушала художника. Она будто читала на его лице отражение своих сокровенных мыслей.
Антон взял Анну за руку и молча показал ей на выход. Он с радостью увидел наконец, что Матвеев протирает тряпкой кисти, складывает их в деревянный ящик на толстом ремне.
Сеанс был окончен.
Стоило поддаться сомнениям, неуверенности — всё летело к чёрту, ныла душа. Матвеев знал, что где-то есть выход, но задуманное им осуществить было нелегко. В двойном портрете их сиятельств принцессы Анны Леопольдовны и принца Антона ему хотелось, оставя все на своих местах, чуть-чуть переписать лица, глаза, найти им новое выражение. Когда он писал во дворце, то в картине его между царствующими особами пробегала какая-то тень неприязни, явно не получалось согласия. Приятно и заманчиво было думать живописцу, что принцесса Анна под его кистью вдруг превратится в Оринушку. Жена его в новом обличье будет сидеть рядом с принцем Брауншвейгским. В царском платье, с бриллиантовым в яхонтах ожерельем. А потом и сам принц в той же обволочи станет едва похожим на живописца Матвеева. И тогда совсем иначе будут те же двое рядом, появится между ними тепло, о котором так пеклась императрица, уверенная, что из двойного портрета оно постепенно перейдет и в жизнь будущих супругов.
Чтобы сделать задуманное незаметно, Матвееву нужно было употребить все свое усердие, все искусство. Живопись такая уж трудная штука: чуть тронешь кистью — и появится дыханье совсем другой жизни. Одним мазком в зрачке можно изменить весь характер натуры. И в те же хорошо устроенные на холсте фигуры вдохнется новое. Появится душевное движенье, трепет. Мягкая, добрая Оринушка будет глядеть своими глазами, а во всем остальном это будет принцесса.
Жесткость уйдет, новое выражение лиц иначе согласует картину внутри, фигуры и лица тогда выйдут чисто, как медный звон колокола, как гимн тому самому ангелу любви, что держит нас на земле.
Глава двенадцатая
Второй сеанс

следующий сеанс, который был и последним, Андрей выверял портретное сходство, он тонко прорисовал глаза Анны с припухлыми веками, высветлил кончик носа. Широко посадив на лице глаза, Андрей добился выражения внутреннего, глубоко спрятанного страдания Анны. Антон у него получался таким, каким и был в жизни, — худым, небольшого роста, с длинными бесцветными ресницами, неловкий, застенчивый, безвольный. Двойной портрет рассказывал о любви тех, кто был на нем изображен. Таков был приказ. Сердцу императрицы портрет должен был доказать убедительно, что родственный союз с Австрией упрочит положение в России немецкой партии, чего от нее так настоятельно добивались.
Для Матвеева писать красками было чистое наслаждение. Не сравнимое ни с чем. Как нужна была живопись его жизни! Разве, так работая, не достигнет он желанного? У него были ученики, семья. Был дом на Васильевском острову. Много за жизнь содеяно. Батальные полотна для Летнего дома. Плафоны для меншиковского дворца расписывал. В Петропавловский собор иконостас выполнил. Портреты достойной памяти Петра Великого с арапчонком, на коне и без учинил. Анну Иоанновну писал дважды. Декоративные росписи в новый Зимний дворец намахал.
Он испытал а труде своем минуты неизъяснимые, сладостные. Так, невольно улыбаясь от восторга, можно было и закончить жизнь, только бы дописать свое. Невысказанное. Дойти до самой сути цвета, до гармонии. Давно известно, что легче измерить глубину моря, чем постичь глубины человеческой души. Андрею порою казалось, что он проживет очень долго, до глубокой старости. И узнает цену славы, которую ему прочили еще в Голландии.
И в этот раз, как и в прошлый, Анне было приятно позировать живописцу. Она, словно играя, тоже старалась так же въедливо смотреть на Матвеева, как он смотрел на нее. Обезьянничала. Будто не он с нее писал портрет, а наоборот. "Ужасно глупо все-таки сидеть безо всякого дела", — думала принцесса.
А живописца одушевляло сегодня одно желание, ему хотелось хотя бы на холсте сорвать с Анны все покровы, пробиться через чопорность, стыдливость к телу, к душе. Хотелось заставить ее, чтобы там, под модной высокой прической, хоть что-нибудь шевельнулось ему навстречу.
Просветленными глазами глядел он на Анну и на свой едва закрашенный холст, где вдруг сильно проступила полунагая женская фигура. "Увидели бы это, огнем бы жгли в ушаковской канцелярии", — весело подумал Матвеев. И провел кистью еще и еще, чтоб хоть самому себе доказать что-то. Ну! Его как обжарило, когда сам увидел. У Андрея даже лопатки вспотели. Он неистово, оголтело, нахраписто писал. Холст звенел под ударами кисти, он его скреб шпахтелем, разглаживал ладонью. Его напористость обвораживала Анну. "Послал бы мне бог такого любовника", — подумала она игриво. Матвеев самозабвенно жил в самом себе и наносил краску с такой силой, что подрамник, мольберт и, кажется, даже пол и стены — все тряслось и колотилось. Матвееву пришлось обхватить картину свободной рукой. "Что-то он не в себе. У него сегодня не все дома, что ли?" — подумала Анна. Да нет! У каждого из этих художников есть то, чего никогда не встретишь во дворцах. Они — бесхитростные, живые люди. Как только пахнет на них краской, закусывают удила, срываются во весь опор. Принцессе Анне приходилось позировать немцам, итальянцу. Те исполняли заказ бесчувственно, холодно, с расчетом. Казалось, что в них остановилась кровь и сердце, страшно было даже вздохнуть, чтоб не нарушить эту академическую застылость. Наверное, эти блаженные беседуют с музами в полусне, сладким шепотом. Видела Анна и других живописцев — огненных, темпераментных. А этот Матвеев был просто безумец. Он полыхал, как печь, глаза свел к переносице, ходил с выкрутасом, вскидывался, выгибался, отбегал в сторону, прищуривался, отводил голову вбок, бежал к холсту, неистовствовал. "А может, он опытный любезник, — подумала Анна, — и нарочно развел здесь эту комедь. Попробуй отгадай… Нет, он все же походит на бешеного сегодня", — решила она и, чтобы успокоить его, ласково ему улыбнулась. Матвеев удовлетворенно поджал губы.
Хоть и велико было расстояние между ними — он живописных дел мастер, которого можно нанять, можно цыкнуть и прогнать, она принцесса, без пяти минут русская императрица, — но расстояние между ними явно сократилось. Это грело Андрееву душу. Что-то в Анне все же стронулось, потеплело, в глазах что-то такое пробежало. Ему это и нужно было, иначе он бы наврал в портрете. Всегда он искал с натурой особой, таинственной связи. У каждого живописца есть своя тайная уловка: когда Матвеев писал женскую персону, он любодействовал с ней, кто б она ни была. Это были его сладкие мечты. Но ему нужно было уравнять себя с тем, кого он писал. Станешь ниже — вранье, станешь выше — тем более вранье.
Ему чудилось… Белый шелк. Роскошное царское ложе. Женщина, которую пишет… Рядом он. Вьются амуры. Рисовались картины его воображению одна обольстительней другой. Он переживал миг любви. И натуре передавалось его волнение. Не шутейное, не наигранное. Он завораживал, колдовал. И портрет выходил хорош.
* * *
Ему нужно было знать, что каждую картину он чеканит так, чтоб никто не сказал: "Постой, ты что ж это тут намарал? Дай-ка я тебе поправлю!" Орина умоляла его отдохнуть. От изнеможения он валился замертво. Она укладывала его в постель. Андрей отлеживался день-другой и начинал ощущать скуку. Он шел в мастерскую к ученикам, поправлял, испытывая блаженные минуты, когда встречал у своих ребят понятие о настоящем художестве. Жизнь для него была в родном запахе орехового и льняного масла, в прикосновении к холсту. Он становился к мольберту.
Перед ним возникало прошлое, оно было далеким, манящим, обволакивающим. Особенно часто вспоминал в последнее время Голландию. Климат там походил на питерский, и небо такое же белесое. Солнце в решетчатом окне вспоминал Андрей, строгую чистоту комнат и холод кафельных полов. Он закрывал лицо руками, и перед его взором скользили пейзажи — в зеркалах рек тяжелые облака, голландские поля и дороги. Воспоминания смягчали душу. Всплывали знакомые звуки неспешных крестьянских песен. Возникал облик милой подружки Жюльетты. Как давно все это было! В Голландии люди и особенно молодые женщины умели наслаждаться каждым мигом жизни, а прежде они казались Андрею довольно-таки постными. В России таких редко встретишь, и с чего это у нас женщина непременно томится, скучает, страждет? Будто перемучивается за весь род человеческий. Прошлое — едва различимо, долго не держится в памяти, уходит. Но помнит, ничего не забывает художник. У Андрея снова тяжко перехватывало дух. Неужто жизнь и впрямь ставит точку? Словно кто-то зажег свечу и ангелу, и черту одновременно. Ангел тянет в небо, черт душит, гнет и вжимает в землю.
Родители и провидение вложили в Андрея талант, а тело было хрупким и отказывалось нести такую непосильную тяжесть. Черт с ним, с телом. Сердце отказывало, вот что скверно.
А как он был здоров и крепок в Голландии! Писал тогда матушке своей в Россию, что страх как много занимается живописью, дни и ночи напролет сидел — и хоть бы что. Особая живучесть в нем была. И самознатнейший портретист Карель де Моор оказывал Андрею всякую помощь, так, будто он был ему сыном родным.
Вспоминал он один праздник — живописцы отмечали святого Луку, покровителя художеств, к Андрею приезжали друзья — россияне Мичурин с Мордвиновым. Во дворе были накрыты столы, играла музыка. Кушанья были отличные и вина старые, добрые, крепкие. Пили всю ночь, спорили до хрипу. К языку голландскому Андрей привыкнул быстро и разговорную речь в совершенстве разумел. А после и по-письменному научился.
А как деловиты и шумны были женки голландские! Бывало, напьется мастер, так его жена схватит за шиворот и волоком тянет спать. А другая порой как хватит своего взашей — хрясь! Только звон идет. Крик, визг, а весело. А нынче ни веселья, ни роздыху! Да и то сказать, проживешь один день художником — все равно что век…
Да, повезло ему на учителей — Моор, Боонен, ван дер Верф, Клас ван Схоор. Многоопытные, искушенные мастера. Учился у них — так будто ввысь подымался. И все годы обучения остались в памяти светом в окошке. А иные из собратьев-пенсионеров скучали, приелась им чужбина. Бузили. Бедный господин агент фан ден Бург, на попечении которого находились русские ученики в Голландии, не уставал жаловаться на свои злострадания в отчетах: один запил, другой подрался и голландцу глаз вышиб, а тот пятьсот ефимков запросил, третий схватил лихую болезнь. Дивился Андрей. Заслонки им на глаза поставили, что ли! На кой черт ехали за тридевять земель, чтоб научиться пить и деньги тратить, так это и дома можно. Художество их с себя сбрасывало, как норовистый конь. Ведь одно только и спасает художника — соучастие со всем сущим, сострадание людям, оно даже в душе распоследнего подлеца хоронится. И коли ты художник воистину, так докопаешься, как пить дать докопаешься до сути, до самого дна. Только был бы тебе внятен язык страдания. На то ты художник, а значит работник и страдалец вечный. А если душа слепа или жирком облачилась — грош тебе цена. Тогда топай в придворные комедианты, вон как Балатри, италианский певец и кастрат, что царя Петра тешил.
Когда Матвеев закончил предварительную работу над двойным портретом во дворце и, завернув холст, сложив рисунки, готовился уходить к себе в мастерскую, к нему подошел дворецкий и медленно, важно протянул кошель с деньгами:
— От ее величества императрицы!
Тут же в комнату торопливо вошла принцесса Анна. Она приказала дворецкому уйти. А потом, оглянувшись по сторонам, быстро сунула Андрею толстый перстень с бриллиантом.
— Возьми! Это от меня…
От явного нарушения этикета и всех дворцовых правил Андрей растерялся. Открыв рот, он недоуменно пялился на принцессу. А потом ощутил смущение и радость, принял дар и низко склонился в учтивом поклоне.

Часть третья
Путь искусства долог

Верил он в судьбу

Глава первая
Царский выезд
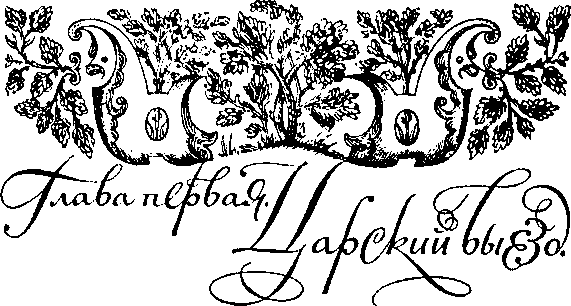

ерым днем шёл он по Невскому. Темно-вишневый бархатный кафтан плотно обхватывал его. У него были гладкие белые чулки и тупоносые башмаки с огромными блестящими пряжками и красными каблуками. И треугольная шляпа с золотым позументом. Заказ когда сдаешь, так тут все важно — и одежда, и выражение.
Боже мой! Боже мой! Легкий гений юности еще осенял Матвеева. И он ему верил. Но, кажется, это был конец. Он чувствовал это…
От чистого воздуха на щеках у Андрея проступил румянец, а внутри что-то неприятно посасывало. И все же он весь так и светился внутренней добротой.
Матвеев взглядывал на встречных, но как бы не видел их. Его распирало от полноты жизни и радости до конца исполненной работы. Состояние было ясное и трезвое.
Он создал свою картину, и ее нужно было показать императрице. Был человек, и была картина. "Что есть человек? — рассуждал он. — Нынче люди у нас в России дешевле снега. А что есть картина в бездне мироздания? Слабо мерцающая точечка — не больше, не больше!" Но важно, что человек этот, он, Матвеев, написал эту картину. Что он с кистью в руке ощущал в себе мастера, замыкающего длинный ряд своих предков и предшественников. В часы упоения работой как бы переживаешь себя и в тебе бьются многие жизни.
День был беспредельный, он весь выплеснулся за свои обычные грани. Хотелось раствориться в этом дне. Но главное — что он сделал все так, как ему надумалось.
На углу Садовой увидел сбитенщика с рыжей бородой. Тот гремел кружками над медными чайниками-саклами и громко кричал:
— А ну, кому сбитня, а крепкого сбитня!
Матвеев спросил и себе кружечку. Медовый взвар был на редкость хорош — на зверобое, шалфее, с имбирем и стручковым перцем. От питья ожигало рот и в животе сразу распалялся огонь.
— Как жив, парень? — благодарно взглянув на сбитенщика, спросил Андрей.
— А хорошо! — ответил тот. — Жить-то весело, да есть нечего.
— А ты не ешь. Пей!
Парень засмеялся.
— Пить бы рад, хлебать приходится, — отговорился он.
* * *
Распогодилось. Сияло затканное облаками небо. От сбитенщиков воздух пропитался пряным имбирным корнем. По Невскому все задвигалось быстрей, заметалось, беспокойно замелькало. Выстраивались по обеим сторонам солдаты-преображенцы. Художник поднял глаза и почувствовал: что-то вмиг переменилось. Появились распорядители, они действовали быстро, заученно: окриком и тычком освобождали, расчищали проезжую часть, раздвигали повозки, прогоняли всех и расталкивали. Одеты они были все одинаково — в камзолы из дорогого малинового кармазина.
Дворцовые готовили беспрепятственный проезд высокому державству, чтобы промедленья ни малейшего не могло допуститься.
На Невский выезжал торжественный поезд императрицы Анны Иоанновны.
Зрелище Матвееву открывалось редкостное. Оно разрасталось торжественно, победно охватывая Невский в ширину, захлестывало всю перспективу движущимся цветным потоком.
Впереди особенного поезда выступали сорок восемь слуг в черных камзолах и белых бантах. За ними чинно перемещались двенадцать скороходов, одетых в пурпурные костюмы, и двадцать четыре пажа в голубом бархате. "Двадцать четыре", — насчитывал Матвеев и повторял цифру, чтоб потом не забыть. Художник быстро поворачивал голову, тянулся, опасаясь пропустить важную какую-нибудь для себя подробность.
Ехала ближайшая стража двора — колкая, настороженная, наторелая. Это были молодцы отборные ростом и силой, но на одно лицо, безжалостные и неумолимые, призванные не так спасать, как стеречь и безопасить.
Ехали камергеры, одетые в камзолы с позументами. Каждому камергеру полагался слуга с лошадью в поводу и два конных лакея — они трусили следом.
Ехали дворяне верхами — холеные, упитанные, как розовые свежемороженые окорока, которых перевели они немало вместе с аршинными стерлядями, ветчиной и дичью. А сколько эти жирные глотки пропустили приказной, коричной и гданьской водки! Сколько лучших мушкателей, бургонского, шпанского перевели, сколько рейнвейна, сент-лорена и других заморских вин.
"И откуда столько их понабралось!" — подумал Матвеев, а сам смотрел на продолжавшие двигаться не совсем свежие лица старых сановников. На таких уж давно не росло ни бороды, ни усов, ни на голове волосов. Этим нынче помнились смутно прошлые обжорства и вожделения. Но каждый дворянин — молодой ли, старый ли — сопутствуем был скороходами, ливрейными в галунах, они имели трех подручных лошадей в цветастых попонах, и сбруя на них, вспыхивая, слепила серебром.
Двигалось и курляндское дворянство, обласканное Бироном.
Состояние восторженного удивления и даже вздоха у толпы вызвал главный конюх, обер-шталмейстер в треугольной шляпе, красном кафтане и голубых шелковых чулках. Он ехал на аргамаке, в седле держался как бог.
Следом в окружении всей охотничьей свиты, в особых одеждах, повторявших цвет леса, воды и полей, ехал в расшитом подкамзоле кабинет-министр и первый егермейстер Волынский. Его-то Матвеев хорошо знал.
Замыкал унтер-маршал двора с жезлом в руке. На желтом лице его, густо усеянном крупными родинками, застыло выражение сосредоточенности и бессмысленного удивления, рот был полуоткрыт, глаза выпучились и округлились — то ли от усердия, то ли от напряжения, а может, оттого, что малы туфли, или от неудобства седла.
И только за всем этим катилась рессорная, раскинутая на две половины, необыкновенно великолепная, английской работы карета, запряженная восьмеркой лошадей, вся в голубом бархате и серебре. Карета самой императрицы. От нее сверкало нестерпимо. Сверканье ошеломляло, многие падали на колени. Андрей сразу увидел государыню, а когда карета поравнялась, склонил голову.
Анна Иоанновна восседала в карете в темном платье, затканном золотом. Она смотрела прямо перед собой блестящими, остекленевшими, незрячими глазами, и лицо ее было как пустыня, бесплодное и скорбное.
* * *
В душе Матвеева шевельнулась жалость.
Императрица ехала медленно, хорошо выезженные лошади ставили ногу легко, как в танце, твердо припечатывая подкову к деревянному настилу.
Царская конюшня тщательно составлялась лично Бироном, до страсти любившим верховую езду. Он мог определить достоинство любого коня на глаз. Хлопотами Бирона по России учреждались конные заводы, куда свозили самых отборных жеребцов и кобыл из всей Европы.
Карету императрицы сопровождали лакеи, скороходы и гайдуки. По сторонам шли сановники.
Любуясь, глядела толпа, подхваченная волной любопытства и восхищения. А благодетельница империи с гримасой натянутости и недовольства сидела в карете. Она была вконец расстроена. Ни единого мгновения не могла она обойтись без своего Бирона и редко кого другого к себе принимала, когда его не было. Во дворце, видя высочайшее раздражение, всякий наперебой старался изобрести для государыни забаву. Более всех преуспел граф Линар. Он принес волчок, спускаемый с веревки. Государыне понравилось.
Пущенные с силой по паркету, волчки гудели и вертелись. Придворные изощрялись в искусстве пускать их: по прямой линии, вприскочку, и чтоб ходили кругом, и чей дольше.
Потом императрице и эта забава надоела.
А нынче Анне Иоанновне ко всем огорчениям добавился флюс, от него она две ночи подряд не сомкнула глаз. А Бирон, лопни его бараньи глаза, проклятый мужлан, сдохнуть бы всем его лошадям, уже неделю не был в ее спальне…
Андрей подумал, что судьба его целиком зависит от той, что едет в карете. Она может одним мановеньем пальца обречь на погибель.
А Матвеев стоял, прищурясь, смотрел сквозь все, с жадностью запоминая любую мелочь до последней крапинки. Внимание его приковалось к представшей перед ним незабываемой картине. Цепкий, точный, собирающий взгляд художника ничего не пропустил. Ехали экипажи особ, занимающих государственные должности, один богаче и неотразимей другого.
Увидел он и еще одну, запряженную четверкой золотистых лошадей карету, инкрустированную разноцветным деревом. Тех, что ехали в ней, узнал Андрей сразу и почувствовал оттого сильное сердцебиение.
Сидели там новообрученные принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон Брауншвейгский. Персоны с его картины. Может, ради них и совершался этот торжественный выезд, и показ его двойного портрета приурочен был к этому дню.
Принцесса вызвала у толпы особенное оживление. Она была одета в спешно к этому выезду сшитое зеленое платье. Полукруглый вырез его приходился так низко, что полная грудь ее с трудом помещалась в покровах. Голова ее была повязана красным платком. Страдание утончило лицо принцессы. Оно было сегодня простое и трогательное.
Матвеев вспомнил про подаренный ему принцессой бриллиантовый перстень. Послышались крики изумления: "Смотри! Гляди! Смотри!" Впереди кареты шли ряженые. Два скорохода одеты были в черное бархатное платье, так плотно пригнанное к телу, что они казались совершенно нагими, на них были только перья, как у индейцев. Позади кареты художника привлекло появленье совсем молоденького конного пажа, что привстал на стременах, весь подался вперед и вцепился в поводья, будто в хвост диковинной птицы, еле им пойманной. На седле и сбруе тоненько перезванивали у него серебряные колокольчики в богатом наборе.
Матвееву весело было и свободно, словно у него было какое-то свое превосходство над властью, проезжавшей сейчас по Невскому во всем немыслимом блеске. А в чем было его превосходство — он и сам не знал. Далек он был от всего, что видел. Вечно утесняемый нуждой, он болел душой за художество.
А те, что степенно ехали мимо, это Матвеев чувствовал кожей, в душах своих везли что-то совсем-совсем иное, чем у него было. Им-то болеть не нужно. Все есть и так. Неприступны, глаза затянуты пленкой сословного презрения ко всему. В их пышных париках, в застегнутых наглухо камзолах спрятано было полное, безнаказанное торжество произвола и вместе рабской покорности. Живописец, как все, тянул шею, всматривался, жил остротой вбирающего глаза. В груди его клокотало. Если бы в это время сгребли его и подняли вверх демоны, то и там, на самом небе, написал бы он красками то, что увидел.
Всплески цвета и неимоверной роскоши, породистые рысаки, фамильные гербы, огонь драгоценных каменьев, качание конных фигур, затейливое мерцание знамен, сбруй, дорогого оружия — все это гордое, перекатывающееся установленным церемониалом медленное движение заставляло дрогнуть, вселяло робость, а сам торжественный поезд императрицы тем же счетом еще более подымался, взрастал в глазах. Лица, наполненные негой и праздностью, были по-кукольному бессмысленны.
Когда все кончилось, Матвееву стало не по себе. Увлекшая его сначала игра высочайшего проезда точно паутиной опутала. Вспомнились ему братья Никитины. Родные, близкие друзья. Необыкновенные художники. С ведома всемилостивейшей императрицы, понукаемой Бироном, битые, на дыбе пытанные, закованные в ручные и ножные кандалы… Пять лет в одиночном заключении мытарили бедолаг. А ныне под неусыпным караулом в далекой сибирской ссылке. Как вы там, Иван да Роман? Живы ли? Сколько восторга и умиления вызывали вы у всех своими талантами… Державная спесь, капризы Курляндского кровавого герцога стесняли жизнь, перевертывали судьбы, заносились над зачатьями и снами, над свадьбами и похоронами. Все больше сдавливалась пружина, а сносить надобно было безмолвно. Непокорливый Андрей тоже все время лез на рожон, ходил по самому острию. Так что и его могли упечь, надрезать кожу на груди и завернуть на лицо. А там и Сибирь близко. С Никитиными в одной ледовой купели…
Никто еще не знал, что где-то в самой высшей небесной юстиц-коллегии решилась уже участь самого Бирона, наметился ему путь в Березов, словно сказано было: держись, вошь, своего тулупа. И другие тоже свое получат: кто добрую и вечную память, а кто хулу и забвенье.
В рядах целой армии российских и чужеземных живописных мастеров и подмастерьев все шло своим чередом. Немало было таких, что и ремесло-то свое знали ровно настолько, чтоб сгрести поболее денег. А ими прикроешь ли пустоту души? В подобных нелюдях господствующая черта состояла в искуснейшем лакействе, от которого рукой подать до самой черной подлости.
"И все же на всей земле многажды счастливые люди-художники, — думал Матвеев, — лучше их никого нет. Самых истинных из них сурово испытывает провидение. Мнет, корежит, но и укрепляет. Все, что ни пошлет художнику судьба, в конце концов вселяет в него высшую силу жизни".
Глава вторая
Ловушка захлопнулась

ставалось Андрею дождаться четырех часов, чтобы узнать, как именно императрица Анна Иоанновна и двор распорядится им после осмотра двойного портрета. Томительное чувство ожидания понемногу улеглось в душе его. Осталось только немного усталости и маленький комочек тревоги на самом дне. Может, пронесет на этот раз мимо… И то сказать, сколько у нас в жизни внезапного, не предвиденного заранее. Сделается все как-то вопреки рассудку, приключится само собою, как бы нечаянно!
А в этом нечаянном совпаденье — свой закон, свой случай. СЛУЧАЙ — всесильный и всемогущий сблизитель или неумолимый сокрушитель. Глаз видит, сердце чует, а случай всем располагает. Планируй, маракуй, прикидывай — и вдруг все опрокинется ногами вверх и наизнанку нутром! "Одна последняя надежда на случай", — решил Матвеев, беззлобно сплюнул и побрел к Охте.
Шел по городу; давно величие его обозначилось уже понятием — столица! И обрело право и вес стольного града европейской державы.
…Медленно светает. Свежо, сумрачно, тихо.
В Санкт-Петербурге утренняя заря часто рождается в той же мгле, в какой угасла вечерняя. Молчат птицы. Им не поется. Нависшая мгла давит и на них.
У черного строения возле самого Адмиралтейства увидел Матвеев бородатого, высокого, худого мужика. Лицо серое, брови кустистые, под кряжистым носом изогнулись рыжие залихватские усы. Стоит мужик недвижимо, как в землю врос. И чего это он там встал?
В сером армяке, в просушенных до сухарного хруста лаптях. У него за широким поясом топор.
До самых костей пробирает утренняя стынь, и потому курит он в рукаве цигарку. Затянется глубоко, и уже не так ему одиноко на земле. Нос у мужика от услады краснеет морковкой.
Курит он, курит, душу греет и ничего не знает, не ведает и знать не хочет. А ведь давно царев указ есть, чтоб у галер в гавани табаку не курить: пожары часто случаются. А по тому указу, ежели кто в нарушении сыщется, то будет нещадно бит. По первому приводу десятью ударами у мачты, по другому — сто, да еще виновного под киль корабельный подпустить на канатах и протянуть, а после, коли жив останется, так на вечную каторгу сослать. Но указ на бумаге, а мужик стоит себе, курит. Дым сизый согревает.
Не так давно еще на Руси табак почитался адским зельем. Кто его потреблял, тот, считалось, с нечистой силой связан. Таковых били кнутом, рвали им ноздри, резали носы. А после, слава богу, царь Петр позволил купцам ввозить табак, трубки, табакерки, черешневые чубуки. И все это стало можно продавать свободно. Закурила, задымила Россия вволю.
…Курит мужик, сынишку вспоминает, в деревне оставленного. Славно, когда в голове хорошее держится. Хуже, когда в кармане хорошего нету. Правда говорят, что у кого карман пустой, у того голова лучше смекает. Так оно или не так?
Покурил мужик, поежился, подвигал лопатками для сугреву и пошел в трактир — выпить на последнюю деньгу чарку да свежего хлебца сжевать в закуску, со щами познакомиться.
И Андрей за ним. От скуки. А тот сел в угол, задумался. Как тут ни живи, а деваться некуда — ни защиты, ни охраны, ни приюта. Ни черта не найдешь в этом граде. Стоит себе на болотах проклятых и трясинах. Андрей подсел к мужику, спросил, кто он и откуда. Заявился вот сюда по царскому зову, по высочайшей резолюции. Сам из Новгорода.
— О! Земляк! — обрадовался Андрей.
А мужик свое наболевшее гнет:
— Грезилось — раз зовет царь, значит, будет и достаток за плотницкое ремесло. Как же, заработаешь тут чирьев да болячек! А ты-то как, земляк, кормишь пузо аль нет? И как же тут, в стольном граде, люди живут: каждый сам по себе, отдельно стоит, как гриб валуй. Всюду ты на виду. Кто сорвет, тот и сожрет… Хлебало раззявишь маленько, враз и хрястнут, своих не найдешь. И чего вы такие оглашенные в своих больших городах? Себе же на погибель и понастроили дворцов и хором!
Андрей улыбается. Нравится ему новгородец.
— Эхма, стольный град, стольный град! Здеся на всякую дырку свой гвоздок, — вздыхает тот. — Ну, ничева, Питер, ни-и-ччева! — говорит плотник. — И у нас за душой кой-чего имеется и ниже брюха, тоже голой рукой нас не возьмешь. Авось не дадим оплошки.
— А ко мне в живописную команду пойдешь? Подрамники нужны, рамы.
— Еще б не пойти. Только прикажи, милок!
"И я б таким был, если б не повезло, — думает Андрей, — стоял бы с топором за поясом".
* * *
Три дня он не выходил из дому.
Не хотел никого видеть и то сидел, запершись в мастерской, то уныло и беспокойно бродил по комнатам, изнемогая от безделья и неизвестности.
Какое-то странное оцепенение нашло на него.
В живописной команде Андрей сказался больным. С учениками, которые жили у него, тоже не занимался.
Он все ждал, что его вот-вот позовут. Но нет, не звали.
Колокольчик у двери звонил часто. Андрей вскакивал, сердце у него обрывалось, но это были не те, кого он ждал. То приходили ученики, то из Канцелярии от строений, то разбитные торговцы с заказным товаром.
Особенно злил Андрея истопник-солдат, его резкий, въедливый голос. Солдат приносил со двора звонкую, мерзлую вязку дров и, крякнув, вываливал ее на железный лист у печи.
А из дворца все никого не было и не было. Что-то ее императорское величество не торопилось. То неотвязчиво досаждали, толкали под руку, а тут вдруг совсем позабыли. Это могло и ровным счетом ничего не значить. Просто руки не доходили. Домашние потехи, балы, приемы, карты, поездки в карете по церквам и конным заводам наедине с его светлостью господином Бироном — где ж тут помнить о каком-то моляре и портрете?
Но могло быть и гораздо хуже. Могли моляра позвать совсем и не во дворец, пред светлые очи, а в Тайную канцелярию, прямо к Андрею Ивановичу Ушакову. На этот счет руки и разумы их высочеств, превосходительств и просто благородий работали на диво согласно, скоро и споро. Так вот призовут и спросят: "Ты что же тут такое намалевал? Зачем это твоя неумытая рожа рядом с царствующей особой, с ее высочеством принцессой Анной? Женихом ты себя вообразил? Ручку светлейшую пожимаешь! Лыбишься? Как же это ты, хамская морда, на эдакое насмелился?"
Что ж, и так могло быть.
Кое-кто видел сей двойной матвеевский портрет у него в мастерской, когда дописывал его. Смотрели и отходили молча, покачивали головами. Да и принц Антон-жених мог ляпнуть свое словечко.
Двойной портрет, что написал Матвеев, как и его "Автопортрет с женой", был делом на Руси невиданным. Это на иконах только бывал раньше двойной образ — святые великомученики Борис и Глеб, просветители Кирилл и Мефодий, богородица с младенцем, жены праведные… А тут нате-ка — жених и невеста! Хотя они, конечно, и высочества, но ангельского чина пока не имеют. Взялся Андрей Матвеев за это первым, задумал через малеванье свое показать двух людей едиными, нераздельными. Подобное было новинкой для русского художества. А на Руси новшеств не любили.
Ведь было же совсем недавно такое с Васильем Кирил-лычем Тредиаковским — мужем ученым, преострым, притом пинтой и гисториком. Сочинил он оду в честь восшествия на престол ее императорского величества, а в ней такое:
Да здравствует днесь императрикс Анна,
На престол вошедши увенчанна.
Ну, тут и пошло! К этим строкам сейчас же прицепились "Это что еще за императрикс?" Привезли пииту в Тайную, к генерал-адъютанту Ушакову. А тот давай его жучить:
— Вы что же это, милый, такое позволили? Как же ты, ученая гнида, посмел? Как же вы государыню нашу императрицу таким словцом-то обозначили? Да я тебя…
Ну, и так далее.
Но хоть ледащ был пиита, робок и тщедушен, а тут не выдержал и резанул:
— Странно мне слышать такие речи от ученых людей! Вы же, Андрей Иваныч, в стихах понимаете. Ведь императрикс — слово подлинное латинское. Оно и есть императрица. И титла царского нисколько не роняет. Но императрица никак в строку не ложится и меру стиха, пентаметр, нарушает. А кто в стихосложении не сведущ, тому о том и рассуждать нечего — вот что-с!
Разошелся Василий Кириллыч, про страх позабыл и про щипцы метровые, что были разложены у ног Ушакова.
Подействовало. Отпустили. Даже на казенных санях домой довезли. Выбрался из Тайной пиита небитым, непытаным. Только сопровождающий преображенец изрядно пьян был и все приставал по дороге:
— Спой-ка мне, братец, куплеты о любви, ну, спой, богом прошу, я слышал — ты из церковных чинов, у тебя здорово, наверное, выходит на глас вторый. Ну-ка, давай!
Тредиаковскому хорошо, он пиита, отговорился, отбрехался. А он, Матвеев, что скажет? В художестве всегда хвост торчит, ничего не спрячешь… И ночью Андрей из-за этого чертова портрета плохо спал.
На четвертый день поздним вечером за Андреем прислали розовую дворцовую карету с арапом, лакеем и двумя Преображенскими солдатами. Они бережно взяли и погрузили картину, обернутую в белоснежную простыню.
Жена Орина и дети провожали Андрея у ворот.
Во дворце Матвеева с картиной долго вели по каким-то ходам, переходам, по залам и покоям, по лестницам и галереям. На каждом повороте возникали зеркала в золотых рамах, пылали канделябры, пахло почему-то хвоей или можжевельником. Его торопили: "Скорей! Скорей!" — и Андрей почти бежал по этому бесконечному зеркальному аду.
И вдруг ему надавили на плечо: "Стой!" Он остановился.
Впереди был еще небольшой коридорчик, но из него дышало легко и просторно какое-то особое ласковое тепло, лился веселый горячий свет.
— Сюда! — сказали ему.
Он ступил в комнату. Дверь за ним прикрыли. Ловушка захлопнулась.
Глава третья
Сдача двойного портрета

мператрица сидела в кресле и занимала его все. Кресло было низкое, черное, резное. На коленях императрицы лежала пестрая шаль. Он увидел враз: нездоровое, мучнисто-белое, полное лицо императрицы, ее темные круглые глаза, мягкие губы и большой сырой подбородок. Все это было смято белым светом, льющимся сбоку.
Герцог Бирон стоял возле государыни. Он был без камзола — белая шелковая рубаха, белые панталоны, белые чулки. Обеими руками Бирон держал левую руку императрицы. Другая ее рука, большая, пухлая, мягкая, лежала на колене.
Анна Иоанновна глубоко сидела в кресле, чинно и благостно.
Большие столовые часы в виде бронзового льва показывали ровно девять.
Императрица подняла правую руку и не то погрозила моляру, не то поманила его к себе.
Андрей сделал полшага и замер в нерешительности.
— А ну, ну, — сказала она хрипло, — показывай! Скорей!
Андрей дрожащими руками стал развязывать узел. Бирон подошел к моляру.
Андрей развязал веревку, развернул простыню, достал картину, приставил ее к стене, отошел и замер. Картина неожиданно и нежно сверкнула. Он глянул на труд своих рук и бессонных ночей: "Выручай, родимая!"
Бирон стоял рядом. На лице ласковая улыбка, умные, холодные глаза.
Он мельком взглянул на моляра, и тому стало холодно. С таким же вот ласковым взглядом светлейший отсылал в Тайную канцелярию малых и средних чинов двора. До больших людей он, кажется, еще не касался. Но верный ключ у него был к каждому. И это знали все.
Императрица поднялась, держа шаль в руке, подошла к картине и наклонилась, ее рассматривая.
Сбоку Андрей видел, что государыня была отменно толстая медлительная баба, похожая на молочницу или купчиху. Ничего в ней не было державного, царственного. Даже голос у нее был обыкновенный бабий, с легкой хрипотцой и скрипом.
Художник не знал, куда девать себя. Он мечтал сейчас выпасть отсюда каким-нибудь чудом в улицу, во двор. Бежать без оглядки. Избавиться от напасти. Чтоб оставили в покое, не мешали б жить, работать.
Все, все здесь против него: люди, комната, даже карлица, что сидела в углу на маленьком стульчике и белела крошечным, словно испеченным ликом. Ее он заметил сразу, как вошел, но потом она исчезла, улетучилась из его внимания. Для него в мире существовало только два человека — императрица и герцог.
А сейчас Андрей увидел карлицу снова, низкорослую, тощую. Она подошла и встала позади императрицы. И он рассмотрел ее всю, начиная от нарумяненных вялых щечек до крохотных черных туфелек, так смешно и трогательно торчащих из-под ее богатого алого платья.
Андрей суеверно боялся этого крошечного народца. Маленьких ростом не поймешь, и не пытайся.
Карлица стояла, уставясь на картину.
"Не глядит в мою сторону, будто меня нет на свете", — неприязненно поежился моляр.
Проколок, видать, будет полный. Но никто ведь и не просил его рисовать свое лицо заместо принца Антона, а принцессу делать похожей на жену Орину. Вышло это как-то даже невольно. Моляр созорничал. Поэтому в Андрее страх был наравне со стыдом. Будто он вор и подсовывает покупателю негодный товар за честные деньги.
Андрей снова зыркнул на карлицу и увидел — к нему струится маленькая, слабая улыбка. Это добрый знак.
Вдруг раздался тонкий, свистящий, пронзительно чмокающий звучок. Карлица чихнула.
Бирон нахмурил брови, поморщился. Императрица молча и неподвижно смотрела на портрет, на изображение лиц молодого мужчины и злой девушки, которых она из-за своих династийных соображений решила наречь женихом и невестой. Мужчина был принц Антон, которого Бирон терпеть не мог.
"Этот моляр, — думала
императрица, — хороший мастер, он изобразил их так, как и требовалось, — в непринужденной позе, и они у него точно влюбленные голубки".
Анна Иоанновна смотрела, а у Андрея шевелилась кожа на спине. Ведь он опасно сосвоевольничал — взял и вместо жениха едва заметно представил самого себя, благо что они были несколько похожи. Это не принц Антон, это он, Андрей Матвеев, обнимал принцессу одной рукой, а другой держал ее за тонкие, длинные пальцы. А невеста, которой было наплевать и на портрет, и на жениха, не то молчаливо допустила эту подмену, не то просто ничего не заметила. Во всяком случае, когда она видела портрет в последний раз у него в мастерской, она ничего не сказала, а только улыбнулась одной половиной лица.
— Ну что ж, неси показывай государыне!
Эту штуку тогда Матвеев проделал с легким сердцем, с наглостью какого-то отчаянья: "Э, все равно!" А сейчас стоял и ждал, чем же это все окончится, и ему было страшно.
Правда, накануне того дня, как ему пришел вызов во дворец для просмотра, к ним заглянул Иван Яковлевич Вишняков. Андрей ему очень обрадовался и, не давая раздеться, потащил в мастерскую, поставил картину на мольберт.
— Ну, гляди, Иван, и говори все, что видишь и думаешь.
Иван Яковлевич долго смотрел, отходил, нагибал голову то влево, то вправо, потом сказал:
— Хорошая картина! Отделка тщательная, колорит выдержан, прилежания и усилий истрачено много! Вот и все. Вольная картина, видать, что писана по охоте, а не по принужденью.
— Ну, спасибо, Иван.
Андрей подошел к нему, чмокнул в жесткую щеку.
Вишняков взглянул на Матвеева, загадочно улыбнулся, спросил:
— Ты что же, хочешь это сдать заместо заказного? Того же Савку, да на других санках, а?
"Раскусил-таки! Вот злыдень! — оцепенело подумал Андрей. — Разгадал, дьявол".
А сказал как ни в чем не бывало с усмешечкой:
— А что? Была не была, хочу спробовать, авось сойдет.
— Гляди, Андрей, одна спробовала — медведя родила, как бы голова твоя с плеч долой не сошла. — Вишняков провел указательным пальцем по горлу.
А сам с гордостью подумал о том, что такому, как Матвеев, художнику все по плечу. Высвободил он все немалые свои силы, оперся на собственные крылья и летит, летит, никто его не остановит… Большую Андрей высоту набрал в художестве, большую!
— Дьявол ты, Андрюха, — сказал Вишняков Матвееву. — Написано нежно, светло, цветно! Все крепко, богатый коричневый фон. Раскатал слой краски, как аглицкое сукно. Увязано в одно, слажено, это ж надо, сущий дьявол! Ну, тащи с богом! Ничего они не раскусят. Сполнено по всей форме и со тщанием. Чего же им еще?!
Меж тем императрица постояла, посмотрела, потом обернулась к герцогу.
А Бирон, или Бирен, а может, и Бюрен, смотрел на картину внимательно и холодно. Андрею казалось — подозрительно. У Бирона был цепкий взгляд знатока. Андрей ощутил укол дурного предчувствия.
"Курляндца не проведешь!"
А Бирон, который кроме лошадей питал тайную слабость к свободным художествам и уважал их, обратился к Андрею:
— Это и есть…
— Так точно, это двойной портрет, ваше высочество… Сие мне и заказывали!
Неожиданно для себя Андрей бойко ответил по-немецки и тут же почтительно поклонился, хотя у него все поджилки дрожали.
Герцог продолжал молча смотреть на картину, словно вслушивался в нее.
Карлица вдруг едва заметно, но все-таки явственно кивнула моляру головкой и подмигнула крошечным, как бусинка, глазком.
"Сойдет, — вдруг мгновенно решил Андрей, — ей-богу сойдет, честное слово, сойдет!"
А карлица скорчила гримасу в спину Бирона и показала ему розовый язык толщиной с палец.
От неожиданности Матвеев хмыкнул носом.
Бирон повернулся к императрице и сделал какое-то незаметное движение. Потом он порывисто подошел к самой картине, присмотрелся к какому-то месту на ней и даже потрогал это место растопыренными пальцами. Он глянул на Матвеева жестким, царапающим взглядом.
"Попался, — застучало у Андрея в висках. — Теперь могила. Если герцог раскусил, унюхал, то ждать от него милости — все равно что от бабы добродетели".
— Так, значит, это двойной портрет, что тебе заказывали к свадьбе принцессы Анны? — спросил Бирон. Его толстый короткий палец указывал на картину, а глаза, темные, страшные, совершенно без зрачков, вопросительно вонзились в моляра.
— Он самый, ваше высочество, это принцесса Анна и принц Антон, — ответил Матвеев, выдерживая взгляд герцога.
Глаза Бирона держали моляра, как когти. И Андрей увидел в них коварную, торжествующую хитрость, но он так и не понял: догадался герцог или только заподозрил?
Матвеев посмотрел на императрицу, потом на Бирона. Она — вся черная, он — весь белый. Оба чужие, холодные. А где-то там, между ними, невидимый и неслышимый, положив голову на лапы, дремал ангел смерти Андрея.
Императрица подошла к креслу и тяжело опустилась в него. Бирон стал рядом.
Андрей искал зацепку спасения.
И тут ему в глаза ударило большое квадратное зеркало на стене над креслом императрицы. Не само даже зеркало, а часть спины императрицы, отраженная в нем. Ее величество как бы вывернули вдруг задней частью вперед.
Андрей сделал полшага влево и сдвинул спину. Теперь она пришлась по центру зеркала. Андрей видел уже целиком широкую, выпуклую, крутую спину с мощными, круглыми плечами и короткой молочно-белой шеей с глубокой впадиной, закрытой кудельками. Художник смотрел на спину цепким взглядом мастера, прикидывающего, как лучше рисовать.
"Бабища! — подумал Андрей с облегчением. — Даром что самодержавная, такой бы в самый раз на Сенной рынок за покупками ездить!"
Восторг перед натурой сделал свое, страх в Андрее понемногу начал растворяться.
— То, что важнее всего дня нас было в этом портрете, как будто есть, — заговорила императрица, — взаимная любовь и согласие… Только сдается мне, что сходство сбилось: что-то Анна вышла на себя не похожа, а? — спросила она, обращаясь к Бирону. — Да и принц тоже…
Герцог молча кивнул головой и пожал плечами:
— Такие портреты делают в разных странах давно. В Нидерландах, во Франции и в Испании. Даже моляры часто малюют сами себя с супругой. Что-то такое, помнится, есть у Ван Рейна и у его светлости Питера Рубенса… Так что…
— Двойной портрет, — повторила императрица задумчиво и значительно, но, кажется, только с тем, чтобы хоть что-нибудь сказать. Она как-то враз сникла и погасла.
В глазах ее уже не было ничего, кроме обычной скуки. Ей все очень быстро надоедало. Сдержку ее падающего настроения мог произвести только герцог.
Бирон снова взял в обе руки руку Анны Иоанновны. И сказал:
— Яхонты-то как блестят…
— Их сиянье, — бойко подхватил Андрей, — и есть тот священный символ слияния двух любящих сердец, коего я более всего добивался!
Матвеев, забыв обо всем, посмотрел на Бирона победно и весело. На его большие коричневые вывернутые уши с пучками черных волос, посмотрел на бычью его шею, на гладкое, холеное лицо. Он уже как-то привык к герцогу. Живоглот-то он живоглот, а так из себя мужчина заметный, чем-то даже привлекательный, не зря же эта… А лютость его от страха и ненависть от страха…
Тут Андрей оборвал себя, а вслух сказал, обращаясь к императрице:
— Ваше великое державство, касательно до портретного сходства, как вы соизволили заметить, и ваша светлость тоже, — обратился он уже и к Бирону с поклоном, — что оно нечаянно сбилось, то смею нижайше заверить со всею моей заботливостью и тщанием, хотел я обратить в оном двойном портрете вниманье на то, из каких тонких материй состоит существо чувствий человеческих.
При этих словах живописца Бирон зловеще ухмыльнулся, но Матвеев уже знал, что останавливаться ему нельзя, и он молол старательно, как добрая голландская мельница:
— Принцесса Анна как женщина не может совладать со своею душой, тогда как принц Антон как мужчина умеет победить всякую страсть умеренной и строгой думой…
Анна Иоанновна слушала живописца с интересом, ее глаза опять ожили, она примеряла слова моляра на себя и на Бирона. Ей нравилось толкование картины, которое давал моляр, еще более, чем сама картина. Она вспомнила, что когда отдала принцессе Анне указание готовиться к свадьбе, та обвила руками ее шею и залилась слезами. И сама императрица тогда заплакала. И теперь ей было приятно об этом думать. "Хорошо быть молодой, готовиться к свадьбе, шить наряды, забываться в мечтах о любовных предметах. Хотя и нет меж Анной и Антоном притяжения взаимности, а вот стоят на картине, как живые, и любят друг друга, и за руки держатся, и в полном согласии… Хорошо бы, чтоб этот же моляр срисовал вот так же и меня с герцогом. Ах, как бы я любила сию картину. Но это невозможно". Государыня горестно вздохнула.
— Мне, вашему рабу нижайшему, — долетел до нее голос моляра, и она стала его слушать, — принцесса виделась как жемчужина всех добродетелей. Я тщился силой своей художества и ремесла передать силу той власти, какую имеет над нами любимый человек.
Анна Иоанновна, услыхав эти слова, многозначительно посмотрела на герцога, а тот улыбнулся ей в ответ и беззлобно подумал: "И что этот моляр басни плетет, ему бы молчать следовало. Принца сделал похожим на себя и заливается". Но герцог видел, что императрица слушает моляра с видимым удовольствием, и решил ему не мешать. Он только хмыкнул и сказал:
— Картина изрядно получилась, только тут они у тебя уж больно оба красивые… — Он слегка покачал головой и добавил: — А принц в особенности!
Сказано это было без осуждения, но с легкой насмешкой. Императрица эту насмешку поняла, а герцог продолжал:
— Таково уж ремесло молярское, видно, ни меры в нем, ни веса нету, и легко сбиться с верного курса.
Тонкие губы герцога дрогнули в еле заметной усмешке.
Затем снова была тишина, страх и ожидание.
Карлица улыбнулась Андрею по-прежнему ласково и спокойно. Императрица взглянула на курносого Матвеева и подумала:
"Как простодушно и славно излагает он смысл картины. Каравакк — тот только надувается, потеет и пыхтит, парик ему на ухо съезжает, а про этого говорили, что он дерзок и гордец, но он же и мастер превеликой, а доброму мастеру можно все простить".
— Ну хорошо, — решила наконец императрица, — мы довольны, и твое усердие будет вознаграждено. — Она протянула Андрею белую, пухлую, по-детски перетянутую ниточкой длань.
Моляр бросился к креслу, рухнул на колени и принял эту длань бережно, как драгоценную святыню, и коснулся ее пересохшими губами.
Потом отполз на несколько шагов и поднял голову. Посмотрел вокруг.
Все улыбались. Андрей встал.
Давно не испытываемое приятное расположение овладело российской государыней.
— Герцог, извольте обрадовать принцессу Анну, что парный портрет вышел удачен.
Бирон кивнул.
А Матвеев сказал неведомо для чего:
— Будет ли высочайше дозволено взять мне сей портрет для внесения в него некоторых исправлений касательно до большего сходства?
— Да, бери! Бери! — вместо императрицы ответил Бирон по-простецки и чуточку раздраженно. Ему это затянувшееся смотренье давно надоело и хотелось скорей попасть в манеж, к любимым лошадям. — Бери, поправь, что тебе — для наилучшего сходства — указали, и немедля доставишь во дворец.
Андрей взял картину и вышел. Он обтер лицо рукавом камзола.
Лоб у него был потный, лицо, как он увидел в зеркало, желтовато-зеленое. От напряга чуть сердце не лопнуло. Он смертельно устал и хотел спать.
Его снова бережно вели по переходам, лестницам и коридорам, по зеркальным полам и залам. Кто-то забегал вперед, двери распахивались, ему кланялись.
Он ничего не видел.
Очнулся Андрей только на крыльце. Дворец сиял огнями.
Моляр набрал полную грудь воздуха, выдохнул и набрал снова. Несколько минут он стоял, закрыв глаза и опустив голову. Потом быстро обернул картину в простыню, завязал накрест веревкой и побрел к воротам.
На карауле при выходе из дворца стоял солдат. Андрей вынул кошель, набитый медью и мелким серебром, и положил у его ног. Тот стоял так же деревянно, не шелохнувшись, приставя мушкет к тяжелому блестящему штиблету.
— Выпей, братец, за господ живописцев!
Глава четвертая
В Москве у каруселя
Не вихрь крутит по долинушке,
Не седой ковыль к земле клонится.
То орел летит по поднебесью,
Зорко смотрит он на Москву-реку,
На палатушки белокаменны,
На сады ее зеленые,
На златой дворец стольна города.
Песня

ак-то летом случилось такое: поручили петербургскому придворному живописцу Андрею Матвееву поехать в Москву и там наторелых мастеров набрать для всякой искусной работы в царских покоях.
Ходить пришлось много, говорить тоже много, а все же порученье Канцелярии от строений Андрей выполнил добросовестно, не сплоховал, и людей нужных нашел, и о материалах договорился. И даже мастеров самых знатных, как они ни упирались, обломал и убедил.
Дело сделано, можно было и просто так побродить.
Пошел Андрей по Арбату — от площади до Смоленского рынка. Давно ему полюбилась особая прелесть небольших московских улочек. Вот он, Арбат, — неустанный водоворот! И название у него какое-то странное, диковинное даже. То ли от кривизны местности (горбат? так ведь и вся Москва и горбата, и кривоколенна). А может, от татарского еще владычества названье сюда прикипело — от арбы, или перс какой содержал постоялый двор — рабат… Кто что знает? Как бы там ни было, но Арбат вселял в художника бодрость. Уютно зеленели небольшие сады в подворьях за железными оградами и воротами. Толпился народ у Троицкой церкви и у торговых ларьков. Посмотрел Андрей на дам и кавалеров, на простолюдинов, а потом поднялся к Собачьей площадке, сверху вниз поглядел и почувствовал: тут все же не так, как дома, в городе святого Петра. Он, Матвеев, был до мозга костей петербуржец, но в Москве отдыхал душой. То есть истинно счастливым чувствовал он себя оттого только, что хотя на время отдалился от придворной жизни с ее вечным влиянием, суетой и маетой, от всех этих обрыдлых обер-камергеров и статс-дам, от величественных обер-церемониймейстеров и юрких камер-фрейлин, от вельмож и знаков материнского попечения всемилостивейшей императрицы.
Сердце Андрея жило одним художеством, а от всего прочего так оно ожесточалось, так земленело, что не имело уже сил воспарить к горним высотам. А ведь истинное художество только там и пребывает.
И чтоб в себе охранить его, нужно было все одолеть, перешагнуть все печали и неудачи, а вкупе с ними пронырство и завистливое честолюбие, интриги и клеветы. Матвеев знал, что его ремесло никому зла не творит, а меж тем столько на пути лежало рытвин и пропастей, рвов и ямин…
Несколько часов бродил он, любуясь Москвой златоглавой, людной, обителью многих просвещенных и мыслящих людей, умеющих наслаждаться прекрасными твореньями муз.
Вспомнил Андрей с удовольствием, что сходно договорился о покупке тонкого фламандского холста по тринадцати рублев за кусок. Сам директор полотняной фабрики в Москве Иван Тамес обещал Андрею быстро отправить полотно.
Терся Андрей среди шумливой московской черни, от которой за версту бьет крепким запахом пота, лука и табака.
Уже у заставы Калужской присел Андрей на каменный заборчик отдохнуть. На изломе лета солнце греет мало, да и светит совсем не так, как раньше, но все равно тепла его хватает, чтоб камень нагреть.
Хотелось Матвееву средь людей затеряться, молча посидеть и помечтать. Славный град Москва — тут во всем особый дух. Не зря же говорят: что город, то и норов, что человек, то и обычай. В Москве вон и воронье на особый манер летает — как-то боком вперед. Всего-то оно навидалось на длинном своем веку…
Глядит Андрей вокруг, и окрыляется душа его от красоты, куда ни взглянь, всюду глазу художника прибыль. С одной стороны исполинские башни высоченные, с другой — дрожат, сияют, будто движутся в небе, ажурные кресты. Краски вокруг нежные, а на землю тени ложатся лиловые. В старых липах птицы поют.
Почувствовал Андрей себя легко и молодо, как в прежние года. И жизнь показалась ему чистой и безмятежной в своем движенье. Хорошо художнику, когда живет он беззаботно и вольно и глядит на все не холодным, пустым взором, а живыми глазами. И жизнь кажется бесконечной. Тогда забываешь о прошлых невзгодах, когда одним днем живешь.
Московское небо над головой желтое, тугое, как холст на подрамнике. И углы того холста нерушимо закреплены златоверхими куполами.
Чудно все ж тут после невской столицы. Спешит белокаменная, будто калачом ее кто поманил. Никому дела до другого нет. Будни ли, праздники, а на улицах толпы. Камзолы вперемежку с мундирами, с поддевками, армяками, кафтанами. Нищета роскоши в затылок. И особенно на проезжих гвардейцев Андрей засмотрелся. Хороши они: молодые, рослые, в коротких красных штанах и в шерстяных черных шляпах, обшитых белым шнуром. И вышагивают, как гусаки, чинно, ровно, по одной ниточке.
А с полей и болот, что вблизи, тянет в воздухе горькими травами и прелым сеном.
Все, что глаз Андрея выхватывает, — человека, баржу на воде, мелкий розовый облак в небе, — все картина. Все красиво. Так, поди, и не напишешь. А кажется: куда как просто — взял самый дух и выразил его, как твоя душа желает. Станешь к мольберту, возьмешь в руки кисть и задумаешься: ну, а за этим всем что? Что за этим-то, там, внутри, в сути вещей? Красишь-красишь, а все не так. Сухо получается, бедно. Уж сто разов проверил все по живой натуре, фигурам место нашел, и так, и эдак их ставил, а все скверно. Так и бьешься у холста вусмерть. Хочешь открыть самородное по-новому. Об этом-то и есть ревнивая забота художника, чтоб natura naturalis
[7] заново засияла, чтоб новые связки найти в красках, по-своему теплое с холодным сочетать. Тут к месту икону вспомнишь, и на голландский манер испробуешь, и на сурового, правдивого Ивана Никитина оглянешься, господина живописца, знатного персонного мастера, обласканного Петром и сосланного Анной Иоанновной в Сибирь. Эх, Иван Никитич, не войти уже в твои новоманерные каменные палаты на Тверской улице. Был живописец, стал колодник. И все мы, художники, колодники — под надзором ли Тайной канцелярии иль под арестом совести своей живем… И удача у нас гость редкий, дорогой. Мило волку теля, да где его взять? Томишься в собственном соку, испреешь весь, пока добьешься в холстинке желанного.
Неведомо от кого сверкнуло в Матвееве — от родной ли матушки, давшей жизнь, от грустной ли березы, что колыбельно под окном качалась и шептала, иль совсем уж от дальних предков-иконописцев пошла по разветвлениям, побежала горячая кровиночка. Бежит себе по живым, тонким, прозрачным стволам и звенит. Родился он художником, художником и помрет. Какой бы удел ему ни выпал — слава или осужденье, почести или забвенье. Бывает, что талант утомляется и состав его гибнет, крошится, на нет исходит. Только это Андрею не грозит. Он о том и не думает, уповая на себя и на господа. Одному богу известно, кого мертвить в художестве, а кого живить. Кого забыть, а кого и на все времена запомнить. У гоф-малера Матвеева Андрея то было только свойство, что весь он к живописи обращен был, всею душой в ней содержался и никогда не гнался, не стремился ухватить власть, деньги или чины.
Знал Андрей крепко одно — чины с художеством враги смертные. Молярство живописное как шило, если в костях засело, так его и из мяса не выколотишь. А чины разрушают в художнике возможность думать…
Трудно жить художником и невыносимо порой. Час работаешь, а день и ночь думаешь о трудах своих. Такая жизнь кому хочешь бедной покажется, работа всю мочь отъедает, на жену не останется. Когда днем чего не доделаешь, так ночью приснится. Вскинешься утром и к холсту, чтоб не дай бог не забыть. А как пишешь, так все тебе в строку идет: и колер какой-нибудь, тому лет пять назад виденный, сгодится, и свет употребишь в картине, запомненный случайно, и раскосость скул какой-нибудь девки в портрет спишешь…
"И впрямь мы, художники, и самое счастливое, и самое несчастное племя на земле, — думал Андрей. — Сколько недоешь, недоспишь, не поживешь, как все. Жить из руки в рот, что заработал, то и проел, тяжко. Денежного запасу никогда нет. И все же в художестве что-то постоянно манит, загораются впереди какие-то неясные огни. Дойдешь до них, а за ними в сумраке жизни новый дальний свет зреет, зовет. И некогда останавливаться. Остановишься — окаменеешь…
И отчего это, — думал он, — когда сам человек захочет стать художником, то он идет с запасом лишнего, что потом сбросит и обнажит свое художество во всей красе — и видишь его ясно, как бабу в каленой бане. Сверкает бриллиантом. А когда человека определят в художники и начнут на ухо лгать, уча рисовать, то всюду так обкорнают, так сомнут живое, костяк так ему обломают, что с фонарем его не сыщешь. Прекратят учить, и уже ничего у него не остается. Какой там бриллиант — одна колкая пыль, мелкота".
* * *
Андрей встрепенулся от грохота. Трубя рожками, промчались по дороге почтари. Свежие лошади под ними волновались, ржали, громко цокали копытами. По душе Андрею хлопотливая, неумолчная Москва — алтарь отечества. Редкую и радостную возможность дает пейзаж ее художнику. Но хмурый Петербург дороже. Ему, Матвееву, что было в городе том? А все! И войлок неба, и зеркало Невы, в который глядится новорожденный каменный ангел, и крохотная церковка Николы Чудотворца при морском полковом дворе, и соборная Исаакиевская, и нарядные дворцы с разлитым во всех окнах сиянием свечей. Петербург — поддержка Андрею, подкрепленье сил душевных и телесных. Там жил Петр, без него не стать бы Матвееву художником.
Лик государя навсегда остался в нем как светоч. Был царь неуемен, пылок, гневлив. Знатно гулял он в городе, который основал, и двадцать пять пушек приветствовали его заздравные чаши, и пиршества его тянулись ночи напролет. И отдыхал он в граде своем от ударов судьбы тяжких и от врагов своих. Там и нашел успокоение в недостроенном соборе Петропавловском.
"Тут бы, в Москве, не выжить мне, — думал Андрей, — хотя и вольности больше, баловства. Русская безалаберщина в Москве во всем выпирает, всякий может дурачиться, хотя болтать почем зря меньше стали из-за бироновских шпионов. Многозвучна матушка, хороша, звон колокольный сплетается с живым говором толпы. А все же не выжить…
Совсем не то у нас в Санкт-Петербурге. Там все по струнке! Лишнего не скажи, ляпнул что не так — и пропала головушка! Каждый по той улице идет, каковая ему отведена. Каменная западня, да и только".
Но под родными невскими небесами Матвеев опору чуял, что-то было такое, что не давало упасть. А устойчивость негде взять, кроме как в себе да в близких друзьях. Обожал он город Петра, цвет и самый дух его, потому и писал русских людей, и хотелось подряд ему рисовать все, что ни есть в нем. Без этого и не был бы санкт-петербургским живописным мастером.
Еще когда гулял Андрей и глядел на Кремль, подумал тогда, что паче всего художество показывает силу и цвет государства. Коли государь мудр и прилежное старание о добром художестве имеет, как то Петр делал, так и государству доход. Ведь художник штука ломкая, на него нажми посильней, он и хрупнет, как курье яйцо…
Сколько картин сложилось у Андрея, пока бродил он по Москве! Запоминались они подробно, не было нужды срисовывать. Память у него была цепкая, забористая. Так и стояли они, ненаписанные картины, в голове рядком. На одной был Каменный мост, а под ним два мужика купали трех коней, и один был белый с черными яблоками на боках. Низко нагнувшись над водой, бабы, стоя на коленях, полоскали белье в реке и развешивали его сушить тут же на низкой изгороди.
Издали бабы были похожи на короткие пушки, у которых не было стволов, а только одни жерла.
Ярко горел костер под ведром с похлебкой для артели мужиков, а они тут же вылавливали из воды бревна, раскалывали их клиньями, тесали топорами и сглаживали скобелью. А по мосту во весь опор неслись кареты, ехали дроги, телеги и возы с сеном и лесом. Берега были завалены штабелями дров, на воде качались плоты. Кто-то рыбачил, стоя в лодке с засученными по колена портками. А надо всем горделивый Кремль. Как восходящий луч. Взбегали вверх стены зубчатые его, окаймленные зелеными деревами.
И это стояние мужика в лодке и Кремля увязывалось у художника в одно: мужик испокон был опорной кремлевской крепью.
Высились главы над главами, шпицы над шпицами, колокольни над колокольнями, большие кресты над мелкими крестами. Там были и Иван Великий, и Успенский собор, и Кремлевский старый дворец с Красным крыльцом и золотою решеткою. Лучшие артели белокаменщиков поставили красавицу Сухареву башню — проект ее сделал живописный мастер из Оружейной палаты Михаил Чоглоков. "Сухарева башня — невеста Ивана Великого, а Меншнкова — ее сестра". Так говорил народ, гордившийся тремя московскими великанами.
Тянулись от Ружейной палаты с круглой стрельницей здания приказов. У Верхних Тайнинских ворот горел на солнце, слепя глаза, пятиглавый Черниговский собор. Века шумели над святынями, неподвижными, молчаливыми, а Андрею в молчании их слышались светлые церковные хоры. Потом взгляд художника убегал к угловой Водовзводной башне, от которой простиралась по берегу до самого Каменного моста зубчатая стена Белого города. Это была уже другая картина. Андрей рисовал стену и на фоне ее изображал мелкие фигурки мастеров, подмастерьев, учеников и всех прочих работных людей, что копошились, обретаясь в различных трудах. Все они были в коротких поддевках, опоясанных коноватными кушаками.
С одного конца моста Андрею виделась стрельница с проезжими воротами, с другого — башня. Над шестью ее вратами расположились каменные палаты, в которых, как он знал, содержались колодники.
Раньше у самых быков моста высились мельницы, теперь их уже не было — снесли. И новая рисовалась живописцу картина: церкви с колокольнями, Васильевские знатные сады, хоромы с вышками, деревянные домики с двухскатными кровлями, палаты и дворы, где каменное строение перемешано с деревянным, с той стороны за стеной белые зданья, с этой — лачуги, избы, по краям берега городьба из плетня. Все это возникло в памяти художника и стояло пред ним, живое и яркое, пока он сидел и отдыхал у Калужской.
На небольшом же отдалении от него посреди специально, устроенного амфитеатра крутился карусель.
Андрей смотрел на великое множество народу всякого чина и звания. Едва дыша от тесноты, простой люд из кожи лез, лишь бы дорваться. Вздрогнуло что-то и в сердце Андрея. Захотелось и ему прокатиться. Как раньше хотелось затихнуть, побыть одному, так в сей момент потянуло его на люди. Нет, что ни говори, а художники все же народ диковинный, чудной, загадочный, у них таракан в голове, неведомо куда стрельнет… Встал Андрей с теплого места, посмотрел с досадой, махнул рукой и врезался в толпу.
Карусель идет ходко, земля трясется. Обманутому здесь надежда сверкнет, изверившемуся и полуживому — помощь. От женского визгу голова заходится. Летишь, а вывески кругом разноцветные, глаз рвут. И сам ты меж небом и землей. А ветер в ушах свистит, и сердце екает на этой кружильной машине. Если жизнь стала клеткой, то покажется, что в каруселе ты самый вольный человек и сам себе господин. Кружило всех равняет — барышню в кринолинах и соплюшку из черни.
Ученые мужья на карусель не полезут, им не лимит, они с собачками поодаль стоят, но свою руку к заморскому диву тоже приложили. Оно no-ихнему, по-умному, круговращательным и по дистанциям манерным кунст-камерным сидением прозывается. Мудреное прозвище для простого самоката.
Глава пятая
Из мертвых воскресе

спыхнула у Андрея в памяти приговорочка карусельная: "Уж ты ль, моя красная краса, русая коса, тридцати братов сестра, сорока бабушек внучка, трехматерина дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепелочка!"
У них на Новгородщине подобное устраивали. Бывало, спустится молодежь к Вишере-реке, пробьют во льду прорубь круглую, в нее кол всадят, а на кол прилаживают колесо от телеги. Между спиц колеса оглобли вставляют, а к концам сани прикрепят. Парни вертят самокат, а девушки с замирающими сердцами весело кружатся по льду. И ребятня к ним на руки на ходу запрыгивает, срывается, верещит, падает, взвизгивает.
Счастье юности нахлынуло на Андрея. Умилением, безмятежностью потянуло из тех лет. И щемящею утратой. Догони, возврати свою молодость! Да попробуй-ка! Нет дорог к невозвратному. И давно же это было! Счастие, мечта… А может, и недавно.
Сошел Андрей с каруселя, неподвижно стал в сторонке. Оставил глазам узкие щелки, сложил пальцы, глянул в кулак — все художники так издавна глядят, чтобы уединиться от всего остального, увидеть несколько дальше, охватить целиком.
Андрей видел в кулак кус неба, клочок каруселя, золотые отблески солнца. Вот она, картина, у него в кулаке, она собирается — просто, ясно. И сильное движение, и свет, и цвет. Уберешь кулак, приставишь снова — опять готовая картина выткалась. Никогда виденное не будило в Андрее такой печали по несделанному. Ну как можно было до сих пор такое не написать! Будто проходило несметное богатство мимо рук и само просилось: "Возьми! На!" А он и бровью не повел. Дурень дурнем, какой тут спрос? Да, многое из давно задуманного не свершено, все некогда, все некогда, все недосуг. То одно, то другое. Проходит земной чудный сон, жизнь на убыль, и все меньше ростом струя родника, что бьет из души. Двор заказами рвет его, а если соберешь картину в голове да не напишешь, так она на мелкие куски рассыплется.
До любимых портретов не доберешься взяться, когда еще задумал Андрей списать несколько парных подобных Голицыным, начал, да на середине и бросил. А куда как интересно рисовать с моделя, с живого человека!
"Баста, хватит отлынивать, приеду и напишу два портрета непременно, хоть трава не расти. А то и неча было рядиться, людей зря морочил. Глаголано есть, должно быть и намалевано".
А народ увязчивый прет к каруселю, хлебом не корми, только волю душе полную дай! На то, видать, русский человек и рожден, всю жизнь готов он в один миг прожить, только чтобы во всю ивановскую гудело, гулять, так до упаду — об этом кровь его вопиет на небо.
Увидел вдруг Матвеев — статной молодухе ногу в толчее отдавили. Захромала она и то плачет, то смеется. Поглядел художник на лицо ее фарфоровое. Пожалел. А девке некуда деться, утерлась головным платком, и дальше ее толпа понесла.
Старается кружильница, встряхивает души и тела, от восторга у многих глаза на лоб выкатываются. А сиденья в каруселе добрые, фигурные: заморские львы, белая лебедь-птица с распластанными крыльями, разные амуры с воздетыми руками и карлы с оскаленными зубьями. Да так все искусно нарезано — любо глядеть. "Дивный мастер какой-то сработал, ишь сукин сын — надо бы имя-фамилью узнать, — думает Матвеев, — может сгодиться".
Глядит живописец, пропитывается виденным, как сахар водой, ничего от зренья его не утаивается. Ни одной крупицы. Так-то видеть все цельно и враз, кроме художника, кто сможет? Разве только стрекозы. И до чего же звонкая палитра красок в этом народном каруселе!
Люди и недвижимость в розовом мареве заходящего солнца расцвечены на особый лад — тут тебе и пурпурный, и желтый, и фиолетовый. Затосковал Андрей по работе, по кистям и краскам. Ему больше открывается в увиденном, полнее и ярче. Художнику и в дереве простом почудятся вдруг райские кущи и царство небесное. На то он и живет воображеньем, домыслом, фантазией и догадкой. Волшебные сны наяву смотрит!
Иному служивому человеку невдомек: и чего с этими художниками носятся, при дворе содержат, деньги немалые отваливают, от повинностей освобождают?! Заставить бы всю ихнюю братию-шатию землю копать, пусть-ка попляшут, жилы порвут. А то они вечно пьют, гуляют, бабьи угодники, и жрут хлеб задарма. И то сказать: о пользах художества здраво судить не многие могут. Те только, кого бог живым разумом снабдил. Бытие земное тленно. Это так, а художество вечно. Сколько художников в землю сойдет, а содеянное-то останется! Картины останутся. Память останется. Чье сердце каменное не шевельнется от этой мысли! Способность жизни человеческой от художества умножается. Как этого-то не понять? Ведь художник на белом свете — подарок, редкая удача. Даже самый непутевый творец на сто голов выше любого государева чиновника…
Прут к каруселю обоего пола люди. Но все же девок и баб много больше. У них потребность к игрищу карусельному захватистей. Прорвутся на круг — обо всем позабудут. Глаза закатят, и сосцы у них под сарафанами торчмя торчат. У них в теле куражу куда больше, чем в голове!
Ан денек-то кончается. Над столетними липами в парке воронье кружит, у них там свой карусель!
Перед вечером с заливных замоскворецких лугов тянет свежестью. Бежит-торопится карусельный самокат — кружит баб и мужиков до полного затемнения памяти.
А в верхней части шатра, под самой крышей парусиновой, — тесное, узкое помещенье, пропитанное горячим потом. Четверо вертунов бегают, крутят бревенчатую звезду шатра — карусельный шкилет. Вертуны — самое сердце каруселя. Они отдыха не знают. От утра и до позднего вечера, пока стемнеет, бегут они так друг за дружкой.
Откинув полу шатра, сощурившись после темноты на яркий свет, выглянул оттуда человек, мокрый от натуги, с лицом, налитым тяжелой кровью. До пояса оголенный, с густою черною бородой, стал он на верхней площадке прямо, и длинные руки чуть до колен не достали. Смахнул вертун пот с лица, утерся ладонью, огладил бороду и вздохнул полной грудью.
Во всей фигуре его, в том, как стоял, набыча лохматую голову, что-то ужасающе знакомое Андрею почудилось. Он вытаращил глаза, глядел на вертуна, словно чего-то ждал, прикованный к месту. Вертун был вылитый Лёха Степанов, закадычный Андреев друг, что обретался раньше в команде живописной науки у Матвеева. Вместе они писали картины и "эмблематы" для триумфальных ворот, которые к пришествию императрицы были поставлены на Адмиралтейском острову, на прешпективной дороге. А сколько пота с них сошло при разных других живописных работах и у написания икон в святую церковь праведного Симеона Богоприимца и святыя Анны Пророчицы! Дивную церковь поставил русский архитектор Михайло Земцов.
Андрея от неимоверного сходства вертуна с Лёхой под ребро кольнуло, и холод по спине потек. А вертун зыркнул вниз, на толпу, еще раз глубоко втянул в себя воздух, потер грудь кулаком и скользнул взглядом по тому месту, где Матвеев стоял.
В этот миг кто-то толкнул Андрея:
— Слышь, мил друг, табачку не уделишь?
Стоял пред ним порядочно хмельной старик со свернутым набок носом.
— Да нету табачку! — отмахнулся Андрей от него. — Не курю.
А вертун у себя наверху как-то весь замер, окаменел, но тут же и шагнул боком обратно под шатер. Андрей взглянул туда — на площадке никого уж нет. Ошеломленный видением этим, стоял Андрей и все же не спускал глаз с площадки. Ему стало не по себе. В пот бросило. Не каждый день так въявь встречаются те, кого давно в покойниках числят.
Андрей подумал, что в чужом городе все может статься, даже наважденье. Он скрестил пальцы и три раза поплевал, приговаривая: "Свят-свят! Чур меня! Чур меня!"
Теперь, когда вертуна на прежнем месте не было, он уже иначе стоял перед глазами художника. То была теперь персона в картине, мираж, облаченный в живую плоть. Андрей прикидывал к призрачной фигуре самый натуральный фон. И вспомнил картину Брейгеля Питера "Иоанн на Патмосе". А что, сделать бы этого вертуна с Лёхиным лицом тож с крыльями! И складывал Матвеев картину в уме, так увлекся, обо всем позабыл. Минута истинного наслаждения для него была, когда полон был диким стремленьем души, подымающейся туда, куда никому доступа не было из земных.
Кабы знал Андрей, кабы ведал! Ах ты господи, святая воля! Кто был смутно виденный силуэт на московском небе, кто состоял вертуном при калужском веселом каруселе?
Людей на земле эвон сколько, пройти негде. Так и кажется, один человек уйдет — ничего не изменится. Ан нет, ушел человек — и дыра образовалась. И никто-никтошеньки его не заменит ни в жизнь. Вот не стало Лёхи рядом — и пусто. И чем дальше, тем больше пустоты. И никем дыра та проклятая не заполняется. Хоть лопни! И кто скажет, как надо жить? Любой ошибется. Почему-то всегда люди одни и те же ошибки вершат. Думаешь, голова? Думай! Дум много, голова одна…
Зрелище каруселя, возбудившее в Андрее поначалу неописуемый восторг, привело его теперь, после встречи с вертуном, похожим на старого друга, в печаль и смятенье. Душевное опьянение улетучилось незнамо куда, взгляд потух. Даже лицо у художника спало, и под глазами вышли синие круги. Андрей не знал, что ему делать. Есть? Не тянуло, значит, сыт. Уходить? Было некуда, незачем, да и не хотелось. Андрей создан был живописцем, но когда краски меркли, жизнь становилась мелкой и ненужной. Белое в белом, серое в сером, белое в сером — загадки нет… Хотелось выть.
Как не стало Лёхи, так что-то большое от жизни отпало. Такой мастер был, а сгинул нипочем, зря. Как в воду канул. Город весь тогда перерыли, кабаки обшарили — не нашли. В толк не могли взять, куда подевался, не иголка же. Так и осталось по сию пору загадкой — ушел из дому и растаял, как дух. Был человек и бесследно исчез.
Ну, нарывался он, это было. Особливо по пьяному делу. Сколько раз выручать его приходилось из всевозможных историй. Лез Лёха на рожон, во всем меру переходил, ввязывался в драки. Живописцы говорили Матвееву: "Гляди, Андрей, хорошим Лёха не кончит, нарвется где-либо на пулю или нож, приглядывать за ним надо бы. Как бы худа не вышло…"
Да где там приглянешь? На себя оборотиться некогда. Живописная команда, заказы, дети, дом, жена, ученики — все на нем. Постоянные срочности у всяких ея императорского величества живописных дел. Как пришел Лёха в живописную команду к Матвееву, положили ему получать шестьдесят рублев в год и двадцать пять юфтей муки и овса. А через два года добился Андрей для Лёхи нового оклада — в полтораста рублей.
Канцелярия от строений поручила тогда Матвееву и архитекторам Трезини и Земцову освидетельствовать художество Степанова, как живописное, так и в золочении, при которых он обретался.
Андрей Матвеев и архитекторы Трезини и Земцов донесли в Канцелярию от строений, что Лексей Степанов "в живописной работе и в заданных ему гисториях, как божественных, так светских, за обыкновение справлять может без нужды, в золотарном же как на полюмент золотом и серебром и поталью преизрядно превзошел, и золочение его явилось лучше иноземческого, как доброму и искусному мастеру надлежит". И Лёха стал получать новый оклад, но пить не бросил.
Раз, после сильного запоя, в смертельной тоске в петлю полез. Еле отходили его тесть да жена…
Однако ж и после того был Лёха полон смятенья. Большего, чем имел, жаждал он, что ли? Места не мог себе найти. И что ему нужно было? Живи да трудись. Или хотел лучшею кистью России прослыть, славу первого живописца снискать, первенство его чтоб признали? Кто его знает…
Такие, как Лёха, всегда себя до предела доводят. Однажды он сознался Андрею:
— Мне цыганка нагадала, что умру молодым от пули. Я спросил ее: "А что, войне быть?" — "Нет, говорит, войны не будет, а только умрешь от пули, так карта показывает…"
Жил он, казнил сердце свое, ждал смерти за самому неведомые грехи. А после и сгинул. И по сию пору больно было Андрею. Сколько они всего переделали вместе! Иконы писали, картины малевали, опочивальню государыне разделывали, модели и рисунки сочиняли. Всего не перечтешь. И разом все оборвалось. А ведь редкий был человек и живописец был удивительный. Да что кому надо! И дела до этого никому не было… Только Андрей сам не свой ходил да живописных художеств мастер Иван Яковлев сын Вишняков сокрушался…
Не мог поверить себе Андрей, что мужик, похожий на друга пропавшего, был воистину Лёха Степанов. Жив-живехонек, хотя без малого семь годов в неживых числился. Только сам Лёха и знал, как жил эти годы. Как мыкался. Чего только не испытал в бродягах! И послушником в монастыре был, и кузнецом работал, и камень грузил, и землю носил, а все для того только, чтоб лакейство придворное из себя вытравить. Так и сяк мотало его, а ныне к Москве прибило. Нарезал Лёха фигур знатных деревянных у калужского каруселя, расписал их, вывески исполнил. Как до художества любимого дорвался — за уши не оторвать. Дивился тому хозяин каруселя, не приходилось ему видеть такое доброе и искусное мастерство, что прямо на глазах его нарождалось. Так возрадовался хозяин, что против учиненного договора двойной платы не пожалел. А Лёха все пропил, прогулял, да еще и вдобавок буянство у каруселя устроил. И стал тогда в вертуны проситься. А хозяину что? Не устала кобыла, что до Киева сходила, так и верти себе на здоровье!
В живописной команде Матвеев с Лёхой крепко сдружился. Обретались они у одних живописных работ, зависимы были от двора полностью, были бедны одинаково, и в силу этого нужно было крутиться волчком. Матвеев относился к ремеслу своему с почтеньем. Когда требовали, старательно накладывал румяна, терпеливо выполнял прихоти, следовал шаблонам и прописям иноземным. Он знал твердо: есть ремесло и есть художество настоящею ценою. И то, и другое чтилось. Только первому больше предпочтенья.
Андрей выполнял требуемое усердно и хорошо. Крепок был духом. А Лёха бесился, куролесил, пил, выказывал нерачение и непослушанье. Матвеев покрывал его, сколько мог, выгораживал, но иногда терпенье Канцелярии от строений истощалось, и она приказывала: "Означенного живописца Лексея Степанова за вышеописанное пианство близ месяца в кузнечной и прочей работе содержать, а в каком порядке и поступках он находиться будет, в Канцелярию рапортовать".
Любил Лёха приговаривать: землица российская сложная, трудная, а жизнь наша тоскливая, нудная. Доходил до отчаяния, взбрыкивая, и убеждал надрывно себя, что не живописный он мастер, а обер-лакей при дворе. Не мог он, как Андрей, любой заказ старательно работать. Матвееву дай роспись — сделает бессловесно, плафоны распишет в срок, украшение панелей во дворцах, золочение, персон знатных — извольте, расписание внутри триумфальных ворот на Троицкой пристани и в церкви святых апостолов Петра и Павла — готово!
Более всего любил Андрей портреты списывать, его хлебом не корми, дай только до персоны дорваться, тут уж он все свое прилежание и умение употребит и живописную науку со всем тщанием
применить сумеет. Ему и вольготно, и радостно. Одна забота — достигнуть божественного изображенья души человеческой.
Матвеев все сносил, бывали и у него буйства, но никто их не видел. Сколько раз, придя к себе в мастерскую, сбрасывал Матвеев на пол парадный камзол, срывал с головы парик и топтал их и тер ногами в бессильной злобе. Потом приходил в себя от такого азарта, выпивал чарку водки и становился с бледным, изможденным лицом к мольберту.
Проходило немного времени — Андрей обо всем забывал, начинал напевать себе под нос и насвистывать, а то и вовсе смеялся счастливым смехом. Глядел на свою "Аллегорию живописи", на которой сзади было подписано: "Тщанием Андрея Матвеева в 1725 году". Дивился, сколько доброты было в этой его старой ученической картине. Да и хорошо, что была в нем самом доброта, потому и в картины переходила.
Давно известно: злоба художеству плохая попутчица!
Для Лёхи же толчки и приказы непосильны были, нагрузки художества он не снес, плюнул себе под ноги и сбежал ото всего разом. От дома, от двора, от семьи, от живописи. А почему его жизнь такой вывих дала — и сам того не знал.
* * *
…Клонился день к вечеру, народу вроде поменее у кару-селя стало, видать, скоро и последние разойдутся. Смотрел Матвеев на мелькание круга карусельного, и снова цвет в его глаза вернулся.
Смотрел Андрей, как радостно, будто сорвавшаяся стая борзых, мчались краски вдогонку друг дружке: красный бакан флорентийский за желтым кадмием, ярь зеленая за берлинской, белила за фиолетовой камедью, кубовая синь за вохрой, голубец за александрийской черной. Живописцу, в эту игру красочную вступившему снова, хорошо на душе стало. Одно лекарство было у него от всех напастей и хворостей — видеть цвет, жить им, составлять и раскладывать. Верно говорят: живописцы изъясняются детским языком природы и истины. Ребячье из истинного художника до самой смерти не выходит.
В мечты Андрея заглянуть, так там давным-давно готова была композиция с застывшими фигурами и карусельной трепетной игрой. Немного мечту прояснить, выверить — и в холст можно. Никому за Матвеева той картины не написать. В нем одном только и жива она. Напишет ее — так и станет она жить. А не напишет — так в нем и умрет она навсегда. В том и секрет художества вечный…
Под конец каруселя вертунам жаркая работа. Силы уж на исходе. А Лёха, как Матвеева увидел, совсем скис. Голова кругом, в глазах красный туман, ноги волочатся, словно из свинца их отлили.
Щурит глаза Матвеев, все не устает всматриваться. Лицо у него зарумянилось, нежное, молодое, широкоскулое. Камзол новенький, в глазах уверенность мастера. Живет он ныне прихотливой и своевольной жизнью художника, которая ни на миг не отпускает от себя, самим его существом и дыханием распоряжается. Защемило в Андрее сердце, как дружку Лёху вспомнил. Самого дорогого, душевного. Да ведь не вернешь его. Ты скажи, как вертун-то на Аёху похож! Прямо вылитый. Андрей хотел было пойти и подняться к ним туда, еще поглядеть на того вертуна, но раздумал. Быть же того не может, чтобы с того свету да сразу в карусельные вертуны! А все же что-то не отпускало его. Глаза нет-нет да и упрутся туда, вверх, где стоял на площадке тот бородатый человек.
"Дождусь конца каруселя, еще разок взгляну, — решил Андрей. — А что, если вертун и есть всамделишный Лёха? — промелькнула мысль. — Вот бы было!" Эх, коли б свидеться им еще разок на этом свете довелось! Поговорить бы, душу отвести, оттянуть хоть маленько…
Истинно — слеп человек! Истинно — живет, ничего не зная. А хорошо бы жить и знать, как жить! Как силы рассчитать. Но никем сие не прозревается.
Настоящее переходит прямо на глазах в прошедшее, точка раздела бестелесная, не пощупаешь.
Вспомнился Андрею один древний стих покаянен на умиление души: "Аще б ведал человек житие и бытие века своего, взошел бы на высоки горы, посмотрел бы вниз по земле, увидел бы свой гроб, вечный дом, а тело бы свое поработил, а душу свою б спасал!" Да, спасешь тут…
Никто нас наставленьем не снабдил. Одному радость и счастье в службе и чинах, в преуспеянии, другому — в семье и детях, третьему — в вине и любовных утехах. А у художника бедного есть только кисть. В ней вся его умолченная жизнь. Ударишь головой и задницей, забьешься, а выхода нет.
Художества игра пожизненная, вязкая, повседневная, не дающая облегченья. А он вот, Андрей, больше жизни художество любит. Одно только оно бальзамом душу облекает. Оттого, видно, невозвратимые утраты самому себе причиняешь. Уж так горько бывает: тоска, тоска и тоска. Все безрадостно. А все оттого, что живописцу вольность нужна, как поэту и сумасшедшему! Вертит-крутит нас судьба и так и сяк. Волочит. Один щит верный — художество. Воистину блажен есть художник на земле. Ему скажи: "Потщись, брат, о душе своей!" — он поймет.
Изо всех человеков, думал Матвеев, художники более других, пожалуй, на все согласны, дабы удержать себя в спасительной близости к истине, к богу, к горним палатам. Художник — тот же распятый Христос, Джордано Бруно на костре, Галилео Галилей в темнице. И душа его, словно врата небесные, отверста. Ангелы проходят туда, проникая в сокровенные таинства. На всякой доброй картине сияет чистый отсвет сердечного благочестия. Нет, ни черта там не сияет. Вон Гришка Мусикийский, отменный живописный и финифтяный мастер, каких только картин не написал — и тебе "Благородие", и "Добродетель", и "Великодушие", и "Милость", — а сам-то человечишко злой, черствый, недобрый, жадный. Но дела до этого никому и никакого…
Глядит Андрей, вертун давешний стоит к нему вполоборота невдалеке, квас пьет.
"Подойду, пожалуй, поближе, расспрошу", — решил Андрей.
Подошел к вертуну, взял его за плечо:
— Лёха?!
Тот вздрогнул, обернулся и молчит. Смотрит Лёха радостно и растерянно на друга своего, придворного живописца Андрея Матвеева, с которым он вместе когда-то последнюю денежку на хлеб и квас делил, а после золотых херувимов в Летнем и Зимнем дворцах с преизрядным тщательством писал… Смотрел-смотрел и притиснул его к себе отчаянно и грубо, бородищей к щеке прижался, целует.
— Видишь, Андрюха, я жив и здоров!
— Да, вижу, вижу… — захлебывается Андрей.
— Камзольчик у тебя тридцатирублевый, гарнитуровый, — говорит Лёха, — живешь, значит, при дворе сытно. Так и нечего струны ладить, на кружку полынной у тебя найдется! Пойдем сразу и опрокинем. А там и поговорим.
И крикнул наверх:
— Эй, Логин, подержись-ка за мой поручень, по делу отлучусь!
И пошли они, старые дружки, сели в кабаке. Кружечная продажа крепкого питья идет вразмах.
— Будем здоровы! — Алексей говорит. — Хороша водочка, степью пахнет.
Он одним духом опорожняет кружку и с нежностью глядит на Андрея. Тот пьет медленно, сосредоточенно.
— Ну как там, в Петербурге у нас? Как жена моя, детки? Как живописная команда? Что сейчас работаешь? Скажи скорей, милый! — торопит Матвеева Лёха.
Волна благодарности в душе Лёхиной подымается, когда узнает, что Матвеев обоих его мальчишек-сынков к себе в обученье взял. Не дал детушкам сиротать пойти, чтоб их за пропащих собак считали.
Лёха про себя рассказывает, о лишеньях своих и муках:
— Ты мне, Андрюша, скажи, неужель мне, вроде бы и не кривому, и не бесталанному, наученному за границей живописной науке и высокому художеству, так и загнуться ни за понюх табаку?
— А ты возвращайся в команду живописную!
— Эх, команда, команда! — беззлобно Лёха говорит. — Сколько мы с тобой, Матвеев, разделали купно, кисть в кисть с преизрядным и искусным мастерством. Ни пред кем не осрамились, ни перед Караваккой, ни перед двором. Чрез то, видать, и были угодны в службе. Слыхал я, Андрей, что Никитины на дыбу подняты. Правда ли? Может ли быть лучшим из лучших мука в награду?
— Правда, Лёха. При Петре на руках носили, при Анне ногами топчут… Жестокость и казни все больше в ходу!
— А я думал — врут. Ведь такого мастера, как Иван Никитин, на Руси больше нету.
— Да, Лёха, такого нет и не будет. Эх, ироды, кровососы!
— Что же вышло-то с ним, Андрюха?
— Иеромонах Маркел Родышевский поносил везде — и открыто, и тайно — Прокоповича. Ну, а Иван Никитич взял у него тетрадки его почитать. Ну, донесли на него, как водится, приписали лютеранскую ересь. Смертно били плетьми. А потом под крепким караулом и в Сибирь. На вечное житье. Пропала бедная головушка живописная. Коли не будет милосердного манифесту, то и навсегда!
Слушает Лёха Андрея и вспоминает большую картину "Беседа Христова с самаритянкою при кладезе", которую они с Андреем больше года работали. Обо всем позабыли, когда писали, друг друга зажигали вымыслами. Художество оба больше жизни ставили. Живота не щадили ради любимого дела. "А прибыль от всего какая?" — горько думал Лёха. И говорит Андрею, будто самому себе:
— А прибыль какая от всей нашей маеты?
Андрей разводит руками, улыбается:
— Прибыль самая драгоценная! Ого!
А Лёха добавляет несколько слов, тяжелых, липких, как клейстер. Сказал — как бревно топором стесал. Да еще и показал, где она, эта самая прибыль ихняя.
Андрей ему ласково:
— Не лай матерно, Лёха, не ровен час, карусель рухнет!
— Не рухнет! Лишь бы мы с тобой не рухнули.
После второй полынной, когда уже кислыми щами заели и розовой семужкой и когда тепло по крови побежало и в животе шибко жарко стало, тут Матвеев подумал, на Лёху глядя и почти с завистью: "А ведь есть и своя правдица в том, что бросил Лексей все к чертовой матери, есть!" И самому Андрею порой так уж тошно становилось, словно он в трясине увяз и болотный мшистый дух вдыхает. Счастье его, что умел он званье свое с достоинством нести и ремесло непостыдно исполнять.
Успехи Матвеева при дворе были ничтожны, а в художестве он толк знал, первенствовал и этим вызывал у некоторых собратьев немалую зависть, как это обыкновенно бывает. Люди мелкие и злобные всегда находят повод наносить человеку выше себя неприятности, пакостить. Гришка Мусикийский по этой части более иных старался, где мог, там и чернил Андрея Матвеева, Лёху Степанова, Ивана Одольского. Всех подряд жалил. Ради чего подличал, спросил бы у него кто, так он и сам не знал.
"Эх, Лёха, Лёха, — думал Матвеев, — текла твоя жизнь рядом с моею спокойным руслом, да и ухнула. Отчего? Кто знает… Судьба, наверно. Всякому дан его удел счастья, соразмерный способности жить и переживать".
Вспомнилось, как Лёха всех поразил однажды в команде живописной: стал писать дома индиго-синими, дерева — желтой, а Неву так и совсем срисовал карминно-красной.
Как увидели это, тут и пошло-поехало. Белая горячка у малого, решили. Донос во дворец был написан по всей форме. Дескать, допился Степанов, вздумал воду мутить. Прижать его, сукина сына, осудить как зловредного.
Свои же братья художники постарались. Нашлись и тут помощники Тайной канцелярии. Добродеи бесплатные.
Призвали только иностранных мастеров Лёху освидетельствовать и дать заключение о написанных им картинах. Побежал Андрей к тому, к другому. Те и дали заключение: мастер болен, переутомился.
Если б не заступничество Андрея и архитекта Трезини, быть бы Лёхе в каторге или прикованным за ногу краскотером…
* * *
А музыка у каруселя играет-наигрывает. Предерзкая, пречудная, изрядно громкая. Из германского органа льется. Тут и тверские игрецы, с Ветлуги-реки гудошники и рожечники из Владимира. Знай себе наяривают, накаляют. Трубочки поют, жалейки из коровьего рога и бересты поплакивают, домры гудят.
И народу к концу поболее как будто стало. Музыка струнная и духовая будоражит каждого: мужик озорничает, скверные песни говорит, нет-нет и ухватит бабенку соседствующую за нежную мякотку. А в бабе душа взыгрывает по-своему, млеет она. На стенку готова взлезть.
На то и праздник!
Кругом каруселя харчевни, буфетные. Разносчики мечутся, торговлишка бойко идет. Сбитень, браги, пивы хмельные, вина всевозможные, свои и заморские, зеленые и красные, кислые и сладкия. Гуляй-бражничай, народ, на доброе здоровье! Один раз жить всем нам на этом свете, а на том свете не наливают.
Перед взором Андрея чудо: живой Лёха сидит, бывший живописец, ныне вольный вертун, голова седая, на лице складки резкие, оставленные голодом, холодом, скитанием, похмельем.
У Лексея, когда Матвеева разглядел и узнал, первое желание было — бежать без оглядки туда, к нему, с ним! После себя остановил: "Для них я умер давно, зачем отрезанное к голове сызнова пришивать? Нынче, верно, есть Андрюхе-то чем повеличаться: знаком с сильными мира сего вельможами, знатен в художестве, у родовых князей частый гость. Да только Андрей не из того десятка, коим слава мозги в убыток вводит. А может, изменился? Нет, Андрей на приманку нейдет".
О себе Лёха думал с жалостью впервые. Стал он заместо художника вертун, скудной, бедный, пропившийся вдрызг.
Прежде, когда в нем душа начинала болеть, так себя успокаивал: хватит унижений, вдосталь наелся холуйских хлебов. А теперь, как Андрея Матвеева увидал в полном блеске, засосало его сердце по большому художеству, по жизни прежней. Проснулось в нем прошлое, долго и смертно подавляемое. Он бы многое отдал, чтоб художество его под руку не толкали. Но нужно было жить, как все. А он не мог. Казалось ему, что внутренности в нем перегорели от вечного нижайшего угодничества. Говорил он Андрею:
— Хочу сделать так хоть разок, как сам разумею, а нельзя!
— Так и не делай, — говорил Андрей.
— А коли хочется?
— Ну, так и делай!
— А нельзя! — отвечал Лёха. — Вздернут!
От такой затопырки и журбы-печали только водкой и
спасаешься, выпьешь — свободен, как теплый ветер, куда хочешь, туда и вей! Для Лёхи так оно и вышло: повеял ему ветерок из трактира в погребок. Теперь-то нечего рвать на своем заду волоса! Поздно. Смотрел Лёха на Андрея и думал еще о том, что и в жене другу пощастило. Орина у Андрея такая — все снесет. Он будет ноги мыть, а она ту воду выпьет. Истинно сказано: жена мужу пластырь, а он ей пастырь. А Лёхина жена капризна была, норовиста и зла. Может, это и была главная заноза, что вошла ему в живое тело? Ни стань с ней, ни ляжь. И то не так, и это нехорошо. Верно, потому и сложилось в народе издавна так: лучше, мол, в пустыне со зверьми жити, нежели со злою женой. Бог с ней!
Однова только пожалился Лёха на жену свою Матвееву:
— Уж так мне с ней тяжко бывает, сил нет. Да никак она у меня еще и погуливает! Прибью, как поймаю.
Андрей отшутился тогда:
— И ты, друг, не подарок! А жена не лужа, хватит и для мужа. Все равно всю не вымакаешь!..
Теперь Андрей думал с запоздалыми угрызеньями, что мог бы во всех бедах получше другу тогда пособить. Тот бы, может, и не сломался. Да только знал Матвеев одно: как ни помогай, а человек сам себе лучший целитель и лучший помощник.
…А Лёха, поглядеть на него, двужильный. Телом крепок, и вроде здоровье его не сильно потревожено ни водкой, ни переменой судьбы. Видно по нему, что всякая испитая чаша, даже горькая, пошла его душе на пользу. Если он попятился в жизни, как речной рак, то найдет силы и остановиться. Раки в реке перешепнутся и соснут, а люди стоящие перетерпятся и взойдут. И Лёха встанет, найдет способ переменить жизнь к лучшему.
Новая личина Лёхина ушибла Матвеева больно. И падением своим до вертуна карусельного удивил он его более, нежели до того удивлял свежестью дарованья. Истинным талантам всегда удел тяжелый, мнет их и корежит, а люди ничтожные, стень всякая, возвышаются в полной безопасности. Она на твердой опоре стоит! Ее не тронь!
Поступка друга не могши понять до конца даже и теперь, после его рассказа, Матвеев только и сказал ему:
— Ты, Лексей, помни: нельзя художником быть и перестать делать добро художеством своим!.. Это я во как знаю!
Лёха сидел, насупившись, низко опустив голову, и не смотрел на Андрея. Он совсем забылся. Матвеев захмелел и бессмысленно вращал свои сверкающие глаза.
…А в каруселе прокатиться напоследок желал каждый. Горазд был особливо торговый люд, что всю жизнь проводил на ногах. Да и кого тут только не было! Пекаря муромских калачей с коробами на боку, квасницы из кислощевого заведения, пышечницы, круглые и мягкие, как и товар их, кустари с лентами и пуговками, вяземские и городецкие пряничники, печеночники и сердечники, что могли на грош отпустить всяких воловьих внутренностей с солью. Тут сновали и темные дельцы, и скоморохи, и разгульные девки, и гармонисты, и шарманщики. Всем приспела охота провести время весело. Карусель каждому давал приют, а многим и заработок.
Самокаты такого рода, слышно, по всей Москве престольной понастроили. У Девичьего поля, на Воробьевских горах, в Сокольниках. А лучше всех, говорят, тут, у Калужской. Веселей, проще народ. Простолюдины знают цену жизни и радости.
Вон орут как, не щадя глоток своих:
— А ну, кто поглядеть горазд, как мадам в кринолине на конька взлезла да перекувыркнулась и что ейный сосед потому увидал!..
— А пирожки сычужныя, коврижки сладкия!
— А вот медова с имбирем, даром денег не берем!
— А покурить через воду славного заморского табачку!
Рядом с калужским каруселем балаган. Потешные представленья там. За особую плату народец редкостный показывается. Понавезли уродцев со всего бела света. Сюда пришел — так и гуляй вволю.
Ничего не скажешь, всем хорош карусель, колесо счастья, что бежит себе и бежит в пустоте!
А рядом лалакают душа в душу два российских живописца между собой, и никто из них, понятно, не знает: Матвееву всего один год жития его остался, а Лексей, узнав об такой его участи горькой, бросит пьянство и карусельное верченье, бросит, вернется в Санкт-Петербург и, превозмогши себя, глубоко в сердце утопит прошлые терзания свои. И снова будет славен, именит живописный мастер Степанов.
И сто лет пройдет, и двести годов пролетит, но волны забвения обтекут обоих дружков. Картины и жизни их перешагнут время.
Но вот какое доношение отправлено в Академию наук:
"Сего генваря 28 дня во время бывшего фейерверка стояли мы, нижайшие, на Питербургской стороне против того фейерверка, у новостроящихся полат, четыре человека — все живописцы, и из нас одного — живописного мастера Лексея Степанова — ракетою голову прошибло и руку переломило. И поели мы, нижайшие, его, Степанова, привезли домой, и он по полуночи в шестом часу волею божиею умер. А что по смерти его осталось, о том при сем прилагаем реестр. И о вышеописанном Академия наук что соблаговолит?"
"По указу Ея Императорского Величества в Академии наук слушав поданного сего 29 января доношения от присланных из команды живописной мастеров об Лексее Степанове определено:
Оного живописца отдать для анатомии доктору и профессору господину Дувернею, а что по анатомии явится, о том подать в правительствующий Сенат для известия доношение".
Говорила Лёхе гадалка, что от пули умрет. Так и вышло.
Вот и не верь после этого предсказаньям цыганским! В воду они глядят, что ли?
Глава шестая
Магия художества

о свою жизнь Матвеев был верен себе и своему ремеслу. Он был художник. А больше ничего не умел.
То, что он мог, он делал по возможности хорошо. Знал, чего ради ему жить: усердно изучал природу, перенимал лучшее, что было у других. Его влек чистый холст, он набрасывался на него с жаром, потому что ему было что сказать. Матвееву редко удавалось сохранить хладнокровие в работе, он опьянялся ею.
Художество было магией, доводившей почти до потери рассудка. Какое счастье, бывало, испытывал Андрей, когда входил к себе в мастерскую, закрывал дверь, оставался один. Один! Никакими деньгами нельзя оплатить это счастье художника. Умен он или глуп, горяч или холоден, пишет ли по привычке бесстрастно или задыхается от восторга, добрый он человек или скряга — все достоинство художника в том, что он хочет сказать людям и как владеет ремеслом.
Андрей приходил к себе, брал в руки веник, прибирался, заметал, чтобы настроиться на работу. У чистого холста он оживал и чувствовал себя как тигр перед еще более страшным зверем. Порой он ходил вокруг мольберта с кистью, воспламеняясь и злясь оттого, что никак не мог заставить свою руку прикоснуться к холсту.
Белый холст слепил и горел, как фонарь в ночи. И почему это так бывает, думал Матвеев, что человек идет один в ночной мгле, держа фонарь в руке? Человек одинок и только собранностью воли и силой света из фонаря, которым сам себе светит, преодолевает страх этого одиночества. Страх перед жизнью, перед тем неизведанным, что ждет его. А у другого вместо фонаря в руке кисть живописца. Она одна фонарит ему в темноте бытия. Он беседует сам с собой. И все чувства, и весь белый свет сжаты в нем одним усилием. Верно сказал кто-то из мучеников нашего цеха, что художество — посох странника, а не костыль калеки.
Для художника все собирается в одном касании. Обо всем забываешь и видишь только плоть холста. Тронешь кистью, мазнешь, отважишься-таки. И вера ярко возгорается в твоем фонаре. Получаешь высшую на земле власть. Самую чудную, самую добрую. Начинаешь говорить красками о самом себе. О том, что ты понял в жизни. Говоришь и выговариваешься весь, и становишься выше себя.
И эта власть художества, власть заново рожденного ужасно честна, предельно проста. Она единственная из всех властей, которая заключает в себе благо.
Андрей Матвеев привык жить открыто и незащищенно. Он владел ремеслом своим искусно, удивляя собратьев своих — и русских, и чужеземных. В работе у него бывали сомнения, но редко впадал он в малодушие. А уж в притворство — никогда!
Для двора такая жизнь, не знавшая притворства, стоила немного. Приносишь пользу — и ладно. А нет тебя — другие сыщутся. Вспомнил Андрей, как однажды кабинет-секретарь Макаров приказал ему срочно прибыть в Петергоф. Нужно было починить в деревянных покоях поврежденные картины.
Еле подавил он в себе мутную злобу, что снова отрывают от работы в мастерской. Войдя в один из кабинетов, отделанных на английский манер дубом, он засмотрелся на богато декорированный потолок, разглядывал лепку и роспись плафона, выполненную, как он знал, художником французской нации Филиппом Пильманом. В соседней комнате дверь была распахнута настежь. Там и приключилась с Андреем такая странность: войдя, увидел он — навстречу ему из темноты идет человек наинеприятнейший, с маленькими злыми глазами. Он был похож на него, но совсем-совсем другой. Андрей закрыл лицо руками, тот сделал то же самое, дернулся Андрей в сторону — и тот туда ж, поворотил Андрей в другую — и тот поворотил. Тогда Андрей резко рванулся вперед и больно ушибся. Зеркало, выписанное из Баварии и занимавшее всю стену, очередная прихоть императрицы Анны Иоанновны…
Потирая лоб, смотрел Матвеев на того, что стоял рядом, придирчиво: ну и поистрепала его нелегкая, из-под сбившегося парика выглядывала седая прядь, бледное лицо застыло в неподвижности, только правая щека подергивалась непроизвольно. А еще видел Андрей около себя человека, по виду хорошего, знавшего и ту любовь, что как огонь, и горюшка по ноздри хлебнувшего. Такой и сильному сдерэит, и слабого, притесняемого не оставит без защиты, а чрез то и сам опирается на дружеское плечо, спасаясь и зная, что не помогающий ближнему не может и сам ожидать избавленья.
Лицо в зеркале расплывалось, а Матвеев приходил к выводу: вот и все, можно ставить последний мазок и расписаться в нижнем правом углу прожитой картины. А все же, а все же, ваше державное величество, чаша жизни не совсем исчерпана, и может быть вполне, что жизнь только еще начинается. И то было робкое упованье, едва наметившаяся надежда, которая и есть первейшее благо для всякого живого человека. Тем паче для художника.
А художник всегда прав.
Вернувшись из Москвы, Матвеев в два сеанса написал портрет генерала Семена Салтыкова. Давно к нему приглядывался, нравился ему этот сановник, а чем — и сказать бы не смог. Просто казался славным человеком.
Дома у них принят был Матвеев ласково, душевно. Стены кабинета хозяина были украшены картинами, гравюрами, картами. Все свободное пространство занимали книги.
Для работы Матвееву отвели просторную камору. Приятно было видеть Андрею внимание к своему ремеслу.
В первый сеанс он сделал беглую пропись прямо на холсте, вечером без натуры написал костюм, а на другой день окончательно написал лицо. Вышло неплохо. Все собрались в гостиной смотреть.
— Вот оно, художество русское, — сказал генерал, удовлетворенно отдуваясь, — просто, ясно, четко. Благодарствую, Матвеев, благодарствую, а сейчас ужинать!
Салтыков был чадолюбив, но Андрей подметил, что более всего он внимателен к себе самому. Человек умный, любящий жить широко и весело, Семен Андреевич Салтыков, генерал-аншеф и бывший московский губернатор, сочетал в себе струи старинных дворянских родов. У подножия неохватного толщиной родословного древа Салтыковых стоял Михаил Прушапин — "муж честен из прусс".
Императрица Анна Иоанновна благоволила к Салтыковым и оказывала им всяческие одобрения.
Однажды на именины генерал-губернатор Салтыков получил от императрицы вместо традиционной золотой табакерки зараз тысячу рублев.
Само собой Салтыкову предрешен был от знатного рода, связей и заслуг поступательный ход жизни и богатства. Однако такого обильно-щедрого подарка от императрицы не ждал и он, а потому написал Семен Андреич Бирону в письме: "Истинно с такой радости и радуюсь, и плачу".
Салтыков всегда имел доступ к особе императрицы. Он управлял дворцовой канцелярией, приводил к присяге придворных чинов, был главным смотрителем дворцовых зданий и церквей, заведовал аудиенциями иноземцев, вершил правосудие, был верен, секретен, истинен.
Матвеев ничего этого не знал. Да и на что ему знать? Семена Андреевича он чувствовал так, как видел. В распоряжении его были краски, и ему нужно было сказать правду. То и сделал.
А после принялся и за следующий портрет.
Когда кабинет-министр Волынский был арестован по обвинению в попытке свержения царствующей особы, все лица, с которыми он был в сношении, попали на заметку. В числе подозреваемых оказался и князь Яков Петрович Шаховской: ему Волынский благотворительствовал.
Нестерпимое время настало для Шаховского. Кабинетные министры граф Остерман и князь Черкасский стали подчеркнуто холодны с ним, его светлость герцог Бирон имел в разговоре вид весьма суровый. А это совсем дурной был знак, зловещий. При дворе не было человека, чтоб от нерасположения Бирона не ожидал себе несчастья.
Сидел Шаховской в своем доме, в тепле и уюте, а уже чудились ему какие-то вопли, будто кого-то пытали, становилось душно, хотелось куда-нибудь выскочить, оторваться от мрачных дум. Струхнул не на шутку князь. Шею теснило. Узелок затягивался. Что могло ждать его? Да самое худшее! Пытка, смрадный подвал Тайной канцелярии и если не смерть, то ссылка в окоченелую Сибирь. Таковое уразумение поддержало его решимость позвать к себе живописца, чтоб оставить на вечную память потомкам образ своей персоны.
Вызвал он к себе Андрея Матвеева и заказал ему свой портрет. От многих об искусстве Матвеева наслышан был.
Одутловатое и бледное лицо князя привлекло Андрея своей растерянностью. Все лишнее с него спало, порастряслось. Чувство захлопнутой клетки отрезвило Шаховского.
Матвееву понравились выразительные карие глаза, высоко очерченные брови. Живописец решил изобразить князя в парике и камзоле, расшитом на отворотах золотыми позументами, в ленте чрез правое плечо, со звездой и орденом на груди. А сзади фоном портрета будут книги на полках, что виднелись за приподнятою занавесью.
Писать такого человека было удовольствием. Заказной портрет, но не парадный. Нужды нет румяна накладывать, а потому писал Матвеев как хотел, без прикрас. Добиться хотел, чтоб фигура и фон составляли нераздельное целое.
Шаховской, зная Матвеева, как петровского заграничного пенсионера, отнесся к нему благосклонно, добродушно. Он видел перед собой человека искусного и скромного, рассказывал ему случаи из своей жизни и видел, что слушает Матвеев с живым любопытством.
Князю немалое удовольствие было провести несколько часов в беседе, выйти из своего затруднения, дать отдых душе.
Когда Матвеев пришел на второй сеанс, князь встретил его еще более дружески.
— Что-то бледен чрезмерно ты, братец, не захворал ли? — приблизив к художнику лицо, участливо и ласково спросил князь у Андрея.
Матвеева это тронуло. Впервые из вельмож кто-то интересовался лично им.
— Благодарствую, ваша светлость. За участие ваше во мне затрудняюсь слова найти для изъявления признательности.
Матвеев почтительно склонил голову и продолжал, глядя исподлобья:
— И впрямь в груди колет, поустал я, ваша светлость, должностью, на себя предпринятой в команде живописной.
— Ну, я тебя счастливее, мой друг. Богу благодарение, ни один из моих членов не приносит мне болезненного чувства. И если б не слабость глаз моих и не беспокойственная бережливость, к которой я для них часто принужденным бываю, то смело сказать бы мог, что я совершенно здоров и свеж. Я тебя понимаю: художество дело заковыристое, дрязгу хватает, вы всегда у всех на виду. А мы теперь не принимаем никого и из круга своего не выходим… Не стану от тебя скрывать, при дворе дали мне причину терять мою надежду о благополучиях, можно ожидать самого худшего.
— Нельзя ни о чем судить заранее, ваша светлость, — ответил Матвеев из-за мольберта. — На все воля господня, как повернет, может, и пронесет, все мы, человеки, ожидаем покорно своих жребиев. Один италианский моляр сказал хорошо: "Господи, помоги мне, потому что я сам себе помогаю!"
— Сказано мудро, — повелел князь, — а только ты сам познать можешь, в каком я положении оказался ныне.
— К прискорбию своему, разделяю тревогу вашу.
Андрей понизил голос, ибо Бироновы уши торчали нынче во всех углах. Слежка, доносы, аресты все усиливались.
— Время теперь смутное, — сказал Андрей тихо, — с Бироном шутки плохи, не знаешь, чего завтра ждать.
— То-то и оно: нет хуже, нежели быть в неведении о своей участи. В душе страх, ибо закон, нарушаемый блюстителями оного, не имеет святости.
Шаховской горестно вздохнул, уселся поудобнее в кресло, сказал:
— Эх, господь, взял бы ты от нас знание, лишающее нас покоя!
Матвеев сочувственно ему улыбнулся и углубился в работу.
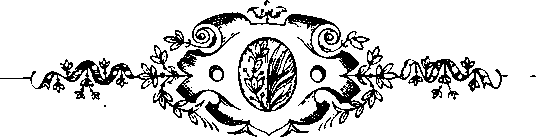
Эпилог


атвеев уже несколько дней жил в Саарском селе.
Утром в его бревенчатый домик врывалась лесная прохлада, запахи земли, ночного дождя, терпкий аромат распаренной, не остывшей за ночь хвои. И было тихо-тихо.
За годы петербургской столичной жизни тишины, пожалуй, больше всего и не хватало Андрею. Он как-то совершенно по-новому, словно в дни детства, прислушивался к ней. Но тишина эта не была глухой.
Лес жил. Его наполнял тихий, осторожный шорох. Просыпались и чистились утренние птахи. Что-то похрустывало. Ползла хвоя. На клочке голой земли высился огромный муравейник. Вверх и вниз по нему сновали большие рыжие муравьи.
Сосны шумели, как море в час затишья и легкого бриза.
Когда-то здесь стояла деревушка Саари-моис, что по-фински означает "Верхняя мыза". Петр побывал в этих местах, и мыза ему очень понравилась за тишину и покой. Он снес старые домишки и возвел на их месте деревянный терем со службами, скотным двором и птичником. А потом преподнес все это милой супруге своей Екатеринушке.
И вот через несколько лет вместо хором лубяных поднялись тут хоромы каменные, а вокруг раскинулся парк. Он был не большой и не густой, но Андрею нравились его вековые корабельные сосны, старые дубы, темные аллеи, прямые и строгие. И воздух стоял здесь густой, смолистый. Видно, не зря Саарское считалось одним из самых здоровых мест в окрестностях Санкт-Петербурга.
Андрей вставал еще затемно и сразу же распахивал окно настежь. Потом умывался, брился, одевался и тихонько выходил в парк. Там он шагал до пригорка, садился на деревянную, росную еще скамью и ждал.
Солнце вставало светлое, чистое, почти прозрачное. От него сразу зарождались светлые, голубоватые тени. Он сидел и ждал. А солнце поднималось все выше и выше. Тени в парке сгущались, обретали плоть, отрывались наконец от земли, от жухлой хвои, и начинали вдруг бродить по парку. А стволы сосен, обращенных на запад, сразу вспыхивали золотым огнем. Тогда он вставал и шел к себе работать.
Светило, щебетало, порхало вокруг Андрея. Вот так было, есть и будет, думал живописец, и через сто лет то же солнце встанет, и птахи запоют то же и так же. И он вспоминал безымянную римскую эпитафию: "Не был, был, больше никогда не будет".
Умели древние изъясняться кратко, гибельно точно!
Андрей приходил к себе в просторную, залитую светом камору, по дороге он уже соображал, что будет писать. И когда брал в руки то кисти, то тряпку, то банки с краской, писал уверенно и твердо. Отдавшись на волю фантазии и воспоминаний, он писал пейзажи со старых своих голландских рисунков. Работалось ему хорошо, в охотку.
А вечером возвращался снова к той же скамье. Но теперь парк представал перед ним совсем иным. Светила луна, и все — деревья, кусты, скамейка, на которой он сидел, и он сам — окрашивалось в потусторонние, призрачные тона — в серебро, бирюзу, перламутр. Так старые мастера, в такой гамме, изображали Гефсиманский сад и моление о чаше.
В Саарское село Матвеев приехал в середине лета. Рожь в ту пору стояла золотая и тяжелая. Яблоки наливались пурпуром и багрянцем. Пошли грибы, и Андрея будил кошачий визг девок. Они спозаранку с лукошками отправлялись в дальний лес по грибы, по ягоды.
А какие хмельные, ароматные, звездные ночи стояли в ту пору в этих местах!
Андрей любил в это время ходить в ночное вместе с мальчишками. Собирались с первой темнотой и шли на опушку небольшой березовой рощицы. Дальше разбегался широкий заливной луг, и мальчишки разжигали костер. Андрей опускался на пень и, неподвижный, отрешенный от всего, сидел, вглядываясь в стреляющее хвоей и дымками пламя.
Где-то в реке плескала рыба, тонко кричала какая-то ночная птица, кто-то быстрый и легкий пробегал рядом, и вовсю квакали и надрывались в канавах лягушки. Андрей невольно поддавался очарованию этих голосов ночи, боялся их нарушить и поэтому так же, как и все, начинал говорить вполголоса. Скоро, однако, дрема смежала ему веки, и наступал тот момент полусна, когда поляна и роща куда-то исчезали и Андрею казалось, что он один несется по небу — мимо Саарского села, града святого Петра и дальше, дальше, в годы юности и мальчишества.
Однажды в таком забытьи он увидел царя. Петр сидел на белом коне в какой-то необычайной золотой одежде или ризах, и от него слепило глаза. Затем он что-то крикнул и дал шпоры коню. И полетел по черному небу. А по обе стороны от него неслись большие атласные лоси с вдумчивыми бородатыми мордами.
Андрей вспомнил, что был раньше строжайший царский указ лосей не трогать, не стрелять и не гнать под опасеньем порки и тяжких штрафов. А ныне их стреляют все кому не лень. Пример дала сама императрица Анна Иоанновна. Ее Бирон обожает загоны, травли, звериную облаву, пальбу и рогатины. Для него императрица построила зверовые дворы и содержит там лосей, дичь и птиц для ружейной охоты. А на прежние Петровы указы ей наплевать, потому что царь умер и потому что она сама теперь императрица.
Так он не то спал и видел сны, не то грезил наяву, и ему чудился то царь, то плац-парад. Он слышал то голос Петра, то дробь барабанов, то пение флейт, то переливчатую трель рожков.
А когда он просыпался, то видел, что уже почти рассвело, утренние сумерки стали тонкими, костер трещит, догорая и замирая. Мальчишки ловили лошадей и разговаривали между собой уже обыкновенными, дневными голосами. Вставал и он, отряхивался, зевал и говорил: "Хорошо!"
Потом думал, что сон ему приснился не к добру, дурной, но махнул рукой: "Ну и бес с ним. Посмотрим". И был доволен.
Так моляр Андрей Матвеев провожал свое последнее лето.
* * *
Не согрешил, кажется, Андрей ни словом, ни делом, ни помышленьем, а только, переступив какую-то черту своей жизни, почувствовал: что-то в нем будто треснуло и надломилось. Было это для него самого полной неожиданностью, и он махнул на все рукой, затосковал и неистово запил, не давая себе опомниться.
В прежние годы, месяцы и дни у него не было никогда такой мути, помраченности, такой устали. Был охоч до работы, способен, на многое прыток. Прежде, взглядывая на мольберт и на стопки законченных картин, Андрей со спокойным сердцем думал, что прикован он к ним, как раб к галере, и что ему на роду написано — малевать до последнего часа и помереть с кистью в руке.
И больше он знать ничего не хотел. А теперь силы у Андрея убывали, таяли, перегорали без следа. И какая-то страшная тоска наваливалась на него, давила каменной тяжестью. Он думал о живописной команде, сколько одна она ему кровушки попортила! Ох, шатия-братия, оторви да брось, народец как на подбор зубастый, вольный, забулдыжный. Такой кого хочешь в муку сотрет, как стальной мельничный круг. Но раньше и команда была для Андрея не беда. Он любил ее и жить без нее не мог. Со всем управлялся, и все ему было впору, все по плечу. А нынче все тяготило. Катился, катился, как парусник по волнам, и докатился, и враз кормило заклинило — ни туда, ни сюда…
Ныне Андрей жил, принуждая себя заниматься привычными делами. Он постоянно искал случая посидеть и выпить с друзьями, но чуял и знал, что не обманывается на этот счет: была какая-то внутренняя причина в том, что стал он совсем-совсем иным, никто ему не нужен и ничего ни от кого не надо. Все стало для него пустое, бесцветное, ничто не вызывало ни интереса, ни радости. "Что же мне осталось-то?" — думал Андрей и прислушивался всем своим существом к тому, что было внутри и вовне. Но и тут и там были только холод и тишина. И тогда он обращался к богу: "Защити, спаси, сохрани и помилуй!" А тоска и опустошенность не проходили. "Ну что ж, что ж… Одно, видно, осталось: попостись, помолись, в путь последний соберись". Но поститься он не умел и не хотел, молиться — не помогало, а собирать ему было просто нечего.
Он шел к себе в мастерскую, запирал дверь, забивался в угол, лежал и думал. Равнодушный, пустой, беззвучный.
И думы у него были такие же. Как-то ему приоткрылось, что не болеет он, а тлеет и понемногу издыхает.
Новый, 1739 год начался у Андрея недельным запоем. Но даже и в водке не находил он забвенья. Прежде так было: пьешь, ух как пьешь — чаши дрожат, портки дымятся, все смято, а душа свободная, свежая, кипит, вспоминать приятно. А теперь что? Опохмелялся, приходил ненадолго в себя, и снова для Андрея наступала больная, четкая, мерзкая трезвость. Внезапно ощутил он себя истраченным до конца. И не стало ему в жизни ничего светлого, как будто какие-то дьявольские моляры выкрасили все в серый, докучливый, размытый цвет. И теперь уже прошлое стало Андрею казаться невозвратимым счастьем.
Есть люди, которым нельзя говорить правду. Сказать — значит убить. А от других скрывать нельзя ничего, они все должны знать до самого донышка. Незнание для них — смерть и хуже самой страшной правды. Андрей был как раз из этих других. Ему позарез нужно было знать о себе все до конца. Всего он не знал, но догадывался верно, особенно когда убедился: ничто ему стало не в радость, все только в тягость. Он предпочитал смотреть правде в лицо, а она отворачивалась, и Андрей досадливо пожимал плечами. Он понял, что все ему надоело — пустота внутри, пустота снаружи. То ли устал он жить, устал смертельно, врасшибку устал и не ждал ничего хорошего, то ли хворь его неспешно, исподволь доканывала. Одно знал наверняка — радость от него ушла, похоже, навсегда. И все тут.
Андрей говорил друзьям и жене Орине: "Что-то больно уж дохлый я стал! С чего бы это?" А они его утешали: это, мол, от погоды, это, мол, у всех так теперь, все подохлели. Но утешенья эти Андрея мало успокаивали. Ничего не помогало ему. Видел он и понимал, что попал в какой-то проклятый смертельный просак, из которого нет выхода. "Вот так живешь-живешь, — тоскливо думалось ему, — и жизнь тебя пьянит, и ты всему радуешься — теплому солнышку, другу, женской ласке, хорошей выпивке. И вдруг обычный градус твоего существования резко падает, куда-то пропадает. Ты его ищешь, а его нет и нет. И становишься вроде бесплотным, зависаешь между небом и землей, в нагой пустоте и высоте. Проклятый карусель! Ага, думаешь, вот мигом у тебя душу и отымут ангелы небесные, или, как их деревенские бабы кличут, анделы. И нет у тебя уже ни лика, ни времен, ни очертаний. Ничего нет. Ты куда-то скатываешься, скатываешься и наконец летишь с адским воплем.
И всеми костьми грохаешься. Хрясь! Сон это иль явь — не знаешь. А в глазах у тебя вспыхивает множество разноцветных звезд, и божья матерь тут как тут, тихая, светлая, ласковая, ручкой тебе этак приветливо машет, улыбается. И еще там кто-то в черном стоит, только пятно лица смутно белеет. Эй, вы, жив я или уже того? Гикнулся? Молчите, да? Ну и пес с вами, молчите себе на здоровье. Давайте, анделы, валяйте, доставляйте в целости-сохранности в царствие небесное.
А душа-то, душа еще жива, жи-и-ва, звенит, звенит, и доносится до нее всякий тонкий-тонкий земной звук. Значит, все в порядке вроде, значит, пью последнюю! Да где там пью…"
Белый, мглистый, ослепительный свет все обливает, и в глазах резь. И кто-то очень знакомой рукой до лба и до губ дотрагивается, кто-то волосы приглаживает. Жена, что ли? Оринушка? И даже в этом последнем просаке ему становится спокойно, тепло, легко. Андрей слабо улыбнулся в своем отлете от всего. И почудилось ему, что он мальчик и что вокруг него птицы вьются, великое множество птиц. Они кружат, садятся, взлетают, падают, проносятся, задевая его своими воздушными растопыренными крылами. Андрей стоит маленький, невинный, избавленный от гнева, скорби и нужды. Никаких у него забот, все ему интересно, весело. А птицы поют, кричат, носятся — снегири и чечетки, белые трясогузки и лесные коньки, горихвостки и стрижи, луговые коростели и широконоски, синицы и красноголовые нырки. Только важный пестрый дятел сидит отдельно и долбит кору наедине. И все это птицы его новгородского детства. Во куда залетела мечта через все его натужные, несчастные и счастливые года!
Сколько он всего переделал, другому бы, верно, на три жизни хватило! И когда ему было легко? Никогда не было. Одна нужда и спешка. Икон только с косую сотню намалевал. И в Петропавловский собор, и в Симеоновскую церковь на Моховой улице. Что и говорить — тянул лямку, в упряжке шел. Да, видать, весь
вышел…
Ему даже работа не приносила в последнее время ни счастья, ни радости. Брал он в руки привычное — холст, кисти. Брал и откладывал в сторону. "Ну, могу и не рисовать теперь совсем, — думал, — хватит, всего понаделал вдосталь". Потому, видать, и сказал дружку своему закадычному Логину Гаврилову, когда хоронили живописца Одоль-ского:
— Вот, Логин, и меня скоро схоронишь, следующим.
Логин мельком глянул на него, выругался, хмуро сказал:
— Не спеши, Андрей, все там будем, ты еще побегай, побегай!
— Да уж отбегался, кажется. — Матвеев с невеселой своей усмешечкой посмотрел Логину в глаза упрямо и твердо. — Мне не долго осталось уже, попомни мое слово.
— И что ты привязался, господи прости, ровно кривой бес! — взорвался Логин. — Не до тебя здесь-то. Ведь хороним, — добавил он извиняющимся тоном.
Но, должно быть, Логину что-то заподозрилось. Почуялась в голосе Андрея нота какая-то странная. Поразила его мрачная и необычная тоска в понурой фигуре и в лице Матвеева. "Статья на него нашла такая, что ли?" Он подошел к Андрею и спросил:
— Постой, Андрюха, с чего это ты отходную завел, чуешь что или знак тебе дурной вышел?
— Знак не знак, — неопределенно развел руками Андрей, хмыкнул, поморщился, потянул носом, — знание есть, брат, знание, понимаешь? А оно превыше любого знака! — Андрей поднял указательный палец и хитро прищурил глаз: — Знаю я! Знаю — и все тут!
Сказал как отрезал и быстро отошел в сторонку.
* * *
А говорят, что наперед никто не знает своих жребиев. Так оно или нет, кто ж тут разберет.
На неделе святой пасхи Канцелярия от строений по просьбе исторических дел мастера Бартоломея Тарсиа предписала Матвееву исполнить две картины в новом Зимнем дворце.
Матвеев обрадовался даже этой маленькой возможности выйти из душевного тупика. Он дал себе слово пить поменьше, надеясь за короткий срок возродить былую уверенность в себе.
Мы всегда хватаемся за соломинку, клянемся переменить жизнь, создаем видимость занятости и деловитости. Но когда кажется, что все уже настроено, слажено, подготовлено, — все надежды вдруг рушатся. Судьба бьет наверняка, без промаха. Тогда, если силы еще остались, возвращайся на круги своя и начинай все сначала. Матвеев так и хотел — побыстрей настроить себя, подстегнуть делом. Он вспомнил один мудрый совет, который ему дал как-то голландец ван Схоор: если у тебя случился перерыв в художестве, нужно взять сразу несколько холстов и замазать их, как тебе в голову взбредет, без всяких претензий. Рисуй что попало, потому что заминка для художника пагубна и даже губительна. Сразу теряешь чувство меры, пропорции, рука становится непослушной. И куда только деваются смелость, ловкость, удачливость?
Андрей замазывал холсты и чертыхался. Ничего у него не получалось. Он забыл, как совершается подвиг художества.
В прежние года он немало повидал картин, от которых за версту воняло деньгами и ложью. Слава богу, он сам таких не писал. Но теперь с ним происходило нечто странное. Он не узнавал себя в том, что делали его руки. Это не он писал, не он. Разве можно узнать живописного мастера Андрея Матвеева? Вместо былой сложноцветной игры красок выходила какая-то глинистая грязь. Кисть не шла по холсту, а ковыляла, словно блуждая и спотыкаясь на каждом шагу.
Нет! Нет! Нет! Это не он писал, это мука его писала, уставшие сердце и рука. А рисунок? Прерывистый, перекошенный, вялый. А где его прежний рисунок, полный света, воздуха, стремительности?
Андрея даже в пот бросило. "Ах ты тварь, ах чертовщина, неужто меня напрочь от живописи отрешило?" — думал Андрей, и злость будоражила его, возвращая прежнюю зоркость. Накопленное раньше медленно подымалось в нем, и хотя прежней легкости он добиться не смог, но дня через два, в которые Орина никого к нему не допускала, непрерывно малюя, Андрей почувствовал себя лучше. Никак не мог он понять одного — что же с ним приключилось: руки не дрожали, ноги тоже не дрожали, а что душа дрожала, так это ж не от водки, а, наверно, от таланта.
Растерянный, сердитый, Андрей бросил кисти. "Ну, теперь можно идти в живописную команду…"
Андрей быстро сделал два эскиза — "Олимп" и "Триумф Минервы". И был ими очень удовлетворен.
Наступила весна, но всю неделю стояли сильные морозы, ярко светило холодное, белое солнце. С моря то налетал резкий ветер, то принимался идти мокрый снег. И тогда медленно падали крупные хлопья.
Около полудня, когда Андрей с эскизами под мышкой уходил из дому, он велел своим ученикам приготовить и заварить брагу.
— Глядите, чтоб добра была. Положите хлеба три кадки, солоду ржаного две кадки, овсяной муки кадь, дрожжей с хмелинами четыре ведра с половиною. Запищи-ка, Трофимка, все в точности углем на стене. Чтоб не забыть вам. А не то напутаете, так вместо доброй браги дрисливое пиво выйдет!
Ребята дружно заржали. Обещали сделать все как надо. Знали б они, дурни, что видят учителя своего в живых в последний раз! Потом будут вспоминать — и как стоял, и что говорил, и лицо вспомнят, и глаза. И тысячу раз пожалеют, и будут мучиться, что нет его с ними. Не с кем посоветоваться, некому сказать и услышать.
Эх, друг, друг, хранитель древностей, зачем же ушел ты навсегда, зачем сиротишь, куда поторопился? Где ты, где, милый ты мой человек?!
Андрей потеплей оделся и вышел из дому. Небо было пронзительно белое, сверкало на солнце золото соборов, голубился и горел серебром невский лед.
Не доходя до Невского, Андрей почувствовал сильнейшее жжение в груди. А в животе у него сделалась тяжесть, и что-то там ненасытно засосало. Он остановился, стараясь переждать. Его немного отпустило. Но идти он не мог. Стоял и слушал, как плыл, дрожал, катился по небу звон колоколов. А где-то на улице слышался веселый смех и людской гомон, но слух Андрея затухал, отдалялся и бежал ото всех звуков. Мысли в голове его как-то смялись, остановились, и показалось ему, что прохожие идут задом наперед и в ту же минуту растворяются на солнечном свету. Перед глазами Андрея все слилось, поплыло, завертелось. В ушах раздался оглушительный треск. Андрей сделал маленький шаг, потом еще полшага, запнулся, нога у него подвернулась, он стал оседать, клониться и, широко разведя руки, всей тяжестью рухнул наземь.
И казалось ему, когда лежал, что полез он по лестнице, а тянется она от земли до самого заоблачья, туда, наверх, в необъятную ширь небесного свода. Он тщетно, как рыба на песке, ловил воздух, широко открывая рот, когда рядом случился лекарь и увидел, что это конец. Но пока еще билось в Андрее его сильное и выносливое сердце, и пока не избыли из него последние силы жизни, глаза его внимательно и зовуще смотрели в ясное, светлое небо, словно просили о помощи, а руки понемногу стали коченеть.
Лицо же Матвеева в тот момент было странно спокойно, на нем проступило легкое подобие улыбки, и только в углу рта застыла тонкая розовая полоска. И кто видел его, дивился небывало светлому лику, казалось, что так умирает не человек, а какой-то невероятный ангел, и потому в толпе перешептывались.
Было это в понедельник 23 апреля 1739 года, а от сотворения мира 7247 года.
В этот день, к вечеру, по своему давнему обычаю поручик лейб-гвардии Семеновского полка Александр Андреевич Благово перед сном достал свою памятную книжку и внес в нее очередную запись: "Велик мороз и сияние. На расход один рупь, шестнадцать алтын, четыре деньги. Алексашке новый кафтан сделан из моего кафтана. Великий мороз из ночи, значит, и лето будет холодное".
Настало утро следующего дня, вторника. Вчера только Матвеев ходил, говорил, смеялся, а сегодня…
Ну, а в Сенате по всей форме составили протокол, и в нем говорилось: "Понеже в ведомстве Канцелярии от строений обретался живописного дела мастер Андрей Матвеев при разных живописных работах и у написания икон в святую церковь святого и праведного Симеона Богоприимца и святыя Анны Пророчицы, к которому на исправление тех работ отпуск имелся и материалом; а прошедшего 23-го дня сего 1739 года оный Матвеев волею Божиею умер. А при отправлении тех живописных работ и письма икон при нем Матвееве были живописцы Александр Захаров, Василий Брошевский, Василий Белопольский да вновь определенный, присланный из Правительствующего Сената при указе Логин Гаврилов, да при первом придворном живописном мастере Каравакке обретаются живописного художества гезели Михайло Захаров, Иван Вишняков; а жалованья оным производится из Канцелярии от строений — Александру Захарову, Логину Гаврилову по 230 р., Вишнякову по 130 р., Ерошевскому — по 120 р", Белопольскому по 96 р. в год. А на место того умершего мастера Матвеева никто не определен. Того ради, по указу Ея Императорского Величества, Канцелярия от строений приказали: к придворному первому живописного дела мастеру Каравакку и к мастеру Тарсию послать указы и при том приобщить о именах оных гезелей и живописцев реестр и чтобы оные Каравакк и Тарсий, освидетельствовав оных, представили Канцелярии
от строений, кто из них по искусству живописных наук достоин быть в ведомстве Канцелярии от строений на место означенного умершего живописного мастера Матвеева живописным мастером.
А между того ныне подмастерью Кобыльскому и живописцу Логину Гаврилову велеть у означенного Матвеева оставшиеся в доме его, или где имеются, казенные припасы и написанная и росчатыя в церковь святого и праведного Симеона Богоприимца и святыя Анна Пророчицы иконы осмотреть и учинить всему опись и, положа в удобное место, иметь за замком и своею печатью до указу".
* * *
Скрипят перья, и летят бумаги из Сената, из ведомств и канцелярий — иные с тяжелыми сургучными печатями и черными орлами, иные просто так…
Двенадцать миллионов душ обоего пола проживает в России, и обо всех должна быть своя запись и бумага. Только императорский двор тут не в счет.
Царь Петр самолично определял, как этим душам жить и что им творить. Свое мненье он подкреплял дубиной. И стон стоял по всей Руси. Двор тут тоже не в счет. Хотя и ему нередко приходилось постанывать.
Жили-были в России два беспримерных живописца — Иван Никитин да Андрей Матвеев, принесшие нетленную славу русскому художеству. Мечтали они видеть державу свою просвещенной и сильной, а довелось им испытать злоключения, и Россия при них как была, так и осталась бесправной и нищей, и все-то ей, косопузой, трын-трава…
Не всё они понимали в крутой ломке вековых устоев, но и то, что поняли, хватило им, чтоб не просто картины писать, а душу живую из золотых обмоток вытягивать и всему миру, векам всем и народам показать. Вот она — живая, простая, страдающая. Смотрите!
С мужеством и решимостью прошли они по российской хляби сквозь все жизненные испытания, а конец их был печален, да еще так печален, что и не расскажешь.
Да и что рассказывать? Ведь еще древний целитель Гиппократ заметил, что жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив и сужденья об нем трудны, — так что думать обо всем? Только зря душу травить…
Играют в императорском дворце английские часы, исполняют менуэт, на маятнике их Петр в голубом русском полукафтане и в порфире. Лик его запечатлен в самой цветущей молодости. Качается маятник, качается и Петр, а рядом в дневное время дремлет императрица Анна Иоанновна, страдающая бессонницей.
Повар государыни Габеданк, длинный, как метла, готовится к придворному празднику: надобно приготовить во всех возможных видах говядину и телятину, ветчину и дичь, аршинных стерлядей и щук, грибные блюда и паштеты, соусы и салаты, замочить кабанью голову в рейнвейне, приправить кушанья корицею, перцем, гвоздикой, мускатным орехом, приготовить мороженое и желе.
Вся прислуга поварская в мыле, все скачут, как загнанные лошади, а над ними Габеданк, императорский повар, с большой бородавкой на кончике носа, торчащей кверху. Ходит, нюхает, берет пробу на нижнюю губу, раздает пощечины, а рука у него тяжелая…
Не доносятся в царские палаты звуки извне, не слышны свист плетей, стук батогов и крики истязаемых. Спаси и помилуй!
Кому-то считают ребра, кому-то рубят головы, на ком-то правят государев долг так, что кожа клочьями, — а вокруг любопытные и безмолвные, и у каждого из них спина чешется.
Колодники по улицам ходят, что-то свое тихо поют, грустное и заунывное. Все тихо, все чинно, все по правилам на святой Руси…
С каждым днем капризней императрица, молодость убегает быстро, а нездоровье усиливает раздражительность, а потому ищут заговорщиков, рубят головы, рвут ноздри, отрезают языки, неугодных и мятежников отсылают в дальние земли. Тогда говорили: "Кнут не ангел, а душу вынет!" И много таких ангелов парило и посвистывало. Ибо и борьба, и победа, и возмездье — из одного куска сделаны. Только поспевай!
Поэтому кто б ты ни был, вольный живописец или кабинет-министр, царский наследник или фаворит, грозит тебе одна и та же секира, одни и те же судьи и палачи.
А казенные люди дерут подати с чего можно и нельзя — с сена и дров, с рыбных ловель и варения пив, с мостов и перевозов, со скота, пригоняемого в столицы, с хлеба и других съестных припасов.
А чтоб не нарушался привычный церемониал, точно рассчитано, сколько и с кого брать. Одна цена с дворовых, с приказных людей и посадских чинов, другая — с крестьян и певчих, а третья — с чужеземцев.
Так вот все и идет.
И превозносятся мудрость и кротость правителей, повсюду видевших одну угодливость и лесть.
…Текут доношения по великой Руси, скрипят перья, и летят бумаги — нет им конца и края: о рождениях и смертях, об увольнении из служб, о прибытии заморских гостей, о потоптании злаков, о воровстве неведомо кем из государевых конюшен лошадей, о неуплатах и пианстве, о ветхости кремлевских и петербургских соборов и что какой требует починки и пристройки…
Живет в стольном граде на Неве Василий Никитич Татищев — мудрый российский историк. Ни в дьявола он не верит, ни в черта, ни в прочее всякое суеверье. И смело говорит: "Не почитаю то в диво". Приходится он дальним родственником императрице, в таком родстве состоя, можно и не такое загнуть.
И еще сказал Татищев вот что: "Вера не в чинах и убранствах, но в сущем признании истины".
Накрепко запомнил эти слова историка Андрей Матвеев, в душу себе пустил. Знал он, что нет истины последней и окончательной, но она всегда одна, как солнце. Ее не сузишь, не раздвинешь, И никто от нее освободиться не может. Вот тогда и придумываются тьмы других истинок. Удобны они тем, что каждую из них можно приручить и приспособить или заменить другой.
Жил Андрей Матвеев и верил всю жизнь в одну-единственную истину, а еще верил он в провиденье, и в судьбу, и в случай, а еще больше и крепче — в свое счастье.
Потому верил, что он — человек бедовый!
Вторник 24 апреля 1739 года, ясный и прозрачный день, Санкт-Петербург. Только нет в нем уже Андрея Матвеева. И прежде такого живописца не было здесь, и после уже не будет никогда. Только люди ничтожные подобны, равны и сходны. А такие, как Матвеев, мчатся по воздуху путеводной звездочкой, и летучий огонь их не затухает с годами, а только ярче разгорается.
Итак, прощай, Андрей Матвеев. Прощай!
Всегда мучительно трудно расставаться с тем, что крепко вошло в твою жизнь. Но обратно реки не текут, два раза люди не живут.
Как бы там ни было, а проводить Андрея Матвеева в последний путь на Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры пришло много народу. Были там и самые близкие, и совсем случайные знакомцы. Матвеева любили. И стояли над ним в горести, над ним, обретшим вечный покой.
Подходили, крестили, целовали. Утирали горючие слезы. Без кровинки в лице, жестко и горестно сжав губы, стояла Орина Матвеева со своими осиротевшими детьми. Она застыла в немой безнадежности, именно безнадежности, а не отчаянье. Сначала она просто не верила, что Андрей умер, а потом как бы оглохла и онемела. Все, что происходило вокруг, плохо добиралось до ее сознания, она не была даже в состоянии особенно горевать. Это потом уже она понемногу стала понимать, движимая неясным инстинктом, что единственное, что ей осталось в этой жизни, — это поставить на ноги детей. Вот кто будет ее держать на поверхности, а она должна найти себе место в совсем ином, неведомом распорядке бытия.
Она обводила взглядом всех, кто стоял рядом, отрешенно смотрела на каждого, отмечая, что этот жив, и тот жив, и вон тот жив, а ее Андрей — нет, и она смотрела на его белое лицо с задранным носом. И жалость к себе, к детям, к его недоговоренной жизни, жалость сильная и неодолимая, как любой слепой позыв природы, пронизывала Орину.
Внутри у нее все озябло, словно душу ее в мерзлую рогожу закутали. Андрей ушел в цветущих годах, на взлете, а свободно мог бы еще жить и переносить на холсты свои вдохновенья. Понимали, что сей лежащий пред ними живописец велик и насыщен только горчайшей своей участью, а отнюдь не жизнью. Ну что поделаешь — нет человека, нет, хоть ты тут разнимись! Опустив голову, стояли знатные архитекты Варфоломей Растрелли и Михайла Земцов. И живописных дел мастера чуть ли не со всего Петербурга пришли — Иван Вишняков и Василий Белопольский, Ерошевский и Мишка Захаров, Зыбин Петр и Леонтий Федоров, самые родные, с кем делил Андрей труды и дни, мечты и досуги. Одетый в форму живописного мастера, весь с иголочки новенький, пришел Каравакк Людовик и, не думая льстить над гробом, сказал, что Матвеев был лучшим живописцем из всех выезжих за границу русских.
Якоб фон Штелин, ученый немец, мастер фейерверков и профессор элоквенции, или красноречия, в российской Академии наук в свободное от академических занятий время писал заметки о живописи и живописцах в России. Он ходил по мастерским, дружил с художниками, собирал слухи, рассказы, был дотошен, пунктуален, заносил в тетрадки всякую мелочь об увиденном и услышанном. Побуждало его вести свои записки искреннее уважение ко многим трудам и заслугам России в области свободных художеств. Штелин очень любил искусство. А любовь всегда многое обещает и кое-что дарит.
Оставил Штелин записи и об Андрее Матвееве. В них он отмечает, что Андрей Матвеев вернулся после обучения за границей в свое отечество большим мастером, но, к несчастью своему, слишком поздно и слишком рано. Слишком поздно потому, что Петр Великий умер уже, и слишком рано потому, что дочь его Елизавета еще не сидела на отцовском троне. Далее Штелин замечает, что во время императрицы Анны Иоанновны Матвеев использовался неразумными начальниками для плохой работы.
Не совсем это так, а вернее, и совсем не так, но часть правды в этих словах все-таки есть. Тут надо соображать, а не воображать, как сказал один писатель.
Итак, прощай Андрей Матвеев. Прощай!
Доброе семя было в тебя засеяно, и в картинах твоих то семя благородно взошло. В художестве твоем много сердца. Потому и живет оно по сию пору. И останется впредь.
И тогда художество твое, Андрей Матвеевич, увидят совсем-совсем другие люди. И они
откроют фортку, выйдет чад,
и по земле цветной и голой
пройдут иные новоселы,
иные песни прозвучат…
[8]

Часть четвёртая
Золотой фасад

Свободное, вольное, широкое
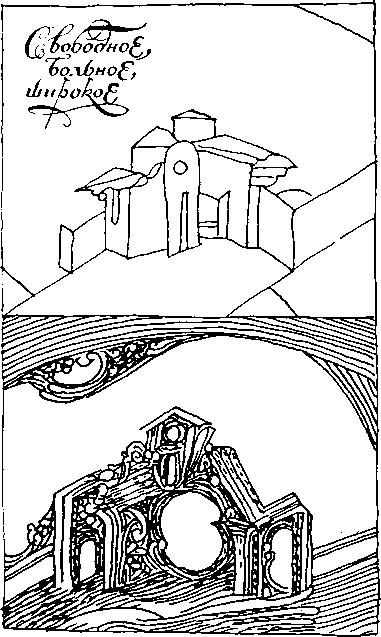
Цари всего света, вы завидуйте нашему блаженству.
И. И. Новиков

осподь наш в занятости своей как бы не видит порой протянутые к нему руки, словно он не в духе или слишком уж погружен в более спешные и безотлагательные заботы, а потому и приносится в жертву то, что необходимей всего, самое лучшее, ценное, талантливое. Словно свершается некий привычный ритуал…"
Растрелли стоял, опустив голову, он думал о судьбе Андрея Матвеева, о печальной его участи. Архитектор всегда благоволил к этому мастеру, и вот теперь он был у его свежей могилы.
Матвеев… Сколько б мог еще сделать… Глава живописной команды, лучший из лучших…
Двенадцать лет были они рядом, работали сообща, и Растрелли не знал человека более доброжелательного, благородного и столь одаренного. Заместить Андрея Матвеева было просто некем. Живой ум, мягкость Андрея, самоотверженная и безграничная любовь к своему делу снискали ему всеобщее уважение.
А ведь ему приходилось сталкиваться с людьми разными — их нужно было сплотить, направить, обучить, приспособить. Да еще и заставить мыслить самостоятельно и трудиться добросовестно. Матвееву попадались люди разные: лживые, мелкие, полные вражды ко всему, ленивые, бузотеры и скандалисты. Они шли в общей упряжке без ропота.
Андрей мог каждого распознать, найти подход. Растрелли вдруг вспомнил, как Матвеев приехал в Петергоф, нагруженный фламским холстом, подбойными гвоздями, красками, кистями, бумагой. Солдаты разгружали подводы, таскали банки с белилами, маковым маслом и скипидаром.
Матвеев стоял подле, и на лице его было выражение счастливое и возвышенное, словно он наконец-то нашел себе здесь утешение. Это было лицо неземного блаженства. Светоносное. Горячее.
Не зря ж говорят, что блаженному теплей других на белом свете.
Вспомнил архитектор Матвеева, когда тот вошел во дворец в Петергофе и остановился пораженный. Уставился себе под ноги, будто уронил что-то. Полы Большого дворца — вот что Матвеева привело в восторг. Он даже разомлел. Выполнены эти полы были по рисункам Растрелли из орехового, пальмового и яблоневого пород дерева. Матвеев от всей души обнял стоявшего здесь же старичка Геге — столярного мастера, маленького, пухлого, голубоглазого.
— Геге, какой ты молодец! — вскричал Матвеев. — Какой ты славный! Кто еще может сотворить такое чудо! Я вижу, что твоей рукой водил бог. Он один знает начала и концы. А ты сделал середину. Да так искусно сделал, что ступить страшно!
— Варфоломей Варфоломеевич, — с жаром сказал Матвеев, — вы неукротимый чудодей! С вами не потягаешься!
Многое связывало их. Для дворцов, которые строил Растрелли, Матвееву приходилось работать не покладя рук. Он писал гениусов, которые держат клейма с гербами. Создавал аллегории Верности, Милосердия, Правды, Благородства, Великодушия, Любви — всего того, что он никогда не видел от властей, с тех пор как умер Петр Великий. А писать приходилось лихорадочно, без оглядки, с поспешанием, в самой скорости. Андрей собственноручно расписывал голубятню в императорском саду, а его уже ждали Конюшенный двор и отделка собственных царских покоев в Петергофе. С большим мастерством и открытой душой воплотил образы евангелистов — Матфея и Марка, Иоанна и Луку, написал "Сретение", "Преображение", "Воскресение". Все его росписи были чудесны, они сияли греческой красотой и были выдержаны в мягких, зеленовато-розовых и голубовато-охристых тонах. Растрелли всегда любовался работами Матвеева, его летучими красками, и ему казалось, что большое сердце мастера ослепительно освещает его картины изнутри. С потолков и стен низвергался поток цвета, словно с самих небес.
Расстрели отлично понимал, что в Андрее Матвееве все было слито воедино — сердце и ум, тело и душа. Без этой слитности нет озарения. А тут все это жило, зыбилось, роскошно расцветало, рвалось в горние выси. Жило и не уживалось…
Глава первая
Живые токи молодости


озки, кареты, потные лошади, тяжело груженные мебелью подводы. Это царский поезд Петра подъезжает к Парижу. Еще в Кале щеголеватый, вежливый и предупредительный маршал Нель встречает русского царя. Он предлагает ему свою карету. А Петр упрямо твердит, что ему не пристало сидеть на подушках, он любит двуколку. Повсюду ищут ее, но найти не могут. Царь злится, торопит.
Булонь, Амьен, Бове царский поезд проезжает без остановок. Русского царя везде жаждут принимать с почестями. Но ни обеды, ни иллюминации, ни фейерверки в его честь не трогают Петра. Наконец ему находят двуколку.
Хитрые глазки Ягужинского загораются. Он подмигивает царю: расстарались французы, нашли наконец то, что надо.
Петр раскуривает трубку, задумчиво смотрит на возок.
— Двуколка — ни к черту! — говорит царь. — Но здесь не Россия, сойдет и такая.
Он приказывает снять кузов своей двуколки и поставить его на французские каретные дроги. Лично помогает каретникам. И, довольный, потирает руки.
— Вот теперь ладно! Можно ехать дальше. Ну, тетеря, давай, пошел! — орет он на кучера и тяжело прыгает на жесткое сиденье.
Перед въездом в столицу Франции русский царь по нас-стоянию маршала пересаживается в королевскую карету. Царя сопровождают пажи в бархате и золоте. За ним мчатся изящные повозки с зеркальными стеклами.
Маршал Тиесе — маленький и расторопный — весь так и вспыхнул, когда подошел к царю:
— Вас давно ждут, ваше величество, апартаменты в Лувре готовы!
А сам думает, что там наверняка еще не успели стереть пыль.
— Попроще, чем Лувр, ничего нет?
Предупрежденный графом Толстым о том, что царь любит скромные помещения, Тиесе с готовностью отвечает:
— Есть, есть! К вашим услугам отель Леди Тьер на улице Серизей. Это рядом с Арсеналом…
— Ну что ж, везите! Отель так отель…
Отведенная резиденция после подробного осмотра оставляет у Петра самое хорошее впечатление. Он располагается, приводит себя в порядок. Закусывает наспех. Потом идет в соседний кабак, где остановились бродячие музыканты, и там пьет с ними допоздна.
На следующий день царь отправляет письмо жене: "Принужден в доме быть для визит и протчей церемонии и для того еще ничего не видел здесь, а с завтрее или после завтрее начну всего смотреть. А сколько дорогою видели — бедность в людях подлых великая". Своя-то российская лютая скудость государю не так в глаза бросается, как чужеземная…
Все дипломаты и правители считают, что Петра привела в Париж свойственная ему ненасытная любознательность. Это не совсем так. Страсть как русские любят все обращать в тайну. Специально приставленный к русскому императору французским двором уполномоченный и соглядатай доносит своему правительству: "Действительная причина путешествия царя — врожденная любознательность". Истинная же причина — совсем в другом. Мотивы — чисто государственные. Царские послы Куракин и Шафиров вовсю ведут переговоры с французскими дипломатами и каждодневно докладывают царю. Самое главное для Петра в поездке, чтобы Франция взяла на себя роль посредницы в переговорах России со Швецией. Без Франции им меж собой не договориться.
Поездка Петра во французскую столицу вызвана прежде всего этим.
"Его величество ежедневно посещает публичные места и частных лиц, стремясь видеть все, что удовлетворяет его интерес к наукам и искусствам". Так сообщают французские газеты.
Петр остается самим собой. Он ни в чем не изменяет привычкам. Ходит в коричневом кафтане с золотыми пуговицами, перчаток и манжет с позументом не надевает. Охотно бывает в мастерских жестянщиков, столяров, интересуется бочарным делом. Он присутствует на операции знаменитого английского хирурга доктора Вулюза. Посещает гобеленную фабрику. Любуется картинами Рубенса в Люксембургском дворце. Его везут в Оперу. Но больше трех актов царь не выдерживает. И уезжает к себе ужинать.
Вот как описывает царя французский философ Сен-Симон: "У него округлое лицо, высокий лоб и прекрасные глаза — темные, живые, проницательные". Сен-Симон провел в беседе с царем несколько часов.
Куракин докладывает: дипломатические переговоры идут вполне успешно. Значит, не зря он торчит в Париже, когда дома дел по горло…
К тому же царю доносят, что нашим коммерц-советникам удалось наконец уговорить Растрелли — знатного скульптора, склонить его в российскую службу. Птица крупная, не уступает Леблону, только сильно заламывает в цене.
— Дать, сколько просит, — велит царь.
Природа наградила Франческо Растрелли талантом. Отцу это доказывать не нужно.
У древних греков и римлян талантом называлась монета. Тот, у кого много талантов, богат. А те, у кого талантов не было, себя утешали: не наш талант, чтоб найти, а наш, чтоб потерять. Талант — природный дар человека, это так. Но еще есть и удача, рок, судьба, счастье. Они рядом с талантом. Рядом с тем, что есть диковинный вечный огонь на земле. Негаснущий…
Когда семья жила в Париже, молодость, жажда жизни разогревали талант младшего Растрелли. Но он еще находился в полной ученической зависимости от отца. С тех пор как отец стал учить сына лепке, чертежам, рисунку, он привык к беспрекословному послушанию Франческо. Удивительные и даже ошеломляющие успехи сына он относил за счет своей методы, разностороннего опыта. И отчасти был прав. В обучение сына он вкладывал весь свой пыл, настойчивость, страсть. В пятнадцать лет Франческо мог почти самостоятельно выполнять некоторые работы из тех, что заказывали отцу.
Он понял: у художника есть право решать. Это внутреннее чувство подсказывало юноше, что отцовские проекты слишком замысловаты. Их пышность подменяла истинное, прекрасное, строгое. Отец наставлял Франческо:
— Никто из художников, я думаю, не знает верного способа достижения наилучших результатов. Все зависит от наития, счастливой догадки, удачи. От того, что итальянцы называли во времена Микеланджело очами разума… Я тебе скажу так: в художестве, как и в любви, должны быть свежесть, невинная самоуверенность, свобода. Любви по принуждению не бывает!
Франческо знал, что отец берет хваткой, талантом, проницательной сметливостью. И все же архитектура отцу не давалась — он по рождению, по навыкам и характеру был скульптором. Проекты его были слишком вычурны, хотя и отвечали надлежащим правилам. А Франческо обладал удивительной способностью видеть общее решение. И шел он простыми путями, отбрасывая частности. То, что он делал, было ясно, прозрачно, своеобразно. И мыслил он резво. Решимости спорить с отцом у него не хватало, да и выразить то, что он чувствовал, ему было не под силу. Однако в работе он пробивался именно к этому, к своему, часто вопреки наставлениям отца. Скрытое недоумение, настороженность проступали иногда в крупных выразительных родных чертах отца.
И это тяготило Франческо.
В это время и возникли в их доме на Сен-Мартен новые слова — Россия и Санкт-Петербург. И то и другое звучали таинственно и тревожно — как обозначение поворота судьбы.
Отец вел уже переговоры с коммерческим советником русского царя Лефортом. Он ставил ему условия, выдвигал все новые требования, а тот, похоже, склонялся и был намерен заключить с Растрелли сделку любой ценой. Видно, имел от царя строгие предписания на этот счет. России и ее двору, в отличие от французов, художники нужны были позарез.
Франческо, услышав о возможной поездке, обрадовался. Он снова почувствовал себя послушным и восхищенным сыном, что сразу же принесло ему сильное душевное облегчение.
Однажды отец сказал:
— Искусство, Франческо, это не только талант. Это еще и везенье. Вот я учился у лучших из лучших. Моими учителями были художники, которые жили во Флоренции с незапамятных времен. Я учился у Лоренцо Гиберти, у Бернардо Росселино, у Вероккио, у Баччо Бандинелли, учился у Микеланджело, Бенвенуто Челлини. Да, они жили задолго до меня, но я говорил с ними так, как будто они стоят рядом. И знаешь, что я вынес из общения с великими? Я больше уверовал в себя. Ведь они видели мир, в котором жили, открыто. Они работали более бескорыстно, чем это представляется потомству. Они шли к совершенству особыми путями. В их рассудочности — детская мудрость. А с детьми никогда скучно не бывает. Вот мы и черпаем у них уверенность в собственной правоте. Я жил в городе с самыми благородными и чистыми пропорциями. А в Риме я видел скульптора Алессандро Альгарди, который поразил меня своим гением. Я прошел такую школу, какой, наверное, во всем мире нет. Ну, думаю, теперь можно смело браться за большую работу. Но во Флоренции делать было нечего. Мне было двадцать три года. Oh, gioventu! Cosa perte il dolore, ie difficolta, gli ostacoli…
[9] Я отправился в Рим. Мне сразу повезло: представили аббату Атто Мелани, французскому дипломату, и он дал мне рекомендательное письмо в Париж. Летел я сюда как на крыльях!
Приехал — и сразу же получаю крупный заказ. Нужно сделать надгробие бывшему королевскому министру, маркизу де Помпонэ. Заказ почетный. Работал день и ночь. Замахнулся на многофигурный ансамбль. Наворотил саркофаг на львиных лапах, покрывала, головки амуров, гирлянды, аркады, фигуру со светильником, херувимов. Назаказывал мраморов — белых, черных, лангедокских красных, желтых, темно-серых. Все мне доставили, что просил. А промахнулся в главном — раздробил общее решение на детали и подробности. Сам вижу — неудача. Что тут делать? Впору бы все разнести и начать сначала. Но подоспел срок сдавать работу. Деньги нужны. Сдаю. Принимают вроде бы неплохо. А за спиной раздаются голоса моих недоброжелателей — этот Растрелли не добился правды, не проявил ни хорошего вкуса, ни удачной выдумки. Думаю: и без вашего ядовитого шипенья вижу, что сел в лужу… Вот тебе и парижский триумф Растрелли, о котором мечтал ночами. Понимаешь, Франческо, тщеславие в нашем деле — первый шаг к провалу. Запомни. Я это понял, но поздно. По счастью, неудача меня не сбила…
Надеюсь, в России мы поправим дела, учтем ошибки. Не вышло с Людовиком, выйдет с Петром. Как считаешь?
А теперь-ка, — сказал отец после короткого молчания, — давай съездим в гости к одной старой даме. Я человек суеверный и хочу кое-что проверить. А то судьба нас с тобой затащит бог знает куда. Давай-ка одевайся. Поедем к даме прекрасной и почтенной! Una signora е per l'italiano una santa crestura!..
[10]
— К какой? — удивленно спросил Франческо.
Но отец ничего не стал разъяснять.
А Франческо уже мечтал о поездке в Россию, хотя толком об этой стране ничего не знал. Говорили, что русские — народ дикий, но славный и простосердечный. А холодно там бывает так, как только в Берлине…
Туманные контуры страны, ее ледяной дух подступали все ближе. Им уже начали платить оклад, а поездка пока откладывалась.
* * *
Франческо часто думал: какой же должна быть архитектура? Вот, скажем, приедут они в Россию — ведь нельзя же там строить так же, как в Париже. Все другое — ландшафт, местность, климат, освещение. Франческо листал книги, что-то чертил, прикидывал. Он думал, что архитектор не должен бояться повторений, и твердо знал, что без счастливых находок ничего не выйдет. Франческо верил в свое счастье. Он был похож на созревающее яблоко, в котором забродил теплый живительный сок.
Архитектура должна была, по его представлениям, взрастать на земле естественно, как цветы или злаки. С важностью и легкомысленной надменностью юнца он думал о себе: я построю в России такие блестящие дворцы, что на них будут заглядываться опытные архитекторы из Парижа и Рима.
Для Франческо архитектура была хранителем духа. Это было чудесное, непонятное, роковое. Это был добрый демон, руководящий им.
Париж, 1716 год, улица Сен-Мартен
Как-то отец с сыном вышли из дому, чтобы пройтись по городу просто так, безо всякого дела, — такие прогулки у старшего Растрелли стали все чаще и чаще.
— До чего скучный город Париж! Готика надоела, она меня давит, слишком благочестива. Французы все какие-то худосочные. Бестолковый, право, город, — сказал отец.
Франческо отлично понимал, что неудовольствие отца вызвано совсем не готикой и не парижанами. Его гнетет непризнание, отсутствие заказов, вынужденное безделье.
Юноша никак не мог согласиться с отцом, что Париж — город скучный. Всем существом, всем сердцем своим он знал, что это не так. Но отцу не стал возражать. И широкие, чуть запыленные листья каштанов, и визг шарманки, и каждый цвет и каждый звук для него драгоценность.
Растрелли живут на улице Сен-Мартен. Это не так далеко от Сены. Здесь добротные, массивные, сделанные надолго дома. Они солидной важностью напоминают монахов.
Когда-то в этой части города проходила старая Галльская дорога — из тех, что вели в Рим. Тогда это была дорога войны, походов, солдатских тягот. Теперь она заросла чертополохом.
Каждый город имеет свои пределы, но Париж не умещается в отведенных границах. Две арки — Сен-Дени и Сен-Мартен фиксируют пограничные точки основных дорог. Но что тут можно фиксировать? Париж растет вкривь и вкось, беспорядочно перебрасываясь с одного берега Сены на другой. Один наблюдательный аббат по имени Ложье заметил, что внешность Парижа никак не отвечает той идее, которую иностранцы должны составить себе о столице наиболее прекрасного королевства Европы. Нагромождение, скученность домов, мешанина, в которой хозяйничает только случай. Отец тоже так думает. А сын просто не может себе представить города, который был бы лучше Парижа. Как-то ему довелось увидеть, как лучи утреннего солнца играют на золотом барельефе Дома Инвалидов, — эта картина осталась в нем навсегда. Он любит свою улицу и дворцы, фасадами обращенные к Сене, любит запахи пригретой зелени в саду Тюильри и медлительный перезвон колоколов.
А отец истосковался по родной Флоренции.
Франческо нравится часами бродить по городу. Он любуется толстыми башнями, стрельчатыми сводами, шпилями, колоннами, остроконечными кровлями. Он научился чувствовать Париж как живое существо — с душой, телом и привлекательным лицом.
Однажды отец рассказывал, что в древние времена в богатых парижских домах после парадного обеда на десерт подавались вазы, наполненные золотыми монетами последнего чекана. Франческо Растрелли казалось, что Париж дарит ему такие щедрые вазы на каждом шагу.
Отец стал грузноват, но ходит еще очень легко, и взгляд его из-под нахмуренных бровей быстро скользит по лицам прохожих, по фасадам, балконам, крышам.
— А небо тут, мой мальчик, какое? Ты только посмотри на это небо — глупое, неподвижное, с сероватым блеском… Ты бы видел небо Флоренции! Густо-синее и с такими ослепительными облаками, словно их выстирали в горном ледяном ручье! Ты увидишь, Франческо, мы с тобой вернемся во Флоренцию в ореоле славы! Черт подери!
О Флоренция!
Он учился там скульптуре, архитектуре. Он знает литье, все его капризы. Знает строительную технику. Знает гидравлику, механику, знает тайны ювелирного дела. Он вызубрил столько всего, сколько может влезть в здорового мужчину. И что же? В его родной Флоренции ему не нашлось места.
Старый Растрелли горько вздыхает.
…А по городу летят дилижансы, несутся почтовые повозки, плавно катят общественные кареты. Франческо любуется этим бурным, кипящим, деятельным городом. Он любит смотреть на Сену, которую бороздят баржи, лодки, маленькие, словно игрушечные суденышки. Где-то у песчаных берегов галдят прачки, колотят вальками. Похоже, что они хотят настирать белья на весь белый свет.
Франческо вспоминает, как его поразил впервые увиденный Нотр-Дам. Вдруг из хаотической груды строений взмыл ввысь целый кусок города и завис там с горделивой розой на груди.
И дилижансы, и барки на Сене, и горящая роза Нотр-Дама, и горластые прачки, и жемчужный квадрат Лувра, и маленькая опрятная церковка Сен-Медар, и ажурные арки моста Мари — все это парижская жизнь.
И то сказать, всякая жизнь — парижская, римская, флорентийская — есть великое благо. Старший Растрелли хорошо понимает это и знает, что жизнь везде одинакова и люди тоже одинаковы, ибо одинаковые причины рождают одинаковые следствия. Люди не всегда, но часто вращаются по очень узкому кругу. И еще знает он, что художник может вознаградить себя за неудачи, которые преследуют его в жизни, только одним — работой. А вот ее-то и нет. И все же Растрелли-старший не расстается с радужной мечтой о славе и признании. Он чувствует, что жив и благополучен, потому что в его голове шевелятся идеи, планы, загораются фейерверки замыслов. Нет, временные неудачи его не собьют. Сил, энергии ему не занимать. Он поставит на ноги сына, даст ему образование. Он ухватит славу за крылья во что бы то ни стало. Волна одержимости захлестывает его.
Сейчас Растрелли-старший похож на упрямого сильного коня, который только и ждет призывного звука трубы.
Итак, Растрелли живут в старом, средневековом Париже. Они ходят по стершимся каменным плитам мостовых и слышат четкие звуки своих шагов. Для старшего Растрелли такие прогулки преследуют чудесную и вполне определенную цель — он натаскивает сына, втолковывая ему главные принципы архитектуры.
— Каждое здание, Франческо, должно нести ясную, четкую идею. В любой постройке нужно соединить красоту с удобством для жизни. Постройка не должна портить лик земли. Дворец должен иметь натуральный вид, а искусство надобно прятать поглубже. В Париже всегда поступали наоборот. Здесь многое вывернуто наизнанку, часто все напоказ…
Больше всего Растрелли-старший любил ходить к Лувру, его постоянно тянет туда. Может быть, он хочет получше разглядеть то, что не доверили самому Лоренцо Бернини. Кавалер привез проект дворцового комплекса Лувра, но его отвергли, а приняли проект Клода Перо.
С особой почтительностью разглядывает отец фасад Лувра, благородство пропорций, богатый скульптурный декор из статуй и барельефов.
— Смотри, Франческо, — говорит он сыну, — самое главное в Лувре — его ритм, особая расчлененность фасада. Это классицизм, он суховат, но монументален. Жаль, что Бернини не дали сделать фасад, он бы утер нос французам. Он бы показал им, что такое архитектура по-итальянски. Когда у Бернини король спросил, какого он мнения о дворце Тюильри, тот ответил, что ему этот дворец кажется огромной безделушкой, большим эскадроном маленьких детей.
А Лувр — совсем другое. Золотой самородок в буром песке повседневности. А вообще я тебе скажу, что готика для меня как сушеные хрящи огромной рыбы. Архитектуру, я убежден, нужно месить. Мять, лепить, составлять из кусков. Любая постройка хороша, когда она не топчется на месте, пусть кружится в воздухе, пусть парит. Если это дворец — он должен жить, двигаться. Ты согласен?
Франческо разглядывал Лувр, и ему пришло в голову, что настоящая архитектура — это не только форма, но и цвет, заключенный в ней. Вместе они и создают цельный образ.
Конечно, если бы он знал Флоренцию, он совсем иначе воспринимал бы все, что видел в Париже. То, что открылось его созерцательному взгляду во Флоренции (туда он попадет только через пять лет), перевернуло все его
представления об архитектуре барокко. Он упивался изобилием цвета, изобилием лепнины, изобилием узора. Флоренция была городом счастья, охристо-розовая, с красными черепичными крышами.
Франческо увидел скульптуры Микеланджело, фрески Джотто, тосканские холмы, шпили и купола. Он узнал, что такое увеселительный дворец и что такое парадная резиденция. Он узнал настоящую цену величавой торжественности. И во Флоренции, увидя все собственными глазами, он лучше понял тоску отца по городу, который Леонардо считал самым идеальным в мире.
— Иди сюда, Франческо, — позвал его отец, — смотри, бамбино мио
[11], я тебе сейчас наглядно поясню, что такое французский ренессанс. Ты видишь эти колонны со статуями, аллегорические фигуры? Смотри, как они дополняют архитектуру, обогащают ее! Это сделал великий скульптор Жан Гужон. Из-за них Лувр стад таким пластичным, что я не знаю ему равных. У тебя в жизни будет свой Лувр — учти этот опыт, возьми на заметку…
Архитектор Растрелли вспомнит слова отца, когда будет строить Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Здесь он достигнет своей высшей ступени. Он разместит статуи на балюстраде крыши и добьется широкого, плавного, текучего ритма.
Но то будет позже. А сейчас юноша рад жаркому солнцу, чистому воздуху, пению птиц, доносящемуся из темной листвы.
В нем бурлят живые токи молодости, душу распирает детская неукротимость. У Франческо такое же, как у отца, свежее красивое лицо, темные карие глаза. У него по-детски толстые сочные губы. Он проводит по ним языком, потому что рот пересыхает от зноя. Интересно, думает Франческо, что же будет летом, если уже в апреле жара успела утомить горожан. Они устремились к воде — бродят по набережным Сены, стоят у фонтанов, плещутся в прудах.
В шестнадцать лет жизнь кажется нескончаемой… Ты ощущаешь прилив молодых сил. Растет душа, крепнут крылья. Впереди — счастье. Пьянящее, молодое, необъяснимое чувство радости…
* * *
Один мудрец заметил, что старость бывает величественная, бывает гадкая, бывает жалкая. А бывает и гадкая, и величественная вместе.
Нечто подобное отцу и сыну Растрелли предстояло теперь увидеть в самом центре Парижа.
Дом гадалки был древний и обшарпанный. Он выходил углом на Комартенскую улицу и сохранил на себе остатки лепных украшений. Лучше всего на доме видна была лира, намекающая на то, что люди искусства не были здесь посторонними.
Когда они увидели старуху, отец шепнул Франческо:
— Такая плюнет на золото или серебро и своим ядом растворит получше любых кислот!
Брови у старухи походили на две щетки — жесткие, с густыми волосами. Тяжелые веки оставляли для глаз маленькие просветы.
Лицо у нее было сухое, недовольное. И когда она выходила в маленькую освещенную залу, провожая очередного клиента, когда обводила злыми глазами пять-шесть посетителей, что покорно ждали ее приговора (втайне надеясь на лучшее), во взгляде гадалки пробегало мрачное торжество.
Наконец дошла очередь и до Растрелли-старшего. Он сделал сыну знак головой. Они оба вошли в небольшую квадратную комнату вслед за старухой.
Комната была погружена в полный мрак. Только где-то в дальнем углу теплилось несколько тоненьких свечей. Их мерцанье отбрасывало тонкие желтые стрелы слабого света на стол. Там старуха и примостилась в высоком кресле.
— Итак, сударь, — заговорила старуха с необыкновенной энергией, — о чем бы вы хотели погадать у меня? — Она угрожающе вскинула свои анафемские брови и обвела отца и сына прищуренными глазами.
"Проклятая колдунья", — подумал скульптор, за деньги, которые он отдаст сейчас гадалке, он мог бы прекрасно провести время на Граммонтской улице, или на Гельдернской улице, или, наконец, в Рульском предместье. Это были улицы молодого порыва и красоты. Там были такие девицы, что любят не за деньги, как о них говорили. Они любили любовь.
Тяжело вздохнув, скульптор сказал:
— Я хотел бы вас просить…
Тут гадалка резко перебила его. Старая ведьма не только завопила, но еще и пристукнула костлявым кулаком по столу:
— Все у меня просят, все просят! А что я могу? Карты на просьбы не отвечают. Они говорят — что есть и что будет! И все! Только это…
Она снова отвратительно громко стукнула по столу. И звук этот был еще усилен тем, что на каждом пальце у старухи было по толстому массивному кольцу.
Франческо стало страшно.
— Вас послала ко мне вдова маркиза де Помпоннэ, так?
Старуха вопросительно уставилась на отца.
Растрелли-старший — человек смелый, сильный, дерзкий — хотел ответить, но так и остался в замешательстве.
А гадалка сопроводила его смятенье змеиной усмешкой.
"Она, видно, жрет белладонну, адамову голову или сонное яблоко, — подумал скульптор, — а ночью вылезает из окна и отправляется в назначенное место для свидания с сатаной".
— Ехать нам или не ехать? — тихо спросил скульптор.
— Льды! Льды! Льды! — вдруг истошно вскричала старуха, подымая кверху скрюченные пальцы. — Вижу снег и снег. Вижу поле, укрытое в белый саван. Голубые сугробы!
Отец и сын одновременно вздрогнули.
Со страхом они уставились на гадалку. А та рассыпала карты по столу веером — они так и брызнули из ее рук.
Она подержала руки над картами, словно они грели ее бескровные пальцы. Потом вдруг сникла, сжалась, опустила голову. Похоже было, что ей причинили боль. Она положила на стол левую щеку, закрыла глаза и тяжело дышала. Ей вроде бы удалось прислушаться к чему-то потустороннему.
— Так о чем вы хотели бы погадать? — спросила она через некоторое время уже совершенно иным — теплым, вкрадчивым, мягким голосом.
Скульптор подивился такой неожиданной резкой перемене, но сразу же ответил:
— Мы ищем фортуну, сударыня, нам предлагают ехать в Россию. Говорят, там многие из тех, кого пригласил русский царь на службу, превосходно устроились. Хотим и мы рискнуть — вот и пришли к вам…
Голос старшего Растрелли звучал бархатно, просительно и даже несколько жалостно.
— Я вас очень, пожалуйста… очень… прошу все взвесить и дать свою рекомендацию — ехать нам или оставаться здесь… Денежные дела у нас расстроены, и дальнейшая судьба полностью в ваших руках.
Скульптор что-то прикинул в уме и быстро добавил:
— Я художник! А художники всегда рискуют! Дайте совет. Только скажите, только скажите!
Гадалка подняла от стола маленькое желтое лицо, разгладила обеими руками слежавшиеся морщинистые щечки и сказала после некоторого молчания:
— Мои карты показывают дальнюю дорогу, успешную казенную службу. Шестерка треф — удачное путешествие, десятка пик — доброе начало трудов. Вы найдете свою фортуну, но знайте: у вас будут трудности, будут нужды… Запасайтесь терпеньем впрок!
Она смежила веки и прошептала:
— Уходите, уходите… Я слишком устала от вас!
Когда дверь за ними закрылась, отец перевел дух и голосом, вовсе не похожим на прежний, насмешливо сказал:
— Ну и напугала меня старая ведьма! Ну и нагнала страху, прости меня всевышний. Ну и уморила! Ты знаешь, Франческо, я ей сильно доверяю. Noi italiani siamo fin troppo fidenti…
[12] Как она заорала про льды, мне показалось, что она знает все, все. Итак, мы едем в Россию. Выправим бумаги, получим деньги — и в путь! Вот только патент о графском титуле нужно привести в порядок.
Возился Растрелли-старший с этим титулом давно. Ему казалось, что в таких странах, как Италия и Франция, талант художника весит намного легче титула. А для России, думал он легковерно, титул крайне надобен. Чужая страна. Пригодится… Хотя и знал скульптор — титул не кормит.
* * *
Как-то отец рассказывал Франческо про родосского живописца Эпименида. Два года путешествовал тот по морю для того только, чтобы приучить себя к терпению, потом жил десять лет в Азии и шесть лет изучал живопись в Греции, чтобы привыкнуть молчать и сосредочиться на главном. Вот как страстно и как старательно учились древние. Вот как они вырабатывали характер…
Что ж, Франческо готов ко всему.
Для покупки графского титула матушке Франческо донне Анне-Марии пришлось расстаться с некоторыми своими фамильными драгоценностями. Но кто станет считаться с убытками? Ведь на карту поставлена жизнь, будущее сына, работа мужа.
Зато теперь отец — граф де Растрелли. И сын граф де Растрелли-младший. Денег, которые отец заработал за памятник маркизу де Помпоннэ, едва хватило, чтобы раздать долги. Спасибо другу дома — епископу Филиппу. Он сказал отцу, что особенно не спешит и готов ждать уплаты долга еще года два-три, пока у скульптора подвернется выгодное дельце. И волен-де Растрелли пустить на жизнь и на материалы то, что приготовился отдать ему, епископу. Добрейший человек этот итальянец, папский нунций Гуалтерио. Худо им бы пришлось без его помощи. Все готов он отдать в бессрочный кредит, чтоб только помочь ближнему.
Никогда не слышал Франческо, чтобы этот нунций, или нунтиус, как он про себя именовал епископа, хотя бы кому-нибудь пожелал зла или сказал о ком-то худое слово. Он был добр ко всем без исключения и говорил: плохих людей нет, все пред богом хорошие, есть только заблудшие души, их надобно вести к свету. На этой почве у них с отцом бывали жестокие споры.
Нунтиус приходил к отцу в мастерскую запросто. Он был влюбленным в искусство человеком, благоговел перед художником. Он собрал изрядную коллекцию медалей и очень ею гордился. Медали и в самом деле были замечательные.
Франческо видел эту коллекцию не раз, и нунтиус неизменно спрашивал своим приятным баритоном:
— Ну, мой юный друг, скажи-ка мне: что тебе здесь нравится больше всего?
Франческо показывал:
— Вот эта хороша и вон та, маленькая, тоже! А лучше всех, святой отец, вон та крохотная, малышка, серебро под золото с профилем…
— Э-э-э, да у тебя губа не дура. Это гордость всей моей коллекции.
Чего только не было в коллекции епископа! И где он понабрал все это? Какими ухищрениями достал?
Большую часть его собрания медалей составляли творения самого высокого художественного достоинства.
Тут собраны были крупнейшие медальеры из разных стран: французы Шерон, Данфри, Дюпре, Варен, знаменитый немец Людвиг Нейфарер, итальянцы братья Абондио, голландец Боскам, отец и сын Хены из Швеции. Это все были мастера первой руки. В их работах Франческо поражали блеск таланта, выдумка, мастерство, — они добивались гармонии, цельности. Видно, имели ясное и трезвое понятие об искусстве. Если б этого не было, они не смогли бы так чудесно исполнить свою работу.
Франческо в коллекции епископа очень нравились итальянцы. И не потому вовсе, что он был их соотечественником. Маттео де Пасти, Пизано, Антон Марескоти, Сперандио — каждый из них был виртуозом, предельно лаконичным и возвышенным. Нравилась ему в итальянских медалях благонравность — мягкость, доброта, ласковость.
А медали эти таили в себе мир неожиданный, любопытный, фантастический: тут были изображены рожденья и смерти, костлявые старухи и счастливые новобрачные, окруженные пылающими сердцами. Были на медалях амуры, парусники, военные трофеи, панорамы восхитительных пейзажей — городских и деревенских, были цветочные орнаменты и морские сражения, сюжеты евангельские, изображения различных стран, частей света, сцены о блудном сыне и тайней вечере.
Франческо подолгу разглядывал медаль Жермена Пилона с портретом Генриха II и Екатерины Медичи. Пилон ничуть не приукрасил королеву: он показал женщину мрачную, зловещую, пугающую. Вид у нее был ужасный, а прищур — ведьмы. Для такой — сразу было видно — творить зло — закон ее жизни. Но при этом в медали сохранилась благородная сдержанность, а рельеф был нежный и мягкий.
— В каждой медали, мне кажется, кусок истории. Так и хочется все эти куски соединить в один, — сказал младший Растрелли епископу.
— Ты умница, дружок мой, у тебя светлая голова! Соединять несоединимое — вот удел художника, собирать лучи в сноп! — Епископ заходил по комнате. — Знаешь, я думаю, что в истории нет второстепенных действующих лиц. Это только кажется нам, что один человек важный, а другой нет. Я убежден, что любой человек важен сам по себе. Не зря же он родился. И где-то есть звезда, его оберегающая. Есть такие, что одолевают пространства скачком, словно небесные кони. О них сказал Гомер. Другие… Но все равно каждый человек важен и значим. — Епископ пристально посмотрел на юношу. — Вот тебя тоже надо бы запечатлеть, — сказал он, — у тебя медальное лицо ангела, а почему бы и нет?.. Медали выбивались в знак событий больших и важных. Посмотри, Франческо, на эти маленькие изображения. Ты увидишь, как отцы и праотцы наши погибали в войнах, побеждали, заключали мир, короновались, достигали вершин в науках и художествах. И теперь в этих живых образах они сохранятся на века, и мы, глядя на них, будем радоваться или скорбеть… Ты знаешь, Франческо, для того чтобы сделать хорошую медаль, нужно быть не только художником, но также и человеком. Служение красоте исключает скотство…
…La volgarita ci perseguita continuamente……e antica come il mondo ed esisteva gia molto prima che Gesii Crist venisse crocefisso sul Golgota
[13].
Впервые тогда Франческо задумался о том, как легко запутаться в ложном и как трудно прийти к гармонии, к истине. Разговоры с нунцием, дружба с ним остались в душе Франческо праздником. Было в этом человеке много доброго и прекрасного.
* * *
Длинный, как пожарная каланча, с рыжими усами и лицом высокомерного мастерового. Это русский царь. Хитрый, расчетливый — в Париже он даже за парик торговался, ему кажется, что французы безбожно дерут с приезжих. Рассказывали, что после долгого торга он дал придворному парикмахеру семь ливров вместо просимых тем десяти. И вот этот-то государь знал хорошо — что кому говорить и сколько чего обещать. И потому его агенты деньги на проезд и содержанье сулили старшему Растрелли немалые, поистине царские. Как тут устоять, когда денежные дела пришли у них в полнейший упадок?
Назойливо почему-то лезли в голову Франческо слова нунциуса: "Не нужно ехать вам в Россию, страна эта, по слухам, грубая, жестокая, каторжная". Отец на эти слова только добродушно посмеивался: трус в карты не играет! А каторжники мы все, все должны толкать свои тачки по торным дорогам жизни. Нас, Растрелли, голой рукой не возьмешь, святой отец, мы племя живучее, нас взрастила Флоренция, а у флорентийцев кровь густая, как доброе вино!
Советники царя Петра — Конон Зотов и Иван Лефорт — гнули свое:
— Вас в России ждет карьера славная — отцу сразу работа по строительству дворцов, а сыну при нем дело сыщется. Стройте себе, как и что хотите. Дом дадим, и монет будет вам вдоволь. Всем обеспечим, что надобно. На то слово царское твердое и надежное дадено. Мешать никто не станет. Захотев дворец взбодрить — на доброе здоровье, у нас мастеров добрых ценят, а хоть — ставь конный статуй или знатный фонтан сооружай…
Слушали отец и сын сладкие эти речи, и сердца у них одинаково замирали.
— У вас в Европах все уже застроено, а у нас в отчизне свободного места девать некуда, — старался Конон.
От посул щедрых да от радости Франческо хотелось прыгать на одной ноге, и он еле себя сдерживал.
На одной голландской медали из коллекции епископа, которую он подарил ему, Франческо поразил обширный старинный дворец с колокольней. Почему-то вспоминал он его всегда с отчетливой ясностью. И мог в любую минуту нарисовать. Он разглядывал в лупу детали и украшения неведомого ему архитектурного гения, разглядывал и дивился…
Как мог обычный человек создать такое чудо! До чего же бесконечна и многолика человеческая фантазия!
Дворец был изумительно красив. Это была сама природа — только упорядоченная и соединившая восторг человека с его мечтой о прекрасном.
Что-то необыкновенно торжественное было в этом дворце. Щели окон и дверей походили на отверстия в бездну. Ощущение мрачной и дьявольски хитроумной игры возникло у Франческо, но чем это достигалось, он в толк взять долго не мог. Только потом понял, что главное в этом дворце было построено на контрасте — мелких деталей с крупными, тяжелого массивного низа с легким, устремленным ввысь верхом, мрачного с радостным. Словно сдобное пышное тесто всходил дворец, но его все время сжимала властная рука и месила из него уверенную форму.
И через тридцать лет будет вспоминать наторевший русский архитектор граф Растрелли этот дворец. Будет помнить, когда начнет работу над проектом Екатерининского дворца в Царском Селе. Он сделает свой дворец не мрачным, а радостным.
Он сделает свой дворец золотым.
Золотыми будут вазы и статуи балюстрады.
Золотыми будут все капители колонн.
Золотыми будут все наличники.
И тогда заиграют на солнце лепные атланты, замковые камни, кронштейны цоколя. Кариатиды Растрелли подопрут желтое петербургское небо. А Екатерининский дворец в Царском Селе Растрелли историки признают одним из самых замечательных дворцовых зданий мира.
Пролетят года. Славен и знаменит станет стареющий Растрелли. Гений зодчества, подрядчик грандиозных замыслов.
Он останется современником косноязычной эпохи, сработавшим для нее античную радость.
Но сильно омрачится счастье генерал-майора и кавалера ордена святой Анны обер-архитектора двора графа Франческо Бартоломео де Растрелли. Чувство смерти посетит его — черное, бездонное, мерзкое. Холера и оспа, что станут править вместо Петра III, унесут в холодную сырую землю Петербурга четверых его детей — Иосифа, Якова, Элеонору, Бартоломео.
Он лишится единственной любимой женщины — и тогда жизнь покажется ему жутким тинистым омутом. И он скажет: все ничтожно на этом свете, все тщета. Будь оно проклято!
Мы увидим его грузную фигуру, и морозный петербургский ветер будет жечь ему губы, извергающие проклятия.
А когда-то вдали, за сугробами сыпучего снега, под стылым, под неласковым небом взойдут невиданные золотые цветы — его дворцы.
Дворцы России, творения архитектора Растрелли. Одному богу известно, как Растрелли удалось вложить в каждую свою постройку столько любви.
Художники Возрождения стремились по-новому передать человека в единстве с его окружением, и Растрелли открыл единство своих дворцов с самой Россией, которая была лучшей и достойной оправой его творений. Но она умела проявлять странное равнодушие к гению. Обер-архитектор и генерал-майор оказался вдруг ненужным: от работ он был отстранен. Закат дней его был печален, и местонахождение могилы Растрелли — неведомо. Гений, построивший дворцы счастья, пропал без вести…
Наступит день, и Великий архитектор будет всматриваться в морозную даль почти слепыми глазами и твердить:
— Мои дворцы, мои дворцы…
А они переживут время, потому что над ними трудилась, напрягалась и рвалась чистая святая душа.
Глава вторая
Впереди — счастье

росветлел лес, и на маленьких озерках захлопотали утки, перевертываясь в воде вверх задом. Чистым изумрудом засверкали на атласном солнышке гладкие шеи молодых селезней. Все это было частью мироздания, встречающей каждый день как праздник. Выбились на парковых газонах первые травы, и такие крепчайшие запахи разбрызнулись — сосновые, влажные, бодрые, что могли любое сердце, любую душу всколыхнуть, успокоить.
Небеса источали покой и мягкую тишину.
В природе, казалось, установилась божья благодать, только вот санкт-петербургский климат… Кто к нему может привыкнуть? В мае возьмут и подуют ни с того ни с сего холодные ветра — и сразу наступит настоящий ноябрь. Дни станут ясными и холодными, а жизнь в такие дни — трезвой и беспощадной. Засвистит, закрутит ветер, завоет, в Неву слетят целые охапки только что народившихся нежнозеленых листочков.
Вдоль по набережной Адмиралтейской стороны стоят дворцы. Когда начинали строить город, предполагали, что он будет деревянный, — лес-то ведь под рукой. И наставили, нарубили деревянные дома с башенками — все-таки Европа. Но время шло, понаехали архитекторы — итальянские, немецкие, французские, голландские, — и в ход пошел кирпич, гранит, камень. Многие из приезжих не выдерживали тягот и бед российских — на кого хворь нападала, на кого тоска, трудно было усвоить здешнее обыкновение относиться к художнику с полнейшим равнодушием к его повседневной жизни. Конечно, были среди приезжих и люди выносливые, терпячие — они страдали, сносили нужды, держались, работали, надеясь на лучшее, не из кротости и смиренья, а потому что не иссякало в них мужество, не избывала сила духа. Такие были уверены, что за терпенье дает бог спасенье. Потому и прижились они, навсегда остались в России, считая ее второй родиной.
А слишком запальчивые, требовательные, непостоянные притерпеться не могли, под любым предлогом они стремились отделаться и бежали из города без оглядки.
Но начатое уже было не остановить.
Еще с Петра, влюбленного в свой парадиз, принято было и узаконено денег на строительство города не жалеть. Потому и ехали в Петербург знаменитости из разных углов Европы.
Заправлял строительством начальник Канцелярии от строений Ульян Акимович Синявин — солидный, сиятельный мужчина. Его энергия и редкий талант упорства премного способствовали возведенью фортификаций, дворцов, церквей, палат и вообще украшению русской столицы.
Главным же в этих делах был неистовый и благородный мастер, не щадящий себя подвижник, человек талантливый и разносторонний, архитектор Варфоломей Растрелли.
Как он оказался при российском дворе, почему остался в России вплоть до своей смерти, став величайшим русским зодчим, творцом неувядаемых шедевров архитектуры, — об этом будет рассказано. Но возьмем на заметку одно соображенье: давно известно, что поденщики ничем не гнушаются, а душа истинного художника жгуче стремится к честности — без этого она мертвеет, ссыхается и пропадает Живший намного позднее, но такой же, как и Растрелли, одержимый искусством мастер и человек, столь же беспредельно влюбленный в свое дело, поведал однажды, что во время нездоровья и бессонницы было ему видение. А именно: появился Петр I и многозначительно сказал:
— Время подобно железу горящему, которое ежели остынет…
И мастер твердо решил: "Да! Это ясно: ковать, ковать железо, пока горячо!"
Всю жизнь Растрелли и собрат его Андрей Матвеев ковали. Железо не остывало.
В 1716 году, когда юный русский пенсионер Матвеев покидал столицу на Неве, отправляясь на долгие годы обучаться живописи в Голландию, в Санкт-Петербург из Парижа в погоне за счастьем и обуреваемый самыми радужными надеждами приехал молодой Франческо Растрелли. Судьба развела их надолго, чтобы потом соединить в одном огненном вихре художества. Растрелли строил нарядные, волшебные дворцы с такими торжественными, бесконечными, сияющими фасадами, каких еще не было на земле, а Матвеев наполнял эти дворцы живописью — страстной, неистовой, и тут сомнений не было: такое может родить живая душа. Особенность этих двух гениальных людей России состояла в том, что они нашли в себе мужество целиком отдаться искусству и в силу своего великого дара и доброты сумели значительно подняться над своей грубой и тяжеловесной эпохой.
* * *
Кто этот господин в богатом кафтане? О чем он так задумался, сжимая в руке трость?
У любого человека случаются минуты полного безверия, смутной боязни, когда в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, а в мыслях — полная неопрятность. Сие было замечено одним славным и проницательным русским писателем — человеком с неповторимым профилем, острым носом и сумасшедшими глазами. Вслед за ним согласимся, что в такие минуты уж ничего не хочется, и жизнь кажется тебе совсем невеселой, несложившейся, ненаполненной. Все что-то не так, хотя и вполне отчетливо сознаешь, что эта самая твоя, кажущаяся столь неудачной жизнь тем и сильна, что ее ни на что не променяешь.
Но и этот убедительный довод не дает отрады, когда сердце словно обложено камнями. Посетуешь на свое состояние другу, а он, сам склонный к ипохондрии и вовсе непохожий на человека, который наслаждается каждым мигом земного бытия и срывает удовольствия, вдруг посоветует тебе не гневить бога и радоваться, радоваться отпущенному, и еще скажет, что вовсе не все так у тебя плохо и что твоя жизнь сложилась очень даже недурно. Конечно, ты и не ждешь от него откровений и раскрытия каких-то там немыслимых секретов твоего бытия, но в то же время его внезапная активность начинает тебя почему-то раздражать и каждое его слово задевает больную струну. Хорошо иметь неуязвимое сердце жабы и воскресать наподобие уснувшей бабочки. Да где там… А тебя утешают: без мук и страданий-де твоя жизнь была бы намного беднее, горше, бесцветнее. Но ведь и жить, загнав душу в тупик, тоже невозможно. В конце концов ты какой-нибудь выход все же находишь… Мудрецы древности утверждали, что ни одна душа не чужда до известной степени безумия, а мудрость, которая проявляется у человека как необходимая самозащита, как раз и есть умение владеть своей душой.
У художника всегда повышенная впечатлительность — и он без спору никому не подчиняется, даже самому господу, не хочет и не сумеет быть покорным ничьей воле. Философствовать, сомневаться — удел художника. Деньги, покой, имущество не составляют ничего ровным счетом для того, кто жаждет совсем иного: победы над вечностью. Как часто, однако, каждому из нас приходится покоряться обстоятельствам, делать то, что не хочется, к чему душа не лежит. Тут и припоминаешь латинскую поговорку: "Вижу, в чем заключается добродетель, и люблю ее, но поступаю дурно".
Счастливец слышит в жизни только то, что ему хочется слышать, — он отметает все звуки и воспринимает только золотые колокольчики. Такой становится бесчувственным ко всему, что может помешать его счастью. А людям чувствительным и постоянно напряженным снятся мрачные бездны, в которые можно прыгать просто так, за компанию. Картины одна мрачнее другой рисуются их воображению — стоит только выйти за рамки привычных мыслей. Поэзия любит преувеличивать, но и жить без поэзии в душе скучно.
Глава третья
"Езжай, Растрелли, трудись!"

ачалось у них все слишком даже хорошо. В экстракте
[14], который учинили с отцом в Париже в октябре 1715 года, было сказано, чтоб оному Растреллию с большим своим сыном и учеником в службе императорской быть три года и работать во всех художествах и ремеслах, которые он умеет, и обучать оному русских, а жалованья давать обоим по тысяче пятьсот рублей на год… Дорожные протори от Парижа до С.-Петербурга за него, за сына и ученика его заплатить ему, безденежную квартиру на три года, в которое время дать ему даром место на строение особливого его дому, и ежели по трех годах не похочет больше быть в службе, вольно ему ехать, куда он похочет…
Условия, какие им тогда предложили, были так выгодны, что отказываться от них было просто глупо.
И все равно настроение, в котором они покидали Париж, было не из веселых: оставляли нажитое место, дом, матушку, родственников, ринувшись в неведомую страну. За тридевять земель. Большую часть дороги отец молчал, а сын смотрел в окно коляски и сдерживал себя — ему хотелось болтать, расспрашивать отца, делиться впечатлениями. Порой он испытывал вдруг необъяснимую радость: новое манило… Они ехали работать. Ехали возделывать необъятное поле российского художества.
…Красота Тироля вывела отца из оцепенения. Горы, горы, горы — в продолжение восьми дней. Крутые вершины, облаченные в снежные мантии, скалы, напоминающие орган, вселяли светлые мечты. "Все будет хорошо, все сложится как нельзя лучше", — думал младший Растрелли.
"Мама, я вижу лунный рог сквозь мокрые сучья, — писал он в Париж, — его отлили из самого чистого серебра, мы уже двенадцать дней движемся в сторону России, а пока за окном чудесная Италия, оттуда морским путем к северу".
Из Аугсбурга ехали на Триест, и все немецкое давно убежало назад, сменившись итальянским. Другим стало небо, другой земля, по-другому засвистали птицы в кустах. Мантуя, Модена, Болонья сразу же поколебали желание ехать скорее и нигде не задерживаться. Россия все еще была очень далеко, а Италия звала наслаждаться жизнью и забыть обо всем. Наконец они приехали в Кенигсберг, и там 14 февраля 1716 года нагнал их царский поезд. Беседа отца с царем Петром происходила в порту, когда переменяли подводы и царь осматривал верфь.
Около часу беседовали они. Петру отец, очевидно, понравился, ведь он видел перед собой человека основательного, надежного, верного. Он чувствовал в нем искушенного мастера. По вкусу, видно, пришлись ему здравые и откровенные суждения отца. И о царе отец рассказывал сыну потом с большой теплотой, совершенно им покоренный. Франческо понял, что отец не только искал в нем опору для всей их будущей жизни. Он охватил как художник весь облик Петра — с его простодушием, с его человеческим достоинством. Это была модель — что надо! Человек упорный, настойчивый, мужественный, взваливший на свои плечи добровольно управление огромной державой, которую ему захотелось переделать и обновить.
— Езжай, Растрелли, трудись, — напутствовал отца царь, — может, пользу принесешь моему отечеству, а я прикажу сделать для тебя все, что надобно для безнуждной жизни. Дам тебе письмо к Меншикову с необходимыми указаниями.
— Будем способствовать благу России художеством по мере дарований наших! — весело выпалил отец в ответ.
Письмо царя Меншикову гласило: "Доноситель сего Растрелли, который нанят во Франции, и которого тракта-мент при сем прилагаю, и когда он к вам прибудет, то проб против договору исправно было плачено на наш счет, также квартиры и прочее. Также чтобы даром времени не тратить, велите пробы ему своего мастерства делать и модель палатам и огороду (саду) в Стрельне, и понеже вы не всегда в Петербурге будете, того для прикажите Брюсу, дабы он за ним смотрел, а они к нему и прибежище имеют".
Но сего монарху показалось не совсем достаточно. Он, как передавали, приписал еще и Брюсу: "Мастеровые люди Растреллий с товарищи из Франции едут в нашу службу, о которых я довольно писал к князю Меншикову, но понеже оной отлучаться будет (о чем и к нему писал), дабы они к вам прибежище имели, и вы о них старайтесь же, чтобы даром не жили, но пробы своего мастерства делали, также чтоб модель палатам и огороду в Стрелине своего мнения сделали".
Франческо выпросил это письмо у Меншикова, когда узнал о смерти Петра. Таковой царский рескрипт был и памятью доброй о нем и мог когда-нибудь сгодиться. Было в этих письмах что-то очень доброе, живое, человеческое.
И вот при таком благоприятствии колесо фортуны все же скрипнуло.
Все дело в архитекторе Леблоне и в некоторых щекотливых свойствах старшего Растрелли.
Жан-Батист Леблон — архитектор французской нации — приехал в Россию чуть позже их. Он привез с собой запас блестящих идей, которые намеревался воплотить в жизнь в Санкт-Питербурхе.
Петр хотел облечь несбывшиеся мечты России в форму прекрасного града. Муки и страдания оставались величественным фасадом.
Пристойное могуществу державы великолепие новой северной столицы позволило впоследствии одному замечательному испанцу заметить, что Петр I был самым великим художником России в широком смысле этого слова, ибо он нарисовал в своем воображении замечательный город и упорно создавал его на огромном холсте природы.
Леблон был человек необыкновенный и хорошо знал, для чего живет на этом свете. Вот он-то, Леблон, а вернее, ссора между ним и отцом способствовала тому, что царь резко изменил свое первоначальное зародившееся к Растрелли доброе мнение и весьма охладел и переменился к фамилии Растрелли.
Но спервоначала следовало бы почтить достойной памятью большого архитектора, каковым был Леблон. Он был честен, не умел притворяться и, получив выгодный ангажемент от Петра, отнесся к своим обязанностям крайне добросовестно.
Ради справедливости заметим, что старший Растрелли бывал слишком упоен собой, успехами сына, болезненно тщеславен. Его пьянила удачливость в делах. Общение с ним в такие периоды становилось невозможным. Он смотрел на всех свысока, его охватывала какая-то дьявольская дерзость и нетерпимость, исступленное самообожание. Потом это проходило. Но он успевал нажить себе врагов, которые мстили ему в отместку за обиды, нанесенные им невзначай, или вымещали на нем свою бездарность. Это его состояние напоминало внезапно налетевший южный ветер, который взбаламучивает все вокруг, подымает на море шторм, гнет и ломает деревья. А после внезапно исчезает.
Только объятое беспокойством море еще долго шумит и бьется в ярости.
Так вот тот же Иван Лефорт, который уговорил Растрелли ехать в Россию, указал царю и на знаменитого парижского архитектора Леблона, рекомендуя его как искусного мастера многоразличных художеств, пользующегося во Франции большим авторитетом.
Петр, как известно, на веру ничего не принимал и поручил разузнать о Леблоне прозорливому комиссару Адмиралтейства Конону Зотову, который был тогда в Париже. Зотов разузнал и заключил с Леблоном контракт, где француз титулован генерал-архитектором с окладом в пять тысяч рублей в год. Зотов сам решил сопровождать архитектора, чтоб ускорить дело и чтоб дешевле стала дорога.
В мае 1716 года они оба прибыли в Амстердам, затем через Нарден и Оснабрюк пустились в Пирмонт. Здесь Петр отдыхал и пользовался лечебными водами.
Художник был представлен русскому царю. Тогда же Петр написал Меншикову: "На сих днях приехал сюда Конон Зотов и привез с собою из Франции славного архитектора и механика Леблона и прочих мастеров, которые приняли нашу службу, и оных к вам отправим сухим путем".
С Леблоном царь был неотлучно не только во время пребывания своего в Пирмонте, но и в пути до Шверина. В июне Петр снова пишет Меншикову: "Доносителя сего Леблона примите приятно и по его контракту довольствуйте, ибо сей мастер из лучших и прямою диковинкою есть, как я в короткое время мог его рассмотреть. К тому же не ленив, добрый и умный человек, также кредит имеет великий в мастеровых во Франции и кого надобно через него достать можем. И для того объяви всем архитекторам, чтобы все дела, которые вновь начинать будут, чтобы без его подписи на чертежах не строили, также и старое что можно еще исправить".
О государственной пользе хлопотал царь, хотел порядок навести в градостроительстве, да не учел важного обстоятельства: четкость военного приказа хороша в среде людей покорных. Но отдать команду художнику, его внутреннему побуждению, его одержимости — пустое дело. Всякая попытка сделать это — несостоятельна. Никак нельзя не считаться с самолюбиями художников, в коих и проявляется вернее всего их настоящая ценность.
Ментиков отдал официальный приказ: собрать всех архитекторов в городовую Канцелярию, где Леблон изложит им свои соображения.
Ну и собрались инженер-полковник Трезини, Матарнови, Браунштейн, граф Растрелли, Михайло Земцов, Шедель, Швертфегер и прочие.
Все это были опытные и добрые мастера, наделенные и талантом, и трезвым расчетом, но Леблон стал разговаривать с ними заносчиво и прибавил, что планировать будет он, а остальные будут контролерами на стройке, что все его решения обязательны. Тут старший Растрелли не выдержал, вспылил, затопал ногами как ужаленный. Он закричал:
— Как другие — не знаю, а я лично тебя слушать не хочу и не буду! Леблон, мне ты не указчик! Ты генерал, а я архитектор и скульптор, я таких, как ты, генералов могу за день вылепить целую дюжину! А приказы я буду выполнять только двоих — господа бога нашего и императора всероссийского. Да и то, пока я у него на службе…
Отец не верил, что царская воля такова, чтобы все подчинялись Леблону, который не хочет считаться ни с русской строительной традицией, ни с мнением коллег, ни даже с самим князем Меншиковым, которому он прямо говорил о его упущениях. А того это бесило неимоверно. Недовольство Леблоном росло среди вельмож, которые имели отношение к строительству. Роптать-то на Леблона роптали, но с известной осторожностию, потому что царь мог за это строго взыскать. Все знали, в какую ярость мог прийти Петр, если видел, что кто-то пытается ему мешать, становится поперек.
Леблон обладал многими знаниями, провести его было невозможно. Его энергия преодолевала все затруднения. Он представил царю свой проект застройки и планировки Петербурга. Он отобрал у Растрелли-старшего план Стрельны, признав его малопригодным. Генерал-архитектор Леблон сам произвел точное исследование местности и нивелировку. Он подал царю "Положение места и строения", с планом Стрельнинского дворца. В это же время Меншиков жаловался Петру, что у Леблона ничего не делается, хотя сам мешал французу, задерживая производство работ.
В своих планах Леблон слишком доверялся геометрическому духу. Он не хотел считаться с природными условиями. Его город должен был быть строгим, сухим, тесным. Так, он наложил овал, образуемый крепостными стенами Петербурга, прямо на то место, где Нева сливается с Невкой.
Это вызвало у всех архитекторов недоумение, а потом сильно развеселило. Леблон молча и задумчиво глядел на свой проект и был, казалось, невозмутим. Он моргал своими густыми белесыми ресницами, а потом взял и передвинул центр города на запад. Сердцевиной Петербурга Леблон хотел сделать императорский дворец в центре Васильевского острова. Но по общему мнению всех петербургских архитекторов, сердцем новой столицы должно было стать Адмиралтейство на берегу Невы. Когда центр передвинулся в излучину реки, Нева — эта дразнящая блистательная красавица с ее плавным течением — сама собой вошла в общую композицию города.
Есть архитекторы, которые уповают на линейку и циркуль, забывая, что города рождаются, как люди, и не поддаются выравниванию и образумлению. Вон вдоль берегов Невы вытянулись парадные постройки, дворцы, напротив них — Петропавловская крепость. Хмуро поглядывают они друг на друга. Три магистрали прошили город, словно в Версале, сойдясь в одной точке, но им наперерез устремились поперечные проспекты и каналы. Это создает впечатление спокойствия и простора. А Леблон считает, что в Петербурге все идет вопреки единому продуманному общему плану.
Но оставим пока что в покое планировку города. Нас больше волнует судьба самого Леблона в России. Она вдруг пересеклась с судьбой семьи Растрелли.
Случилось так, что Леблон потребовал, чтобы все начальнейшие художники, которые работают при фортификациях, домах, садах, мануфактуре и при других художествах в городе Санкт-Питербурхе, собирались в назначенный день и час раз в неделю. Собрание это должно было обсуждать вопросы о ходе работ и рабочих силах, и тут же, смотря по надобности, давались бы приказания и заявлялись требования о материалах и рабочих письменно. И настаивал еще, чтобы учреждена была должность комиссара, на обязанности которого была корреспонденция с подлежащими местами и лицами. Леблон предложил князю Меншикову создать Канцелярию строений как специальное учреждение для заведования строительной частью. Он хотел завести всюду, везде и всему самый строгий контроль. Ведь любая проверка есть господство над тобой чужой воли. Это было невыгодно многим. И прежде всего Меншикову.
Отказ Растрелли повиноваться Леблону стал известен царю. I учи сгустились над головами графской фамилии.
Ждали гроз и молний.
Но Растрелли и не думал уступать претензиям пришельца.
И вот тайный советник и кавалер Алексей Михайлович Черкасский передал скульптору, что он отстраняется от дел и отныне будет производить работы не из жалованья, а с торгу, по договорам. Отрешение от жалованья и подрядные работы поштучно показались Растрелли немалым униженьем. И он подал челобитную, что ежели ему в службе отказывают за негодностью, то пусть Канцелярия даст ему полный расчет. Вскоре им объявили, что вновь контракта с отцом заключать не будут, а чтобы он впредь не имел причины бить челом, дать ему из Коллегии иностранных дел абшит
[15].
Из правительствующего Сената к генерал-майору г. Сенявину пошло строгое указание: "Обретающиеся у графа Растрелли разные вещи работ его принять под охрану, а его, Растреллия, отпустить в Москву, дав ему пашпорт".
Сыну тогда показалось, что дела их пойдут кувырком и, возможно, им вообще следует подумать о возвращении в Европу.
Но отец воспринял события по-своему…
Ожидание
Хорошо стоять свежим и прохладным ранним утром возле московских соборов и смотреть, как на зеленых лужайках прыгают безмятежные серые воробьи. Потоки солнечного света пронизывают воздух. Франческо Растрелли — ему 29 лет — испытывает острое наслаждение: он обрел полную ясность духа. Он всем доволен, он строит вместе с отцом в Московском Кремле Зимний Анненгоф — дворец для новой императрицы Анны Иоанновны. Жизнь молодого архитектора полна радостного ожидания.
Полна ожидания, но совсем другого, и жизнь бывшего генерал-полицеймейстера графа и в прошлом блистательного губернатора Антона Девиера.
В это время — на улице уже апрель — в Санкт-Питербурхе по Неве идет лед, по улицам мчат санные кареты, а в Соловецком монастыре, куда загнали Девиера, стоит такая стужа, что перехватывает дыханье. Света белого не узришь.
Беседа с глазу на глаз с русским морозом хорошего не сулит, деревенеешь, как палка.
Антон Девиер — человек еще не старый, но крайне измученный — думает о том, как ему не повезло и какой он неудачник, вспоминает своих детей — Александра, Антона и маленького Ивана. Перед ним возникает лицо его жены — темноокой пышной красавицы Анны. На ней Де-виера женил сам государь Петр. Теперь и жена Анна Даниловна, и дети его живут в деревне — покинутые, брошенные, никому не нужные, несчастные. А он — многократно допрошенный, пытанный в Тайной канцелярии за участие в подготовке дворцового переворота, сосланный на Соловки — ждет смерти. Не велено ему по указу ни с кем говорить, писем не писать, довольствоваться скудною пищею и содержаться под крепким караулом. И какого черта полез он в это сомнительное дело? Девиер вместе с графом Петром Толстым вздумали было свалить светлейшего Меншикова. Ишь куда хватили! Не удалось.
Безмолвие в кельях-казематах. Боль и тоска. Одна отрада здесь — веселый, неунывающий начальник караула лейтенант Лука Перфильев. Он приносит Девиеру вино, и на лице его частенько
заметно сострадание к опальному генералу. Вот и ждет его Девиер с горестным нетерпением…
Глава четвертая
Франческо Бартоломео. Год 1730-й

так, его зовут Франческо Бартоломео Растрелли. Он приехал в Россию, в Санкт-Питербурх из Парижа в 1716 году, 23 марта. День этот он помнит хорошо — такие дни оставляют в жизни глубокий след. После Франции Россия кажется иноземцу косолапой и первобытной. И он начал открывать ее для себя в первый же день, поражаясь то мрачной угрюмости людей и природы, то их неожиданному веселью — бесшабашному, с надсадной хрипотой пьяных песен.
Шумела в ушах новая жизнь, казавшаяся и нелепой, и наивно прекрасной.
В рекомендательном письме, которое царь Петр дал Растрелли-отцу для Меншикова, было предписано, чтобы им исправно платили и довольствовали во всем. Для привады других. Это исполнялось неукоснительно. Поселены они были на Васильевском острову возле Меншикова. Как он сказал, — для лучшего надзирания. Их возили на обеды с сиятельствами и высочествами, с пышными трапезами, музыками и хорошенькими женщинами. Они сразу почувствовали себя здесь людьми не чужими, не случайными постояльцами. Радушию, казалось, не было границ. А потому — к новой жизни Растрелли привыкали быстро, все больше и больше окунаясь в работу, которая была для них истинным наслажденьем. Великий государь по горло загружал старшего Растрелли — модели машин для исполнения фонтанных труб, бюст самого царя, бюст Меншикова, восковая барельефа с красками, являющая Полтавскую баталию, модель фонтанного каскада для Петергофии, фронтиспис на книге морского регламента, чертеж для строения Сената, портрет Петра в дереве для военного корабля, модели для маскарадных платьев, персону майора Бухвостова. Все нужно было беспокойному государю. Способность действовать толково и энергично ценилась в России высоко — это Растрелли сразу почувствовали. Произведения их труда принимались благосклонно, с благодарностью. Тут-то сын увидел воочию высокую одаренность своего отца, его искушенность и опытность в делах самых разных. Франческо восхищался способностью отца думать быстро, решать неотложно, делать все необыкновенно убедительно. Позднее он понял, как много значило для него, что рядом есть такой надежный человек, такая светлая голова. Деловая напористость зажигала душу, расшевеливала, да так, что чесались руки. Хотелось самому работать, работать, работать.
Теперь Франческо тридцать лет, и сделать в России он уже успел много: составил подробный генеральный план расположения мызы Стрельны, а также приступил к изготовлению модели большого сада с видом на море. Руководил постройкой каменного дворца в Бенгенбауме, равно как и нижнего сада и увеселительного дома, который ранее принадлежал князю Меншикову и находится в девяти верстах от Петергофа. Построил в конце Миллионной улицы дворец государю Волосскому, князю Молдавии, сенатору и кавалеру ордена святого Андрея Дмитрию Кантемиру на набережной Невы и в течение двух лет отделывал покои дома барона Шафирова. За свое архитектурное искусство в палатах Шафирова по распоряжению императрицы Екатерины I получено им триста шестьдесят рублей. Это его первый большой заработок в России. Да, он, граф Франческо Бартоломео Растрелли, итальянской нации, но он знает — строить в Санкт-Питербурхе надобно на манер голландских особняков и парижского учителя маэстро Блонделя. Работу ищет, которая была бы ему по сердцу. Труд архитектора для Растрелли — радостная основа жизни. Более всего хочется ему строить дворцы в италианском стиле на принципах, выработанных Витрувием и Виньолой. Он любит игру света, скульптурность и живописность, великолепие и торжественную нарядность. Все должно быть в гармоничном единстве — колонны, пилястры, бесконечные фасады, богатство светотени.
Он твердо знает теперь: нужно искать свой собственный стиль — простой и сложный, свежий и утонченный. Никто не станет спорить: классицизм Трезини, Земцова, Коробова, Квасова хорош, содержателен, наполнен. Настойчивое терпенье подымает их творения до совершенства. А он, Растрелли, хочет передать в архитектуре свое живое волнение. Он поглощен идеей легкого, стройного, изящного здания. Стиль — в этом он уже убедился на опыте, когда строил деревянный Анненгоф и воздвигал громадный деревянный дворец в Лефортове, — должен оставлять впечатление массивности и силы, точного чувства пропорций и величия. От дворца Кантемира — первой самостоятельной постройки Растрелли — до дворцов Бирона в Ругентале и Митаве, Третьего зимнего дворца, особняков Кикина и Апраксина архитектор откроет систему собственных мерил. Верхним чутьем он поймет, что главное — это монументальная анфилада, развивающаяся перспектива, протяженность.
1730 годом помечены собственноручные проекты молодого зодчего. Это план бельэтажа летнего Анненгофского дворца и вариант устройства лабиринта, фасад со стороны реки Яузы и главный фасад со стороны Головинских садов, наружный фасад галерей, план части террас со рвом, расположенным перед дворцом. Тут же спланированы Головинский дом и при нем церковь, Оперный дом и прочие строения. И каждое на свой манер: Летний дворец — он летний и есть, легкий, прозрачный, открытый солнцу. А Зимний — совсем другой: добротный и прочный, он в любую метель выстоит, только заиндевеет на сильном морозе, его небесно-голубой цвет ни от холода, ни от ветра и дождя не выгорит.
Франческо чертит, набрасывает, прикидывает. Лицо у него пылает, но рука тверда. Чертежи Растрелли делает очень тщательно тушью и акварелью на бумаге верже.
"Господи, как хорошо, что отец подписал в Париже тогда контракт с русскими! Какой папа молодец", — с гордостью думает он, поражаясь дару его предвиденья. Отец ему говорил: "Ну что же, поедем, поглядим… Если справимся — честь нам и хвала. Этот советник коммерции Иван Лефорт, что договор со мной заключал, искушенный, как старый змий, у него один закон: на торгу все сойдет, торг дружб не признает… Между прочим, этот Иван Лефорт — племянник знаменитого друга царя Франца Лефорта. В дядю умом пошел племянничек, не сплоховал!" Отец трепетал от радости, когда царь Петр дал ему аудиенцию. И царь торопил, просил времени зря не терять и сразу же заняться постройкой дворца в Стрельне.
С этой мызой Стрельна, находящейся в восьми верстах от Петергофа, им, Растрелли, пришлось немало повозиться. И отцу, которого считали мастером на все руки, и сыну. Но от услуг отца потом отказались: в Петербург приехали два видных мастера — Леблон и Микетти. А сыну, которого стали звать Варфоломеем Варфоломеевичем, пришлось приводить в окончание начатые работы. Неспешно шло дело в Стрелиной мызе: начали в 1716-м и только в 1751-м последовал указ об ассигновании средств на возобновленье дворца. В 1754-м начались штукатурные работы, стали строить деревянную парадную лестницу. Потом соорудили двое каменных ворот по чертежу Растрелли. Еще через год к оным воротам изготовили модели статуй и ваз. Заменяли кровлю, делали штучные полы. Стремились к тому, чтобы в Стрельне мог проживать весь двор. В начале 1760 года работы приостановились. А еще через пять лет Контора строения в Стрельне была и вовсе упразднена. "За неимением там строения". Полвека строили и решили: хватит…
…Как только Растрелли приехали в Санкт-Петербург, к ним сразу же пригнали верзилу шведа, из пленных, портного, и он сшил обоим костюмы, какие полагались придворным мастерам: камзол, кафтан, панталоны из добротного красного сукна.
Натянули они на себя парадные чулки небесного цвета, потопали в деревянный пол кожаными башмаками и посмотрели друг на друга. У отца на лице — счастливая улыбка, а у сына глаза вспыхнули. Не так он за себя рад, как за отца: то, что ему не удалось в королевском Париже, наконец-то осуществится здесь, в царском Санкт-Питербурхе. А что место диковатое и не слишком-то обжитое — не беда. Уже целых четырнадцать лет архитектор имеет честь состоять на службе их императорских величеств. С ними носились, окружали заботами. Сам светлейший князь Меншиков ездил с ними на мызу Стрельна, чтобы осмотреть, где чему быть. Прикинули, разметили, и он сразу отдал распоряжение. И уже через неделю пригнали две сотни землекопов. Они тотчас приступили к рытью каналов.
Пошло все как по маслу: будто само собой предполагалось, что для отца и сына Растрелли наступят счастливые времена, никто в их дела лезть не будет, мешать не станет и оскорбительным окриком не оглушит. По учиненной с Лефортом капитуляции
[16] перед ними открылось необъятное поле, словно приготовленное для вспашки. Радужные мечты наполняли отца и сына. Еще бы! Жизнь всякого человека бессмысленна, если он не испытывает хотя бы краткий миг счастья. Попробуй проживи, если все затянуто паутиной тоски, одето в серый цвет, словно в петербургский береговой туман. Нет, нужен хоть луч радости. Им дали возможность проявить свои таланты, показать силу. А достоинства, прилежания, мастерства — им не занимать!
Был Растрелли-сын счастлив сверх положенного. Сладко замирала в нем душа. Его обуревали замыслы — один грандиозней другого. Мечты становились снами. Легкими, радужными. Ему снились дворцы с золочеными скульптурами и богато украшенными лепниной залами, снились вереницы окон, вельможи, важно шествующие по лестницам в изысканных златотканых одеждах. Снились шелковые обои всех цветов и оттенков, зеркала, дорогая резная мебель. Иногда он видел в своих снах отца и самого себя, картинных, окруженных редкостной, царски щедрой почтительностью. Он не удивлялся: природный художник достоин благ, как никто другой на земле.
Любовь к художеству среди людей — проявление их творящего естества, а в государстве забота об искусствах — знак гуманной нравственности и правительственной мудрости. Франческо не обращал внимания на жалобы отца, что, дескать, дом им дали тесный: комнат мало, холодновато, пустовато, не так, как было в Париже. Отец "забывал, что в Париже он не замечал ничего, потому что ждал славы, а вместо нее дождался мыслей о горькой судьбе… А таковые убивают человека и жизненные силы подрывают весьма основательно. В петербургских домах повсюду сыро и холодно. Это не беда. Город на гнилом месте стоит.
Генерал-губернатор Мсншиков обещал им подыскать жилье получше, сказал, что есть у него на примете домец на Первой Береговой улице. А улица эта особенная, там что ни строенье — то дворец. Вельможная линия. И живут там избранные из отобранных, самая богатая и знатная местная община. Ну, к примеру, сестра царя — Наталья, нежно им любимая; там же флигель сына государя — Алексея, Жили на Первой Береговой и любовница царя — княгиня Голицына, гофмаршал курляндец Левенвольде, министры, генералы, обер-офицеры, советники, сенаторы, вместе с царствующей фамилией удерживавшие российский державный руль.
Чувства и намерения сына находили у отца отклик, одобренье. Привязанности у них были сходные — больше всего они любили работу, охотно встречались с мастерами из Канцелярии от строений за кружкой пива, чтоб обсудить насущные дела. Частенько туда наведывались архитекторы Шедель, Швертфегер, Николо Микетти, Михайло Земцов — люди достойные, мастера больших дарований.
Это была плеяда, готовая к полной самоотдаче. А потому в них не было низменного равнодушия и черствости, какие сплошь и рядом встречаются среди людей сытых и самодовольных. Эти были упрямы, честны, уверены в себе. Постепенно пиво подогревало, языки развязывались, возникал шум, разгорались споры, чаще всего о художестве. Прислушивался Растрелли-младший к их разговорам, делал для себя открытия, веселился, глядя на разгоряченные лица архитекторов, которые то добродушно отмахивались от чужих доводов, то вдруг закипали и с негодованием набрасывались друг на друга из-за какой-нибудь мелочи, потом снова успокаивались и, устав, лениво отделывались шутливыми язвительными репликами.
— Нет, что вы там ни говорите о барокко в Версале, но согласись, старина Теодор, что вы, немцы, любите сухость, строгость и протокольность, а нам, итальянцам, больше по душе затейливость — пилястры
[17], наличники с лепными маскаронами
[18], крупный антаблемент
[19], арки, колонны, овальные окна, — слышал Франческо голос отца, обращенный к Теодору Швертфегеру, которого он очень любил за ясный ум, доброту и мягкий нрав.
Рука у него в художестве была невероятно уверенная, Швертфегер приехал в Россию в 1716 году, и его сразу же назначили руководителем строительства Александро-Невской лавры. Проект Швертфегера привел обоих Растрелли в восхищение — особенно хороши и выразительны были у него четырехъярусные башни-колокольни с вертикальными плоскими выступами в стене и расставленными на втором ярусе статуями.
— Да что ты ко мне привязался, Растрелли, — слышал Франческо высокий и звонкий голос Теодора Швертфегера. — Оставь, оставь, пожалуйста, в покое немцев, они толк знают, они еще вам, итальянцам, нос утрут — это тебе говорю я, Швертфегер! Мы поднаторели в архитектуре препорядочно, у нас есть и голландская простота, и французский напор идей, и своя собственная стройность.
— Вот я и говорю — понатаскали у всех! — Захмелевший отец таращил глаза и победно улыбался. — Немецкие мышки, все к себе в норку!
И тут, как всегда, на помощь Теодору приходил Микетти. Один только он мог укротить отца, признанного спорщика, человека с необузданным нравом: разойдясь, Растрелли-старший мог свободно огреть противную сторону увесистой палкой, с которой никогда не расставался. Такого рода доводы трудно оспорить. Микетти же мог спорить с любым на равных. Во-первых, у него был увесистый кулак — это не секрет. Во-вторых, у себя на родине Микетти состоял помощником самого Карло Фонтано, выдающегося мастера барочной архитектуры в Италии. В-третьих, он негласно имел звание "генерал-архитектора". А самое главное — он был открытым и прекраснодушным человеком с необычайно острым умом. И на счету Микетти уже были шедевры — и в Италии, и в Германии. Его знали в Европе, охотно приглашали строить.
— Ты, Растрелли, — добродушно махал рукой Микетти, — отливай свои скульптуры, ты в этом мастер, мы знаем, равного тебе, наверно, нет, — хитровато и зычно говорил Микетти и на всякий случай издавал грозный рык — уррр! — а в наше дело ты не лезь! Я тебя прошу! И ты хорошо знаешь, что Теодор из всех немцев больше всего итальянец. Он последователь Райнальди и Борромини. Ты задираешь Теодора просто так, чтоб позлить его, потешить душу, правильно я говорю, господа? А?
Господа — архитекторы и мастера, порядком уже захмелевшие, — согласно кивали головами.
Хитрец Микетти сумел бросить вызов самому русскому царю: он заключил очень выгодный и дорогой контракт, приехал в Россию и стал строить злополучный дворец в Стрельне по собственному проекту. Потом ненадолго отпросился в Италию за какими-то нужными ему материалами и скульптурами. Съездил, вернулся, недолго пожил в Санкт-Питербурхе. В 1723 году снова получил разрешение поехать на родину — и больше в Россию не вернулся никогда. Этот обман привел державного хозяина русской северной столицы в большую ярость.
* * *
Когда их дела шли совсем хорошо и отец все чаще говорил, что Франческо нужно непременно поехать в Париж или в Дрезден поучиться годика на два-три, а потом можно будет подумать и об Италии, вот тут-то фортуна отвернулась от них, а если смотреть правде в глаза, она показала им зад. Но сбить с толку отца было не так-то просто.
Глава пятая
Непосильная ноша

х, Леблон, Леблон! Грех у Растрелли-старшего на душе перед тобой, и грех немалый… Но что поделать ему с собой, если он в полном помешательстве и злости не может ничего, не волен с собой совладать. Художники — народ легковозбудимый, нервический. Их постоянно заносит.
"Санкт-Петербург по неколиком времени будет величайшим и славнейшим паче всех городов на свете". Это твои слова, Леблон, и оба Растрелли готовы подписаться под ними тысячу раз.
Меншиков — герцуг Ижорский — прилагал силы к тому, чтобы обвинить тебя, Леблон, в бездействии, возбудить к тебе недоверие царя. Запятнать чистого человека, сделать его жертвой легко — это везде умеют, а в России делают со страстью, упоеньем и татарским коварством.
Почему — и сам не знает — так мрачно отозвались в его ушах слова Леблона, что все архитекторы должны ему подчиняться?
Растрелли-старший тогда подумал, что вовсе это не царская воля, а распоряжение Меншикова. "Без боя не уступлю", — решил он.
Леблону рекомендовали служителя, который перед тем ушел от Растрелли, и он послал к нему спросить: хороший ли человек, рекомендуемый ему?
Тут Растрелли совсем взбесился и велел передать, что он, граф Растрелли, не желает, чтобы слуга этот у Леблона служил, а если, паче чаянья, возьмет он его к себе, то Растрелли всякими случаями будет творить ему позор и бесчестие. К этой угрозе Растрелли прибавил через посыльного и еще кое-какие обидные жестокие слова. Леблон жаловался Меншикову, но тот только посмеивался.
Потом Леблону случилось проезжать мимо растреллиевского дома. Старший Растрелли велел прикомандированным к нему солдатам выскочить на улицу и как следует француза попугать. Когда его коляска поравнялась с домом, солдаты схватили под уздцы лошадей и стали резать у них упряжь. Переводчик Михей Ершов заорал на солдат, и они нехотя отошли. Но только Леблон успел опять сесть в коляску, как солдаты и еще трое высланных на подмогу лакеев снова бросились, но уже не на лошадей, а на самого Леблона.
Нападавших отогнали. Весть об этом быстро распространилась по всему городу.
Возмущенный до крайности, Леблон написал князю Меншикову, что если он не окажет ему законной защиты от графа Растрелли и его людей, то он принужден будет просить царя отпустить его обратно в отечество.
Меншиков вызвал Растрелли-старшего и строго пригрозил, потребовал оставить Леблона в покое. Граф с веселым бесстрашием потребовал от него полной автономии в своих делах и сказал, что, если его будут заставлять подчиняться Леблону, он немедленно покинет Россию. Меншикову не хотелось терять графа. И он стал склонять Леблона к миру. Тому эта история уже порядком надоела, и он великодушно простил графа.
Растрелли сказали, что Меншиков написал царю письмо, в котором скрыл суть дела, но сообщил, что Растрелли не хочет подчиняться Леблону и просит абшиту, однако ж он, Меншиков, уговорил его и определил, чтобы он в Стрельне, на своем основании начатую модель совершал.
Когда Леблон увидел, что ему всюду ставят палки в колеса, на каждом шагу обманывают, а вокруг кипит вражда и злопыхательство, у него совсем опустились руки. А Растрелли торжествовал.
В этот-то момент и налетел на Леблона царь в Стрельне и увидел, что жалобы Меншикова имеют под собой почву. Стройка почти не движется, обещанное французом не исполнено, мастерских, в которых он обещал обучать русских архитектурии и в помине нет, конца и края начатому не видать. Царь обошел все, повернулся к нему и, выкатив налитые кровью глаза, то ли замахнулся на него дубиной, то ли в сердцах огрел. Леблону этого было слишком. Да еще с его парижской славой.
От огорчения и обиды, как человек гордый и независимый, он приехал домой в сильной тоске, не проболел и недели в горячечном бреду и больше не поднялся. Официально было объявлено, что он болел оспой… Жан-Батисту Леблону не было еще и сорока лет. Россия оказалась для него слишком непосильной ношей. Не так много он успел сделать..
Оставил ты, Леблон, бедного Растрелли с камнем на душе и неспокойной совестью, с чувством стыда и раскаянья за варварскую грубость. И он сделал лишь то единственное, что может сделать один художник для утверждения памяти другого: отлил из бронзы бюст Леблона и отправил его во Францию.
Глава шестая
"Хватает воздух он пустой…"

у студеную зиму 1730 года все запомнили, потому что в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января в начале первого часа скончался император Петр Второй.
Еще с вечера стали съезжаться в московский Лефортовский дворец, где умирал четырнадцатилетний монарх, члены Верховного тайного совета, знать, архиереи, сенаторы, генералитет. Все были настроены тревожно, выжидательно, жались друг к другу, связанные невольным сознаньем общности и перемены судьбы.
Дворец, когда-то построенный итальянцем Джованни Фонтана, трещал от прибывающих. Отец и сын Растрелли затерялись в этой толпе. Никому до них не было дела.
Когда старший Растрелли узнал, что юный император при смерти, его ожгло, нужно быть там! "Немедленно едем в Москву, — заявил отец, — собирайся, Франческо, поедешь со мной!"
Необыкновенно деятельный, теперь он обрел еще и нешуточную проницательность — не только как человек, прошедший сквозь житейские невзгоды, но и как высокопоставленный житель Санкт-Петербурга, и просто как россиянин, который никак не может оборониться от вывертов судьбы.
Новой императрице Анне Иоанновне, надеясь, что сумеет пробиться к ней лично, Растрелли-старший прихватил в подарок бюст ее матери, который до того без дела стоял в его мастерской. Вот она, истинная предусмотрительность художника: без расчета делал, впрок, и вот пригодилось!
За четырнадцать лет, что они прожили в России, уже четвертый государь император сменяется. До сих пор жизнь их складывалась, слава богу, сносно. А теперь что будет? Растрелли хорошо понимал, что условия русской жизни с их внезапной переменчивостью, опасностями и разгулом страстей необычны и приход нового императора означает некий переломный момент истории.
* * *
…В 1700 году молодой Карло Бартоломео уехал из Флоренции в Париж, жил там в бедности и безвестности. Женился на испанской дворянке Анне-Марии. Там у них родился сын. Его назвали Франческо. Это их ангел, надежда…
С ранних лет все помыслы Растрелли, все самые задушевные стремленья были связаны с искусством. Он знал, что мирские помыслы и дела — враги художества, они делают творца рабом. Он понял, что ему, прежде всего, нужно найти крепкую точку опоры и в самом себе, и вне себя, И на нее поставить все. Не мельчить, отбросить всякие сантименты и работать, работать. Он облюбовал для себя две области — скульптуру и архитектуру. Ему почему-то мерещилась слава кавалера Лоренцо Бернини. Потом он понял: единоборство с титанами хотя и увлекательно, но в то же время бессмысленно. Они себя выразили. Необходимо открыть свое, собственное стержневое движение. И на него опереть остальное. Как бы там ни было, Растрелли-старший совершенно и до тонкостей постиг свое дело. Больше он в жизни ничего не умел. Все остальное, исключая искусство, вызывало в нем скуку. Он был самим собой в отношении к художеству. Был тверд и непреклонен. Ему вдруг вспомнилось еще в юности виденное мраморное изображение богини девы Коры. Вот когда он узнал силу искусства. Это античное божество распоряжалось земным плодородием. Статуя женщины из паросского мрамора сверкала белизной. А таинственная и надменная улыбка на лице притягивала. Изваяние было так прелестно и первородно, что юноша-скульптор невольно потянулся и положил руку на рельефную полную грудь. Мрамор был теплый. Казалось, что Кора в ответ на его прикосновение вздохнула.
Безвестный мастер, который изваял эту совершенную форму, ничего не боялся — ни обнаженности, ни своего ремесла. И его работа не вызывала даже малейшего вожделения. Карло Бартоломео пронизала догадка: большое искусство несет в себе особый ток. Содержит чудесную энергию духовного заряда. Стоит взглянуть хотя бы на Кору — открытая, стыдливая, целомудренная. Эллинское чудо — простое и естественное. В этой естественности — отпечаток жизни истинного художника. Да, греки отваживались на то, что другим не под силу. Им удавалось свободно выразить молодое бесстыдство первой женщины — Евы. Они рубили мрамор, а получалось что-то большее, чем скульптура. Получалось само изящество. А у подражателей выходила пошлость. Древние давали волю своей фантазии сколько хотели. В безукоризненном мастерстве, в блистательном искусстве исполнения Растрелли мог и сам ныне потягаться с любым первоклассным скульптором в Европе. Об архитектуре — молчок: в этом пусть соперничают с его сыном, с Франческо. Вот тот прирожденный архитектор.
Императрица Анна Иоанновна благосклонно приняла скульптора, была тронута его подарком. И краткая их беседа приняла такой любезный оборот, что любой придворный вельможа мог только позавидовать.
Ждать другого, более удобного случая было не нужно, и Растрелли не преминул замолвить слово за своего сына, сказать о его многообещающих способностях.
Спустя несколько месяцев благосклонность новой российской самодержицы приняла нужную форму: "Ее императорское величество указала: итальянской нации архитектору де Растрелли, по учиненному с ним контракту, быть при дворе своего императорского величества придворным архитектом, считая сего 730-го года июня с 1-го числа (с которого он, Растрелли, обретался у строения нового ее императорского величества дворца) впредь три года, а именно будущего 1733 году по 1 число, и делать ему всякое строение, каменное и деревянное, какое от двора ее импера юрского величества поведено будет, а ее императорское величество жалованья давать ему по вышеписанному контракту по 800 рублей в год, и сей ее императорского величества указ в придворной конторе записать в книгу". И скреплена бумага подписью самого обер-гофмаршала Левенвольде.
В молодые годы Бартоломео Карло Растрелли был уверен, что ключ к успеху ему даст графский титул. Боже, какое заблуждение. Все случай, только случай…
Карло Бартоломео думал: чем глубже постигаешь модель, трепет жизни и чем больше искренности в нее вложишь, тем быстрее к тебе слетит с неба удача. Придворные художники этого понять не могут. Они думают, что можно слепо подражать природе. А он всегда стремится преобразить натуру: найти в ней черты глубинные.
Теперь ему, Карло Бартоломео, шестьдесят лет. Возраст солидный. И он давно понял, что художество не обособляет привязанность к красоте, а открывает простор для развития души. Художник истинный — одержим страстью. И еще он счастлив, что он насквозь неподдельный итальянец, южанин, флорентиец.
Когда-то он поверил в свое призвание, прикипел к ремеслу художника, ощутил вкус к чудесным превращеньям. И вот теперь уже сыну его, Франческо, сравнялось тридцать, а ему ровно вдвое больше. И они оба, положа руку на сердце, могут признать: не так уж мало сделано ими в российском искусстве. Они заняли место, их уже не выбросишь. Растрелли-старший здесь первый скульптор-профессионал. Он живет как ему хочется и ничуть не собирается вести тут примерную жизнь праведника. Да это и вообще мало кому удается. Он не изменял своему делу, всегда трудился, да и теперь трудится усердно, в поте лица, хотя силы уже давно не те и сердце старое, натруженное, сработанное. Все равно он будет жить так же, как все эти годы, и так же будет любить, что и раньше любил. Сын его, слава богу, придерживается таких же воззрений в жизни и в художестве. Если бы не так было, его душа, наверное, разломилась бы надвое. Какое счастье, что он сумел дать ему возможность завершить в Европе художественное образование! Какое счастье, что русские позволили сыну поехать во Францию, хоть и на короткое время, но с большою пользой употребленное. И в Италии он поучился, и в Дрездене. В восемнадцатый век невозможно прожить дилетантом. Сам он вытерпел и пинки, и унижения за то, что был самоучкой в архитектуре. Леблон, царство ему небесное, всю кровь ему испортил своими шпильками постоянными — выставлял самозванцем, наглецом, неучем. А от этого происходили обиды и притеснения. Коли б не наветы, так он до сих пор имел выгодные контракты, а не делал работы за свой кошт. Только плохо вы, господа, знаете Растрелли! Вам нужны дворцы и статуи в этих льдах и сугробах, в сырых промозглых туманах. Прекрасно. Мы уже и духом, и нравом стали русскими, и мы давно усвоили самые широкие понятия о том, как следует обходиться с людьми сильными, влиятельными. Бескорыстие служит нам помощью. Черт знает каким манером мы выжили в России! И ведь с честью выжили! Вот только б знать, каково будет при новом монархе. Итак, пред вами граф де Растрелли. Взгляните на меня внимательней, не бойтесь, не бойтесь. Потрогайте мои руки, видите, сколько застарелых мозолей! Им почти столько же лет, сколько и мне. Да! Да! Позабудьте на минуту, что перед вами граф… Простой мастеровой. Видите эту грубую голову, этот мясистый нос, короткоперстные лапы, задубелые пальцы… Поработайте с наше! И у вас станет такое же, словно рубленное топором лицо, крестьянские складки на лбу, грубая кожа. А почему у меня такие бешеные навыкате глаза? Потому что редко в России оценивают по достоинству и труду и еще реже по заслугам платят. Бартоломео Карло Растрелли, граф и Флоренский кавалер. Но он сохранил в себе гордость и лучшие стремления. Много ли таких найдется? То-то что немного…
А мой Франческо, моя гордость! Ему сам Доменико Трезини первым руку подает. Вот это мастер, славный русский зодчий. Трезини выстроил в России Петровские ворота и Летний дворец, Петропавловский собор и здание Двенадцати коллегий. Такого архитектора любой король на руках носить станет! А он мыкается. Как с ним здесь поступ-лено? Будто он никому не нужен… Когда его приглашали на один год — сулили райские кущи. За совершенное искусство ему платили по двадцать червонцев золотых на всяк месяц и заботливо указывали, что ежели российский воздух зело жесток и неподходящ здравию его, то ему вольно ехать, куда он похочет, и с собою взять, что он здесь наживет. Нажил же он здесь много чего! Не больно-то повезло и другому Трезини — Петру. Донесли на него, что, пользуясь отсутствием жены, он держит в доме своем любовницу и даже имеет от нее ребенка. Кому какое до этого дело! Знали, что была у него молодая девушка, датчанка, по имени Шарлотта Харбург. Жила она вместе со своей малолетней сестрой. Так вот их постановлено было арестовать, поместить под надзор. Девушка успела скрыться, а Трезини гневно заявил, что ее ни за что не отдаст, потому что она кормит своего ребенка, который может умереть без матери. На первый раз отбился. Когда пришли брать во второй раз, Трезини оказал вооруженное сопротивление. За это его арестовали, лишили шпаги. Он был, правда, вскоре освобожден. А за бедной девушкой надолго закрылись тюремные двери. Долго шло следствие, вопросы, допросы — и наконец постановлено отправить Шарлотту, ее сестру и ребенка в Нарву. А там при первом случае указано посадить их на какое-нибудь иностранное судно и выслать ко всем чертям — за границу. Но сделать это оказалось непросто, так как сумма, отпущенная на оплату места на корабле, была крайне мала. Ни один капитан не хотел брать на борт столь бедных пассажирок. Полтора года маялись несчастные в Нарве. Наконец уговорили какого-то шкипера взять их за малую плату. Но переезд их закончился трагически: небольшое судно не выдержало осенних бурь. Не доходя до порта назначения, оно затонуло в море. К Трезини прислали требование — уплатить деньги, заплаченные за отправку погибшей Шарлотты. Это переполнило чашу терпения Трезини. Он подал прошение об увольнении. Просьбу его уважили, и он навсегда покинул Россию…
Вместо одного года Трезини прожил в России чуть ли не тридцать лет. Ну, а за своего Франческо Растрелли спокоен. И гордится им, не как отец за сына, а как мастер за ученика. Да что там! — как мастер за мастера. Еще семь лет назад Франческо сделал для дома барона Шафирова лепной плафон — все диву дались. Даже при тогдашней скудной плате за художественную работу Франческо против условленного добавили денег. Семьсот пятьдесят рублев получил. Это Трезини настоял — спасибо ему. Все еще помнили, что сам Петр Первый благоволил к нему и неоднократно доказывал это на деле. Но самые высокие заслуги почему-то быстро забываются на Руси. Уважение рассеивается, может, оттого, что воздух сыроват в сих местах и жесток и на память воздействует вредно… А ведь Трезини прежде поручались дела, и не относящиеся непосредственно к архитектуре. Его ценили и как великого знатока искусства. К нему посылали и отменного мастера живописных дел Андрея Матвеева для "апробования" мастерства в живописи. И других живописцев тоже.
Да, трудолюбив, многоопытен и мастеровит был Трезини, а такой же бедняга, как и Леблон.
Ах, Леблон, Леблон! Скоро уже, видать, они встретятся в мире ином, но чур! — пусть хоть там сойдутся с миром. Слово графа Растрелли, что на все нападки, если они вновь последуют, на все твои язвительности он будет молчать. Как рыба будет нем. Вот его рука. Они станут говорить об искусстве, а житейское — в сторону, в сторону! Оба они верят в господа бога, в свои руки и художество! А во что еще верить? Во что? Кто мне скажет?!
Растрелли-старший себе всю жизнь твердит слова из послания апостола Иакова: вера без дел мертва есть. Вот и поговорят они о делах, которые дают отраду. Сколько довелось Растрелли повидать на своем веку людей, коих заботит одна цель — как можно лучше справить свои грубые житейские потребы. Они никого не видят вокруг. Какая слепота, какая дурость ума…
А Растрелли — люди такого рода, что никогда не могли набить себе пузо, если рядом был голодный. Последней копейкой готовы были поделиться. Растрелли всегда поступали по веленью сердца, не считаясь ни с чем.
Глава седьмая
Воспоминания отца

от, кому доводилось ночевать в чужом, незнакомом месте, хорошо знает, что это такое, — пусто, неуютно, одиноко. В России большая часть приезжих иноземцев сильно тяготилась переменой своей судьбы — они печалились, им в голову лезли страшные мысли. Многие безобразия местной жизни для них были неразрешимой загадкой. Они жили с тяжелым сердцем, а досада, как известно, разрушает телесный состав весьма успешно и скоро.
Что до меня — ничего подобного я не испытывал. Занимался своим делом — от темна до темна. Про меня иные говорили: этот Растрелли — продувная бестия, ему все нипочем, он ничего не видит вокруг, никого не любит, кроме самого себя… Такой бабьей трепни и пустобайства я вдоволь наслушался. А знал свое: попал наконец туда, где можно осуществить желанное, давние мечты. Кто не может себе этого позволить, тот плохой художник. Россия стала для меня родным домом. Я гордился участью сына. Он всех поражал быстрыми успехами. Мы стали своими в среде мастеров и очень скоро привыкли к новому образу жизни. О другой судьбе и не помышляли.
В Париже нам вдалбливали: Россия — страна грубая, варварская, полудикая. Там чуть что — свистят плети, рвут ноздри, урезают языки. Говорили, что за малейшую провинность могут подвергнуть экзекуции, упечь безо всякого суда в темницу. Я вспоминаю тогдашние свои чувства: когда слышал все это, становилось не по себе. За себя страха не было, а за сына… По указу Петра Первого мы были причислены на первых же порах к первостатейным гражданам государства как люди благопотребные к делам художества. По видимости, сие служило гарантией от всяких разбойных непотребств, хотя необузданный российский произвол никогда ни с чем не считался. Об этом мы тоже знали. Само собой: поехав, мы с сыном шли на определенный риск. Знание давало подмогу в том хотя б, что врасплох нас застать суду неправому не пришлось бы. А кто из нас, живых, не рискует? Ведь если задуматься, то получится, что вся наша жизнь состоит из мелочного, копеечного риска.
Вот к чему мы никак не могли привыкнуть — так это к угрюмости и мраку погоды, ледяному ветру и ненастью, сырым сумеркам и вьюгам. Мы были южане, привыкли к теплу, солнцу — каждый день, звездному небу — каждую ночь. А Петербург был серый, мрачный, холодный. Вновь обретенное нами отечество ни теплом, ни солнечным светом не баловало — приходилось пожарче топить печи, чтобы хоть дровяным жаром возместить свет.
Помню, я как-то сказал сыну, что архитектура очень нуждается в хорошем освещении, а тут в России его мало и будет трудно вписать любую постройку в местность так, чтобы она в ней не пропала. А сын ответил, что как раз ему и нравится такая среда: ей нужно больше скульптурности, больше живописности, нужно точнее распределять крупные объемы — и тогда сама собой решится задача освещенности.
— Я буду делать яркое на неярком, вот увидишь, отец, это будет получаться, — сказал мне тогда Франческо. — Я понимаю, папа, освещенность — дело важнейшее. Но мне нужна еще и просветленность, озаренность…
Помню свое гордое удовольствие тем, что сын мой трезво и ясно мыслит и, даст бог, на удивленье всем покажет свои таланты именно в России. Думаю я о сыне, и душа моя переполняется странной возвышенностью.
Мы с сыном упивались работой, хотя и предписывалось жалованья Растреллию больше не давать. Пусть, мол, работает как хочет — по договорам, поштучно от рук своего художества. Ну что ж, подумал я, пинки ваши стерпим. Коли самому государю угодно так — мы артачиться пока не будем, он нужен нам больше, чем мы ему. И судьба наша целиком в его руках. На то он и Петр Великий. А мы — люди маленькие, всего лишь художники.
А держался потому я уверенно, что знал: найти другого скульптора, который бы столько понимал и умел, сколько я, не так-то просто. Деваться им некуда, поневоле будут просить у меня сделать то одно, то другое, голова и расчет у меня есть. Так оно и вышло. Нюх, чутье у меня на сей счет — что надо, могу даже похвастать: у меня выдающийся нюх, уменье предвидеть, хотя в этой державе от неприятностей никто не застрахован, любому дереву ветки подрезают, и живешь так, словно на шаткой лестнице стоишь… Славяне не слишком любят тех, кто живет как у Христа за пазухой, к таким у них много презренья и ненависти, даже гораздо более, нежели ревности. Им больше по душе юродивые. Уменье досадовать на чужую удачу очень развито в русских. Нет у тебя здоровья, а у другого есть — плохо, они чужим здоровьем будут болеть; нет у тебя счастья, а у другого есть — тоже негоже, лучше б он горючими слезами залился, а то, видишь ли, возрадовался сдуру; нет у тебя славы или денег, а у другого их — полным-полно, куры не клюют — так это уже никуда, ни в какие ворота не лезет! Страсть у них — всем и всему перезавидовать.
Мы с сыном немало от сего претерпели. Я князю Меншикову жаловался на завистников, а он хитровато глянул на меня и со своей снисходительностью сказал, что у них завсегда так было — на одного доброхота по семи завистников приходится и, мол, это еще славно, что только по семи, а то и еще более число таковое возрастать может.
Одно скажу: в какие бы передряги я ни попадал — все равно я духом не падал, воли не терял.
* * *
Однажды в зимний вечер, когда я возился в мастерской с моделями машин для литья фонтанных труб, на моем подворье послышались громкие голоса, смех, протяжно и тоскливо заржала лошадь. В коридоре раздались тяжелые шаги, дверь распахнулась — и в проеме встал царь, опираясь руками о притолоку и нагнув голову.
Я оторопел. А он смотрел на меня жестко, сердито и насмешливо. Мои помощники с грохотом повскакивали со своих мест и застыли в низком поклоне. Я выдержал взгляд царя, пытаясь распознать, с чем он пришел ко мне столь внезапно, отвесил ему подобающий почтительный реверанс:
— Премного обязан, ваше императорское величество, милости прошу входить и располагаться!
Признаться, сердце у меня стучало тревожно. Петр повернул голову назад и махнул рукой. Тотчас же несколько денщиков, обтекая его, бочком пронырнули в комнату с битком набитыми корзинками в руках. А царь стал методично топать в пол сапогами, сбивая снег и звеня шпорами. Потом, опираясь на ражего краснолицего денщика, он шагнул в мастерскую, а за ним из полумрака входили в распахнутую настежь дверь сиятельные, важные сенаторы — князь Юрий Трубецкой, Андрей Ушаков, барон Петр Шафиров. Чуть погодя вошел обер-секретарь Дмитрий Невежин — мужчина такого же громадного росту, как царь, с пышными усами и цепкими глазами совы. В обеих руках он нёс штофы. Входя, они все оббивали башмаки, а денщики помогали им расстегивать пряжки и скидывать тяжелые шубы, от которых валил пар.
Наконец дверь закрыли. Я мог собраться с духом. Сенаторы обстали своего пастыря и молча ждали указаний.
— Ну, непутевый! Граф ты мой любезный, вот видишь, — загрохотал царь своим зычным голосом, — на тебя пишут мне докладные с жалобами. — Он упорно глянул мне в глаза. — А мы к тебе с господами сенаторами в гости препожаловали… Тебя гнать советуют взашей… Ну, как, рад ты нам? Или не рад? Как ты нам на нашу доброту-то ответишь, а? Чем?
Царь придвинулся ко мне вплотную.
— У вас, всепресветлейший государь, невыгодное обо мне впечатление произошло, — ответил я, твердо глядя в глаза Петра. — Великая мне досада, — сказал я царю. — Распри всякого рода всегда производят больше зла, нежели они того стоят. Мне хорошо ведомо: приверженность вашего величества к художеству есть не личина, искусно подделанная. Все в просвещенной Европе уже знают, что государь российский и вседержавный царь разбирается в ремеслах и художествах весьма тонко и даже искусно…
— Ты мне лазаря не пой, милый! — оборвал меня царь, подошел к столу, налил два больших бокала и, поднося один из них мне, сказал: — Ладно, мы с тобой выпьем вдвоем, брудершафт, чтобы дружб наших не рвать. А после и господа сенаторы тоже выпьют. Они — для чего пришли, знаешь? То-то! Хотят лично удостовериться, что труды твои российских денег достойны, коих у нас слишком немного в государстве. А и те, что есть, на ветер летят да разворовываются!
— Так вот, граф любезный, — продолжал Петр, — ежели сенаторы будут иметь заключение, что контора интендантских дел по твоему художеству недоплачивает, то они дадут ей реестр и тебе за все заплатят сполна! А коли не будет от них заключения — не взыщи с нас, а мы с тебя взыщем, так?
— Да и так уж взыскано, — посетовал я. И добавил: — Смею уведомить ваше державство, что верней и естественней союзника, чем я, вам искать незачем. За честность моих правил в деле художества и мою благонамеренность я готов ответить перед богом и государем, коему присягнул. Тщусь пользы прибавить трудом своим и сына моего.
Я почувствовал, что царь держится по отношению ко мне с некоторым холодком, вовсе не так, как прежде. Его настороженность и отчужденность коробили меня и даже
пугали, потому что это могло иметь дурные последствия. По всему видно было, что клевет про меня он наслушался немало. Представляю себе, как ему прожужжали уши про мои выходки и капризы, несговорчивость и оспориванья. Да еще и наврали с три короба. Не преминули — про мое высокомерие, зазнайство, наверняка и жалобщиком выставили в его глазах. Я знал и отлично понимал, что держать себя в Петербурге надобно церемонно. Так я и делал. Достоинство, спокойствие, поднятая голова. Это подобает моему званию, положению. В противном случае, если виляешь хвостом, идешь на уступки, то уж не сетуй — сделают тебя всенепременно козлом отпущения, мальчиком для битья, будут верхом ездить, погонять, словно клячу, и так заклюют, так замулындают, что вовек не отмоешься! Знал я об этом и сыну своему велел на носу зарубить.
Скажу по чести, что я порой слишком заносился, но делал сие не по глупости… Для того только, чтоб не забывали, с кем дело имеют. По правде говоря, больше не для себя, а для сына старался.
Как бы там ни было, теперь-то я сам увидал: толки да перетолки, суды да пересуды, злословия и наветы бесследно не прошли. Засели крепко они в государе занозой. Как теперь их вытащить? Он вообще легко доверялся. К тому ж то, что ему говорилось обо мне, в какой-то мере имело под собой основание Не безгрешен я был, ох не безгрешен.
Стол был уже отменно накрыт. Денщики успели расставить снедь и штофы. Приладили императору специальный рукомойник с зеркалом. Государь посматривал на меня, на сенаторов, по сторонам, но позволенья начинать не давал. Он что-то обдумывал и был, видимо, не в себе.
На дворе завывал ветер, окна мастерской были залеплены смерзшимся снегом, а в печке шипели и стреляли мокрые бревна. "Что им от нас надо? В этих ледяных ветрах, холоде вечном, с этими заскорузлыми работниками мы делаем художество, чтоб очищать дух, а они еще нами недовольны", — подумал я и сунул руки в карманы фартука.
Я следил за каждым движением государя, он поймал мой взгляд и улыбнулся — грустно и устало, но уже и с каким-то новым, товарищеским и участливым теплом. Обстановка мастерской была для него добродейственной и благотворной.
— Ну что ж, граф, — сказал наконец государь, — покажи-ка нам художества да растолкуй как следует… А после и отужинаем на славу Да у меня к тебе и дело есть! Но об этом потом, потом! — сказал царь, нахмуриваясь.
Я стал зажигать дополнительные лампы и свечи, чтобы лучше представить гостям все, что у меня было.
В это время дверь отворилась и вошел Франческо. Он рассеянно взглянул на пришельцев, чинно рассевшихся за столом, внезапно увидел царя Петра и уставился на него широко открытыми глазами.
— Тебе сколько ж лет? — спросил государь, пристально взглянув на сына.
— Девятнадцать, ваше царское величество, — смущенно ответил Франческо.
— Я слышал, что ты имеешь большую любовь и охоту к архитектурному делу? Верно ли меня уведомили?
— Он трудится весьма исправно и прилежно, ваше державство, — ответил я за сына, — уклоняется жить в праздности и много меня выручает!
— Сие отрадно, сын должен вспомогать отцу во всех занятиях. В деле художества нет ни чинов, ни рангов. Достоинство ремесла и труд искусный — вот что в нем имеется, — раздался голос царя, и он пристально посмотрел на моего сына Похоже что Франческо ему понравился.
Взволнованный всеобщим вниманьем, сын смутился, опустил глаза. Не знал, куда деть свои крупные руки.
— Ну, а жениться не собираешься? — спросил Петр у Франческо.
Тот совсем смутился и смотрел на царя молча и открыто. Сияющие глаза Франческо еще больше подчеркивали нежность его раскрасневшегося от мороза лица.
— Я тебе — Франческо тебя зовут? — так вот, Франческо, я тебе совет один дам… Когда надумаешь жениться, выбирай невесту непременно с большим ртом. — Царь загадочно улыбнулся: — Ни за что не догадаешься — для чего это потребно! — Петр весело заиграл глазами и, чувствуя себя победителем, наставительно заключил смеясь: — А рот большой невесте нужон, чтобы она много ела, от этого здоровой будет, и детки крепкими родятся, и проживет долго!
Все громко засмеялись.
Царь раскурил трубку, встал и, подойдя к сыну, твердо сказал:
— Шутки да прибаутки у нас, русских, всегда в чести, а я тебе всерьез еще скажу: каждый отец вменяет себе в обязанность — обучить сына хотя б тому, что сам знает. Твоему отцу мы хотя и абшит дали, однако ж без дела пребывать не дадим, не дозволим. Того ради надобно тебе как следует образоваться в Европе! На пару годков туда поедешь пенсионером, а после мы тебя в службу определим, на жалованье… Ну что, согласен? — спросил царь добрым, ласковым голосом и сам себе ответил: — По глазам вижу, возраженьев не имеешь, вот и славно. Пока здоров и молод, надобно оснасткой на всю жизнь запастись, а после потяжелеешь с годами — многие желанья как топором отрубит! По себе знаю.
Царь говорил с сыном моим дружески, и потому от его слов я почувствовал себя таким счастливым, что и передать нельзя. Устроить сына, определить его судьбу — для меня главная забота, а тут еще и сенаторы слушали, мотали на ус, запоминали каждый государев звук, да как сказано и какое лицо притом.
— Ну, юноша, господь с тобой, подумай как след, подашь челобитную на мое имя. Ехать тебе всего лучше туда, откуда ты родом, — в Италию, о ней я довольно слышал, трое человек русских там учились, сказывали о большом мастере архитектуры цивилис Чиприани. Манир голландский в архитектуре к нам лучше подходит, нежели иные, но ты, учась, примеряй все на здешний климат, на местную ситуацию, и будет нам тоже…
На душе у меня стало так тепло и радостно, что все внутри задрожало и захотелось тут же хорошенько выпить. А государь, сделав нетерпеливое лицо, сказал, обращаясь ко мне:
— Не медли, граф, показывай, что натворил, да живей, а то у меня с голоду брюхо сморщилось!
Он пошел своими громадными шагами в дальний угол, где у меня стоял на пьедестале бюст в дереве, заказанный мне для установки на корабле "Не тронь меня".
Сенаторы, до того сидевшие весьма чопорно, вдруг проявили неожиданную прыть: не успел я и глазом моргнуть, как они догнали государя, расположились подле него и стали глядеть туда же, куда и он. И на лицах сенаторов, когда и я подошел поближе, была такая же благосклонность, как и на лице российского самодержца. А он был хорош — освещенное умом лицо, ладен собой, в плотно облегавшем голубом гвардейском мундире, широкая мощная грудь, нахмуренные чуть-чуть брови, упорные, навыкате глаза, слегка приоткрытый рот и угрожающе торчащие кошачьи усы. Таким я его увидел и запомнил и таким же вырезал из дерева его погрудный портрет для только что построенного корабля.
Петр разглядывал свой портрет придирчиво, трогал пальцами то тут, то там, проводил рукой по всей дубовой глыбе, словно проверяя степень обработки. На миг его лицо озарилось детской радостью, но он тут же снова посерьезнел и спросил:
— Ну, а наши ветра, холода, дожди и слякоти погодные ты, граф, надеюсь, учел? А то сгниет сие за год — труда жалко, да и затрат.
Он поглядел на меня глазами требовательного заказчика, всем своим видом показывая, что не привык швырять деньги на ветер, растрачивать их на пустяки и баловство. Голос у царя был деланно строгий.
Я поспешил заверить его, что дуб, пропитанный солью, покрытый олифой и золочением, одевается словно бы коркой, защищающей хорошо и надолго.
Все хвалили царю портрет, особенно старался потрафить барон Шафиров, впрочем, говорил он очень горячо, искренне, словно впав в какой-то сладостный восторг:
— Ваше царское величество, смею ваше внимание обратить на одно токмо, что мастер сделал работу свою безо всяких погрешений противу истины и верно изобразил силу и добродетель царя нашего батюшки, расположенность его к добрым поступкам, силу и справедливость его ко всем людям живым.
Сенаторы согласно кивали головами, соглашаясь с Шафировым, с его простыми и убедительными словами.
Я знал, что Петр Павлович Шафиров был внук крещеного еврея Шафира или Шапира и сын переводчика посольского приказа. Он был пожалован русским бароном, жил в свое удовольствие, был умен, дальновиден, смел и хладнокровен в самых трудных обстоятельствах. Потом он станет и тайным советником, и вице-канцлером, у него будут четверо сыновей, богатства несметные, любовницы, поместья. Он сделается одним из самых заметных русских богачей.
Но потом над бароном грянет гром — он будет предан суду за присвоение сумм почтового ведомства и укрывательство беглых в своих, поместьях.
Вот и суди да ряди тут — на что уповать человеку в его кратком земном бытии, что существенно, а что преходяще, как продраться сквозь все мелочи к главному и в чем оно, это главное? Хоть одна живая душа разумеет ли сие? Ни один человек не может прожить без горя, смут и тревог. Сверкнет тебе где-то — ты устремишься туда всею душой, а чуть погодя все погружается в какой-то кромешный мрак и тьму. Жизнь брыкается, а то вдруг так больно лягнет, что и света белого невзвидишь, только оправишься от удара, приходишь в себя — и тебе уже кажется, что в сравнении с тем, что прежде было, стало хорошо, ты чувствуешь себя уже полным счастливцем, не зная еще, что в самом скором времени принужден ты будешь исполнять страдальческую роль. Так в чем же счастье — кто мне ответит?
Я не знаю непреложных истин, помогающих выжить и выстоять, не знаю лекарств, которые лечат от уныния в минуты безысходности. Я знаю только, что — и полузадушенный, и лишенный поддержки — я буду бороться до конца за то, что мне дорого, что свято для моей жизни. У каждого из нас много промахов, ошибок, мы оказываемся в тупике, сами по доброй воле лезем в сети, из которых нельзя выпутаться без членовредительства, мы не способны порой внимать ни разуму, ни рассудку, мы становимся подобными безумцам, мы обнаруживаем себя на краю жизни, над пропастью, мы становимся сырым мясом, мишенью, в которую любому так и хочется что-нибудь вонзить, мы гибнем от глупости и болтовни, от обозрения своего прошлого пути, мы осуждаем себя на сотни мук, когда кладем к чьим-то ногам или нипочем швыряемся своей любовью и своей бедной свободой. И какой оборот принимает наконец наша жизнь? Какое ждет нас вознагражденье? Останься наедине со своей жизнью, со своей единственной Непорочной Девой, спроси-ка ее как следует — не в обиде ли она на тебя? Так ли с ней обходишься? Поведи себя в этом разговоре как никогда пристойно, ведь жизнь твоя, она у тебя одна и ты у нее один — и признайся себе: она безмерно, бесконечно щедра к тебе своими дарами.
Я знаю: провиденье проделывает с нами дьявольские штуки, ему весело, оно ставит капканы и заливается самодовольным хохотом, как только мы в них попадаемся. Когда мне тяжко, я беру в руки "Энеиду" — тот, кто ее написал, был мудрец, добродушнейший из людей. И уж он-то, Вергилий, хорошо знал, что спасительна — одна только любовь. Да и то не всякая. А та, что отдает все. Не просит. Вот она-то и благотворна, она-то и есть живительная отдушина.
Что же до нас, мы, Растрелли, никогда не стремились к ложным благам. Не гнались за чужим. Если господь не оставит, мы свою токкату в жизни сыграем! Наседки — эта ленивая живность — нам не нужны. Мы сами, своим природным теплом высидим яйца, выведем своих цыплят, своих деточек, свое художество. Будут за это платить или не будут — не столь важно. Но лучше, когда вовремя платят…
Все это пришло мне на ум, и я совсем позабыл о своих гостях, которые продолжали сосредоточенно разглядывать все наработанное мной.
Я поспешил к ним, чтобы дать нужные поясненья.
В портрете царя, который скульптор Растрелли выполнил, в каждой его отдельно взятой части проглядывала рука мастерового, искусного мастера. Петр молча и долго смотрел на свое изображение. О чем думал сейчас этот высокий и странный человек с сильной шеей и большими лопатками землекопа — Растрелли не знал. Царь виделся скульптору сильным мужчиной, решительным, импозантным. А Петр подумал, что когда-то он и был именно таким. Был, да состарился. Стройности нет. Здоровья тоже нет. Да румянца, как у этого Франческо, нет.
Простое дерево под резцом скульптора обрело значительность и даже какое-то неуловимое величие. Для такого замечательного мастера, как граф Растрелли-старший, первейшей задачей было выражение главной сути императора Петра. Конечно, как он ее понимал. А понимал он ее, надо сказать, весьма верно, точно и даже с большой проницательностью. Пожалуй, в то время во всей Европе не было художника, равного скульптору Растрелли по умению так широко и свободно мыслить в пластике. По-грудный портрет царя работы Растрелли был далек от всякого заискивания. В нем не было и намека на привычную напыщенную парадность. Художник высказал свое искреннее суждение о человеке, который представлялся ему титаном — и по характеру, и по силе духа, и по готовности преодолеть любое сопротивление ради общего блага России.
Особенно удачной вышла в портрете голова. Она таила в себе такую полноту жизни, а большое лицо несло такой отпечаток ума, что персона сия во всей точности могла доставить до самых отдаленных потомков истинный лик великого российского преобразователя. Она была живая. Скульптор претворил в материале самое величие.
А теперь государь всероссийский стоял рядом — непомерно высокого роста, опустив книзу тяжелое смуглое лицо. Стоял полный беспокойства и тревоги, изредка шевелил губами, выговаривая неслышные слова, и молил бога избавить его от страшного бедствия. Оно надвинулось на царя вдруг, вплотную, держало мертвой хваткой.
Ждать помощи извне — это он тоже знал — было напрасно.
Решать предстояло ему самому.
Перед лицом тяжких напастей, военных поражений и неумолимых провалов в государственных делах, которые всегда неизбежны в такой обширной державе, он старался терпеть, преодолевать, ломать и стоять на своем твердо. Даже у врагов своих он вызывал удивление стойкостью и солдатской надежностью.
А вот перед страшным, почти неживым лицом собственного горя он был слаб, немощен, растерян, болен. Был не Петр Великий, а обыкновенный человек.
Это надвинувшееся на него бедствие был его сын Алексей. Что он представлял из себя на самом деле — царь понять так и не смог. Не понимал, что творилось с его убыточно-темной душой, не понимал, как изувечилось это доброе сердце, не понимал, откуда в сыне побралось столько изменнической злобы к отцу. Петр от всего этого страдал так, что его била судорога. Испытывая самые острые муки, он все же приказал вице-канцлеру Шафирову применить к сыну пытку. И сам при этом присутствовал.
А дома Петр запирался в кабинете, лежал часами, отвернувшись к стене, никого не хотел видеть. И лицо у него было раздавленное и пустое.
Ничего этого в портрете Растрелли, разумеется, не отражалось.
Глядел на себя царь и видел человека энергичного, с ясной головой и светлым разумом. А у него сейчас ни того ни другого. Мог бы он надеяться на прощение бога за все свои жестокости и прегрешения? Такого знания ему дано не было.
А ему еще мечталось занять место в истории, в благодарной памяти русского народа…
Ну, народ-то, он разный бывает, у него свои правила относительно того, кого и как ему помнить. А вот сын-то, продолжатель всех дел, восприемник власти, родная кровушка, — на его-то почитанье отец вправе рассчитывать? Почему ж сын ничего не уразумел в его деяньях? Зачем так зачерствел сердцем, зачем мечтал, непотребный, о возврате к старому? В монахи постричься хотел, а сам жаждал смерти отца, алчно ждал престола…
Во всем этом Петр был несведущ, он не мог собрать мысли, взвесить. И отправился к художнику, чтобы отвлечься.
Такой государь, какой был на портрете Растрелли, должен был разбираться в паутине жизни, обязан был по справедливости судить любого, в том числе и родного сына, судить по совести, по законам. Но как живому отцу поднять руку на свое порожденье, на молодого царевича?
Может, отпустить его с блудной девкой его? Царя никто не осудит за такой поступок, пусть попробуют… Но сам он себя как оправдает? Останется ли у него уважение к самому себе? А разве в нем дело и не есть ли это понятие об уважении к своей персоне обычный житейский предрассудок? Куда важней поступать по зову души, ценить и уважать не себя, а свою свободу и вдохновенье…
Петр почувствовал боль в сердце и вдруг, к ужасу своему, уразумел, что все его обзаведенье — и семейное, и государственное — тщетно. Не повезло ему, не пощастило… Бился, маялся, колотился, все жилы из себя вытянул, а выходит: все прах, тлен и сухая гниль… Видно, зря он взвалил на себя столь непосильное бремя. Он сам дивился, что ему, самодержавному монарху, приходит в голову такое.
А портрет Растрелли Петру явно пришелся по душе.
Глядел он на себя — деревянного, дубового, непобедимого — и видел перед собой превосходную скульптуру, видел мастера, не знавшего сомнений.
Государь тяжело вздохнул.
Такая усталость на него нашла, что не продохнуть.
Он устал от войн, походов, скитаний, враждебности, наук и ремесел.
Устал от любви, попоек, скотства, веселья, одиночества, раздирающей душу тоски.
Устал от подлостей, обманов, несогласий, казнокрадства, строительных работ, свадеб и похорон, торжеств, парадиза, мануфактур и барабанной дроби.
Устал от русской армии, пороха, турецкого, визиря, шведского короля, никчемных затей, от своей жизни, что оставила на его царских руках твердые, никогда не сходившие мозоли.
Он устал от кабинетных забот, почечной болезни, целительных вод, блудливости монахов, дворянских недорослей, кровавых расправ.
Взгляд государя остановился на тучном, дородном Шафирове. Мысли об усталости тут же пропали. "Велю завтра же выдрать хорошенько эту задастую Шафирку", — решил он.
Петр обвел придирчивым взглядом других сенаторов, которые тихо о чем-то переговаривались между собой, стол, на котором стояли его любимые кушанья — жареное мясо с солеными огурцами, ветчина, солонина. Словно пушечные ядра были разложены вокруг штофов с вином, водкой и пивом коричневые заморские груши.
От одного только не устал государь — от художества. Оно хотя практической прямой пользы и не приносило, и принудительными мерами не росло, но отрада в нем была. Многие художники нигде не служили, напротив, они пили, гуляли, вели вольную и праздную жизнь. Но их трудолюбивые руки создавали то, что поражало душу, в чем было что-то невыразимое, величественное, беспредельное, могущественное. Они умели побеждать преходящее ради вечного.
Вкус к художествам Петр хотел привить всем россиянам.
Он понимал, что художество — путь к просветленности, к пониманию, к совершенствованию человека. Но как наставлять низких людей, он не знал. Кнутом не возьмешь, добродетель ему не свойственна. Россияне — рассеянный люд, с диким упорством в крови. Отсюда, видать, и слово Рассея пошло — рассеянье в народе, рассеянье в державе всей… Рассеянье в его собственной царской душе, соединяющее в одном человеке и праведника, и злодея.
Глава восьмая
"Клинья выбивай!"
О неба синего настой!
Дуй, ветер, в парус.
Все к чертям!
Но ради Девы Пресвятой
Оставьте только море нам.
Брехт. "Баллада о пиратах"

еще от одного не устал праведный царь Петр — от кораблей. Когда он видел море, мачты, паруса — на него нисходила благодать. Тому, кто блуждает в темноте, нужно увидеть море, услышать его, понять его природу. Море таит в себе изначальную чистоту. Оно учит человека постоянству, возвращает его к сущности, помогает пробиться к ясности.
Бесконечное, величавое, неисчерпаемое — маре есть праматерь всего сущего. И оно говорит устами поэта: счастье достижимо как осознанный миг бытия.
Вот и сейчас, когда ему было не по себе и он совсем уже запутался в неразрешимых своих противоречиях, память повела его на санкт-петербургскую Адмиралтейскую верфь. Он вспомнил день необычно жаркого и сухого июня и торжественный спуск военного корабля "Орел". Накануне Петр велел по всему Петербургу под барабанный бой объявить о важном событии.
Петр внезапно подумал, что видеть рождение корабля — неимоверное счастье, и, если кому-нибудь приходилось присутствовать при спуске корабля на воду, значит, он свою жизнь не зазря прожил, не понапрасну на земле мучился.
А уже за его-то жизнь понастроено было полторы сотни одних линейных кораблей и фрегатов. И каждый раз зрелище спуска на воду наполняло его неслыханным блаженством. Это был флот, страшный по имени: "Волк", "Медведь", "Борзая собака", "Ястреб", "Сокол".
У него пробегал мороз по коже каждый раз, когда раздавалась команда: "Клинья выбивай!" Начинался с двух сторон перестук молотков. Потом что-то сухо трещало, натужно скрипело — и Петру казалось, что вся деревянная махина с узкой кормой и острым днищем готовилась к прыжку. И проходил еще один сокровенный миг, корабль вздрагивал и начинал бесшумно скользить по округлым брусам, густо смазанным салом.
Он вспомнил "Орла". То был трехмачтовый красавец со стройным корпусом и срезанным форштевнем. Вспомнил, как он царственно, легко двигался к краю стапеля, к сверкающей воде. Вспомнил гром пушечной и ружейной стрельбы. И государь улыбнулся. Ему стало легче, он ощутил подъем. И еще он вспомнил, как поразили его в тот день две безмолвствующие стихии — особенно чистый и звонкий простор неба, какой бывает только над водой, и зеркальный, слепящий простор широкой полноводной Невы.
Он стоял тогда и смотрел на воду против света — она искрилась, и ему казалось, что все дрожит и шевелится, а небосвод пробивается к воде косыми световыми лучами.
Даже теперь, в своем воспоминании, он снова ощутил ту самую радость, которую хорошо знают художники. Радость творца, автора, создателя. Свет божий. Это радость, которая никогда не предаст, не изменит, не смешается с горем пополам.
Петр вспомнил, что по верху гакаборта "Орла" под окнами был помещен резной геральдический орел работы Растрелли. А слева от него скульптор расположил женскую фигуру с весами — Правосудие. И мужскую — бога войны Марса. Была там, кажется, и фигура женщины с дельфином в руках, что знаменовало Дружелюбие. Все дерево было позолочено, только дельфин выделяется: серебрение по красному фону сделало его фигуру легкой, теплой, живой.
Петр благодарно взглянул на скульптора и хотел что-то сказать ему, но смолчал. В памяти его возник маленький крепыш с густыми бровями, трубкой во рту, в черной бархатной шапочке. Это был строитель "Орла" Ричард Броун.
Отдав кораблю несколько лет труда, Броун был счастлив. В его синих глазах стояли слезы.
— Глядите, ваше величество, хорошо ли стоит на воде мой флейт? — спросил тогда у царя заморский корабельщик.
Царь сказал:
— Стоит что надо!
Отошедший от берега флейт напоминал мечту, нежный розовый облак, что отвлекает нас от забот, бед и нелепостей…
Петр как-то утешился своими мыслями, боль у него в сердце притупилась, и он подал знак начинать ужин.
Государь был хмур, замкнут, неподвижен.
Когда сели за стол, начали пить и есть, дружно зажевали после первых тостов, всем по обыкновению захотелось легкости. И тогда лукавый и остроумный Шафиров, зная, что за дружеской трапезой государь более всего ценит непринужденность и простоту, стал вдруг рассказывать про любовные нравы ручных мартышек, которых ему подарили в Вене. Тон у него был самый искренний, заражающий, в глазах прыгали веселые бесы, и невольно все помягчели. Спесь с сенаторов слетела враз, они задвигались, оживились, ввертывали к месту соленые шуточки.
Тема была увлекательна. Царь, который до того напряженно думал, заулыбался. Воцарилась обстановка самая подходящая для такого праздника, когда обычная пища приносит наивысшее удовольствие.
Растрелли облегченно вздохнул. Хозяину тягостнее всех, когда стол не залаживается и не находится способа сделать что нужно, чтобы растопить холодок.
А теперь все вошло в колею.
После нескольких бокалов, запитых свежим густым пивом, на душе у пирующих стало совсем тепло. Гладкие и лощеные лица сенаторов размякли, раскраснелись и стали совсем домашними. От легкомысленных и похотливых мартышек перешли на женщин, и каждый по очереди рассказывал какой-нибудь забористый амур со многими чудными штуками.
Нет хуже, когда оказываешься за столом, где в каждую тарелку подмешана тоска, и говоришь только потому, что надо что-то говорить, а смеешься потому, что надо смеяться.
Сидишь и клянешь себя за то, что ввязался, и горько жалеешь себя — забота не съест, так тоска одолеет. А с веселой дружеской вечеринки уходишь свежий, бодрый, охочий до жизни.
Хорошо в тот вечер посидели у Растрелли в мастерской. Все были довольны, знатно душу отвели. И царь насмешил вдоволь, когда после шафировских мартышек стал вспоминать про свои парижские амуры на маскерадах. Пьяные француженки-аристократки были заворожены необычным ростом и внешностью российского самодержца, в коем проглядывал серьезный и основательный мужчина. Его ловили в темных углах парка, прыгали к нему в карету, оказывались под одеялом в постели, когда он возвращался в свою резиденцию. Подобные девы своим воинским натиском могли извести черта лысого — резвость их любовная не имела предела и меры.
— Ну а теперь, господа сенаторы, детки мои дорогие, отдай якорь! Валяйте по домам к себе, а то вас жены заждались. На словах вы все невозможные герои. Покажьте свою ночную прыть на деле! — рявкнул Петр, утирая ладонью жирные губы и отплевываясь. — У нас с графом еще поговорить есть о чем, а время уже позднее…
Сытые и веселые сенаторы с готовностью поднялись, стали шумно прощаться.
По знаку хозяина ушли спать и его неутомимые помощники — Андрей Хрептиков, скульптурного дела мастер, Ерема Кадников, чеканщик, гипсовщик Гаврила Козьмин. Они жили в небольшом флигеле во дворе возле католической кирки, и оттуда еще долго доносились их пьяные песни.
Растрелли-старший и царь остались одни. Петр приступил к разговору, над которым он раздумывал с самого утра.
— Я, граф, к тебе с предложением пришел: хочу, чтоб ты в ваятельном художестве с меня конный статуй сделал. Кого другого искать заместо тебя не буду. Хочу, чтоб именно ты сие сотворил. Согласишься — славно будет. А нет, так я об этой затее и болеть больше не буду. Дело не сомнительное, обдумай, чтоб не скоро спешить. А я, пожалуй, тем временем еще выпью малость!
Растрелли возликовал. Вот удача-то, боже мой! — думал он. Заказ по душе, деньги появятся, сам царь просит. Как по маслу должно пойти. Вспыхнув от радости, скульптор старался ничем не выдать своих чувств, сдерживался.
Лицо достопочтенного мастера осталось невозмутимым.
Он был зрел, сметлив, опытен и знал хорошо: при заказчике нельзя прыгать от счастья, а тем более громогласно выражать свои восторги. Спугнуть птичку — она порхнет, и поминай как звали, только руками и лови ветерок от ее легкого задка.
Нет, с заказчиком политес нужен, нахмуриться, показать, как тебе трудно живется, сколько мучений стоит художество. (А это и в самом деле так.) С заказчиком, тем паче привередливым, плошать невозможно никак!
Петр сидел за столом, словно к чему-то прислушиваясь.
Таким его художник еще не видел и смотрел на него с изумленным любопытством. Этот человек всегда вызывал у скульптора интерес как модель, требующая выяснения понятий. От Растрелли не укрылось, что Петр разительно переменился, в его облике как-то явственно проступили смятение, неуверенность, горечь.
Так бывает, когда несешь свой крест на земле, занят делами, заботами, все спешишь, кидаешься во все стороны и вдруг — внезапная остановка. Начинаешь оглядываться и думать: а в чем дело-то, зачем бога гневлю?
Тогда, в час их знакомства, Петр поразил Растрелли бешеной жаждой жить, ненасытным стремленьем к новизне, просвещенью неученой Руси. Это он открыл скульптору возможность работать, осуществить то, что лежало в папках в виде набросков, планов, почеркушек. Это он протянул ему руку в трудную минуту.
Скульптор твердо решил сделать Петру конную статую" какой еще никто не видел, весь свет удивится!
Растрелли смотрел на царя и видел перед собой монарха и омраченного горем отца. Одно удовольствие лепить такую голову. Это и не голова вовсе, а сенат с отдельными кабинетами. "А у меня одна камора с одной бедной мыслью. Но я могу взять любую идею, облечь ее в плоть и форму".
Всей своей жизнью художник пытается доказать, что искусство это то высшее, при помощи чего можно выжить. Художество оказывает на жизнь счастливое влияние, оно руководится своими тайными законами.
Сидел в мастерской скульптора царь и досадовал на себя, на горькую свою судьбу. Он мог бы жить в свое удовольствие, заниматься своим частным делом, подобно другим государям, как отец его Алексей Михайлович… А теперь он взнуздал все двенадцать миллионов душ в своей державе, всех посадил на цепь, для всех завел новые порядки. Он был для них тираном, гонителем, ожесточившейся железной метлой, что хотела вымести из России все враждебное, ненавистное, отжившее. И что же вышло? Родной сын на него поднялся. Дожили, получили вспоможение от наследничка. Он один весь род людской обесчестил своим злым умыслом. Позор такой только кровью можно смыть. Все рушится, все!
Царь горько и тяжело раздумывал:
"Кто, кто оценит мое рвение, мою любовь к отечеству? Может быть, только граф Растрелли в своем конном статуе покажет, что я такое и кто таков. Никогда не требовал я, чтоб особливо почитали меня. Никогда! Памятью моей станут ли пренебрегать? Сие горько. Прежде скульпторы тщились создать образец идеального монарха. Пусть граф сделает персону решительного характера…"
Скульптор граф Растрелли чувствовал себя легким, способным на многое художество. Радовалась в нем счастливая душа, и счастливое тело радовалось. И радость их состояла в том, что поступать они могут так, как пожелают. Растрелли был царь в своем деле — он мог, к примеру, свободно сделать из мухи слона, и все, кто стал бы сие лицезреть, вынуждены были бы признать: да, вовсе это не муха, а самый натуральный слон, таких в Индии — пруд пруди. И в России парочка есть.
Растрелли думал теперь о конном статуе. "Сидящий на коне патрет!" — сказал царь. О необходимых материалах, о том, кого ему привлечь для работы. Перво-наперво нужно снять форму с головы и лица государя. Позировать он не любит, больше четверти часа не выносит. Скульптор вспомнил, как он намучился, когда делал с царя этюд. Петр вертел головой, вскакивал, ненадолго усаживался и поминутно спрашивал, раздражаясь от нетерпения и досады:
— Ну, сколько ж ты меня будешь изводить?
Однако совсем не это больше всего теперь беспокоило скульптора. Как сделать? Каким показать Петра? Безмятежным героем и полубогом или исступленным фанатиком? Благородным, достойным человеком или нетерпимым деспотом — всего в нем намешано, из крутой густоты теста он слеплен. В нем сидит и гений, и безумец, и жестокость его в портрете прятать незачем, но ведь и мужество показать нужно, и грозную силу его. Да, не из легких задачка. От мыслей голова у скульптора пошла кругом. Но он себя успокоил: буду вращать вселенной, как бог на душу положит. Работа сама подскажет верное решенье — и нечего тут копья ломать загодя. В этом одна из величайших добродетелей художества. Избранника своего оно ведет кратчайшими путями к истине.
Царь — модель благодарная, в нем много простоты, непосредственности. Мне в художестве нужна плоть, нужна материя, нужна суть. Сделать лепку чистосердечной, прямодушной.
Вещь, добросовестно сделанная, будет долго людям служить, сиять будет, и они не раз добрым словом помянут мастера. И это для него счастье — оно не из одного куска, а из мельчайших крупиц.
Растрелли смотрел на государя, и замечал, как душевные муки проутюжили его лицо, и думал, что укатали все же и эту бурку крутые горки. А бурка-то могучая — не нам чета.
Художник быстро подошел к полке, взял лист бумаги, уголь. Он сел и стал делать наброски с Петра. Нарисовал его собранную, сжавшуюся фигуру, скованную усталостью. И усталость эта, как понимал художник, была не физическая. Вызвана она была острым напряжением всех его сил. Скульптор рисовал и говорил себе, что главная черта Петра — решительность, что он слишком суров не только к другим, но и к себе, что он привык повелевать, безжалостно доходя до крайностей, часто будучи приневолен к тому необходимостью. Так что он в какой-то мере и страдалец, и мужественный стоик, закаляющий свое благородство в муках и крутых испытаниях. Страдалец невинный, которому бог не дал утешенья даже в сыне…
Пользуясь удобным моментом, художнику хотелось как можно более подробно и дотошно рисовать, у скульпторов сие называется "въехать в ноздрю". Но он не стал этого делать, а набрасывал общее, фигуру и лицо с широко открытыми глазами, в них прочитывались ум и характер. Он рисовал Петра и вспоминал древнерусские фрески и иконы с их вдохновенными пророками и праотцами.
Любой художник — человек особого рода, но многие из тех, кого знал Растрелли, кроме, пожалуй, Ивана Никитина, Андрея Матвеева, да еще двоих-троих, смотрели на модель свою как бы вполглаза, видя в ней что-то совсем чуждое, непроницаемое. А смотреть-то, думал скульптор, надобно совсем-совсем иначе. Смотреть и видеть, как теплится в человеке внутренняя жизнь его, как она разливается особым светом во всем облике. Растрелли обрисовал всю фигуру Петра широкими штрихами, а лицо сделал мягкой растушевкой. Получалось вроде бы неплохо. В рисунках намечалось то, что он будет делать потом в скульптуре.
Выходил у него государь таким, каким был. Таковой мог осыпать сиятельного князя площадной бранью, поддать ему тумака, мог проявить дикость чисто варварскую и ребячье бесстыдство, а после сесть и как ни в чем не бывало читать греческих философов.
Растрелли искал формы, пропорции, совершенство, истинную линию в своей душе. А государь все, что ему было потребно, искал и находил вовне. Скульптор на ощупь брал красоту там, где верховный творец прекрасного запечатлел ее. Петр хотел осветить густой мрак при помощи знаний и наук. Действия души мало его занимали. Правда, до поры до времени, до тех пор, пока он не столкнулся с самыми злыми и низкими намерениями сына. Вот тут-то он и замер, приостановился, стал оглядываться назад, почти окаменел. И может, впервые задумался — да еще как горько — о душе, о себе, кто он и что такое.
Теперь он сидел и, похоже было, бился над каким-то неразрешимым вопросом. Что такое есть он — государь и монарх? Столп державы или кратковременный призрак? Ага, опомнился, — Петр больно дернул себя за усы. И что есть человек? Говорят — венец творенья, а еще и мера вещей, гармония вселенной. Хороша гармония… Гармония — это равновесие, согласие, благоустройность. Ничего этого в нем теперь и в помине нету. И может быть, об этом думал господь, когда сказал: помни, человек, что ты прах и в прах обратишься…
Нет, надобно любыми мерами пресечь грязь, смыть позор. Вот до чего ты довел отца, царевич Алексей Петрович. И отца этого ломало теперь и выворачивало, гнуло и корчило.
— А пошло все к такой матери! — неожиданно вскрикнул Петр и вскочил на ноги. — Делай мне конный статуй, граф! Пущай сто лет пробежит, иными глазами увидят меня, я не буду им казаться таким кривым, как ныне…
Государь взглянул на скульптора твердо и ласково. Славного мастера достали ему в Париже. Хотел он услышать от него слова немедленного согласья, но хитрый лепщик молчал. Петр ждал-ждал их, да не дождался и стремительно заходил по мастерской, сцепив за спиной руки.
— Как ты сам можешь понять, граф, мое желание казенной надобностью не вызывается, — сказал он задушевно и внятно. — Пока что прими в рассуждение, что это моя прихоть! Каприз моего царского величества. Ты мастер, ты поймешь. В своем деле — ты искуснейший. И человек благозаслуженный. Конечно, с норовом, но вам-то, художникам, без оного не прожить — знаю! Вкруг меня все меньше людей, коим можно довериться. Нет уж их совсем! Ищу таковых во всем народе государства своего. И не нахожу! Ни среди знатных, ни среди незнатных. Ближние лгут, от сего убыток. Верных помочников не сыщешь. От воровства устал. Казне вред, подлым людям — разоренье. Вон Шафиров — умен как бес, настойчив, важные услуги отечеству оказал, а тоже… Надоело. Что ж — мне сенаторов публично сечь прикажешь? За корысть их под опасением смертной казни держать, что ли? Состраданья я в себе уже ни к кому не нахожу. Повсюду враги мерещатся, обманы, утайки — в сенате, в коллегиях, в городах и местечках, в церквах, деревнях. Всюду моим нововведениям враги. Прежде я в подозренье никого безвинного не ставил, не то ныне стало. Каждого подозреваю… На что потрачена жизнь? Наказанье на теле, лишение живота, галерная работа, публичная экзекуция — вот и все мое милосердие. Казни и кровь за подлоги и коварство… И более ничего.
Лицо Петра застыло, стало неподвижным, как камень.
Государь удрученно замолк, потом отрывисто спросил:
— Так будешь делать мне статуй, граф?
— С великим моим радением, ваше величество! — быстро ответил Растрелли. Голос у него против воли слегка дрожал.
— Вот и прекрасно, не зря я на тебя надежду имел.
Все время, пока государь говорил, Растрелли слушал его почтительно, невозмутимо, а в голове у него обиженно промелькнуло: как царская прихоть — так позарез Растрелли нужен, а как жалованье платить — так у них оплошка выходит. И нового контракту не дают, живи как знаешь, случайным подрядом…
Скульптор слушал, а сам качал головой, выпячивал нижнюю губу, недоуменно пожимал плечами.
Продолжая расхаживать, Петр подошел к графу, заглянул ему в глаза, внезапно рассмеялся. Он дружески потрепал художника по плечу, сказал с улыбкой:
— Тогда токмо можно говорить с другом на равных, когда камня на сердце не держишь и говоришь то, что думаешь, а не половину, спрятавши другую на самое дно. Скажу тебе как перед богом и его евангелием — я на тебя зла не держу, а ты, вижу, на меня в обиде… За Леблона моего, за битье твоими людьми знатного архитекта я люто на тебя зол был. Да что ж старое-то вспоминать — недобрый это обычай. И Леблона уже не вернешь с того света…
"Ты его туда и спровадил", — неприязненно подумал Растрелли и потупил голову, чтобы чуткий, подозрительный Петр не разглядел в этот момент выражения его глаз.
— Обещаю тебе, мастер, без работы ты у меня сидеть не сподобишься, на пропитанье и прочее тебе вот так хватит, — он выразительно чиркнул пальцем по горлу. — Русь оскудела, еще похищают ее, тянут блудливые рукодельники, а всего утянуть не могут, кишка тонка!..
Видно, мысль о хищениях более всего овладела просветлейшим монархом, потому что он вдруг изменился в лице и в бешенстве прошипел:
— Истязать буду без пощады! Первым казню смертью Матвея — сибирского губернатора Гагарина. Деньгами взятки брал, товарами. А ныне его, вишь, на алмазы потянуло. Царице Екатерине Алексеевне везли купцы из Китая перстни алмазные, на ее деньги купленные, так он половину себе присвоил, тать вонливая. Теперь повинную мне прислал… Поздно. Отымет у тебя жизнь палач — вот тогда и винись!
У скульптора вдруг заломило в пояснице и ледяные мурашки пробежали по спине.
— Так вот я тебе, граф, обещаю свою протекцию до конца жизни. Я тебя люблю, и мы с тобой будем друзьями всегда…
— Вам конный статуй на манир римских императоров желателен? — спросил скульптор почтительно, еще не отделавшись от внезапного страха.
— Да какое там! Куды нам до них, — отмахнулся Петр обеими руками. — Об ихней славе я не помышляю. Одно меня с римскими императорами роднит — и они, и я ко греху телесному слабы! — весело заключил царь. — До баб мы злы!
Растрелли с улыбкой поддакнул. Он стоял опустив голову, вперился в одну точку на полу и думал: "А что, как заломлю-ка я с него за конный статуй двойную цену — случай вроде подходящий вполне, тогда и с долгами расплачусь. И на жизнь останется. Настроенье у государя поминутно меняется — то казнит, то милует. А мне материалы потребны и на харч каждый день. Князь Гагарин небось веселится, расхаживает, ласточкой вьется, а ему тут мимоходом в моей мастерской смертный приговор вышел, кровавый топор уже занесен над несчастным. А он про то и не ведает".
Художник вспомнил притчу, которую ему недавно рассказывал веселый голубоглазый формовщик — татарин Мингаз.
Однажды к эмиру — в Бухаре это было — вбежал его лучший, вернейший слуга, не раз спасавший ему жизнь в сраженьях. Слуга был в полном смятении, он дрожал, заикался, руки у него тряслись.
— Что с тобой? — спросил эмир.
Слуга пришел в себя, стал по порядку рассказывать.
Он шел по шумному воскресному базару и вдруг увидел, что солнечный день подернулся мраком. Слуга удивленно поднял глаза и замер — перед ним стояла смерть и размахивала сверкающей косой. Она замахнулась. От испуга слуга бросился наземь и разбил себе голову. А смерть повернулась к нему спиной и тут же исчезла.
— О великий эмир, самый мужественный и непобедимый, будь ко мне милосерден, отпусти меня на волю, дан мне коня. Та, что я встретил на базаре, не шутила. Она жаждет моей крови. Она меня предупредила…
— Что же ты намерен делать? — недовольно спросил эмир.
— Я возьму коня и ускачу подальше — она меня не найдет.
— Черт возьми! Мне жаль отпускать тебя, — сказал эмир, — ты лучший из моих слуг, вернейший. Но ты спасал мне жизнь в бою. Ладно, бери коня. Я тебя отпускаю. Куда ты хочешь ехать?
— Я поскачу в Саратов!
Эмир в знак благодарности за верную службу снабдил своего слугу всем необходимым. И тот ускакал.
На следующий день эмир по своим делам отправился на базар. Когда он шел мимо цветочных рядов, вдыхая благовонные запахи, солнечный свет померк и прямо перед ним в голубом одеянии встала смерть. Эмир узнал ее сразу по описанию слуги. Светлый день стал мрачной ночью.
— Зачем, скажи, ты напугала моего лучшего слугу? — спросил эмир.
Царица ночи зловеще усмехнулась:
— Я отнюдь не думала никого пугать. Я приходила
в тот день за другими…
— Но ты же на него замахнулась? — сказал эмир.
— У меня на то не было причин, — сказала смерть. Ее лик убийственно и мрачно передернулся. — Я не замахивалась на твоего слугу, — сказала она, — я всплеснула руками от удивления.
— Чему же ты так удивилась, подруга Скорби и Печали? — спросил эмир.
— Я удивилась его забывчивости: ведь я ему назначила
встречу в Саратове через неделю, а он еще тут разгуливает, в Бухаре… А скакать ему ровно семь ден — я ждать не могу.
Вспомнив эту притчу, Растрелли усмехнулся.
— Правленье мое к концу идет, — Петр тяжело вздохнул. — Намаялся я вдоволь, домой прихожу — от усталости ни рук, ни ног не чую. Сотворишь мой конный статуй в добром художестве — вот хорошо-то будет. На Литейном дворе в меди отольешь. Тебе сколько пудов для себя понадобится?
— Да пудов триста пятьдесят — четыреста.
— Немало, однако, не одну пушку из таких пудов отлить можно… Подобный статуй мне в Германии видеть довелось, когда в одном парке фонтаны осматривал, — так там три превеликие лошади есть, на них мужик стоит, у той лошади, что в середке, изо рта, а у крайних коней из ноздрей вода течет. Кругом тех лошадей ребята из мрамора сидели, воду пили, а пониже их двенадцать каменных орлов да других птиц и животных — из всех вода текла. Сделано было изрядно, дивная работа.
— Да и у нас штука выйдет изрядная! — с уверенным достоинством воскликнул скульптор.
— В искусстве твоем я не сомневаюсь, примеры и образцы мастера высокой руки ты нам показал. Ты скажи, что я мог бы тебе для вспоможения сделать? И в какие расходы обойдется подобный статуй — прикинь-ка сей момент…
Растрелли призадумался. "Без жалованья тяжко. Деньги талант кормят, без них никак нельзя. Просить государя о продлении контракта не весьма удобно, раз сам того не предлагает. Лить коня и фигуру на Литейном дворе, делать барельефы, чеканить — для всего нужны мастера, помощники, а они задарма работать не станут, им надобно из своего кармана приплачивать. Пожалуй что, в тысячу все и встанет.
Как же тут быть-то? Лишнее назовешь — бережливый царь обидится. Меньше скажешь — и того хуже, после добавки не допросишься. Да, невзгоды делают человека осторожным. В прежние годы я таким осмотрительным не был…"
— Ну ты, граф, что-то долго прикидываешь. По моей препорции сия работа на две тысячи потянет, — сказал Петр. — Неужто не хватит?
Скульптор почесал подбородок и развел руками.
— Должно хватить. Я лишнего не возьму, а только то, что стоит работы. Заказ мне по душе — статуй выйдет взрачный, изящный, достойный императора, в коем толикие добродетели имеются.
Петр посмотрел на скульптора, хитро прищурился. Втайне он еще раз порадовался, что такого мастера удалось выцарапать.
Он подошел к художнику, взял его крепко за плечи и, заглядывая в глаза, доверительно сказал:
— Мне еще никогда так сильно не желалось получить от разного художества, как этот конный статуй. Отчего — и сам не пойму. Мы из Италии триста штук скульптур в Россию притащили, а твоя среди них первой должна быть. Так — то! Ты когда начинать желаешь? — тихо спросил Петр.
— Мне форму надобно с вашего лица снять первым делом. Сие завтра же утром здесь у меня свершить можно, ежели время у вас найдется. И еще потребна мне для сверки форма с коня императора Константина, что в Риме…
— Я в пять встаю. В шесть буду завтра у тебя! А форма с римского коня будет доставлена тебе в полтора месяца. До завтра! — заключил Петр и кликнул денщиков, чтоб одевали.
Растрелли склонился в почтительном и благодарном поклоне.
Глава девятая
Дело было сделано

а другой день, едва забрезжил рассвет, в доме Растрелли поднялась беготня. Каждый знал, что ему делать. Растапливали печь, очищали и зажигали свечи и канделябры, готовили материалы, инструменты. Озабоченный скульптор ходил по мастерской, придирчиво проверяя — все ли так, как следует, ничего не упущено ли. Грузный, строгий, сосредоточенный, он походил на главнокомандующего, который в последний раз осматривал поле предстоящего боя.
Слава богу, все было готово. Растрелли выглянул во двор. Холодный ветер налетал резкими порывами, гудел и выл. Оловянное небо нависало сердито и тяжело, словно и ему было зябко и беспокойно. По дальнему краю его окаймляла широкая свинцовая полоса. Сорванные с деревьев и крыш колкие снежинки впивались в лицо.
Скульптор нырнул обратно в уютное тепло мастерской.
Он с нетерпением ждал государя. Топтался, прислушивался, стоял у окошка. Он весь был наполнен томительным ожиданьем будущей работы. И преисполнен гордой важности и какого-то непонятного торжества: не каждый день и не всякому скульптору доводится снимать форму с лица живого императора, самого Петра Великого. "Тебе и в самом деле пофартило, Бартоломео Карло Растрелли, — подумал он, — да так, что и сказать невозможно!"
Он встречал на себе взгляд сына — одобрительный, восторженный. Обожание сына добавляло ему сил, уверенности в успехе. А Франческо внезапно увидел отца в новом свете. Важный заказ делал отца в его глазах человеком еще более замечательным и необыкновенным.
Наконец-то прибыли. Подкатили богато убранные царские сани, обитые красным бархатом. Разгоряченные кони подымали головы, натягивали поводья, часто дышали, сдувая с губ набежавшую пену.
Петр вошел с мороза свежий, ликующий, в настроении самом благодушном. Ни малейшего следа усталости, вчерашней мрачной грусти не осталось в нем. Растрелли радостно приветствовал его, глубоко кланялся. Теперь для него важность особы государя несколько отходила на второй план. Он видел перед собой только модель, и модель была в хорошем расположении духа, а это для работы было как раз то, что нужно.
Петр с улыбкой спросил:
— Что будешь учинять со мной? Я в твоей власти, жду распоряжений…
— Ваше величество, комиссия вам предстоит такая. Сейчас я быстро приготовлю гипс. Вы будете лежать вот здесь, на топчане, — он точно подогнан по вашему росту.
— И когда ты только успел? — изумленно спросил Петр, не скрывая радости.
Он сам был мастеровой и знал, какую выгоду дает любой работе предусмотрительность. Радение, не упускающее из виду каждую мелочь.
— Да пришлось ночь не поспать… Так вот, все займет не более получаса, ваше величество, — продолжал Растрелли деловито. — Поелику вы говорить и видеть все это время не будете, я дам вам в руки грифельную доску. При надобности вы мне написать наводите. Мой сын и мастер Андрей Хрептиков будут мне помогать. Втроем мы управимся скоро!
— Что ж, валяйте, ребяты, делайте со мной что хотите, раз я к вам сам в лапы поддался. Только до смерти не замуруйте. А дышать-то я как буду?
— Для дыхания, ваше величество, я вставлю в нос две удобные трубки…
— Чего только с живым человеком не делают, — промолвил Петр с безобидным упреком и стал укладываться на топчан.
— Хочу еще упредить ваше императорское величество об одном моменте…
— Слушаю тебя, граф.
— Когда все лицо закрывается гипсом — сие мне самому довелось испытать, — случается чувство неприятное, страх находит, робость. Не все могут выдержать подобное, Я ваше величество, говорю об этом, чтоб вы приуготовились к подобному испытанью!
Петр, укладываясь поудобнее, внимательно выслушал замечание скульптора, понимающе кивнул.
— Франческо, бери вон ту медную кастрюлю, заводи гипс, литра три, не больше. А ты, Андрей, приготовь-ка мне заводную лопатку и кожаную гипсовку!
Растрелли-отец был крайне сосредоточен, он вглядывался в лицо царя так цепко и проницательно, что тот даже глаза отвел и подумал: "От такого не укроешь ничего, он на два аршина в землю зрит!"
Гипс был готов. Растрелли проверил вязкость. Сметана была что надо. Он вставил государю трубки в нос, спросил:
— Впору? Ваше величество" попробуйте подышать…
— Будто ничего, — сказал Петр, шумно втягивая воздух и выдыхая его в трубки, — дышать можно.
Растрелли удовлетворительно кивнул, взял небольшой горшочек с широкой тульей и стал смазывать лицо Петра телячьим жиром, тщательно втирая его в кожу. "И что это он охорашивает, к чему приуготовляет?" — подумал Петр. Он испытывал с непривычки замешательство.
— Смазываешь для чего? — спросил царь, улучив минуту, когда его рот был свободен от больших жестких рук скульптора.
— Чтобы гипс не пристал к телу, ваше величество!
Растрелли обмотал голову царя тряпкой и, сделав ленту вокруг, пропустил ее по усам. В последний раз все огладил, ощупал, осмотрел и проверил.
— Ну с богом, начинаем! — резко скомандовал скульптор своим помощникам — они подошли и встали рядом, чтобы быть на подхвате, а Растрелли вежливо спросил: — Можно начинать, ваше величество, вы готовы?
— Готов!
В глазах Петра что-то изменилось: выражение прежнего живого любопытства, как отметил скульптор, стерлось — и теперь вместо него Растрелли увидел слабый отблеск натурального страха.
— Пожалуйста, не беспокойтесь, ваше величество, все будет отменно! — учтиво сказал скульптор.
— Я и не беспокоюсь! Делай, граф, свое дело. Да побыстрей, — сказал Петр строго.
Растрелли возвел глаза кверху и тут же густо начал накладывать на царское лицо понемногу садящийся гипс. Он действовал быстро, но не поспешно, что-то едва слышно бурчал себе под нос, а руки его мелькали со всех сторон, то и дело оглаживая лоб, голову, щеки, скулы, подбородок и прохаживаясь по всему костяку лица сразу.
Благословенны мастерство всякого рода и те, кто владеет им!
Лицо государя на глазах исчезало, словно призрак смерти стирал, превращая в молочно-белую застывающую маску. Оно было уже незрячее, бесформенное, закиданное плотной липкой лавой.
Свободным и живым пока оставался рот. Его скульптор решил залепить напоследок.
Петр внезапно со страхом почувствовал, что глаза его уже не открываются, хотя он делал для этого большое усилие.
Царь дернулся всем телом.
— Угодно ли чего? Скажите, ваше величество! — с удвоенной вежливостью сказал Растрелли и наклонился над царем.
"Он меня еще спрашивает, язвина чертова!" — досадливо подумал Петр. А сказал ровным, спокойным голосом:
— Делай свое дело!
— Сейчас будет самое наинеприятное, — сказал скульптор, — я, ваше величество, принужден залепить вам рот, если желаете, скажите что нужно, а то гипс застывает, если же нет, ваше величество, прошу вас лежать смирно. И, ради бога, не шевелите лицом!
Голос у Растрелли был мягкий и нежный. Петра этот ласковый тон успокаивал, но от слов "залеплю рот" он как-то обмер и подумал: нервы стали сдавать.
— Ишь ты какой! Ишь, игрун! — нижняя губа Петра оттопырилась.
Тут Растрелли взял Петра за губы, свел их вместе, выравнял, ляпнул на них гипс и стал рукой, а потом лопаткой разглаживать закрывшийся царский рот. Этот властный, горячий, бешеный, бунтующий рот закрыть еще не удавалось никому.
"Не дай бог, нитка запутается, тогда пропало", — тоскливо подумал Растрелли, а руки его уже потрогали нитку, подергивали ее. Скульптор успокоился — нитка находилась в нужном положении.
Она во всей этой затее играла немаловажную роль. Скульптору нужно было не по времени, а по чувству определить точный момент, когда гипс только-только схватится, вот тогда он и ухватится за нитку, и она подобно ножу разрежет гипс надвое в нужном месте. Если все правильно угадаешь, маска снимется, как чулок с ноги. Скульптор был напряжен как струна. Стоявший рядом мастер Андрей затаил дыхание, боясь шевельнуться. А младший Растрелли — так тот даже вспотел. Жаркий огонь нежности к отцу, гордость за его виртуозное искусство затопили ему душу.
Теперь Растрелли выправлял слой, слегка утончал его. Он знал, что на мягкие части лица гипс наваливается всей своей сырой тяжестью. Чуть прозеваешь — и кончик носа выйдет приплюснутым, щеки провалятся, и тогда маска будет подобьем не живого лица, а мертвого. И пиши пропало. Сам знаменитый Бенвенуто Челлини еще двести лет назад описал подробно всякие хитроумные способы того, как добиться совершенства слепка. Все это Растрелли давно знал. Его руки делали черную работу так же ловко, как и чистое искусство.
Царь лежал монументально и неподвижно. Он сжался, придавил свое неспокойствие и страх, барабанил пальцами по колену и чувствовал себя странно неодушевленным, случайным, безотносительным ко всему телом. Что-то пытался припомнить — не мог. Успокаивал себя — не получалось. В голове у него все спуталось, словно и туда граф плеснул добрую порцию гипса. Петр чувствовал, что внутри у него все дрожит. Дышать через трубки было затруднительно, от этого ломило в затылке. Замурованный в каменном мешке — незрячий, безмолвный, полуживой — Петр насмехался над собой: хочешь конный статуй — терпи!
Государь нащупал доску на груди, взял грифель и нацарапал: когда оживишь?
Растрелли самодовольно улыбнулся. Ему надо было еще немного протянуть время, но он сказал твердо:
— Сейчас будем снимать, ваше величество!
Он тут же распорядился:
— Франческо, готовь нож!..
Царь хмыкнул носом…
— Работать вас, ваше державство, великое удовольствие, — вдруг бодро и непринужденно заговорил Растрелли, — дело наше тяжелое, легких заработков не знаем. Холст истлеет, краски померкнут, а камень, медь выстоят хоть тысячу лет… На то и скульптура! Мы за чужим не гонимся. А своего в художестве не упустим!
Государь задергал ногой и подумал: "Глаголет, ирод! Стих на него нашел. Уморит ведь — ему что!"
— Поддерживай, поддерживай с обеих сторон! — закричал вдруг Растрелли сыну, и тот бережно взял в руки края отделяющейся маски. Она снималась удивительно легко. Красный, как маков цвет, потный отец стягивал ее с царского лица. Оно понемногу открывалось — бледное, необычно спокойное, словно сонное.
Дело было сделано.

Часть пятая
Варфоломей Варфоломевич и братья Никитины

Милосердие, великодушие, любовь
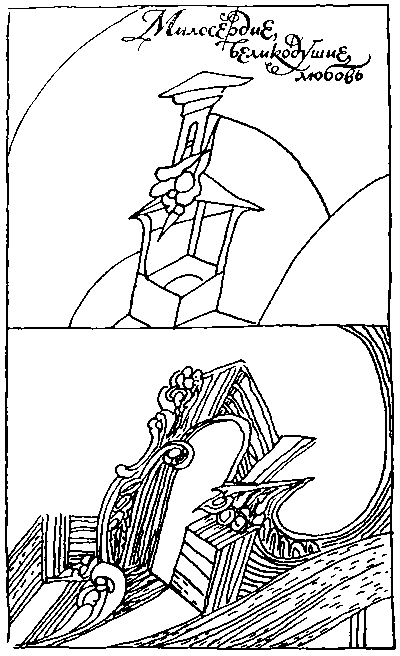
Глава пятая
Петергоф и Смольный монастырь


егодня был куртаг, играла италианская музыка. Она ласкает мой слух и вызывает вдруг какую-то легкомысленную веселость.
В последнее время заметил я, что теперь уже далеко не так, как бывало прежде, увлекаюсь я тем, чем занят. Не так интересно стало. От этого тревожится душа. Все чаще ловлю себя на мысли, что мне много облегчило сердце, если рядом был бы человек близкий, такой, как отец, коему я мог бы излить наболевшее.
Во время куртажного вечернего кушанья императрица Елизавета милостиво заговорила со мной, о строительных работах здесь, в Петергофе и в Царском Селе. Сказала, что ждет от меня, чтоб дворец был всеконечным совершенством. Ей легко так говорить, а у меня нет ни хороших мастеров-каменщиков, ни десятников. Я должен в оба глаза беспрерывно следить за стройкой…
Всем хорош царский куртаг. Хлопают пробки от шампанского, спасибо французскому посланнику маркизу де ла Шетарди, — это он первым привез его в Россию. Вино понравилось — облегчает сердце и приятно кружит голову. А еще и помогает поболее съесть некоторым обжорам, помогает улечься в их животах окорокам и колбасам, блинам и рыбе, говяжьим глазам в соусе и филейке по-султански. У тех, кто ест без меры, не раз отмечал Растрелли, глаза чисто по-жабьи выпирало. Это только говорится — подперто, так не валится. Валится, да еще как! А слуги все подносили к столам закуски: то крошенные телячьи уши, то говяжью нёбную часть, запеченную в золе. От таковых обильных ед и пития наступало у некоторых гостей стесненное сердечное трепещанье — от этого они мычали и постанывали, им хотелось поскорей домой, но этикет не разрешал портить другим праздник.
И господа терпели.
А вечером был знатно сожжен фейерверк, изготовленный маленьким толстым полковником-немцем. Сей искусник был одним из лучших в Европе мастеров своего дела. Его и наняли за немалые деньги, а после уже платили кое-как. Этот опытный шпаррейтер — так звалась его профессия — служил начальником порохового завода. Перед началом огненного действа немец бегал, суетился, что-то исправлял, всплескивал ручками и нырял в какие-то маленькие будочки, где уже вовсю сыпались искры в темноту, валил дым и раздавались резкие хлопки: пух! Пуух! Пуух!
Наконец все было налажено — и шпаррейтер взмахивал белым платком. Петергофский парк освещался неземным фантастическим светом — то розовым, зеленым и голубым, то белым, синим и фиолетовым. Взлетали в небо столбы огня, крутились шары, конусы и свечи, полыхали обручи, и ярко осветились в вышине двуглавые орлы. Они освещали нарядных дам в корсажах из белой ткани с гирляндами цветов на головах, придавали таинственность набухшим рожам гульливых, изрядно клюнувших кавалеров, бросали косые блики на стол, протянувшийся на всю длину парковой аллеи, буфеты тускло отсвечивали столовой посудой и фарфором.
За высокой шпалерой усердно и безостановочно наяривали музыканты. На теплом ветру хлопал полог из шелковой ткани, натянутой над столом. Красота и полная чаша рождали хорошее настроение духа, давали полную усладу, и даже у человека сухого могло дрогнуть сердце.
Когда куртажные гости разъехались, граф Растрелли пошел на дачу и смотрел оттуда на свой Большой дворец. Пленительное, бесподобное совершенство "Корпуса под гербом", счастливо найденные пропорции купола вызвали у архитектора улыбку восторженного умиления. Он не мог налюбоваться на свое детище.
Серебрились огромные полуциркульные окна, отражая легкий лунный свет.
Стояла такая тишина, что каждый шорох в кустах под окнами, любой писк зверька, стрекотанье настораживали уши и острили слух, словно у собаки. Тайно засматриваясь на творение рук своих, Растрелли никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Озаренное лицо его было радостным и беззаботным, мягким и нежным. В дневное время оно таким не бывало.
На соседней даче не спалось армейскому полковнику Строганову, брату барона, Сергея Григорьевича. Ему, видать с перепою, на сердце ангел уселся, сидел-сидел, а после и разлегся. И нежил, и покоил. Да так, что блуждающий взгляд полковника не мог зацепиться за какой-нибудь один предмет. Мир внезапно проваливался и мерк, оставляя вместо себя черные дыры.
А еще вчера Строганов был в полной силе. Ощущал сноровистость во всем теле, упругость ног и горячий румянец на щеках. От распирающей его силы в голове полковника роились некие весьма приятственные и беспорядочные картины будущего вечернего досуга. А над его головой и надо всем императорским Санкт-Петербургом раскатывалась дробью и, как в петровские времена, с подъемом, весело и браво гремела полевая военная музыка. И на зависть толпе тщедушных зевак Строганов вчера же, когда совсем не то что сейчас сжало обручем голову, печатал шаг — жаркий, твердый, топором врубающийся в мостовую.
А думал ой в это самое время о том, что вот он, старый вояка, давно мог бы гнить в сырой матушке-земле, не раз и не два побывать ему пришлось в тяжких сраженьях. Потому что любил он лезть на рожон. Ан нет, жив остался. Ни черта ему не сделалось, жив, курилка, чтим друзьями, обожаем прелестными созданьями. Ни пуля его не взяла, ни кривой янычарский нож не полоснул. И того гляди, вспыхнет на плече генеральский погон, и будет сие венцом достойным за преданную его службу нынешней государыне Елисавет Петровне. Брат Сергей уж давно в генерал-лейтенантах ходит. А он все полковник… Почему нередко один человек легко достигает всего, а другой… А род наш каков? — с гордостью вполне заслуженной думал полковник. Эге, да таких родов в России по пальцам на одной руке счесть можно. Василия Темного кто у татар выкупал, а? Строгановы. А Ермака кто в Сибирь снаряжал да провожал? Тоже Строгановы. А кто в святой Руси солеварни заводил да горнорудное дело налаживал? То-то. Кто Петру Великому деньги давал на шведскую войну? Тоже мы, Строгановы. А не давали б ему денег, могла б Россия ныне свободно шведской провинцией быть. Строгановские наши деньги помогли на Балтике укрепиться, потому что мы никогда не скаредничали. Апраксины, Головины, Толстые, Шафировы государеву казну грабили, тащили, раздергивали, а Строгановы ее наполняли задарма. Вона как выходит…
— Виноват, граф, что ночью беспокою, но вижу, и вам не спится, — негромко сказал Строганов, приближаясь к веранде. — Не найдется ли у вас рюмки рому? Поверите, боль в голове совсем замучила, застрелиться охота, ей-богу. Немилосердно гудит.
— Да, конечно, найдется! А что, помогает?
— Ром-то? Еще как! Он в голове производит сильное расширенье!
Растрелли с готовностью пошел в комнату и вынес кубок первостатейного ямайского рому.
— Премного вами благода…
Строганов немедленно опрокинул в рот кубок, не успев договорить, а только вдохнув воздуха.
— Фух! Фух! Фух! — шумно выдохнул он. — Чую, как душу смягчило, сползает с нее груз, сползает, проклятущий, бальзам по жилам потек. Спасибо вам, Варфоломеевич! Фу-ка… Евхаристия наступает, что означает благодать, да! Хорошо-о.
— А может, еще? — участливо спросил архитектор.
— Ни в коем случае, самый раз. Чтоб от скорби перепойной поправиться, Варфоломей Варфоломеевич, скажу я вам, совсем немного нужно, чуток совсем — и все в тебе опять живое. Спокойной ночи, граф. Блаженно чрево, носившее вас!
— Хороших снов, полковник.
— Ужо теперь поспим на славу! — Строганов разболтанно помахал рукой в воздухе и, нетвердо ступая, пошел к себе.
А вокруг шла обычная укромная ночная жизнь.
Встряхнув колючий свой тулупчик и пошелестев для порядка жесткими иглами, неспешно отправился на охоту еж. Он перебирал по земле мягкими лапками и катился большим черным шаром по тому самому следу, по которому ходил вчера и позавчера.
Как угорелые носились по кустам бездумные кошки, и зеленые кружки их глаз — серьезных и безжалостных — горели в темноте. Кошки издавали по временам такие устрашающие, воинственные и утробные звуки боевого вызова, что в полнейшей растерянности пучила во тьму свои круглые глаза ошалевшая сова. Не могла она взять в толк — для чего нужно кричать в ночном лесу, где все принадлежит тишине и счастливому случаю. Зато это хорошо знала хвостуха-лиса, которая неспешно кралась по тайным делам, замывая свой невидимый след. А глубоко в земле в удобной и хитроумно построенной норе проснулся от голода бурый крот и отправился в угол, где у него хранились припасы, чтобы скромно перекусить.
Со сна на ветках взмахивали крыльями птицы — им снился полет дневной завтрашней жизни.
Ни в Петергофе, ни в других местах обширной земли ход истории ничуть не замедлялся даже в ночное время, отпущенное на отдых и сон.
Поднял красивую гордую голову рогач-олень, прослушал наскоро лес, втянул в себя запахи и снова улегся, надеясь, что все устроится к лучшему…
А днем на петергофской дороге то и дело скакали экипажи, запряженные четвернею в ряд, с двумя лошадями навылет, сверкающими гладкой коричневато-каштановой кожей, то пробегали молочного цвета кони, похожие на ганноверских, с падающими до земли гривами и хвостами.
Движенье карет всегда привлекало внимание архитектора. Может быть, усталость шептала ему: брось все, прыгай в карету — и пошел куда глаза глядят! А может быть, он, хотя и с большим опозданием, понял, что по натуре своей больше склонен к жизни переменчивой, подвижной, нежели к оседлой.
Он был одержим своей профессией. Архитектура обладала таинственной способностью — растворять его душевную боль.
* * *
Сижу на веранде бывшей дачи парусного мастера Ивана Кочетова и смотрю на свой белый кафтан и камзол, покрытые пылью стройки.
Вчера мне наговорили много лестных слов — и ученик мой Савва Чевакинский, и другие тоже из нашей архитектурной братии по поводу церкви Большого дворца. Слушать похвалы коллег — удовольствие немалое. Это весьма приятно, хотя и без того знал, что сделаю знатно. Какой-то мудрец сказал про одного архитектора: он не мог сделать хорошо, а потому сделал красиво. А я, уж этого никто отнять не может, делаю и хорошо, и красиво. Жаль, что отец мой не видит моей победы, — вот кто ей искренне бы порадовался. Вот кто всегда одобрял мой образ действий, вот кто окружал меня своим постоянным заботливым вниманьем… Бедный отец, как ты мне нужен! Ты был мне самым лучшим, самым добрым другом. Тебе я всем обязан. Не золото-серебро дорого, а отцовское приветное сердечное слово. Уже восемь лет я живу без тебя и знаю: любое мое несчастье без тебя более тяжко, а счастье неполно.
Я испытал острое наслажденье, когда заметил, что мастера, десятники, работный люд стоят и смотрят на мое сооружение, когда сняли леса. Почему они стоят? — подумал я. Значит, им нравится то, что я сделал. А раз нравится, — значит, они все мои друзья…
Семь лет назад мне было передано высочайшее повеленье императрицы: по обе стороны Больших палат на галереях в Петергофе сделать деревянные апартаменты с пристойными покоями. Я сделал, как велено. Полную перестройку Большого Петергофского дворца я закончил два года назад, летом 1750 года. Когда-то дворец строил Леблон, переделывал его еще в 1722 году Микетти. Тогда было все не так — один флигель стоял в середине, галереи вели к боковым флигелям. Они были в два этажа высотой с окошками на крыше. По бокам Земцов пристроил два корпуса. А я решил добавить еще один этаж, повысив крышу и не трогая первоначального членения стенных плоскостей. Я подумал: стиль Леблона хорошо бы сохранить. Ведь умереть страшно, если подумать, что после тебя все переделают, переиначат. Микетти довел протяженность главного фасада до ста шестидесяти метров. Это мне очень по душе. Конечно, мне сразу же захотелось все сделать по-своему — подчеркнуть значимость бельэтажа, поставить богатые наличники, ввести цветочные гирлянды, головки ангелов. Я придумал чередование фронтонов — в центре треугольный, два малых лучковых и два с барельефами.
Императрица часто наезжает в Петергоф. Провожают ее сюда из города пушечной стрельбой с Петропавловской крепости. У дочери Петра страсть к балам, танцам, нарядам, выездам. Здоровая жажда жизни распирает ее.
В прошлом году я полностью закончил церковь, а ныне представил проект отделки аванзала, пикейной и штатс-дамской. Дворец мой уже зажил вовсю: знатные персоны обоего пола, знатное шляхетство и господа чужестранные министры съезжаются по вечерам на балы. Как часто здесь гремит музыка, сверкают лампионы. Гулять — не работать.
Бражничать да пировать лишь коза нейдет, а человек любой — только помани!
Блеск версальского двора меркнет в сравнении с русским. В роскоши мы всех за пояс заткнули. Рассказывали мне, что во время одного из пожаров у нашей императрицы сгорело почти четыре тысячи платьев. А в гардеробе ее, по рассказам, еще пятнадцать тысяч штук, два сундука шелковых чулок и несколько тысяч башмаков и туфель. Нешуточную армию можно одеть и обуть…
Тем, кто хорошо знал архитектора, показалось, что с годами Варфоломей Варфоломеевич стал более угрюм, молчалив, и мрачноватое выражение все чаще можно было встретить теперь на его лице. Его преданность искусству была прежней, и он целыми ночами просиживал над чертежами, наскоро забываясь в коротком предутреннем сне.
Рабочие будни его были заполнены, как и прежде, до отказа. А может быть, угрюмость и молчаливость означали всего лишь повысившуюся сосредоточенность, потому что Растрелли стал еще больше ценить каждый миг жизни, торопясь еще многое успеть сделать. Он понимал, что времени в обрез, спешил, а потому и смотрел на все более жестко, трезво, испытующе.
Засиживаясь до рассвета над чертежами, Растрелли мысленно пробегал сквозь арки, озирал словно с высоты птичьего полета свои пятиглавые храмы, проходил по роскошно отделанным покоям своих дворцов, видел сочную, решительную лепку грота в Царском Селе. Вспоминал Купеческую лестницу в Большом Петергофском дворце, мрачную львиную маску над воротами Строгановского дома, неповторимых кариатид, которых он немало наделал. Плохо ли, хорошо ли, но сколько он уже всего понастроил! Даже сам диву давался. "Ну, с богом!" — подбадривал он себя, словно стряхивая оцепенение воспоминаний и образов.
Давая волю своей фантазии, счастливой, капризной, изысканной, Растрелли, еще только вчерне намечая колокольню Смольного монастыря, уже явственно, во всех деталях видел ее внутреннее убранство. С волшебным мастерством сочинял он свои архитектурные сказки, вступая в свободное соперничество с самыми величайшими зодчими. Мир уже и до него был наполнен такой замечательной архитектурой, что она легко превосходила все понятия живущих об этом предмете. В пятнадцатом веке в Москву приехал итальянец Аристотель Фиораванти и построил Успенский собор в Кремле — один из шедевров зодчества, а через три века другой итальянец — Варфоломей Растрелли — проектировал Смольный монастырь на месте бывшего Смольного двора, что гнал прежде смолу для всего русского флота. И тоже создал неувядаемый шедевр русского зодчества. Что же такое был этот Смольный монастырь, который еще рождался в чертежах Растрелли? Это было очень убедительное свидетельство творческой самостоятельности мастера. Это была торжественность необыкновенная. Это была благородная величавая простота. Весь Санкт-Петербург увидел, что гений Растрелли развернулся здесь во всю свою ширину. Но кто знает, каких усилий стоило этому самому гению сделать новый крутой разворот! Какими должны были быть его упорство, мужество, страстная, неустанная увлеченность, чтобы добиться поистине органной мощи, величия и нарастающей силы всего массива этого удивительного создания!
Растрелли сосредоточенно чертил, опираясь на свое умение схватывать самое существенное. Он с радостью видел, как все формы Смольного храма, обретая скульптурность, выходят небывало четкими, вздымая неудержимую стремительную ось-колокольню все выше и выше.
Формы этой колокольни сохраняли первоначально заданные пропорции. Фрагменты стен наплывали друг на друга сами по себе, появлялись членения, арочные пролеты. И все это возникало вроде бы без всякой связи с диктующей волей самого зодчего.
В горячке счастья и сладкого забытья, которое давала ему эта работа, Растрелли держал в цепкой памяти все самое лучшее, что было создано в прошлом. Держал, но и боролся с ним, бросал вызов. Не гордыней нашептанный, а долгом, душой и гением. Он припоминал самые разные постройки, ему не надо было листать книги и альбомы с зарисовками. Память его была свежа, как в юности. Что такое архитектура Вюрцбургского замка Бальтазара Неймана? Она отменна, но Смольный — нечто другое. И дрезденский Цвингер хорош, и Александро-Невский монастырь Трезини превосходен — его схема как раз подходит к Смольному, и дворец Брюль близ Кельна — ах, какие там ажурные перила, какие лепные украшения и парные колонны! Но мне нужны другие ориентиры, нужны русские монастыри допетровских времен. Смольный должен нести национальные черты. Пусть в нем проявятся во всю мощь особенности России как державы истинно великой, пусть Смольный вберет в себя красочный и необъятный мир народного воображения. Смольный — это здоровье и сила, бесстрашие, живописность и блеск. Это золотые купола, каменные лестницы, небывалое впечатление простора. Без французской чинности и немецкой вычурности, без деспотического порядка и манерности. Это памятник России, воздвигнутый в ее честь.
Приехав юношей из Парижа в Петербург, Растрелли искренне изумился русской архитектуре — простой, грациозной, внушительной, наивной, вечной, рассчитанной на века. Ее создали таланты, гении…
Василий Блаженный, Покров на Филях, Успение на Маросейке — да только этих трех храмов хватило бы, чтобы любой убедился: в народе, создавшем такое, очень сильно чувство жизни, которое ничем не вытравишь, а еще в нем — большая жажда красоты…
"Талант, гений — и тот и другой достойны уважения, — подумал Растрелли, — а в чем же разница между ними, есть ли она?"
Поразмышляв об этом, отдыхая от работы, Растрелли пришел к выводу, что разница между ними есть, но весьма незначительная, ничтожная: вода не кипит при девяноста девяти градусах, а при ста кипит, вот этот один градус и отделяет талант от гения.
Санкт-Петербург строили очень хорошие мастера. Они изучали русскую архитектуру, европейскую, скрещивали, сближали их. Получалось смешение разных стилей и манер, чуть грубоватое, но живое. Позднее будет замечено: не было той властной руки, которая одна только может сложить из разорванных клочьев гигантское целое. Не было в России художника-великана, которому по плечу была бы задача и который наложил бы на Петербург свою печать.
Такой человек в Петербурге появился.
Это был Франческо Растрелли.
И вот, сидя глубокой ночью в Петергофе, в полнейшем одиночестве, он думал о том, что и Смольный монастырь, и Большой дворец ему особенно удались, их можно смело отнести к числу самых лучших, самых продуманных, самых законченных из всего, что он сделал.
Петергоф и Смольный больше всего и полнее выразили его веру в силы и возможности человека. Конечно, сам грандиозный масштаб всего архитектурного ансамбля предоставлял зодчему большие возможности. Подчиняя всю постройку своей основной идее, Растрелли в то же время придерживался поставленной перед ним императрицей задачи — продемонстрировать пред всеми искреннюю набожность матушки-царицы, которая не жалеет средств на украшенье божьего дома. Ну и, само собой, нужно было, разумеется, поразить взор нарядностью и роскошью. А потому даже чертежи Растрелли, которые шли на утверждение, были предельно красочны: все фасады зданий монастыря изобиловали вазами, статуями, флагами, золочеными куполами. Густая позолота декоративных деталей, голубизна стен и белых колонн создавали праздничное зрелище.
Растрелли сделал план собора и всего ансамбля крестообразным, он добился полной гармонии и соподчиненности отдельных частей, когда все пропорции не только видимы, но и слышимы. Получилось это само собой, потому что он стремился к своей мере, своему совершенству. У каждого — своя мера. Архитектор Витрувий, к примеру, измерял высоту человека ступнями, а живописец Ченнино Ченнини лицами: от одного уха до другого — длина лица, от плеча до локтя — одно лицо, от верха бедер до колена — два лица. "А сколько лиц у моих построек? — думал Растрелли. — И все это создано мной среди зеркальных прудов и тенистых рощ, неописуемых лугов и тихой приветливой зелени. Сколько страданий мне пришлось пережить, сколько мук принесло вынужденное ничегонеделанье! А все же сумел преодолеть — и произвол, и косность". Мерой Варфоломея Варфоломеевича была жизнь, одухотворенность.
Растрелли подошел к столу, сел в кресло и вывел на большом листе бумаги: "Размышления о способах и трудностях, мешающих в России строить с той же точностью и совершенством, как в других европейских странах". Не сводя глаз с написанного, Растрелли подумал, что все его способности подверглись в России самой жестокой проверке. Выходит, что он ее выдержал и даже сохранил молодую энергию. Иначе он давно послал бы все туда, куда обычно посылают россияне. "Как хорошо было бы ездить по разным державам и градам, оставляя везде знатные постройки", — думал архитектор.
И Растрелли вполне был готов к этому. Но Россия его от себя не отпускала. Видно, ей нравилось, что сей архитектор чист сердцем, а ежели сердце чисто, то и дела тоже.
Обер-архитектор взял перо и стал быстро писать: "Известно, что камень и известка здесь очень крепки, и я их на-шел гораздо более прочными, нежели песчаник, употребляемый во Франции. Что касается производства кирпича, то он довольно хорошо обработан и обожжен как следует, так что, невзирая на суровые зимы в этой стране, он противостоит всем непогодам.
Теска камней, принятая за границей, не может выполняться в России за неимением людей, знающих это дело.
Часто употребляют здесь сорт желтоватого камня, совершенно неплотного, слитком нежного и пористого, который не дает абсолютно никакой возможности тесать в совершенстве мулюры, хотя имеются люди, способные это делать.
В провинции Ливонии, вблизи Ревеля, имеются каменные карьеры, похожие на карьеры Льера и даже более белые, их не употребляют для построек, потому что люди, управляющие строениями, находят столько препятствий для перевозок, что их забросили, несмотря на мое настояние.
Ее величество императрица владеет многими карьерами прекраснейшего мрамора, но большая отдаленность его местонахождения мешает принести его в достаточном количестве для того, чтобы сделать какое-либо прекрасное архитектурное произведение, а кроме того, очень мало рабочих, могущих его обработать.
Штукатурка здесь несравненно лучше той, которая употребляется во Франции.
Что касается плотничьих работ, то они здесь превосходны, только лес, который идет на балки и другие работы, не служит так долго, как во Франции и Италии, ибо качества дерева хороши только тогда, когда соблюдают правильные сроки рубки; вследствие этого приходится часто менять балки в комнатах, которые обычно гниют с обоих концов. Я нашел способ их сохранять: это прикреплять на обоих концах футляры из железных пластинок, которые препятствуют сырости из степ проникнуть туда. Это можно делать, однако, лишь для сооружений государыни, ибо требует очень больших издержек.
Большинство зданий вельмож покрыты листовым железом, размером в два фута четыре дюйма в квадрате. Нужно, перед тем как покрыть ими крышу, окунуть железо в чеснок, что повторяется каждые четыре года, и красить их масляной краской. Благодаря такому способу они очень долго сохраняются и не ржавеют.
Постройки императрицы точно так же покрыты листовым железом — с той разницей, что они перед употреблением подвергаются лужению. Благодаря этому они прекрасно сохраняются, но стоит это значительно дороже.
Столярные работы выполняются в совершенстве, так как много мастеров, главным образом немцев, которые отличаются в этом деле.
Что касается лепщиков, то в России имеется достаточно искусных, большинство из них на службе у императрицы. Что же до скульпторов, то нет людей достаточно способных, чтобы носить имя искусных мастеров.
Служба архитектора в России изрядно тяжела. Множество людей начинают вставлять тебе палки в колеса. На первый взгляд, они кажутся самой устойчивостью, грубой силой и властью. Они не дают людей, не отпускают материалов, задерживают деньги. На поверку они оказываются обыкновенными мошенниками, вся их устойчивость мнимая, за ними ничего не стоит, по-настоящему они — ряженые. Но пока это начнешь понимать — из тебя вытянут душу. Архитектору недостаточно сделать проект здания, которое он должен выстроить. Нужно, чтобы он сам вычертил его в большом масштабе и не отлучался со стройки, ибо некому доверить точное исполнение твоих указаний. Все переиначат, сделают наперекось. Больше того: архитектор должен сделать чертежи деталей здания, будь то для столярной работы, для лепки и прочее, иначе придется всегда что-либо переделывать, что повлечет за собой потерю времени и большие издержки. Архитектор на службе не имеет ничего, кроме своего жалованья, без какого-либо другого вознагражденья, всегда допустимого в других странах; но пуще того: архитектора здесь ценят только тогда, когда в нем нуждаются".
Растрелли положил перо и с большим теплом подумал о своих учениках, помощниках, союзниках в самых разных трудах и начинаниях. Это московский архитектор Евлашев, который помогал ему при постройке подмосковных дворов — человек многоопытный, мастер превосходный, с высокой и чистой страстью в душе.
Это Савва Чевакинский — способный, улыбчивый, деловой. Превосходный человек, много раз приходивший на помощь. С ним пришлось строить царскосельский Эрмитаж и прочее. Это главная опора на строительстве Смольного Христиан Кнобель, мечтатель, обремененный огромной семьей и вечно попадающий в какие-то глупые приключения с женщинами. Это каменных дел мастер Казосопра. Это верзила-прапорщик Федор Стрельников, недремлющее око на всех постройках в Петергофе.
Конечно, попадались ему в жизни и люди глупые, непутевые, бездельники и пустобрехи. Но он и к ним бывал благожелателен. Старался никому не причинять вреда. Делать добрые дела, считал он, это в природе вещей.
Уже брезжил рассвет, когда архитектор отправился спать.
* * *
Обрусев, Варфоломей Растрелли хорошо узнал печаль обездоленных и муку тех, кто числился по департаменту праведников. Быстрый разумом архитектор терпеть не мог тупиц, людей горько заурядных. Он делил всех людей на противостоящие армии: тех, кто разумен и плодоносен, и тех, кто мешает оным. И когда одна рука архитектора выводила на бумаге божественные проекты дворцов, другая его рука писала очередную челобитную государыне императрице о великой нужде и скудости знатного архитектора Растрелли, о крайней его бедности и полнейшем разорении, о неуплате денег за работы в Москве и Питербурхе, о недаче жалованья за постройки в Курляндии для господина генерал-адъютанта фон Бирона. И было в этом двуруком писании Растрелли неизъяснимое вечное противоречие жизни между самым высоким, что в ней есть, — огнем вдохновенья и самым низовым — рутиной животного, алчного существования, всегда болезненно ощутительной и язвящей художника.
Но что б там ни было, длинные, как сама жизнь, стены дворцов растреллиевских продолжали победное свое шествие по российским просторам.
ИЗ ДНЕВНИКА Ф. Б. РАСТРЕЛЛИ
Лето, 1752 год. 11 июня. Петергоф. Императрица Елизавета, вступив на трон, тотчас же послала меня в Москву, чтобы сделать к ее прибытию по случаю ее коронации все приготовления в ее дворце, а также чтобы с великолепием украсить большой зал Кремля, где е. Имп. в. должна была дать церемониальный тронный обед в самый день ее коронации. Это старинное здание было раньше обычной резиденцией русских царей. Одновременно я построил большой деревянный дворец близ Немецкого квартала, на каменных фундаментах, невдалеке от старого дворца Анненгоф, построенного императрицей Анной в начале ее царствования. В жилом корпусе этого обширного здания был сделан большой зал, украшенный витой архитектурой и орнаментами из золоченой лепнины, в середине зала был сделан фонтан с бесконечными струями воды, а вокруг него — стол в форме императорской короны, целиком позолоченный. Зал был освещен несколькими тысячами стеклянных лампионов, а на большой площади, против дворца я возвел большую пирамиду, предназначенную для народного гулянья, и большой фонтан вина. Против этого дворца я одновременно построил большой театр из дереза на каменных фундаментах, с четырьмя ярусами лож.
Все эти строения были исполнены и закончены на протяжении двух месяцев, когда были отпразднованы торжества после коронации императрицы Елизаветы.
Сразу же по моем возвращении из Москвы я начал большое здание Смольного монастыря для благородных девиц, который должен был содержать 120 келий, кроме того — большое здание для госпожи воспитательницы с очень большой трапезной. Это здание имело в плане параллелограм, в каждом из четырех углов которого построена часовня; для удобства воспитанниц имелось, посредством большого коридора, сообщение с каждой церковью. Я не могу достаточно превознести великолепие этого здания, украшенного снаружи прекраснейшей архитектурой, а внутри, в большой трапезной и в апартаментах госпожи настоятельницы, — лепкой скульптурой, плафонами. Кроме того, четыре часовни были также выполнены в отличнейшем вкусе. Это большое строительство осуществлялось с усилиями.
Я построил новый каменный дворец в Петергофе, загородном месте отдыха Петра Великого, фасад коего имел более ста туаз
[20] в длину, с большим залом, галерей и большой церковью. Все было украшено снаружи архитектурой, а апартаменты внутри были украшены золоченой лепкой и живописью на плафонах в зале, галерее и парадной лестнице.
В большом парке Петергофа, близ нового дворца, я сделал несколько фонтанов, украшенных фигурами и орнаментами, все целиком золоченые. Также я построил в разных местах названного парка несколько трельяжей разного вида, очень богато отделанных скульптурой.
По приказу императрицы Елизаветы я восстановил большой каменный дворец в мызе Стрельна, начатый Петром Великим во время его царствования и находящийся в восьми верстах от Петергофа.
Я построил в большом нижнем саду Петергофа, рядом с дворцом Монплезир — каменным зданием, которое ее отец, Петр Великий, выстроил на голландский манер, деревянное здание, в нем были только апартаменты ее величества и императорской семьи, и где я устроил в одном из крыльев великолепную баню, с несколькими фонтанами, куда императрица удалялась во время большой жары.
В том же нижнем саду Петергофа, рядом с большой аллеей для игры в шары, я построил другое большое каменное здание. Императрица часто имела там свою резиденцию в середине лета, и все иностранные послы и вельможи страны регулярно находились там два раза в неделю.
Одновременно я построил в камне, вблизи большого дворца большие кухни и помещения для пользования всего двора.
Я выстроил на краю большого верхнего сада, против большого дворца, большой каменный портал, украшенный несколькими колоннадами и мраморными статуями, а вся ограда названного сада была сделана из камней, перемежающихся решетками, богато отделанными скульптурой и позолоченными. В конце большого нового Петергофского дворца я выстроил из камня кордегардию с квартирами для офицеров.
Я выстроил рядом с большим Петергофским садом деревянный театр, состоящий только из одного амфитеатра, без ярусов и лож.
Работа — всегда спешная, срочная, безотлагательная — не приносит мне никакого блага, кроме личного наслаждения, заработок мой недостаточен, а когда я об этом заговариваю, они делают недовольные лица, будто я прошу у них любви и особых выгод. Разве я не могу надеяться на доброе сердце и щедрый кошелек императрицы Елизаветы? Право же, я заслужил сие по всем божеским и человеческим законам.
Глава вторая
Сон Растрелли

нилась Растрелли высокая, светловолосая девушка. На ней было фиолетовое платье с тонкой золотой каймой. Красавица стояла, протянув к нему руки, освещенная полным солнцем.
— Ты — сон, виденье неземное или живая? — с изумленным восторгом спросил архитектор.
— Франческо, ты сошел с ума? Не узнаешь меня? — удивленно и разочарованно произнесла девушка.
Стройная, высокая, ладная — она ему очень понравилась. Она была ему давно знакома, была даже очень хорошей знакомой, но как зовут, где он ее видел и откуда знает — Растрелли вспомнить не мог. Он растерянно улыбался и думал, что, наверное, все это ему снится, потому что во сне и не такое бывает. Он ведь хорошо знал, что и самой природе редко удается произвести на свет нечто вполне законченное, во всех отношениях совершенное. Это чудо родил не природа, а обычная женщина… Нет, это сон, конечно, сон…
— Ну, теперь, когда ты наконец вспомнил меня, — сказала ему девушка с улыбкой, — пойдем погуляем. Хорошо?
И они отправились по дороге, по обеим сторонам усаженной кипарисами.
Шли они обнявшись, и Франческо всей длиной руки чувствовал тугое, трепетное молодое тело. Это его сильно волновало и даже повергало в неиспытываемое прежде смятение.
— А знаешь, — обратился он к девушке, — давай спустимся к морю, возьмем лодку и будем долго кататься…
— Нет, Франческо, мне нужно еще заняться делами. Больше всего на свете хотела бы я сейчас с тобой кататься, побыть с тобой подольше. Но никак не могу, ты меня извини!
Растрелли ей говорит:
— Море! Все мирское — ничто в сравнении с ним. Посмотри с горной вершины на горизонт, туда, где вода сливается с небом… Э, да что там говорить. Я как море увижу — во мне сердце растет, а после в пятки уходит… Море свободное, как воздух, вольное, чистое. Я от него хмелею!
Так они разговаривали и спускались по дороге к небольшой круглой площадке, справа от которой петляла вниз, к морю, широкая утоптанная тропа. На площадке стояло белое строение, напоминавшее шляпку гриба.
С площадки предстала бесконечная даль и синяя широкая гладь. Она сверкала, зеркалила небом и притягивала к себе. Хотелось подняться над зелеными горами, над деревьями, над скалистыми провалами и лететь, лететь. Нестись в голубой дымке над водой, вдыхая острый запах соленых волн.
Сразу за площадкой был крутой, глубокий, гибельный обрыв. Далеко внизу, на самом дне этой бездонной пропасти, серебрилась речка, и сверху были хорошо видны все ее зигзаги и повороты. Слева от нее тянулась среди взгорий небольшая долина.
Франческо со своей спутницей заглянули вниз и завороженно замерли: у него закружилась голова, и она сказала вполголоса что-то невнятное.
От полноты сердца Франческо захотелось сделать девушке подарок. Он мягко сказал:
— Вот красота, способная внушить любовь. И у тебя такая же!
Ему не терпелось поскорей отойти от края пропасти. Он взял девушку за руку и отвел ее подальше. Она лучезарно улыбнулась ему, высвободила свою руку, поправила волосы.
А Франческо откровенно любовался ее сияющим лицом, стройной фигурой и длинными ногами с нежными округлыми икрами.
Девушка отошла еще на несколько шагов, по-детски приставляя пятку к носку, потом резко повернулась лицом к морю и посмотрела ему в глаза. Странный блеск осветил на секунду ее лицо. Разбежавшись, девушка безмолвно ринулась в пропасть.
Он оторопело обвел всю площадку глазами. Случилось что-то непоправимое. Его охватил ужас. Франческо быстро пошел к краю, заглянул вниз. И ничего не увидел.
С безмерной мукой подумал: "Ах, почему она не предупредила меня — мы прыгнули бы вместе, мы бы взялись за руки…"
Лететь вдвоем было бы так хорошо…
Странный сон приснился обер-архитектору в веселом и беспечном Петергофе. Он не испытал никакого огорчения оттого, что готов был броситься в пропасть и покончить со всем, но проснулся с тяжелым сердцем и долго думал, что бы этот сон мог означать в его жизни и почему даже теперь, не во сне, он тоже не испытал горького чувства от своей готовности оборвать жизнь. Но так ничего и не придумал.
* * *
И снова было прекрасное сладостное утро, когда хотелось только дышать и жить, не думая ни о кошмарных снах, ни о прозаических заботах и нуждах. Постылое утром как бы растворяется, отходит.
Растрелли прогуливался вдоль дороги и чувствовал себя отменно в своем счастливом уединении.
Звенели колокольцы, и неслись кареты. Светлые, нарядные краски составляли сдержанный, мягкий и благородный колорит.
С наивным любопытством смотрел Растрелли на слаженную работу жилистых и сильных конских ног. Поистине лошадь дает человеку крылья, благодарно подумал Растрелли, без этого верного друга мы никуда не поспевали бы, он продлевает нам жизнь, сохраняет уйму времени. Было в стремительном беге коней что-то еще необъяснимое для него, вольное, независимое, неудержимое, то, что дополняет наше бренное бытие, но и постоянно из него ускользает. Словно эти статные дети природы бежали только потому, что им этого хотелось, просто так бежали, радостно, легко, слаженно.
Летом Растрелли чувствовал себя всегда легко и хорошо. Когда приходила эта пора года, пропахшая жарким сухим солнцем, сочными запахами трав и лесов, тревоги и беспокойства намного смягчались.
Растрелли с облегчением вздыхал: вот и зима прошла, слава богу. Весна была звеном промежуточным — его это волновало не слишком-то. А летом его душе было просторно. Он был южанин и любил тепло.
Холод студил его вдохновенье.
Года два назад его добрый знакомец по Москве, сын священника в церкви Василия Блаженного, очень симпатичный юноша Никола Поповский прислал ему с оказией письмо, а в нем — стихи:
Живу щи по брегам не плещутся в струях,
Красотки по траве и в рощах не гуляют,
Они с рыданием свой жар усугубляют,
Желая обитать в теплых всегда краях.
"Вот и я хочу обитать в теплых краях, — подумал Растрелли, — а судьба забросила меня в самый гнилой климат, какой только можно себе вообразить". Да, горячо, до самозабвения, как, впрочем, все благоразумные итальянцы" любил он сверкающее марево лета, теплые погожие дни, припекающее солнышко.
Императрица указала построить иноческую женскую обитель и назвать ее Воскресенским Новодевичьим монастырем. Ей хотелось мирно окончить свои дни в обители, передав все бразды правления державой своему племяннику — Петру III.
Разрабатывая проект Смольного, архитектор чувствовал себя таким свежим, обновленным, спокойным, что творение рук его рождалось легко и уверенно.
Но пройдет всего три года — и Растрелли напишет "Реляцию", где о Смольном будет сказано: "Вот уже десять лет, как строится это здание, а для того чтобы его закончить в совершенстве, потребуется еще пять лет". Задуманная им колокольня так и не была построена.
ИЗ ДНЕВНИКА Ф. Б. РАСТРЕЛЛИ. 17 июня 1752 года
…Преклоняюсь перед художеством Древней Руси. Там вековые представления народа о благородстве, красоте. Мне дорог и близок как художнику великий труд и раскованный талант безвестных создателей старых храмов.
Для будущего храма в Смольном императрица заказала колокол весом в двенадцать тысяч пудов. По-русски это называется — знай наших!
Мое положение сейчас вполне сносное — четыре года назад императрица увеличила мне жалованье с тысячи двухсот до двух с половиной тысяч. Иные из архитектурной братии обвиняют меня в кичливости, надменности, высокомерии. Странно! На мой взгляд, то, что они считают высокомерием, — не больше чем вера в свою правоту, дар предвиденья и любовь к возвышенным предметам. Мне приходит на мысль, что я вижу чуть более других и немного дальше. Я не приписываю себе знание всех вещей и не считаю себя лучшим из лучших.
Всей истины не знает никто. Но если мне открывается нечто сокрытое от других, я никогда не обращаю это во зло. Когда-то, кажется, достопочтенный Дюрер заметил: чурбаны говорят, что искусство делает человека высокомерным, но если бы это было так, то не было бы никого высокомернее бога.
Мне понадобится еще года четыре, чтобы закончить всю постройку хотя бы вчерне. Сколько раз уже бывало в моей жизни: поставят здание, оштукатурят снаружи, а внутри будут стоять леса и голые стены.
Когда я вижу Смольный, сердце в моей груди начинает стучать сильнее. Задолго до торжественной закладки собора, вокруг которого предполагалось построить монастырь, у меня возникло неясное предчувствие того обаяния, которое будет охватывать каждого, кто будет приходить сюда.
Вчера видел у барона Сергея Григорьевича его портрет, написанный Иваном Никитиным. Какая сильная, смелая, уверенная рука! Волшебная кисть только могла создать подобный шедевр! Густой плотный колер, богатая тональность, смелый поворот — на такое великий мастер способен. У Строганова хранится и последняя работа этого чудесного персонных дел мастера — портрет тобольского митрополита Антония Стаховского. Можно только дивиться силе и правдивости никитинского письма — как тонко и убедительно передано душевное состояние человека в жестких чертах узкого длинного лица, в умном проницательном взгляде черных глаз, в горькой усмешке, застывшей на губах.
Как увидел я оба эти портрета рядом, тяжелый камень скорби лёг мне на сердце. Живописец, который столько сделал к вящей пользе российского художества, столько добавил к его славе, был срублен молодым под самый корень, словно живое дерево в цвету. Приложил к нему Ушаков руку — пытал, истязал, окровенил всю душу, а так ничего и не добился. Нетленно художество Ивана Никитина, и тяжкая участь автора уступает дорогу страстности и величию его таланта.
Когда я приезжал в Россию, братья Никитины уехали учиться в Италию. Они были в Риме, Милане, Флоренции. Овладевали наукой живописи во Флорентийской академии у профессора Томазо Реди, общались с самыми изрядными живописцами. Учились не только живописи, но и языкам, танцевать, на лошадях ездить, фехтовать на шпагах. По просьбе Петра Великого к Никитиным определили наилучших мастеров. Обучались Иван да брат его Роман живописи и архитектуре и ведать не ведали, что ждет их в скором будущем на родине встреча с начальником Тайной канцелярии розыскных дел Ушаковым. Муки превеликие, нужды и страданья ждали их.
Когда раздумываешь о тяжких трагических судьбах, невольно пускаешься в рассужденье о несправедливости бога, допускающего, чтоб гибли лучшие из людей и гасли лучшие стремленья возвышенных и чистых душ.
Когда повернул я портрет барона Строганова, то увидел на обороте собственноручную надпись мастера: "малевал Иван Никитин в Санкт-Питербурхе в марте месяце 1726 года". И портрет митрополита тоже подписан: "малевал Иван Никитин в Тобольске в феврале месяце 1740 года".
Все, все было у Никитина — редкий талант, живой ум, независимость, острота взгляда, незамутненность очей. Единственное, чего ему недоставало, — немножечко счастья. Впрочем, сам он был, возможно, совсем другого мнения об этом…
Боже, боже, как я тогда работал, с каким чудесным исступленьем! Сидел долгими часами над каждым чертежом. Сделал подряд четыре варианта Смольного. И каждый из них был по-своему хорошо исполнен. Фасады монастыря и всех его зданий должны были, на мой вкус, быть богато оформленными.
А план самого собора я задумал в виде греческого креста. Вот где наконец воплощалась моя давняя мечта о лепной, полной трепета живописной архитектуре.
В помощь себе я взял крепостного П. Б. Шереметева — Федора Аргунова. Мне приятно было, что в нем я не ошибся. В тридцать два года, будучи каменных дел подмастерьем, он достиг блестящего развития ума и дарований. Видно, над его образованием немало потрудился Андрей Матвеев, обучавший его рисованию. Я часто вспоминаю его. Это тоже мастер из мастеров — умница прелестный, душевный художник! Такие черпают из невидимых ульев и щедро делятся с другими трудно добытым золотым небесным медом.
Федор Аргунов всегда поражал меня страстью творить, своей редкой въедливостью. Он выстроил фонтанный дом Шереметевым, спроектировал и построил в усадьбе грот, ворота, эрмитаж, китайскую беседку у пруда — и все самостоятельно, все с таким богатством облика, с таким великолепьем, что можно только позавидовать. Я когда увидел — подумал: да ведь это я сделал, но когда же? Или не я? И почему не я? Никак в толк взять не мог. Аргунов лучше многих понимает мой стиль, мой подход и приемы, чем мой прямой ученик Чевакинский. А сколько я вложил в этого Савву, долбил ему, возился. Но он слишком норовист, просто бешеный. Начал он строить пятиглавую церковь в Царском Селе на одном из павильонов Большого дворца — так мне за ним пришлось переделывать. Аргунов — тот хоть послушен: в лепешку готов расшибиться, но сделает так, как заранее условились. А Савва строптив, упрям; впрочем, без этого в художестве тоже нельзя.
Со Смольным мне опять не везет. То рьяно взялись, гнали, торопили, а теперь ни копейки денег не отпускают. По сей день я успел построить только келейные зданья монастыря — да и то вчерне. Хорошо, что хоть кельи полностью отделали. Из них сто одиннадцать уже готовы. Да сваи вбили под колокольни.
Мне всегда хотелось добиться ослепительного каскада, звучных колонн, собранных в пучки, игры позолоты с голубизной стен — чтобы это все пело. И это, мне кажется, здесь удалось.
Когда приятно зрению, когда есть радость, игра, движение, каприз — вот тут и начинается настоящая архитектура. Пока разворачивались работы в Смольном, я придумал анфиладу парадных комнат для Большого Царскосельского дворца. Решил Садовый фасад "Среднего дома" — со скульптурами и лестницей, ведущей в парк.
В Царском закончили мой Эрмитаж — он стоит, раскинув руки-колонны, готовый обнять любого человека. Он получился легкий, воздушный. Даже при хмуром небе это строенье вселяет в меня блаженство.
Скорей бы зажил на воздухе мой Смольный — и тогда можно, пожалуй, будет немного передохнуть. Подустал я изрядно, однако же… Почему я так пекусь о каждой своей постройке, переживаю, вкладываю все сердце, все свои силы? Иначе не могу. В архитектуре, сам того не замечая, идешь по чьим-то следам. Перед твоими глазами маячат чьи-то победы и пораженья. Тебе хочется быть творцом, а ты поневоле становишься подражателем, в лучшем случае — соперником. Пробиваешься к истине, отбрасывая чужое виденье, отметая чужие пристрастия. А трудности меж тем постоянно растут.
Я вижу, как взметнулась вверх колокольня Смольного, — пока это еще в чертеже и в деревянной модели. Колокольня прочертила вертикаль в сто сорок метров высотой. Она создала ритм и для входа, и для всех четырех церквей в углах стыка. Никогда еще не удавалось мне добиться такой цельности, такой легкости, где словно вверх распрямляется пружина пускового механизма и ни в одном куске нет ничего бесцветного, растянутого, однообразного. Колокольня составлена мной из нескольких ярусов. Каждый легче другого — и так до самого луковичного купола. Они беседуют меж собой — купол неба и купол колокольни.
Труднее всего было найти пропорции для соотношения ярусов по ширине и высоте. Вот тут я помучился, тут попотел. Я хотел, чтобы моя колокольня была похожа на стройную молодую женщину — переполненную жизнью до края. Когда работал, я чувствовал, что по моим жилам пробегает пламень и другие не остаются равнодушными к моему творенью.
Я знаю, что язык архитектуры должен быть простым и ясным, с интонацией дружеского разговора. И следую этому неукоснительно. Никакой ложной многозначительности.
Я говорю себе, когда работаю: стой выше всех пороков и всех добродетелей. Учись у древних зодчих России. Они это умели. Они знали тайну великой и сложной простоты.
Бывало, смотришь на русские храмы в Москве — и слезы умиления набегают на глаза. Такого я не видел нигде.
Это могли построить люди с пылкой душой. В них сохранилось наивное счастье бытия.
Я люблю горы и думаю: есть ли что прекрасней горы, подпирающей небо вершиной? Гора — храм бога, так может ли человек тягаться с творением бога? Не может! Чтобы построить храм — подобие божьей горы, нужно попытаться понять замысел творца. Приблизиться к нему. Архитектор вписывает свой храм в природу, не стремясь ни возвыситься над ней, ни тем более покорить ее. Неразумный может решиться на состязание с природой. Но человек, наделенный душой и разумом, поступает иначе. Он не борется с природой, он пытается постигнуть себя, ее — и поместить ее в себе, а себя в ней.
Почему-то всегда мне хотелось поставить храм. Он часто мне снился. Он виделся мне мостом, перекинутым через пропасть, перечеркнувшим бренную раздвоенность живущих.
Я видел храм как место, где каждый чувствует меру истинного в себе. Храм очищения души…
Храм. Колонны, ярусы, арки… Магия искусства. Только свет художества может приблизить, сделать безымянного мастера живым, рядом стоящим, вызволить его из тысячелетних далей.
Растрелли вспомнил русские храмы, которые он видел. Благовещенский собор в Кремле, Троице-Сергиева лавра в Загорске, Успенский собор. Вспомнил, как все виденное поразило его. Резные порталы, декоративные детали, шатры, боярские палаты, золоченые флюгера. Сама вечность. Он по-новому взглянул на Россию, глубже понял ее. За фасадом варварской грубости открылись ему неисчерпаемые кладовые совестливости, сострадательности, нежности.
Всю жизнь он сберегал чертежи русских храмов, которые сделал в разное время. Сберегал как самое дорогое.
* * *
В Москве его приняли с большим радушием. Еще бы! Сам обер-архитектор двора пожаловал. Его трактаментовали
[21] знатным обедом в присутствии сиятельных господ и разодетых дам. Ему оказывали немалую честь. Когда денег нет, то и честь — воздаяние за труды. На обеде были жены крупных вельмож — верхушки двора. Их всегда неудержимо тянуло к художникам, поэтам, артистам: эта свободная братия заражала желанием сломать нумерованный распорядок жизни. Обычно жены министров, канцлеров и кабинет-секретарей мало смыслят в художестве. Публика эта надменная и ограниченная. У них и вкус дурной, и пониманье слабое, но зато они часто делают погоду и нередко творят чудеса заступничества за шарлатанов. Растрелли это знал. Он напустил на себя важности. Держался скромно, но в меру. Учтиво и сдержанно — тоже в меру. Был галантен, внимателен и несколько рассеян, как человек, который занят не собой, а исключительно делами государственной важности. Всем видом своим Растрелли доказывал, что быть художником обременительно.
В толпе жен сановников попадались очень хорошенькие — им архитектор улыбался как знаток и ценитель красоты. От природы Растрелли не был слишком изнежен, но в кругу людей, куда он теперь попал, происходили постоянно такие перестановки и встряхиванья, к каковым привыкнуть и притерпеться никто не мог. Тем более Растрелли, который так и не привык угождать сразу всем — отечеству, двору и самому себе.
А ведь Растрелли был на российской службе уже около тридцати лет и ко многому попривык: к неудержимой хвале и сразу после нее — к отношенью совершенно им не заслуженному, часто и вовсе собачьему. Но привыкнуть к капризам двора, к его дурачествам, когда вывертывают не токмо душу, но и члены из суставов, — он так и не научился. Кто ж этому научится? То была политика, не доступная даже его немалому уму.
Обер-архитектор старался держаться от всего этого подальше, так как постоянно был поглощен делом. Знал он, что политика — дело темное, очень плохое и сугубо запутанное. Сразу попадешься, как заяц в тенета.
Со многими, кто присутствовал на обеде, Растрелли был знаком, ибо они, как и он, входили в один придворный карусельный круг. В него и зодчий тоже допускался не всегда, держался особняком.
Был там меломан и театрал Нарышкин, всегда веселый, розовощекий, служивший гофмаршалом двора великого князя Петра Федоровича. Пожаловал и фаворит Елизаветы Петровны Иван Шувалов — молодой, блистающий остроумием красавец, отпускавший такие шуточки, что все давились со смеху. Тень саркастической усмешки застыла на молодом круглом лице генерала Юрия Давыдова — человека умнющего и решительного, впадавшего в разнообразные приступы — то любви, то ярости. Его Растрелли знал хорошо — Давыдов был распорядителем и бригадиром всех работ, ведущихся в Кремле. Знал он и приближенного императрицы Василия Чулкова, имевшего прежде странную должность "матр-дегардероб", а после ставшего камергером. Чулков заведовал выдачей денег из Кабинета. Ему все улыбались, с ним раскланивались. С казначеем лучше быть в дружбе. Даже злые голубые глаза генерала Давыдова сильно мягчали, когда он оказывался рядом с Чулковым.
Увидел архитектор и главного аптекаря России Иогана-Георга Моделя, придумавшего успокоительные капли. Но бог знает, подумал Растрелли, глядя на тучного целителя, кого что можно в этой державе успокоить каплями? К примеру, мог бы многоопытный Модель найти лекарство, чтобы оживить от усталости, разочарований или вселить надежду? Вдогад бы ему изготовить особливые капли — для подъема душ…
Вот и глава Придворной конторы Сивере. Растрелли увидел отвратительную, сплюснутую голову. Архитектор знал, что это мошенник из мошенников. Коварный, жестокий, любитель поволочиться, порассказать с казарменным привкусом анекдотических историй. Он был весь ребристый, словно состоял из нескольких горшков, насаженных Друг на друга. Сиверса постоянно задирал Сумароков — знаменитый пиит и генерал-адъютант. Уж он своим язвительным перышком вдувал Сиверсу зелья в глаза и в другие места. Называл его в своих сочинениях безграмотным подьячим и скаредным крючкотворцем. Сиверса сразу узнавали в писаниях, хотя Сумароков делал вид, что выводит исключительно общий тип, а не живую модель. А писал он о Сиверсе такое: "Притворился скаред сей в клопа и всполз на Геликон, ввернулся под одежду Мельпомены и грызет прекрасное тело ея". И выходило, что на этой самой горе, где обитали богини поэзии и свободных художеств, появился низкий и грязный Сиверс — тело чуждое, инородное не только Геликону. Согрызающее музу. Греки изображали музу высокой женщиной, у которой на голове был венок из виноградных листьев. Муза, хмель, счастье… Греки толк в жизни знали.
"Почему, — думал Растрелли, — злодейство так часто одерживает верх? Почему трусливая, полоумная, конопатая баба с красными веками — императрица Анна Иоанновна, главный душегуб из Тайной канцелярии Ушаков и придворный лакей, прирожденный доносчик Иван Маменс могут сгубить любого, сжить со свету такого великославного живописца, как Иван Никитин? Эти трое хорошо понимают друг друга, говорят на одном языке. Почему люди, достойные благ, всегда терпят нужду, униженья? Почему идут на все, чтобы не поступаться совестью?.. Почему, наконец, этот Сивере со сплюснутой головой не дает житья поэту Сумарокову? Или есть люди с вечным зудом — сотворить подлость?
Не очень-то просто найти прямой ответ, бесценный Варфоломей Варфоломеевич! И над незнаньем нашим, как сказал поэт, "Мельпомены бурной протяжный раздается вой, и машет мантией мишурной она пред хладною толпой".
Или все дело в хладной толпе?
Разумеется, в том, что касалось до этикета, Растрелли провести было трудно. Опытен он был, как старая щука. Хорошо знал цену лживо-лестным словам, сказанным ему во время стола, пока пились красное шампанское с мудреным названьем "эль де пердри", и рейнвейн, и мадера, и сидр италианский, и обычная водка, настоянная на рябине.
Отлично знал он, что возня вокруг его персоны идет потому только, что императрица Елизавета Петровна вызвала его в Москву именным указом, повелев быть немедленно. Она, к удивлению архитекта, приказала выдать ему подорожные деньги — на почтовые лошади осьмнадцать рублей сорок копеек да наемные шесть рублей. Итого: двадцать четыре рубля сорок копеек. Про именной указ придворные знали, а потому старались высочайше облагодетельствованного гостя развлечь.
Старался и Алексей Разумовский, который сменил умершего принца Гисен-Гомбургского и стал теперь во главе Лейб-компанской роты.
И юный кадет Никита Бекетов старался, кратковременный фаворит Елизаветы Петровны, который играл в трагедиях Сумарокова и писал песни, бывшие в свете очень популярными.
И даже Сивере любезно изъяснялся с Растрелли о достоинствах его архитектуры. Хоть и знатный был вельможа на Москве, а музы не подчинялись его власти.
Глядя на все это, архитектор таращил сверкающие черные глаза свои, пораженный чумным разгулом необычайной дворцовой стихии. Что за дело было ему до всех этих людей!
Растрелли почувствовал острый укол тоски.
Он был здесь чужим.
Нужно найти благовидный предлог и отправляться обратно. Приказала ему императрица быть сюда на время — и вот он здесь. Нанял в Санкт-Петербурге четырех почтовых лошадей да еще двух для поклажи инструментов и прочего. И погнал в Москву. Знал, что вызывают для переговоров о перестройке Зимнего дворца. Чертежи у него были готовы.
Продумал он и другое предложение императрице. Мысленно репетировал разговор с ней.
Повеяло вдруг каким-то приятным резким запахом: это слуги разносили в чашках горячую заморскую воду — кофей. Напиток знатный. Он вызывал щекотанье в ноздрях. Архитектор внутренне подтянулся.
Растрелли заметил, что у высокого окна стоят двое: один — Сумароков, втянул голову в узкие плечи, другой — высокий, пузатый Сиверс. О чем-то горячо спорят. Лица у обоих были красные, возбужденные.
Здесь я с некоторым страхом за течение сквозного действия прерываю рассказ о приятственном на первых порах для господина обер-архитектора обеде, который имел место в красивом особняке на углу Большого Златоустинского переулка и Покровки.
Особняк этот принадлежал когда-то боярину Нарышкину, а нынче он был отдан лейб-компанцам — личной охране императрицы. Народ это был развязный, загульный, непристойный. Караульную службу никто из лейб-компанцев нести не хотел — под любым предлогом они уходили с постов на амуры и попойки. И хотя императрица звалась капитаном этой золотой роты и говорила, что все лейб-компанцы ее детки, ей приходилось порой сажать некоторых из них на цепь.
Те же, кто на цепи не сидел, стояли на часах. Но стояли странным образом, непременно обопрись на что-нибудь. Гренадерские ноги (с похмелья) сами собой подкашивались. А кто и на часах не был, и в карауле не состоял, те бродили без дела по дворцу императрицы в замызганных кафтанах и нечесаных париках, смачно сплевывая на пол.
Начальник же лейб-компанцев Разумовской был еще и тайным супругом императрицы Елизаветы Петровны, а Сумароков у него числился адъютантом.
Но поскольку он был еще и пиитом, всерьез его не воспринимали. Его сие сильно раздражало, а другим давало повод к нанесенью разных обид, к выходкам самым эстравагантным.
Так вот, следует заметить, что место, куда угодил Растрелли, при всем своем блеске и внешнем благочинии, могло с легкостью и немедленно обратиться в самый отчаянный вертеп. А присутствовавшие — в настоящих разбойников. Не раз так именно и бывало. Над хижиной лейб-компанцев не витали, как говорится, ангелы святые. И не витали они потому, что в компанцах начисто отсутствовало то главное, без чего не могут обойтись люди. В их душах заглохло все бескорыстное и возвеличивающее человека. Чувство совести у них заглохло. А нет этого — не вырастет и другое необходимое свойство души: чувство изящного. А уж без этого человек и вовсе скотина.
Но тут мы снова возвращаемся в особняк на Покровке, где во всю ивановскую гуляет лейб-компания, где чествуют нашего графа Растрелли, где этикетом установлено, что сержант равняется подполковнику, а поручик — генерал-лейтенанту, не говоря уже о прапорщиках и капралах. Тут все чинно и ничто не напоминает, что здесь вертеп, воронье гнездо, помойная бочка.
Перед самым уходом Растрелли увидел Сумарокова с налитым лицом. Оно было цвета переспелого помидора. Поэт поднес свой кулак к самому носу Сиверса. Видать, они всласть наговорились. А тот стоит, не изменив позы, проявляя полное спокойствие. И смотрит на поэта с издевательской снисходительностью и насмешкой. Растрелли не мог знать, что Сиверс пред тем негромко сказал поэту:
— Ты чушка, я тебя прижучу!
Сумароков вскричал:
— Сам ты чушка! На-кась, выкуси! Издеванья над собой не позволю! Никому! — взвизгнул он.
Не успел Сивере развести руками, как немедленно получил в зубы. На нижней губе у него выступила кровь. Все окружили дерущихся.
Сивере схватил Сумарокова за руки, развел их в стороны и так сильно рванул, словно стремился вынуть их из плеч.
И тут раздался оглушительный хохот. А случилось вот что: в руках у Сиверса оказались сразу оба рукава — от сумароковского камзола — с бархатом, золотом на обшлагах и висящей клочьями холщовой подкладкой.
Оцепенев от этой картины, растерянный пиит сразу заметно протрезвел и удивленно стал озираться по сторонам. Представление получилось короткое, но забавное. Их развели. Драки не были здесь редкостью. Но подобной драки не видели. Зависящий от милости всесильного придворного, Сумароков осмелился замахнуться, ударить по лицу саму власть. Не выдержало сердце поэта, привыкшее ко многим униженьям, потому и позабыл в горячности — где он и кого бьет. В свое время Сумароков был награжден весьма редким и ценным орденом св. Анны, девиз которого был начертан на звезде: "Любящим справедливость, благочестие и веру". Соответствовал ли поэт Сумароков этим высоким понятиям? Вполне. Но тогда почему точно такой же орден на парадном мундире генерала Ушакова? Что общего между бедным поэтом, которого называли северным Расином, и заплечных дел мастером? Неужто орден равняет их — безоглядного служителя Мельпомены и жестокого ката, который эту самую Мельпомену сапогом бы…
Мыслящий российский люд испокон веку ломал голову: какой порядок вещей истинный? Зачем так зыбка и ненадежна связь причин и почему плохое имеет власть над хорошим?
Побитый ударами судьбы, опустившийся, со всех сторон утесненный, мрачно размышлял над этими вопросами и Александр Петрович Сумароков — главный редактор журнала "Трудолюбивая пчела", — да только мысли его были злыми и смутными и больше походили на призрачные виденья, каковые являлись ему при каждом сильном подпитии.
Правда, имел он славу первого отечественного стихотворца. До времени на это никто не покушался, только Иван Барков — сквернослов и забулдыга — осмеливался утверждать, что первый-то на Руси поэт — он, Барков. Между ними происходили на этой почве нередкие скандалы.
Издавали Сумарокова на деньги Кабинета императрицы, но раболепных од в ее честь он не писал. И вообще он был неудачник. Женился на дочери мундкоха — придворного повара, но пренебрег всеми вытекающими из этого выгодами. Ушел и жил с крепостной девкой, которую любил всей душой. Любовь эта вызывала кривые усмешки двора.
Однажды в "Санкт-Петербургских новостях" появилось короткое объявление: "Г. Сумароков намерен продать через аукцион дом свой, состоящий на Васильевском острову в девятой линии по большой перспективе, со всеми к оному принадлежностями".
Это сообщение заставило обер-архитектора Растрелли задуматься о печальной участи и несчастной судьбе российского художника, к каковым он себя тоже с гордостью соотносил.
А господин Сумароков, продающий свой дом со всеми принадлежностями, напишет после две жалобы. Из них одну в стихах, потому что язык богов лучше подходит и для божественного лепета, и для выражения неизбежной земной печали живого человека:
Но если я Парнас российский украшаю
И тщетно в жалобе к Фортуне возглашаю,
Не лучше ль, коль себя всегда в мучеиьи зреть,
Скорее умереть?
Какая нужда мне в уме,
Коль только сухари таскаю я в суме?
На что писателя отличного мне честь,
Коль нечего ни пить, ни есть?
Не дождавшись ответа на свои скорбные вопросы, Сумароков отправит письмо к императрице Елизавете Петровне, надеясь, что, может, хоть она примет к сведению его нищенство: "Трудяся, сколько сил моих есть по стихотворству и театру, я не имею никакого дохода и девятый месяц не получаю по чину моему заслуженного моего жалованья от Штатс-конторы. Как я, так и жена моя почти все уже вещи свои заложили, но покамест не совсем утихнут мысли мои, я и впредь в стихотворстве и драмах к увеселению вашего императорского величества упражняться всем сердцем готов".
Дочь Петра Великого, роскошная российская императрица Елисавет напишет распоряжение в придворную контору, Сиверсу: "Тот час же рассмотреть и дачу жалованья произвесть".
Сивере же мстительно ухмыльнется, вспомнив сумароковскую зуботычину, изорвет в клочки письмо с высочайшей резолюцией, хотя и не без опаски, бросит его в камин и сопроводит сей поступок словами: "Упражняйся в стихотворстве, шут гороховый! А денег тебе не будет!"
Так бесследно уходят в державе концы в воду, доказывая тем самым, что любая, даже самая высокая душа человеческая может оказаться намного беспомощней, слабее сокрушительных внешних причин. Тем паче — причин, сопровождаемых подлостью.
…На Смоленском кладбище в Петербурге найдет успокоение другой российский пиит — Тредиаковский, так же, как и многие, не выдержавший борения с внешними проклятыми обстоятельствами. И он тоже горько пожалуется на закате дней своих: "Не имею ни полушки денег, ни сухаря хлеба, ни дров полена". И это после всей-то славы, униженного раболепства, верноподданничества… Вот и подтверждается старая истина: тот лишь в жизни сей блажен, кто всегда доволен. А довольные пребывают таковыми тоже до поры до времени.
Погоревав обо всех безвременно ушедших из жизни поэтах (оставим пока в стороне их человеческие слабости), спросим себя: за что же любим их? За то, что называли в лицо все своими именами? Да, и за это. Утверждали то, что истинно. За то, что жили они ради света и чужды были благоразумия? Что не ведали чувства самосохранения? Конечно же! Потому поэты и становятся бессмертными, имена их пребывают в мире дольше всех остальных.
А иначе разве ж стал бы Сумароков бить по зубам Сиверса? Ведь предписывал же штаб-хирург поэту не раздражаться, не гневаться. Да только какой же художник, себя уважающий, стерпит наглости?
ЛЮБВИ НЕДОПИТАЯ ЧАША. 1743 год
В чем смысл жизни архитектора? Да еще такого, как Растрелли? Благодарение богу: он дал талант. Свою радость он воплощает в художестве. Без этого его существование стало бы таким бессмысленным, однообразным и скучным, что впору было бы повеситься на первой сосне.
В России Растрелли всего достиг. Его архитектурный язык зазвучал как молитва. Сказочно великолепие его дворцов. Сказочна гармония благородных пропорций. Виртуозно владение стилем, который сам зодчий и создал. Все, все в его архитектуре соприродно небу и земле, где живет и строит Растрелли. Может, поэтому его и возведут в ранг последнего из великих зодчих своего века.
Он не боялся чрезмерности лепных украшений, обилия деталей, богатства форм. Он был одержим восторгом. Размах его замыслов целиком соответствовал стране, в которую его случайно забросила судьба. Растрелли смело бросал вызов грекам и римлянам, року и будущему. Не зря строгий Кваренги, который никого не хотел признавать, в восхищении снимал шляпу перед растреллиевским Смольным.
Большие масштабы дворцов Растрелли никогда не подавляют человека. Любой своей деталью они словно приветствуют его. Они приближают к себе и радостно, по-дружески вбирают, втягивают, полонят. Еще в чертеже Растрелли каждый раз выстраивал как бы духовный каркас каждой предстоящей постройки, относясь к пространству с ласковой, но и неукоснительной прямотой.
Исполненный еще с молодых лет деятельной энергии и воли к жизни, Растрелли отливал свою фантазию в капризные и непривычные формы природы, добиваясь того, чтобы здание накатывало на человека приветливой разноцветной волной, приподымало его. А сколько есть на земле архитектуры, которая норовит сбить с ног, ошеломить, подавить, принизить! Каждый дворец Растрелли зовет человека распрямиться, забыть о невзгодах, потому что рассчитан он не на ужас одиноких душ и холопье покорство, а на живую, согретую душой общность и высокое товарищество людей, заслуживших право на счастье не родовой знатностью, а только лишь трудолюбием и честностью.
По русскому обычаю переделывать на родной язык для удобства иностранные имена стали его здесь именовать Варфоломеем Варфоломеевичем. И он скоро к атому вполне привык. Так же делалось со многими иноземцами — русские имена и упрощенное звучание фамилий приближало их, превращая в привычных, своих. Только отца это не коснулось: он именовался" как и прежде, граф Растрелли-старший.
Введенный отцом в мир большого художества, Варфоломей увидел, что он-то, этот мир, и нравится ему больше всего в жизни. Любимая работа была постоянной радостью, которая не изменяла, не предавала, не уходила…
Петербург быстро рос и заметно менялся в глазах. Раньше было две больших перспективы — Невская и Вознесенская. Теперь пролегла новая лучевая дорога — Гороховый проспект. Все они не разбегались куда попало, сходились к Адмиралтейской башне, выстроенной даровитым и дельным архитектором Иваном Коробовым. Шпиц этой башни сверкал на солнце в дневное время, а ночью прорезал воздух искрящейся серебристой иглой. Оделись в деревянные щиты невские набережные, а сам проспект ступенчато заострился двухэтажными домами.
Теперь у города был уже и свой собственный красивый силуэт, не напоминающий ни Амстердама, ни Берлина, ни Рима, ни Парижа. Варфоломей чувствовал большую свою привязанность к городу, в котором жил и работал, а когда отлучался, то сильно тосковал по нему. Дом, семья" дети, работа вместе с ним составляли некое единство, пятиглавие. Но была возле и еще одна башенка, рожденная в недрах этого целостного строения, живое сокровище, теснящее сердце. Башенка эта выросла без проекта и чертежа, взошла на его горизонте из случайно закинутого семени или из неведомо откуда взявшегося нежного побега. Звали ее Анна, как и его мать.
Пять лет назад при российском императорском дворе была представлена первая италианская опера. А за два года до того в Петербург была выписана труппа италианских комедиантов. Вместе с ней приехал актер и театральный художник Джироламо Бон, прозванный за свой малый рост "малыш Джироламо", или Момоло. Однажды Момоло привел к Варфоломею в мастерскую свою жену — невысокую очаровательную женщину с лучащимися зеленоватыми глазами. Она была очень проста в обращении и мила. А главное — лишена всякой позы, наигранности и фальшивости, часто свойственных этому полу из-за тщеславия или каких-то тайных неосуществленных желаний. Жена Малыша Анна с беспечной невозмутимостью и жадным любопытством разглядывала картины, скульптуры, рисунки в мастерской, потом сказала, что она певица, приехала с мужем в качестве буффо в италианском интермеццо,
что она очень интересуется искусством, но ничего в нем не смыслит и просит разрешения у архитектора приходить к нему, когда у нее будет свободное время и в том случае, если она не будет помехой в работе.
Он, конечно, разрешил, сказав, что рад будет немного ее образовать, если сможет, так как времени у него всегда бывало крайне мало.
Их дружба с женой Момоло стала увлечением — не той слепой страстью, которая может затоптать, а тем, что проникает в душу без трусости, без грязи и лицемерия. Вскоре они оба узнали горечь стыда за свое тайное счастье, которое часто вызывало у них обоих понятную душевную тревогу.
Для Растрелли в лице Анны взошло солнце родной Италии.
Глава третья
Нет несносней — ненавидеть, нет приятнее — любить
Не забудь меня, мой друг!
Не дари меня ты златом,
Подари лишь мне себя,
Что в подарке мне богатом,
Ты скажи: люблю тебя!
Русская народная песня

оронье в Москве просыпается в весеннюю пору затемно. Часов в пять, едва-едва развиднеется, уже истошно орут. И воробьи про свое житье чирикают — редко, но звонко.
Черные с отливом вороны перелетают с дерева на дерево и беспокойно каркают, а подруги их прилежно сидят в гнездах на яйцах, высунувши наружу голову и зорко поглядывая вокруг. Повсюду у самых макушек чернеют вороньи гнезда, сложенные из тонких веток словно кое-как, на скорую руку, но удобные и прочные. Смотрит Растрелли на воронью возню и вспоминает хорошую российскую присказку: как ни бодрись, ворона, а до сокола тебе далеко. Но у сокола свои, сокольи дела. А эти вороняток высидеть хотят. Потому и сидят, будто привязанные.
И обер-архитектор тоже по-вороньи привязался, да только к чужому гнезду. Семь лет назад прибился он к театру италианских комедиантов. Овладела им страсть не только к сценическому действу, но и к Анне — жене Момоло.
Растрелли вдруг встрепенулся. На него повеяло странным жаром.
"Да, Анну я никогда-никогда не забуду, — подумал он. — Милая, пленительная женщина. Жизнь загнала ее в силки. Выбора у нее не было, и она жила с чувством непрощенной обиды. И не слишком-то унывала. Как могла, боролась с трудностями. Вопреки всему сохранила чистосердечие ребенка".
Муж Анны был комик по природе. Он играл в жизни, играл с жизнью, играл и с Анной, считая любую свою ложь по отношению к ней вполне невинной. Был он легкий, бездумный, бесчувственный. Актерствовал всегда с удовольствием. Он и не подозревал, что в его Анне ворочаются жернова горьких сожалений и что она давно его разлюбила.
— Франческо, ты мне многое дал, ты обогатил мою жизнь, — говорила Анна, заглядывая в глаза Растрелли — добрые и влюбленные. — Ты не такой, как все, — говорила Анна.
— А что же во мне такого особенного?
— Не знаю… Мне порой так стыдно за свою робость, за полную зависимость от мужа. Он никогда не знал и не хотел знать, что такое моя душа и каково ей. Не ведал бескорыстной потребности во мне. А нынче мне его очень-очень жалко… Он потянулся ко мне, да у меня-то все давно перегорело… Поздно спохватился. Сама не знаю, что мне делать…
Извини, Франческо, что я тебе докучаю своими переживаниями, тебе хватает забот. Но когда я все отдавала мужу, он этого не замечал. Заводил интрижки, думая, что наши отношения целиком зависят от его доброй воли. И внезапно почувствовал, что я выхожу из-под его власти. Моя свобода поступать так, как мне хочется, его испугала. Он растерялся, засуетился. Я услыхала за короткое время столько клятв и заверений, что их на две жизни хватило бы. Он клялся, просил, каялся, обещал исправиться. Говорил, что без меня жизнь его пуста и никчемна. И мне стало искренне жаль его, захотелось помочь ему…
То, что Анна делилась с ним самым сокровенным, трогало сердце Растрелли. Ее сомнения, страхи, доброе сердце, преданность высоким понятиям дружбы вызывали у Варфоломея Варфоломеевича горячее и щемящее чувство к Анне. Испытывая его, Растрелли сам себя не узнавал. "И что это со мной случилось, господи", — удивлялся он.
…Семь лет назад Анна с мужем уехала в Италию. Сердце Растрелли опустело. Больше он никогда Анну не видел.
* * *
А после у него была еще встреча. Из тех, что изменяют жизнь, заставляют по-новому задуматься о ее сущности.
Обер-архитектор нежно провел по ее щеке, погладил волосы, потерся головой об ее плечо — округлое, розовое, теплое.
Она в ответ радостно улыбнулась, не открывая глаз.
"За что мне послал господь это оглушительное счастье?" — подумал Растрелли. Странно, что сердце в нем обмирает, когда он рядом с ней, ведь человек он вроде старый, всего на своем веку навидавшийся. Может, и его любовь обманывает, как и многих?
Даже в чувствах своих Варфоломей Варфоломеевич был архитектором стиля барокко: не терпел никакой легковесности, старался отрешиться от всех пут, предпочитал незавершенность. Он знал, что финал любви печален, драматичен. А когда последняя точка не поставлена, остается хоть маленькая надежда. И ее можно пронести через все треволнения. А еще знал он превосходно, что даже маленькая любовь насыщает струей новой жизненности, ободряет дарованье. В ней и все блаженство, и все мученья…
Вот он лежит с ней рядом, позабыв обо всем на свете. Ему хорошо, как бывает только раз в жизни. И ему кажется: он мог бы так лежать всю оставшуюся жизнь. Какое наслаждение разглядывать молодое любимое лицо. И сочные губы. И красивой лепки лоб. И тонкую линию бровей. "Ты мое чудо, мой малыш, моя высшая награда, — подумал он и благодарно вздохнул. — Как мне повезло, что я ее встретил и что она мне доверилась". А что, если это прекрасное, это молодое и сияющее лицо — оно одно и составляет ныне всю его собственность, всю силу его привязанности к бытию?
Откуда же ты пришла, Варя?
…Задолго пред их знакомством граф Панин, ведавший всеми иностранными делами России, поехал прогуляться и полечиться во Францию.
В одном народном ярмарочном театре попал граф на одноактную пьсу Лесажа, которая называлась "Криспен — соперник своего господина". Ни сама пиеса, ни герой ее Криспен — плутоватый и находчивый слуга, ни господин его по имени Валер, что промотал все фамильное состояние, ничем Панина не привлекли. А вот невеста Криспена — Анжелика, на которой по пьесе чуть не женился мошенник-слуга, привлекла графа — да еще и как! Панину показалось, что актриса, игравшая роль Анжелики, была красивее всех женщин, которых он видел в своей жизни. Влюбчивое сердце Панина дрогнуло. Приятное новое чувство охватило его с такой силой, что он не мог дождаться конца этого глупого водевиля.
Особи самые разные составляют род людской — иногда такой тебе попадется человечек узорчатый и сетчатый, с такими изгибами и заворотами, что не знаешь, с какого боку к нему подойти. А иной, глядишь, не злой и не добрый, не плут и не фармазон, но вроде и не до конца честный, словом, он сердца ни во что не вкладывает. И так, мол, сойдет. Что же до Панина — он был человек с сердцем. Если он любил, то всем существом. И вот, увидев Анжелику, ощутил он вдруг нечто особенное. В нем проснулись давно забытые или вконец порастраченные нежные чувства.
Граф никогда не считал чувство к женщине порочным или чем-то вроде бы скучной обязанности. Прежде он нередко влюблялся, потом это проходило, и все его любовные истории заканчивались легко, красиво, благородно. Молодая актриса ярмарочного французского театра, с которой он тут же и познакомился, уж очень приглянулась графу. Она была полна наивной детскости, упрямства и простодушного кокетства.
Панин пересмотрел весь репертуар подряд — и про любовь пленницы-христианки Заиры к султану Оросману, и про мечтательных пастушек, и про Асмодея — покровителя преступников… И чем больше он смотрел на свою Анжелику, которая была занята во всех пьесах, тем больше разгорался в нем настоящий пожар.
Что там у Панина вышло с юной француженкой — до этого никому дела нет. Когда касаешься предметов возвышенных, лучше всего следовать правилу: говори мало.
Тем более что у Панина с француженкой — это актеры сразу же учуяли — ничто не напоминало заурядную интрижку. У них дело шло всерьез. И можно ограничиться здесь лишь практическим наблюдением, что в любви истинной материальное отходит на задний план. Иначе она не была бы и бескорыстной, и жертвенной, и легкомысленной. И на диво расточительной. Словом, она не была бы любовью.
…Так вот, труппа театра целый месяц ела и пила вволю. А доход от каждого представления повергал директора в немой восторг.
Панин делал все легкой рукой и был убежден, что добрые дела не нуждаются в подсчетах. Хуже нет, когда люди ставят себе в заслугу содеянное добро, не забывая при каждом удобном случае козырять благодеяньями. Разговоры такого рода носят характер свинский, людям не приличествующий.
Денег у графа Панина имелось достаточно. Бродячее актерское братство было довольно, ликовало, испытывая благодарное чувство к избраннице графа.
Ох эти актеры, продувные бестии, шалопаи, истерики, честолюбцы! Ох эти безутешные служители Мельпомены с их чрезмерной обнаженностью чувств! Как это докучает и как быстро становится приторным!
Ловя неповторимый и сладкий миг удачи, актеры забывают обо всем на свете. Не ахти как им всем везет в жизни. И жизнь-то они порой не могут отличить от сцены, и чаще всего их любовь обращена к самим себе. Других они не замечают. И все же, и все же… Мне по душе это беспокойное, неунывающее, насмешливое племя с его простым, почти детским стремлением к счастью, с его преданностью игре, сцене, публике.
Графу все актеры очень полюбились. А вскоре одна из их веселой труппы оставила театр и уехала в Марсель к родителям. На самом деле ту, которая так властно завладела сердцем графа, звали не Анжелика, как в пьесе, а Тереза. Труппа горевала, что нелегко будет найти Терезе достойную замену.
Чтобы не полз меж кулис грязный шепоток, она сама объявила, что ждет ребенка и на время покидает подмостки.
Проводили Терезу самым сердечным образом, с громким изъявлением чувств. Словом, вековечный лицедейский обычай был соблюден.
А через семнадцать лет после этих проводов приехала в Москву морским путем высокая белокурая девушка, очень живая и красивая. Она свободно говорила по-русски и по-французски, изумительно пела и горячо обожала своего отца — престарелого графа, к которому ей не пришлось привыкать. По-видимому, они встречались и прежде.
К тому времени граф Панин давно был вдовцом, у него было множество внуков и правнуков, которые продолжали старинный род в Москве и Санкт-Петербурге. Приехавшая из Франции Варя считалась дочерью брата графа, который, как было известно, умер совсем молодым, находясь на русской дипломатической службе в Вене. Сведенья о племяннице прокатились в нужном и желательном графу смысле, и больше к этому никто не возвращался. В силу заслуг перед державой граф мог жениться, удочерять кого хотел и поступать по своему усмотрению.
Смертельные схватки фаворитов двора между собой, борьба за власть, падения, возвышения, быстрая смена ролей, любовные происшествия с вельможами, получавшие всеобщую огласку, — все это куда как сильно захватывало умы московской и петербургской знати. Скучная столичная жизнь взрывалась вдруг слухами и вспышками новостей. "А вы слыхали, что…" — так всегда начинались истории, одна невероятнее другой… Пройдет слушок, рассыплется молва горохом, и пойдут чесать злые языки.
…что действительный камергер Аркадий Бутурлин женится на сестре поэта Сумарокова Елизавете, которая брюхата от… что Алексей Разумовский уже успешно замещает Бекетова на ложе императрицы, а…
…что не то в этом, 1753 году, не то в следующем, 1754 годе, наступит конец света, ибо три основные планеты — Венера, Сатурн и Юпитер — опасно сблизились и астрономы говорят, что они — небесные эти тела — непременно столкнутся меж собой. Вот, оказывается, откуда все пожары, эпидемии, бунты, заговоры…
Впервые Растрелли увидел Варю, когда Панин попросил обер-архитектора соорудить ему загородный дом.
Варфоломей Варфоломеевич любил в работе основательность. Он спокойно и деловито сделал чертеж, отдал нужные распоряжения подрядчикам. Ему предоставили все условия, и он жил в свое удовольствие, наслаждался отдыхом, много гулял.
Панин привел Варю к архитектору как свою племянницу и поручил ему проводить с ней свободное время, поскольку девушка выросла во Франции и ей трудно было сразу привыкнуть к новым людям, чужой среде, диковатым нравам.
Держала Варя себя с архитектором просто, но почтительно. Рядом с ним — маститым, всезнающим, умным — она казалась себе маленькой девочкой. Ей было радостно, что теперь рядом с ней не только отец, но и человек, который жил во Франции, так много видел и был так опытен и добр, что можно было во всем на него положиться. Она перестала стесняться архитектора, почувствовала себя совсем свободно, когда ей не нужно было думать — как поступать, что говорить.
Растрелли нравился ей все больше — своей статью, галантностью, сочностью, красотой. Она понимала, что он большой художник, артист, да и мастер своего дела. И радовалась: ко всему еще итальянец. Растрелли обладал большой силой притяжения, и Варе было приятно поддаться этой силе, приблизиться вплотную.
— Мне что-то и снится мало, и спится плохо, — как-то пожаловалась она архитектору, глядя на него своими лучистыми темными глазами.
— Так что у вас, бессонница? Я знаю хорошее средство, — Растрелли улыбнулся, погладил Варю по щеке.
Варя на какой-то миг прижалась щекой к его руке.
— Нет, Варфоломей Варфоломеевич, у меня не бессонница. Я просто не сплю и смотрю в потолок. Бессонница — это что-то мучительное, а мне хорошо думается ночью.
Растрелли вдруг запрыгал на одной ноге, припевая в такт:
— Буду ночью я обдумаль, буду днем немало спаль!
Варя расхохоталась. Ребячливость этого зрелого человека не вписывалась ни в какие рамки и приводила Варю в восторг. Растрелли был чем-то необычайным на российской земле, вроде могучей финиковой пальмы с юга.
Варя уже начала искать с ним встреч, и это ее немного испугало. Была в этом ее стремлении видеть его какая-то тайна. Она и настораживала, и горячила. Одно время она пыталась даже прятаться от Растрелли. Девушка заметила, что Растрелли тоже стал проявлять к ней интерес и оказывать знаки внимания совсем не так, как прежде, когда это было вызвано лишь вежливым отношением к ее отцу. Растрелли как-то незаметно стал ей самым большим другом, и она перестала замечать разницу в возрасте, испытывая к артихектору прилив благодарности и упиваясь своей растущей детской властью над ним. Будь Варя русской, их отношения с Растрелли не могли бы зайти дальше обычного знакомства. Но Варя была чужестранка, дочь актрисы, чувствовала себя она раскованной и не связанной привычным русским укладом. Смелость ее поступков в свете часто веселила Панина. Отец ей доверял во всем, считал разумной, советами не докучал.
Он видел, что архитектор проводит с Варей целые дни, и радовался этому, так как был уверен, что общение его дочери с таким человеком не могло не принести ей большой пользы. И Растрелли, и граф Панин друг друга уважали безмерно.
Варя и Растрелли подолгу вместе гуляли, могли часами говорить о чем попало, не надоедая друг другу. Они сидели в беседке и слушали соловьев, ездили в театр, катались на карусели. Они понимали друг друга с одного взгляда. Это бывает, когда находят общий язык сердца. Хорошо им вместе, они как рыба с водой.
Таким молодым, как сейчас, Варфоломей Варфоломеевич никогда не был. Варя стала для него воплощеньем какой-то очень важной, но не осуществленной в жизни мечты. Он видел, что охранительная звезда, которая сопутствует каждому живому человеку, вдруг подошла к нему близко-близко — рукой дотянуться можно. Варя для него — живая звезда души.
Проживший в тихом супружестве тридцать лет, граф влюбился лихорадочно, без памяти. Судьба послала ему счастье. Последнее.
В этом омоложенном состоянии Растрелли хорошо помнил день, когда старость напомнила о себе. Он вдруг почувствовал себя разбитым. Растрелли подумал: господи, до чего противна и непоправима старость! И непоправима она только потому, что совсем не осознает, что она — старость. И все еще думает о себе: какая же я, к черту, старость, я еще хоть куда! Да я просто-напросто юность. А коли так, то эта самая юность хочет для себя урвать. Других стариков она будет осуждать и порицать. "Да, — думал обер-архитектор, — старость самая ироничная вещь на свете, какую только можно себе вообразить. Потому она и говорит тебе, старому чудаку, самым серьезным тоном: да, да, ты необычайное существо, ты молод, ты меня победил, смотри, как тебя любят. Сдаюсь!
И когда ты, старая обезьяна с седыми волосами, окончательно поверишь в свою молодость, тут-то тебя и шмякнет! Спросишь: а что ж ты мне говорила? И старость ответит: а ты что думал, дурак?!"
Возле Вари Варфоломей Варфоломеевич сразу же забывал про свои беды и сам себе дивился: и нерастраченной резвости, и тому, что испытывал молодую дрожь, и желанию своему не разлучаться с тою, что так внезапно пришла в его жизнь и отогрела душу своим молодым теплом.
Бывая в Москве в свои короткие наезды, Варфоломей Варфоломеевич постоянно испытывал недостаток времени. Озабоченность не сходила с лица архитектора. Но зато когда у него выдавалось свободное время, он с наслаждением гулял по улицам и душа его в таких прогулках настраивалась на тихий, спокойный лад. Особенно уютна и обворожительно хороша была Москва в погожие дни. Тогда она вдруг озарялась таким победным, веселым и даже игривым светом и столько было радости в окружающей жизни, что дыхание у Растрелли перехватывало.
Архитектор шел от Пречистенских ворот, где он обычно останавливался у друзей, по Староконюшенному переулку. Здесь была церковь Иоанна Предтечи — невысокая, грациозная, нарядная. Потом Растрелли выходил на шумный, по-базарному разноголосый Арбат, где торговцы с поспешной, нетерпеливой жадностью старались сбыть поскорей с рук различные товары и снедь. Сворачивал к Никитским воротам, направляясь к Страстному монастырю. Он был на взгорке и словно гордился своей доминирующей над местностью позицией. В Москве было множество монастырей, и каждый из них заключал особую прелесть. По всему городу были разбросаны эти оазисы монастырей — каждый со своим штатом, уставом, обычаем и укладом: Ивановский и Симонов, Чудов и Покровский, Троицкий и Вознесенский девичий, Воздвиженский на Знаменке и Николо-Угрешский. Они обнимали весь город добрыми руками, лишний раз убеждая зодчего во всемогуществе народного гения, так полно проявляющегося в планировке каждого монастыря.
Свобода творить каждый храм на свой манер, вложить в постройку новое понятие о красоте и пользе проявлялись так живо, что Растрелли диву давался. И свобода эта указывала также на упрямство и каприз безвестного художника, который не хотел повторять уже виденное, задумывал и осуществлял все самостоятельно. И носил в голове готовый план задолго до того, как был заложен первый камень.
И каждый из этих художников-постройщиков испытывал неостывающее побуждение к созданию все новых и новых форм. Ширь и сила замысла были неизбывны. От них воображение Варфоломея Варфоломеевича возбуждалось. Строгость и законченность, присущие русским зодчим, подчинялись каким-то загадочным и неуловимым законам пропорций, которые незаметно жили где-то глубоко внутри московской земли.
* * *
Доношения текут по святой Руси… Скрипят перья и летят, летят бумаги из Сената, ведомств и бесчисленных канцелярий.
Иные с тяжелыми сургучными печатями и черными орлами, иные просто так. Пишут и приказывают. Приказывают и пишут. И конца этому не видно.
Газета "Санкт-Петербургские ведомости" сообщает: "Генерал-лейтенант барон Сергей Григорьевич Строганов дал бал в своем новом доме, построенном на Невском проспекте графом Растрелли после пожара в 1752 году". Новый строгановский дом — это самый настоящий дворец. Да еще какой! Растрелли считает его одной из лучших своих построек.
Елизаветинские вельможи строят себе роскошные дворцы. Ее императорское величество изволит кушать в этих дворцах у их сиятельств. А с дворцов насмешливо и скорбно глядят на прохожих растреллиевские кариатиды. Глядят они и подмечают, что все в этом мире отличается каким-то странным однообразием: хорошее всегда хорошо, а плохое всегда плохо. Истинная добродетель неизменно добродетельна. А зло неискоренимо. И еще эти умные кариатиды знают, что судьба нередко руководит замыслами людей, исправляет их, как может, а порой дожидается определенного часа, чтобы сыграть с ними глупую шутку.
Не мы управляем делами и событиями, но чертится свыше всему черед свой. Об этом подумает один российский писатель, когда будет разглядывать толстый и солидный фолиант под названием "Альбом фасадов, планов и разрезов примечательных зданий Петербурга". Подумает он так потому, что будет в самом большом восхищении от построек Варфоломея Растрелли. Собираясь за границу, в Рим, он посчитает, что необходимо получше усвоить свое, прежде чем восторгаться чужим.
Когда Растрелли строил Екатерининский дворец, Ломоносов написал стихи восторга:
Кто видит, всяк чудится,
Сказав, что скоро Рим пред нами постыдится.
Так почему ж так печальны и так насмешливы растреллиевские кариатиды? Может, они сострадают своему создателю? Или полны жалости к себе? Или разуверились во всем? Сами они того не ведают… А потому они полны неизъяснимой таинственной прелести. И лица их, и полные груди.
Скрипят перья, и летят бумаги, а одна из них — собственноручное, адресованное другу письмо графа Растрелли. О многом скажет это письмо читателю. Горестная судьба художника, сила его дарования, редкая скромность дают себя знать даже в этом небольшом послании. Вот это письмо: "Сударь, я был самым чувствительным образом огорчен, узнав от г. Грота о Вашем неожиданном отъезде, и не успел попросить Вас передать мои приветы нашим общим знакомым. Рукопись, которую я имел честь Вам переслать, это — черновик, не приведенный мною в порядок за неимением времени. Я поручаю его Вашим заботам. И прошу исправить ошибки, которые Вы там найдете. Вы хорошо заметите, сударь, что в этом описании я говорю о самом себе, и это для меня неудобно. Прошу Вас об одолжении — исправить это описание так, чтобы оно излагалось не от моего лица, а анонимно.
Мой дорогой сударь, если Вы дружески ко мне относитесь, прошу Вас прибавить туда такое примечание: "Весьма удивительно, что человек, столь способный и создавший столько памятников, отличавшийся отменным прилежанием, человек достойный и не заслуживший ни малейшего упрека за свое поведение, находится со своей семьей в положении столь мало завидном и бедственном".
(Вариант): "Весьма удивительно, что человек, столь способный и создавший столько великолепных памятников, отличавшийся усердием во всем, что требует его профессия, кроме того, человек достойный и не заслуживший ни малейшего упрека за свое поведение, находится со своей семьей в положении столь незавидном и весьма бедственном".
Горечь и обида, смертельная усталость архитектора явственно послышались адресату, когда он несколько раз ряду прочитал письмо Растрелли. Достопочтенного мастера, не впадавшего в малодушие, даже в нелегкие времена. Можно было позавидовать упорству и такту Варфоломея Варфоломеевича, считавшего неудобным говорить о самом себе даже человеку близкому.
Глава четвертая
Что будет — то будет…
…Нет на свете блаженства прочного, ничто беды не может миновать…
Пушкин

ля художника, считал Растрелли, есть закон твердый, единственный и несомненный; он состоит в том, что нужно работать вопреки всему — ударам, обстоятельствам, бедам. Закон этот Варфоломей Варфоломеевич не раз проверил на самом себе и втайне считал его стоящим выше всех других законов, которые придумали люди.
Когда он приезжал в Царское Село, душа его приходила в равновесие. Здесь он успокаивался — то ли потому, что очень любил это место, то ли потому, что перед красотой непрочность бытия отступала на второй план. А главное было тут то, что на каждом шагу восторженно утверждалась вечность. Сама природа была трогательна и прелестна с ее молодыми восходами и нежным заревом закатов.
Он ходил, ходил, думал, наблюдал, всматривался, слушал. И постепенно обретал точку опоры. Боль издерганной души стихала. Ослабшие силы восстанавливались.
Растрелли давно убедился: Царское — это рай, ибо нигде на всей видимой земле не может быть такого ласкового солнца, таких тенистых боскетов, изумительно-задумчивых парков, тем паче такого великолепного дворца, возвышающегося над вековой зеленью. Это его детище, его гордость. Здесь он воплотил в архитектуре свое пониманье цели и смысла жизни. И все, что здесь было, — и небо, и солнце, и деревья, и дворец — отражалось в зеркале вод, возникало на светлой поверхности как волшебное повторение.
…Было прохладно, шумели вершины сосен — и в шуме их Растрелли слышалось что-то грустное, томительное, прощальное. "Что будет, то будет, — думал Растрелли, вздыхал, глядел на небо, — а еще и то будет, что и нас не будет…"
Почему-то прежде у него было не так. Он жил тогда в гору. А сейчас пошло под уклон… Тогда строил в Петергофе и думал о Екатерининском дворце в Царском, а параллельно с этим строил еще и дворец в Измайлове, потом в Перове, а после в селе Покровском. А сейчас у него случилась остановка. И он в который раз понял: работа спасительна. Без нее человеку творческому и податься некуда. Работа — единственное пристанище, надежный и легчительный кров.
В подмосковных усадьбах дворцы были деревянные, недолговечные. Но сочный и полнокровный стиль Растрелли и в этих усадьбах проявлялся в полную силу. Все, чего касалась рука Растрелли, — был ли дворец временный, деревянный или каменный, какому и три века — не срок, — сработано было на совесть. Та же была цельность, та же пластика, насыщенность цвета и скульптурная форма. Иначе он не мог. По разбивке фасада и декорировке творение Растрелли можно было узнать за версту.
Он любил в архитектуре резкое, мощное, чеканное. Он словно вставлял в природу недостающее звено, ничего в ней не нарушая, не всаживая насильно. Свои постройки он вдвигал нежно, как свят дух, не мешая земле жить самой по себе. И потому постройки Растрелли не выпирали из земли, не вспучивались из ее чрева, а стояли легко и естественно, словно были еще загодя увидены вместе с окружающим каким-то единым духом, зорким, пытливым глазом.
Дворцы Растрелли — это дворцы волшебной игры, безумной щедрости, наслаждения жизнью. Казалось, что создать такое мог только очень счастливый хороший человек. Улыбались со стен круглощекие амуры, бежали друг за другом большие окна, тянулись панели с золочеными рамочками, потом слепительно сверкала полоса зеркал, а выше искрились чередующиеся барочные подзеркальники.
ИЗ ДНЕВНИКА Ф. Б. РАСТРЕЛЛИ
Я несчастнейший человек. Дворцы поглотили всю мою жизнь. Они как зарубки. Каждый из них — это три года, пять лет, десять лет жизни. Я России по архитектуре больше сделал услуг, нежели все остальные. Три года строил я Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны. Три года ждал, когда начнут Андреевский собор в Киеве. Весь извелся. Ансамбль Смольного возводился десять лет и остановился в строительстве из-за Семилетней войны
[22]. Десять лет я отдал переделкам и восстановлению Воскресенского монастыря на Истре. Я нашел новый способ шатрового перекрытия, прорезав конус по всей окружности тремя ярусами проемов. И шатер сразу же утратил тяжесть, стал легким. Он воспарил над залом ротонды. Собор наполнился воздухом, светом, простором. Я сделал впервые светлый шатер. Таких доселе мне видеть не приходилось.
Ее величество императрица Елизавета повелела мне срочно декорировать Большой зал Зимнего дворца, а также большую галерею, чтобы там отпраздновать со всем великолепием свадебные торжества. С этой целью я сделал фигурные столы, украшенные фонтанами и каскадами и установленные по четырем углам названного зала, окруженные вазами и аллегорическими статуями. Все богато орнаментировано золоченой скульптурой. По каждой стороне каскадов были расставлены померанцевые и миртовые деревья, образовавшие прекраснейший сад. На большой площади устроен фонтан из вина, украшенный скульптурой, с большой пирамидой, предназначенной для народного гулянья. Эти праздники продолжались в течение нескольких дней.
В Летнем дворце я сделал каменный Эрмитаж с небольшим садом в первом этаже апартамента ее величества. Здание украсил статуями из белого мрамора на пьедесталах с небольшим фонтаном посредине. Все украшения фонтана были отменно позолочены.
В новом Летнем саду я вырыл пруд большого размера, недалеко от дворца, который примыкал к новому саду, где одновременно я устроил большой лабиринт из зелени липовых аллей, замкнутых оградой из различных деревьев, украшенной на разных промежутках великолепными мраморными статуями, а также большой фонтан с водяной пирамидой и каскадами, украшенными позолоченными барельефами и вазами, из которых били снопы воды, а вокруг этого большого бассейна было поставлено несколько мраморных фигур.
После того как императрица утвердила проект нового Зимнего дворца и так как необходимо было совершенно снести старый дворец, построенный покойной императрицей Анной Иоанновной в начале ее царствования, ее величество императрица Елизавета приказала мне строить Большой Зимний дворец из дерева, в один этаж на каменных фундаментах, и это здание было построено на Большом проспекте. Число апартаментов превышало две тысячи комнат, с большим залом, галереей, часовней, а также большим театром в два яруса лож. Все парадные апартаменты, приемные, зал, галерея и прочее были украшены лепным позолоченным орнаментом и несколькими плафонами, помещенными в главных апартаментах.
Я выполнил по приказу императрицы Елизаветы проекты для постройки новых двухэтажных лавок, которые строятся вдоль Большого проспекта.
По приказу Сената я изготовил большую модель Триумфальных ворот, которые должны быть построены в начале Большого проспекта, чтобы служить главным въездом в город Петербург. Это сооружение еще не начато. Названная модель находится в Большом зале Сената.
…Я нашел себе спасение от томящей тоски — вспоминаю Анну. Она давала мне все, отчего можно почувствовать себя счастливым. От моих воспоминаний наворачиваются слезы. Ужели я так стар! Ужели никуда не гожусь?
С Анной будто впервые узнал я, что такое сладостный покой. А теперь сижу, сижу и вдруг начинаю уходить в прошлое. Вижу ее лицо, выражение глаз, слышу голос. Не будь этого, со мной сделалось бы такое отчаянье, что и выжить трудно. А наши свидания? Как я их ждал. Меня знобило, она приходила, и радость встречи смывала все одним махом. Мы подолгу бывали вместе, а сейчас все кажется таким мимолетным. Боже, было это или приснилось? Почему прошлое счастье на отдалении очень походит на сон? Но такие сны снабжают силой. Наступает момент, и Анна снова отдаляется, как небесная звезда. А я говорю себе хорошую русскую поговорку, она мне очень нравится: живи — не тужи, а помрешь — не заплачешь. Что ж, попробую не тужить…
Сколько всевозможных триумфальных арок пришлось! выстроить обер-архитектору за свою жизнь! В честь каждого нового государя требовалось нечто грандиозное, невиданное, совершенно особенное. При коронации Анны Иоанновны арки нужны были и в Москве, и в Петербурге. И Растрелли их делал. "Нужно, — говорили архитектору. — И весьма спешно!" Варфоломей Варфоломеевич вспомнил, как герцог Бирон вместе с обер-гофмейстером Семеном Андреевичем Салтыковым несли конец шлейфа императрицы, поддерживаемого восемью камергерами. На Бирона все опасливо косились. Вельможи понимающе переглядывались, но трусливых своих хвостов из-под кафтанов не казали. Поджали на всякий случай. Бирон не был ни членом Кабинета, ни сенатором, ни президентом какой-нибудь коллегии. Но он был в государстве всем. Важнее всех должностей была его близость к императрице. А потому и держал он шлейф ее цепко, как охотник фазана-подранка.
И кабинет-министр Артемий Петрович Волынский был тогда в свите — блистательный, величественный, картинный. Как жестоко с ним было поступлено, когда он осмелился поколебать положение Бирона! Варварским, средневековым мученьям подвергли Волынского: отрезали язык, отсекли правую руку и только потом отрубили голову. Узнав об этом, Растрелли содрогнулся.
Острое чувство беспомощности больно тогда кольнуло сердце обер-архитектора. Что он мог сделать, чем помочь? Он хорошо знал Волынского, ценил его недюжинный ум, восхищался самобытными сужденьями кабинет-министра об искусстве. Эрудиция Волынского была редкостной.
Когда правительницей России ненадолго стала Анна Леопольдовна, Растрелли тут же стал хлопотать за сына и двух дочерей Волынского, отправленных в Сибирь. Его просьба возымела действие — с дочерей, постриженных в монахини, сняли монашеский сан и разрешили всем вернуться в Москву, к родному дяде их, Александру Львовичу Нарышкину.
…Строил Растрелли Триумфальную арку и Петру Второму, внуку Петра Великого. Заказы ему от имени царя передавали и великий канцлер Головкин, и Федор Апраксин — человек пожилой, образованный и честный, и Дмитрий Голицын, смелый и высокомерный, и барон Остерман. Все они торопили обер-архитектора, подгоняли, меньше просили, а все больше требовали. И следующему царю — Петру Третьему — тоже нужны были дворцы, арки и резиденции. Да только недолго он ими понаслаждался. Свергли Третьего Петра. А поверженный, он тут же был убит.
Наблюдая жизнь верхушки, стоящей у трона, Растрелли приходил к выводу, что двор целиком состоит из каких-то странных шутов, которых то милуют и осыпают почестями, то секут и подвергают пыткам. Он вспомнил, как при дворе императрицы Анны все шестеро ее шутов становились лицом к стене, кроме одного, которому было приказано бить их палкой по поджилкам. Потом они таскали друг друга за волосы и царапались. И государыня, и весь ее двор сильно утешались этим зрелищем. А после многим из них было уже не до шуток.
Потому что очередь доходила до них самих. Вероятно, от жестокостей, вошедших в моду, во всей империи больше всего страдала сама Анна Иоанновна. Она душевно заболела, и ей постоянно грезились призраки замученных и казненных в ее царствование. Они не давали императрице покоя ни днем ни ночью.
Варфоломей Варфоломеевич придвинул к себе объемистый свой дневник и стал заносить в него все свои работы — дворцы, особняки, фонтаны, сады и все прочее, что сделал он в течение того длительного времени, когда состоял на службе многочисленных величеств всероссийских. Да, имел честь состоять. Да сам-то был теперь в невысокой чести.
"На берегу Большой Невы, — записывал он, — я соорудил большую каменную набережную с тремя сходами для удобства дворцовых шлюпок и вообще для всех министров и вельмож, которые прибывают ко двору водой".
Он писал — я вырыл, я соорудил, я построил — и в этом был прав.
"На большом проспекте я построил церковь с куполом и колокольней, всю в камне, в честь св. девы Казанской, которая почитается в этой провинции как чудотворная. Алтарь, равно как и весь интерьер, украшен весьма богатыми лепными позолоченными орнаментами, с бесчисленными прекраснейшими образами, установленными в алтаре. Именно в этой церкви состоялось венчание императора Петра Третьего.
Я выстроил одновременно по приказу императрицы Елизаветы большой алтарь в Преображенской церкви, принадлежащей первому полку ее гвардии. Этот алтарь — великолепной архитектуры со скульптурой и живописью.
Разумеется, — писал Растрелли, — я мог бы назвать и еще много других сооружений средней важности, но их упоминать не буду, боясь показаться слишком пространным. Однако такие, как Большой дворец для великого канцлера Воронцова, равным образом и дворец графа Строганова, Большой дворец для бывшего гофмаршала, графа де Левенвольде, дворец для гофмаршала Шепелева на Большой Миллионной улице, Большой дворец для главнокомандующего артиллерией де Вильбуа, загородный дворец по дороге в Петергоф для Сиверса, загородный дворец близ Москвы для князя Голицына… Сколько их — удачных, истинно прекрасных, грандиозных дворцов — поставил я в России! Неужели эта живая красота, созданная мной, не вечна и не бессмертна? Не может этого быть! Что-что, а это я чувствую.
Я построил в городе Москве большой дворец графу Салтыкову, в том же городе Москве большой дворец князю Сергею Голицыну, сенатору, кавалеру ордена св. Александра и св. Анны, дворец князя Хованского, недалеко от места, где стоят суда, на Морской улице дворец для Чоглокова, гофмейстера двора, и здание господину Гегельману — поставщику двора, вблизи малой реки и Зеленого моста…"
Бедный Растрелли, подумал он о себе в третьем лице, ты мог бы жить вполне счастливо, весело и безбедно, если б не семейные заботы, тревоги, спешка… Сколько горького и неприятного пришлось пережить тебе от самодержавной власти — грубой, немилосердной, гневливой. Никого и ничего она не щадила. Ты строил для Бирона в Курляндии, безвылазно сидел на площадке, а в это время в Петербурге один за другим умирали от болезней дети, твои дети, за участь которых ты трепетал. Тебе не давали вырваться домой хоть ненадолго. Императрица Анна Иоанновна ничего слышать не хотела и заставляла тебя жертвовать всем ради удовольствия своего любимца Бирона. "Да здравствует днесь императрикс Анна, на престоле седши увенчана, краснейша солнца и звезда сияюща ныне в императорском чине"! — вон как старался изо всех сил придворный пиит! А я строил, строил и строил, перестраивал — триумфальные ворота по случаю прибытия императрицы из Москвы в Петербург — одни на Троицкой пристани, другие — Адмиралтейские, третьи Аничковы… Да пропади все пропадом!
Мои дети, бедные мои дети…
Растрелли почувствовал вдруг смертельную усталость, прилег на кровать. То ли уснул он, то ли задремал, то ли впал в тягостную полудрему. Он стал видеть какие-то картины былого, воспоминания переходили в сон, продолжаясь в нем, и снова растворялись. Сдвинутые во времени, они все сменялись, перебивали друг друга, отгораживая от всего.
Глава пятая
Итоги
Мы жизнь летящу человека
Не мерим долготою века,
Но славою полезных дел.
Барков

н видел море. В пенных барашках — оно было то синим, то зеленым, то фиолетовым. Над ним клубились белые, желтоватые, свинцовые облака. Они медленно плыли — неуклюжие, холодные, пустые. И море становилось отвесно, вздымаясь вверх, и соединялось с небом, скрывая линию горизонта. Море, по которому он плыл в родную Италию, не имело названия. Это было просто Море, которое нельзя было измерить итальянскими милями. Бесконечное, оно убегало в синие дали, колыхалось, проваливалось, исступленно закипало чернильной густотой. Неслись по нему корабли — из Петербурга и Архангельска, из Либавы и Ревеля. Везли рогожу и строевой лес, щетину и рыбий клей, сало и конский волос. Крутой ветер наполнял паруса, и капитаны были рады прекрасной погоде, ибо можно было идти до шести узлов в час. А таковая скорость предвещала благополучный исход, если, конечно, с закатом солнца не засвежеет ветер, не переменит направленья и ночью не повалит сильный снег, что может принудить ко всяким испытаньям. Море есть море.
Спешили корабли, а впереди слабо намечалась неясная черта берега с главнейшим торговым портом Европы — Роттердамом. Туда шли корабли с разных широт. Водочным и пивоваренным заводам Европы нужны были рожь и ячмень, а корабельным верфям и канатным заводам — льняное семя, пенька и смола. Всего этого в России было пруд пруди, а назад везли бумагу и хлопок, табак и пряности, красильные материалы и кофей.
До торговли и обмена товарами обер-архитектору дела не было. Его манили высокие шпицы, колокольни и башни, подъемные мосты и остроконечные крыши, каменные строенья и древняя ратуша Флесингена с прекрасным готическим зданием.
Весь Роттердам был обнесен высокими брустверами. С обеих сторон города тянулись дюны.
Император всероссийский Петр Великий был великолепен. Он стоял в треугольной шляпе, в кафтане из голубого гродетура, который собственноручно расшила серебром Екатерина. Сняв шляпу, Петр низко поклонился на все стороны и, сопровождаемый знатью, вошел в церковь. Отец и сын Растрелли вошли следом.
— А что, ребята, да неужто и вправду побили мы шведов?
— Ну уж, брат, вестимо! Православному люду трудно запруду поставить, коли он попрет. Нас все насмерть боятся ныне, при таком-то белом царе!
— Объясни мне, Франческо, — говорил толстый и красный Каравакк, изрядно выпивший бургундского, — почему государю Петру Великому больше всего нравились фламандские художники?
— Людовик, ты всю жизнь прожил здесь и все еще не разучился задавать мне наивные вопросы. Ты как большой ребенок, который только что спустился с гор. — Растрелли от души рассмеялся, глядя в его добрые выпученные глаза. — Истинно, иностранцам никогда не удастся постигнуть этой страны. Ты спрашиваешь — почему? Картины фламандцев всегда были близки к самой обыкновенной жизни. Так? Они выражали глубину чувства, энергию духа. За что государь любил голландцев? Они были ему близки и понятны: царь видел в картинах народ, храбрый на суше, смелый в морях. Голландцы рисовали самую будничную жизнь человека. Это ли не увлекательно? Натуральная жизнь, естественная. Да и сделано просто, сердечно. И с таким светлым взглядом на все! Неужто не понятно?
Каравакк кивал головой, соглашался, растерянно моргал.
"А все же любопытно, — подумал Растрелли, — что удерживает Каравакка в России? Ведь в Париже он мог бы сразу же встать вровень с лучшими живописцами, а здесь он часто оказывается в затруднительном положении. Но не уезжает. Работает, трудится в поте лица — довольный, уверенный в себе, беспечный, как всякий француз. Почему все-таки не уезжает?
Привык? Наверное, Людовик и сам не сможет объяснить этого…"
В тот день, когда его угощали в Москве обедом, он едва вырвался от гостеприимных хозяев, вконец устав от показного, а потому и весьма утомительного внимания к себе. С удовольствием вдохнув свежего воздуха, обер-архитектор отправился к своей карете.
Вдруг в темноте к нему метнулась какая-то фигура.
— Неужели это вы, синьор Растрелли? — негромко спросили у него на хорошем итальянском.
Он отшатнулся. Испуг перехватил горло. Быстро приходя в себя, Растрелли дрожащим голосом ответил:
— Ohime, non altri menti! Si, Lei non sbaglia. E proprio cosi. Sono proprio io. E Lei chi e?
[23]
— Mi quardi meglio.
[24]
— Dio Santo! Davvero?
[25] Так это и в самом деле ты? Что ж с тобой сделали?
Растрелли всматривался в темноту, чтобы лучше разглядеть того, кто узнал его ночью. Архитектор ошалело пялился в кромешную черноту. А человек, оказавшийся Романом Никитиным, снял с головы башлык, сложил длинные лопасти в суконный колпак и только потом вплотную приблизил свое лицо к Растрелли.
Тот охнул. Перед ним стоял Роман. Помятое, страшное, изможденное лицо мученика. Глубоко запали глаза, густая черная борода с белыми клочьями седины.
— Я узнал, что вы здесь, граф. Дай, думаю, разыщу. Я вас ждал. У меня к вам очень важное дело… Я вас долго не задержу! Могли бы вы меня выслушать?
Растрелли глубоко вздохнул, тронул Романа за плечо с дружеским участием. Сказал, что очень рад встрече и непременно выслушает, но не стоять же им среди улицы. Если разговор важный, то надобно поехать куда-то и поговорить обстоятельно. Только вот куда?
— Мне очень хочется поговорить с тобой, Роман, даже безотносительно до всяких дел, — прибавил Растрелли.
— Можно поехать ко мне домой, на Тверскую, у Ильи Пророка… И спасибо вам большое, Варфоломей Варфоломеевич! — Роман низко поклонился.
— Пошли! Вот моя карета стоит.
У Растрелли были запряжены добрые дорогие караковые кони. И карета была что надо. Только в такой и ездить первому архитектору России. Хоть это он заслужил.
Некоторое время оба молчали. Растрелли смотрел в окно. А на лице Романа застыло мучительное выражение.
Эта тишина тоже была разговором, возможно, она значила сейчас намного больше, чем слова. А когда лошади набрали хорошую скорость, наполняя ночные улицы грохотом и пылью, Роман, склонясь к уху Растрелли, негромко сказал:
— Будьте уверены, граф, и я и брат мой, покойник Иван, повсегда относились к вам с совершенною любовью и самой дружеской искренностью… Да ниспошлет вам всевышний милости свои!
— Благодарствую, благодарствую, — сказал растроганный Растрелли. — Мне и отцу моему с такими мастерами, как вы, всегда работалось легко. Это прибавляет удовольствие в художестве. Как отрадно, когда сотоварищи понимают тебя с полуслова…
— Да, Варфоломей Варфоломеевич, да… Ленивы и нерадивы мы в работе не были, ни Иван, ни я. Да вот видите, судьба нас изломала. Таких напастей и бед подбросила, что не дай бог другим. По дороге к Москве, у самой Казани умер братик мой Иван, царство ему небесное. А я выжил…
Роман поднес руку к глазам, громко, надрывно всхлипнул.
— Это ужасно! Это жестоко! Ну что поделаешь? Как от них вывернешься? — хмуро заключил Растрелли. Он не мог найти утешительных слов. — Мы, художники, трудимся, как можем. Работаем беспорочно. Никому не мешаем. Какая же награда ждет нас за труды наши? Получаем гроши. Видим к себе полнейшее пренебрежение. Терпим немалые нужды… Все наши успехи в художествах ничего не стоят, как только любой гадкий человек, но обладающий весом при дворе, возымеет об нас дурное мненье. Иди тогда докажи, что ты лев, а не последняя дворятина. Всякому доказывающему — первый кнут, сие давно известно. Но ты, Роман, ты… Крепись! — сказал Растрелли, обрадованный тем, что наконец ему подвернулось нужное слово. — Крепись духом!
— Да я-то держусь, граф. Даже пробую работать. Я вроде с того света возвратился, только вот кисть в руках не держится. К умерщвлению моему приложили руку. Как следует приложили… Старались! Остерман, Прокопович, Ушаков. И бывшие родственники Ивана со стороны жены тоже старались. Они и по сию пору землю носом роют. Они злее самой смерти. И как их, этих христопродавцев, господь терпит! Ума не приложу, — хрипло сказал Роман, и лицо его передернулось.
Дом Никитиных на Тверской, у церкви Ильи Пророка, был добротный, каменный, двухэтажный. Сочинен он был самолично Иваном, который в Италии обучался не только живописи, но и архитектуре. Большие полуциркульные окна выходили на Тверскую. Они были забраны прекрасными узорными решетками и наполовину застеклены настоящим цветным стеклом.
В зыбком предутреннем свете Растрелли глазом знатока сразу увидел тщательный и точный замысел архитектора. Он ничего не опустил, учел каждую деталь: выходы, переходы, сени, наружные лестницы на второй этаж, двумя полукругами опускавшиеся во двор, были на удивление изящны. По одной планировке дома Растрелли мог бы сказать о характере его автора. Молодец Иван! Мудрая, уравновешенная душа.
И внутри дома Никитиных все было великолепно — шпалеры, изразцовые печи, резная мебель, стулья, обитые красной кожей, кортики на стенах, полки с книгами, рисунки, инструменты, картины.
— Это все, Варфоломей Варфоломеевич, жалкие остатки того, что было здесь при Иване. Маменсы и Юшковы, как крысы, растащили все добро… Мы были в ссылке в Тобольске, а вся эта шушера резвилась тут, как хотела. Я доподлинно узнал; Мария — бывшая жена Ивана — собственноручно на него донос в Кабинет доставила! А ныне она хочет этот дом брату своему отдать — Ивану Маменсу. Доказывает, что на ее деньги построено. Эх, человеки! Уж так мне тошно от их низости, что готов спалить все! Лишь бы им не досталось, нежити этой склизкой! На ее деньги, а?!
Дрожа от возмущения, Роман исподлобья глянул на обер-архитектора и перекрестился на распятия и образа.
— Успокойся, Роман! Я, пожалуй, переговорю об этом с самой императрицей. Я знаю, как за это взяться. Скажу ей, что ты будешь со мной работать над триумфальными воротами у Анненгофского дворца и поправлять царские покои во дворце на Яузе — у Немецкой слободы.
— Так и я сейчас, по указу императрицы, пишу иконы для Златоустовского монастыря, — горячо сказал Роман.
— Ну так о чем ты тревожишься? Гляди в окно веселей! Все уладится. Чем можем — поможем!
— Варфоломей Варфоломеевич, как мне вас благодарить! — сердечно воскликнул Роман, прижав обе руки к груди.
— Ах, господи, какие там благодарности! Оставь, Роман…
Полная заспанная женщина, такая же голубоглазая, как Роман, внесла в гостиную медный самоварец с пылающею жаровнею внутри, молча расставила чашки, а посреди стола водрузила поднос с пирогами. Она робко взглянула на Растрелли и улыбнулась ему, покрываясь мягким румянцем.
— Милости просим, — сказала она, кланяясь.
— Это сестра наша, Марфа, — сказал Роман, подошел к ней и нежно положил руки на ее округлые плечи. — Спасибо, сестрица, иди спать…
— Расскажи мне, что же произошло с вами, Роман! Известие об аресте Ивана Никитина дошло до меня, когда я строил Манеж возле Адмиралтейского луга. Это было в 1732 — м, в августе…
— Совершенно верно. Грянула гроза над нами в те поры, Варфоломей Варфоломеевич, — сказал Роман, вплотную придвигаясь к Растрелли, — я вам расскажу, но только, ради всего святого, говорить станем на итальянском, а то мне все кажется, что в доме есть уши. Ведь меня впервые арестовали именно здесь, весной 31-го. Донесли. А после выпустили. Иван хлопотал, добился освобождения. Из Канцелярии тайных розыскных дел брат забрал меня под расписку. Какое тогда черное время было! Фискалы, доносы, подметные письма… Подкрался к нам незаметно час страшных испытаний.
Глава шестая
Рассказ Романа Никитина

то с нами случилось? — вы спрашиваете. — Голубые спокойные глаза Романа ярко вспыхнули. Он выдержал длинную паузу, тяжело вздохнул и, полузакрыв глаза, тихо произнес: — Кто мне ответит, почему всевышний отворачивает лицо свое от нас? Почему лишает милости и защищения? Почему? Кому это ведомо? Никто не ответит. Даже сама императрица. Живешь, живешь, и начинает судьба твоя катиться вниз, и переменить этого скатыванья, остановить его невозможно. Как-то я спросил об этом у брата Ивана. А он, помню, долго так и жалостно смотрел на меня, а после отшутился: Авоська, говорит, веревку вьет, а Небоська петлю закидывает. Уразумел? — спрашивает. He-а, отвечаю, это тебе, гоф-малеру двора, виднее, а мы люди простые, обычные живописные мастера.
Мы в изящных искусствах как в лесу густом бродим, каждый свои цветы отыскивает…
"Ну вот и отыскивай себе на здоровье! Не мудрствуй!"
От Ивана тогда как раз ушла жена. Он жил в глубокой печали, был тяжко болен. Большую часть дня лежал, отвернувшись к стене. Ни с кем говорить не хотел. И тут — на беду нашу — принес к нам старец Иона, монах, двоюродный мой брат, тетрадку с пасквилем на Феофана Прокоповича. Называлась она "Житие Феофана, архиепископа Новгородского". Написано было про него там зло, беспощадно. А после и еще две тетрадки подметные появились в нашем доме. Ну, пасквиль как пасквиль, по всем правилам, со всякими предерзостными и непристойными словами в адрес Феофана — и что он присваивал себе церковное имущество, и что содействовал императрице Анне грабить казну, транжирить богатства и препровождать их в Курляндию, и что он лицемер, жеривол и дьявольский жрец.
Брат наш Иродион возрадовался тем тетрадкам и стал их громко читать с амвона в своем московском приходе. В открытую. Прихожане слушали разоблачения Феофана. Ничего не стоило донести на протопопа. А он как с цепи сорвался. Совсем безумный стал. Я ему говорю: "Ты, брат, фискалов устрашись. Побойся. За такие речи твои могут жизни лишить всех нас! Подумай об этом". А он свое гнет. Откроет тетрадку и на весь дом возглашает: "Ах, Феофан, Феофан, жадный поп, гневливый пес, прежде царю Петру похвальные стихи писал, а ныне немчуре курляндской зад лижешь! Мотаешься по Руси, ровно саранча, чревище великое, а крыльца малые. Со слабыми надменный, а как Бирона завидишь — по земле стелешься, трепещешь! На словах за просвещенье ратуешь. А на деле? Личных врагов своих объявляешь врагами державы, что ж, так куды легче с ними счеты свести".
Я слушаю брата со страхом. По сути-то согласен со всем, что он говорит, а душа неспокойна, ох неспокойна! Брату Ивану говорю про это, а он в ответ: "Вы, братья мои родные, для бога меня к сим тетрадкам не приплетайте, прошу вас. Мне, больному человеку, вас слушать тошно! И без вас это все мне ведомо! Оставьте меня, оставьте, богом прошу!"
Брат Иродион уверовал, что его никто не тронет, поскольку он духовник сестры императрицы, герцогини Мекленбургской — Екатерины Иоанновны. Надеялся, что, коли гром грянет, тут же заступятся за него люди влиятельные. "У меня единомышленники есть, — говорил брат, — архимандриты Маркел Родышевский, Варлаам Высоцкий, цейх-директор Михайло Аврамов…" — Роман махнул рукой и продолжал: — Эх, Родион, Родион, в простоте своей и наивности сгубил ты нас всех. Надеялся на тени, будто не знал, что императрицей управляют Бирон и Левенвольд. А за их спиной Остерман… А всем им угождает вице-президент синода, прехитрый и преподлый Феофан Прокопович. Он создал на нас дело и подметные тетради, что мы читали, представил двору в нужном ему свете — как попытку государственного переворота. Как заговор и смуту…
Растрелли был обескуражен, слушая Романа. Выражение глаз обер-архитектора постоянно менялось — они то вспыхивали и оживали, то застывали в недоуменном изумлении, то наполнялись жалостью сострадания и замкнутой горькой грустью.
Судьба Никитиных — людей чистых, богато одаренных — сильно задела Растрелли. Ведь после падения Бирона и ему немало крови попортили, требовали объяснений, почему он именует себя графом, на каком основании прибавляет к своей фамилии приставку "де". И приказали впредь именоваться фон Растрелли, а диплом на графское достоинство
без объяснений отобрали. Покровительство Бирона, который питал к Растрелли непонятное расположение, едва не обернулось для архитектора бедой. От тюрьмы да сумы, от скорой расправы в России во все времена спасу никому не было — ни правителям, ни святым, ни угодникам. Где, кто и когда слышал последний задушенный крик мученика?
— Вы чаю попейте, Варфоломей Варфоломеевич. Я вас вконец заговорил!
— Пью, Роман, пью… Что же было дальше? — нетерпеливо спросил он.
В тоне его вопроса Роман услыхал душевную заинтересованность. И лицо графа, породистое и твердое, было необыкновенно добрым и приветливым, укрепляя в Романе сразу возникшее чувство доверия.
Никитин громко хмыкнул и сказал, оглаживая ладонью густую, длинную бороду:
— А дальше… Дальше отверзлась алчная пасть Тайной канцелярии. Простерлись к нам кровожадные лапы самого генерал-адъютанта Ушакова. У него-то давно все было налажено. У него мастерская что надо! — струмент всякого рода пыточный наготове. А пытчик Андрей Иваныч — ого-го! Все предусмотрел. Он знает средства, что пособляют дознанью; в его канцелярии — целый набор: подымали на пялы, чтоб шкура не ссохлась, вывертывали лопатки, гладили по спине раскаленным утюгом, кололи под ногти иглами, били кнутом. Скучать не давали.
Самые жестокие испытания Ушаков проводил самолично. Так у них было заведено. Он опасался, что помощники его не столь искусны и беспощадны, как надобно. И еще он помнил строгое наставленье Феофана Прокоповича: "Ты, любезный, бесперечь старайся! А я тебя в благороднейшее сословие введу. Графом сделаю. Надобно повычистить всех сверчков изо всех уголов: хватит им посвистывать. А я матери нашей императрице донесу, как ты ее трудами своими утешаешь…"
И Ушаков старался. И утешал. И от его утешения кости трещали. Видать, он катом еще в матерней утробе сформовался. Мучить человека, чинить ему страданье, истязать было для него вроде любимого занятия.
Дело наше велось под непосредственным наблюдением Остермана и Прокоповича. Они обо всем докладывали императрице. Именно она-то, а не кто другой, указала Семену Андреевичу Салтыкову: взять живописца Романа Никитина под караул, осмотреть все бумаги и письма и тут же донести. Когда сам начальник Конторы розыскных дел явился к нам домой, я понял: труба наше дело! Конец!
Ивану (к тому времени его, как и меня, взяли) успели сломать на дыбе плечевые кости… Лютый зверь был Ушаков, чтоб ему в гробу перевернуться, господи помилуй! Так и вижу его дьявольские толстые брови — одна выше другой. Кривой нос, сбитый на правый бок, тонкие, злые, поджатые губы. И глаза его помню — белые, с помрачненным взглядом. У людей таких глаз не бывает.
Второго брата моего — Родиона — расстригли, чтобы можно было пытать. Дважды подымали на дыбу, не выдержал.
И стал называть имена. Все, какие только мог вспомнить. Списки названных Родионом тут же отсылали с курьерами в Москву. Там шли повальные аресты. Иван молчал, как камень. "Я вам сказал все без всякой утайки, — говорил он Ушакову, — сущую правду сказал. Тетрадок подметных не читал, заговора противу императрицы не замышлял. И в том во всем утверждаюсь и под жестоким истязаньем, коему меня подвергли, готов руку приложить…"
Воспоминания всколыхнули в Романе затаенную боль. Никитин весь помертвел и делал усилия, чтобы не разрыдаться. Его состояние передалось графу.
Растрелли выругался уличной итальянской бранью. Он встал и отошел к окну. И не видел, как внезапно встрепенулся Роман, улыбнулся и благодарно посмотрел в широкую округлую спину обер-архитектора.
Растрелли прошелся по комнате, заложив руки за спину, глядя прямо перед собой. Потом остановился у стены и стал разглядывать копию с одной из мадонн мастера Рафаэля из Урбино.
Этот молодой, пылкий, исполненный страстью маэстро написал, по-видимому, свою возлюбленную. У нее было чудное светоносное лицо. Только любовь может так накалить кисть. Лицо мерцало, светилось — благородное, нежное, задумчивое. Волшебный мягкий свет очей мадонны струил такую свежесть, такое сиянье, что весь облик женщины казался неземным. Он пленял, как чистый луч с неба, как приятный, желанный сон. Развернутое в глубину пространство за спиной мадонны, на руке которой сидел розовый ребенок, открывало перспективу неба, зеленых полей, серебристой речной глади с лодкой.
А точеное, полное непостижимой жизни, молодое лицо, склоненная фигура в красном платье, глубокая погруженность в себя создавали некий идеальный тип сосредоточенной жизни, поэтического движения души. Рафаэль создал пленительный образ женщины. Он сумел передать в статичном изображении силу и искренность ее чувств. Сие под силу художнику, который испытал порыв безумной и безудержной влюбленности, решил Растрелли. От одного взгляда на такую картину душа становится вольной, как море, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И вольной душе жаждется чуда…
Мадонна была воплощенным стремлением человека обрести счастье.
— Это малевал Иван во Флоренции, — негромко пояснил Роман.
Растрелли сел в кресло, откинулся, внимательно посмотрел на Романа, закрыл глаза — и в ту же минуту увидел Ивана Никитина…
…На лице Ивана мелькнуло что-то наподобие беспомощной улыбки. От этой вымученной улыбки Растрелли содрогнулся и сразу почувствовал себя неуютно.
— А что, Анна Иоанновна уже умерла? — тихо спросил Иван Никитич.
Растрелли молча подтвердил.
— Вот кстати, вот кстати! Значит, и Ушаков больше не удержится. И пытки будут отменены. Господи, как хорошо… А Феофан — тоже умер? — снова спросил Никитин.
— Да, и уже давно!
— Так, так. — Никитин вдруг громко расхохотался и резко оборвал смех, прикрыв рот рукой. Потом снова насильственно хохотнул. И снова резко себя оборвал. — А знаете, любезный Варфоломей Варфоломеевич, какая это была душа и какое редкое милосердие! Ого-о! поискать… Умер, значит. Отлились, значит, ему свинцом наши муки. Да, да. Я совсем позабыл, ведь Феофан умер, когда мы были еще в каземате. Надо же, память как черная дыра… Знаете, не успел почить Феофан, как нас перестали вызывать на допросы с пристрастием. Он нас сгубил. Сгубил во цвете лет. Такие всегда губят. Губят настоящее в пользу будущего. А прошлое губят, чтоб продлить для себя настоящее. Все бы хорошо, только благо-то их нашими кровавыми слезами полито. Вона как… Знаете, почему Феофан был против патриаршества? Потому что ему ни за что нельзя было добраться до такой высоты. Ростом не вышел. И он учредил коллегиальный орган управления православной церковью — синод. И сразу оказался наверху, крайне потребным, незаменимым. Возглавил синод.
Ах, вражья нелюдь, омерзительная морда, мошенник! Устроил торжище. Немецкий балаган завел… Побоку пустил петровские реформы. А ведь как ратовал за них, христопродавец! Такие злодеи, как он, заливают землю ядом своей жадности, зверской жестокости. И что же о них скажут потомки? Про их черную душу они смолчат. Если вдуматься, потомки слепы и глухи. Им и дела нет, что русский живописец, любимый Петром Великим, награжденный почетным аттестатом старейшей в Европе Флорентийской Академии художеств, гнил заживо на сыром полу в каземате Петропавловской крепости. Изломанный, растерзанный, он стонал, и стон его глухо отзывался в жуткой, мучительной тишине. Крайним напряжением тюремной неволи собирал в себе остаток сил, готовился вынести новый допрос. Об этом записей не будет.
"Чего хотели? Кому передавали сведенья?" — писал Феофан Прокопович. А Ушаков вбивал эти вопросы вместе с зубами в распухшие десны допрашиваемых. Я терпел, Иван, как каменный, тоже терпел. Только Родион оказался слаб. Он не выносил никакой боли. Не совладал с собой.
Поддался. Стал называть всех подряд. Запросил пощады. Ох как Ушаков обрадовался! Те молчат, этот расскажет. Гляжу, тащат графиню Настасью Ермилову с сыном, после бывшего кабинет-секретаря Петра Великого — Макарова, и зятя его, и Алексея Барсова — сына директора Печатного двора, и попа Левкоя, и нашего зятя — Ивана Томилова, и других…
Императрице доложили: вот они — главные зачинщики государственного переворота, полюбуйтесь-ка на них, ваше величество! Она любоваться не стала. Переворота она боялась пуще всего. Мерещилось ей, что ее непременно придушат подушкой. И Феофан пугал: если с этими Никитиными не покончите, они вас не помилуют. И Бирона тоже вжик-вжик. Не пощадят. И Левенвольда вашего вздернут! Заодно с Остерманом. Вы не глядите, ваше величество, что они художники. Знаем мы этих художников: они так намалюют, что своих не узнаете!
Тряслась рыхлая Анна Иоанновна. Металась в своих опочивальнях, требовала каждый день отчета от Тайной канцелярии о деле Никитиных.
Всем давно, должно быть, известно, что ни один день не проходил, в который бы наша императрица не прилагала материнских попечений о славе своей империи и благоденствии всех ее подданных.
А потому дела государственные все время укреплялись в том порядке, в котором они принимали все более "лучшее" свое положение.
Глава седьмая
Бедный, бедный Никитин

рхитектор Растрелли увидел третью казарму казематов Петропавловской крепости. Здесь не было дневного света, никто не спал вволю и не наедался досыта. В бывшем Преображенском приказе, который стал называться Тайной канцелярией, ничего не делалось наспех. Весь персонал Канцелярии трудился с большим усердием. В полумраке с людьми проделывали такие штуки, что кровавая тень вставала над гигантской империей.
И снова увидел Растрелли закованного в ножные и ручные железа первостатейного живописца Ивана Никитина. Он спал на сыром полу, босой, опухший от голода, с затекшим от побоев лицом…
…Бесформенная груда в черной рясе склонилась над лежащим. Массивный золотой крест на цепи раскачивался во тьме.
Вынырнула голова. В полутьме, словно мрамор на кладбище, засветились необъятные щеки. Из-за жирного плеча этой глыбы выступал сам хозяин Канцелярии — главный палач Российской империи Ушаков.
Глава синода Феофан Прокопович доволен. Он улыбается. Строптивый Никитин когда-то отказался писать иконостас. Кому отказал? Самому Феофану. Наглец. Насмелился на дерзость и высокомерие. Теперь, голубчик, ничего уже не напишешь. Ручки-то поломаны основательно. Ушаков знает, что делает. Феофан ничего из виду не упускает.
Забылся в тяжелом сне Иван Никитин, не видел Феофана. Лучшей натуры для того, чтобы оставить на холсте лик Зла, трудно было сыскать.
Стояли они рядом — Феофан и Ушаков. Были достойны друг друга. Выдающийся оратор и выдающийся заплечный мастер. Теоретик литературы и практик застенка. Два сапога пара… Олицетворенное воплощение уродливого родства преступления и закона.
Когда-то сын купца из Киева Елеазар Прокопович постригся в монахи и стал Феофаном, мужем весьма ученым. А Ушаков выбился в графы. Точней бы сказать, не графом он стал, а самым настоящим грифом. Ибо граф-дворянин по своей природе непременно должен быть благороден. А гриф — не должен, он питается падалью.
Родовое название этих хищных птиц — сип. Сип — ординарный, серый, с голой шеей. Мозг его большими знаньями не обременен. А вот Феофан Прокопович — совсем другое дело. Он один из самых образованных сипов своего времени.
Такими виделись они Ивану Никитичу Никитину в его мучительном сне. Он скрипел зубами от боли, потому что каждое неловкое движение пронзало все тело, словно в него вводили раскаленный щуп.
…И вдруг Никитин, будто возвращаясь из небытия, улыбнулся. С облегченьем вздохнул. "Наконец-то! Наконец-то я нашел решение. Задача, которая мучила меня гораздо более страшной карой, чем мог бы придумать искушенный начальник Тайной канцелярии, поддалась. Будь что будет, но остаток своей искалеченной, недорогой теперь жизни я продам им за настоящую цену! За все надо платить. И вы мне заплатите полной мерой.
Ну, вражья утроба, сиятельнейший палач господин Ушаков, неужто не клюнешь на мою приманку? Быть не может. Ведь каждому известно, что идея величия греет низкие души больше, чем возвышенные. Это так. Предположим, что он мое предложение отвергает… Значит, они взяли надо мной верх. Изломали всего, отбили нутро, помутили разум. И разлучили навек мои руки с художеством… Почти что отняли жизнь, отбросили от живописи… Но я еще живой, живой. Бог еще не лишил меня… Живопись — живое письмо о живом, я свое последнее письмо еще не послал…"
— Ежели на то милость ваша будет, то покорнейше прошу об одном, — сказал на очередном допросе Иван Никитин генералу Ушакову, — велите дать мне, ваше высокое державство, холста, кистей, красок и подрамник, а я в самом добром художестве, как во времена Петра Великого, блаженной и вечнодостойной памяти императора, вашу персону намалюю.
Тучный Ушаков ушам своим не поверил. Остолбенел от неожиданного предложенья.
Его обычно желтое лицо с красными старческими прожилками побагровело. Он подумал, что, видимо, Никитин, который до сих пор ни о чем не просил даже из-под пыток, слегка рехнулся. Пытливо, безотрывно и долго разглядывая живописца-колодника, Ушаков отмел свое предположение.
Теперь взгляд у Никитина был иным: ясным, твердым, непреклонным. Это был взгляд вызова и последнего отчаяния.
На несколько минут злобная подозрительность завладела Ушаковым, создавая в нем страшное напряжение. "Его ничем нельзя было сломить, — раздумывал генерал, — и вдруг… Что он задумал, на чем хочет поймать и провести… В прежние времена никто из этих пачкунов не хотел с меня списывать портреты. А сколько разов я к ним обращался?.. Андрей Матвеев сказывался больным. Каравакке не дозволяли отвлекаться от царских заказов. Эти Никитины — и Иван и Роман — держались независимо и надменно. Ну, маленько они оба у меня поостыли. И все же: что он удумал? Что просить станет взамен своей услуги? За кого хлопотать? Пожалуй, это скоро разъяснится… Обождем, не к спеху".
Иван Никитин, глядя на Ушакова, забыв о боли в теле, веселился от души. Он думал: "Не до конца, не до конца взяли вы верх, коли эта крыса, палач и головорез стал в тупик и так долго соображает. Прикидывает. Сопоставляет. Выстраивает по порядку. Давай-давай, гад, тебе не вредно! Увечить ты можешь хорошо, больные места знаешь, обучился на наших шкурах, А ты хоть раз подумай, чтоб тебе издохнуть сей же момент! Господи, не осуди меня за невольничью злобу".
Ушаков раздумывал и так и этак. Его это утомило. Всем нравом своим он расположен был к тому, чтобы не попадать впросак, не уступать врагу ни в чем. А врагов у него было на великой Руси такое множество! Да что там — каждый живой был ему враг, который подло и коварно мог сделать его самого жертвой невинной. А разве каратель и жертва могут ужиться в одной ипостаси? Как мыши в темноте, бегали мысли в голове Ушакова.
Ушаков устал. Игра ему надоела.
"Клюнул! Клюнул! Клюнул!" — Никитин видел, что попал в точку. Руки у него подрагивали.
— Ты, Никитин, задумал что-то, об этом поговорим… Однако ты не крути! Соизволь прямиком…
— Для себя ни малой пользы. Я прямиком, ваше держав-ство!
— Уж я тебя изучил. Знаю. Потому и говорю. Изображенье лица моего списать для потомства еще до кончины моей… Лестно. Но для чего это ты удумал? Пока не ведаю. А как же… — генерал ткнул толстым пальцем в сторону рук Никитина, бессильно свисавших на подвязанных к шее грязных подвязках.
— Не благоволите тревожиться, ваше державство. Я вот как буду малевать… Художник сделал шаг к столу и с трудом стал приподнимать левую руку, положив ладонь под локоть правой и поддерживая ее. Он сжал зубы, чтобы не застонать, и приподнял теперь уже обе руки почти до уровня глаз. — Вот, ваша милость, извольте убедиться сами… — Испарина выступила на лбу Никитина. Но плечевую боль он кое-как осилил.
Ушаков посмотрел в глаза Никитину, кивнул головой.
— Вижу, вижу… — Он хотел что-то еще спросить, но сдержался, недоуменно развел руками, как бы рассуждая сам с собой. Ясно было одно: талант и мужество этого человека выделяют его из простых смертных.
Голодный, обносившийся, бледный Иван Никитин давно уже спутал день с ночью. Были допросы, пытки, снова допросы. Потом время, когда можно перевести дыхание. Набраться стойкости для новых встреч с Ушаковым. И после всего этого Никитин теперь нашел в себе силы улыбнуться.
Он видел, что в мозгу генерала кипит его предложение — нежданное, странное, крутое. И ликовал.
А Ушаков сидел за столом, опустив голову. А когда вскинулся и взглянул на художника, Никитин смотрел на него привычно-открыто, честно, упорно и — выжидательно.
На серо-желтом, опухшем лице Никитина не было и тени улыбки, он только щурился от рези в глазах, привыкших к темноте.
"Пойду в открытую, сразу и скажу свое условье, пусть обрадуется от простой разгадки, — подумал Никитин. — Ухватится! Теперь я его из равновесия вывел, выскажу открыто, как есть!"
— Ваше державство, был я спрашиван вами, нет ли какого подвоха или мерзости в моем предложенье касательно портрета… В жизни слукавить можно. А живопись — она хитрости не терпит… У меня одна нижайшая просьбица… — Говорил Никитин с трудом. Разбитые губы плохо слушались. — Брат мой, расстрига Иродион, изобличает под пыткой совсем невиновных. А Роман голода не выносит. У Иродиона в голове жар. Он сам уже не ведает — что сущая правда, а что ложно… Во свидетельство его показаний многие вами допрашиваемы, и впредь то же будет. Родион называет всех подряд, кого вспомнит… Из церкви Живоначальные троицы, что за Арбатскими воротами, попа взяли, дьякона и сторожа, из церкви Иоанна Предтечи також попа, из Соляной конторы канцеляриста, из Старого Конюшенного двора, что на Пречистенке, — двоих, из Московской губернской канцелярии помощника прокурора… А люди сии ни винами, ни родством, ни свойством отношенья к нашему делу не имеют. От мучений братец мой скоро и в полицеймейстерском управлении кого припомнит знакомого — так и там будут брать… Никак невозможно стерпеть мне, ваша пресветлая милость, что, по слабости брата, людей, не ведающих ни о чем, объявляют государевыми преступниками. Брат в страхе, в беспамятстве пребывает. Потому челобитье мое нижайшее: учините приказ — кормить Романа и освободить Родиона от пыток! Что толку от ложных его показаний? Правды в них — кот наплакал.
Никитин говорил тихо, убежденно. Но такой огонь в нем полыхал, что даже слезы выступили у художника на глазах.
Ушаков слушал и думал, что он мог бы и сам догадаться — о чем станет просить его Иван Никитин.
Что ж, этот Никитин — храбрец. Надо отдать ему должное. Как держится! Такие птицы в мою клетку еще не залетали! И это после того, что ему довелось вынести… Так.
Так-так. Ладно. Он пишет мой портрет в добром художестве, я не трогаю Родиона. Сделка выгодная. Художник будет стараться изо всех сил. Сделает на славу. Кого он прежде писал? Только самых знатных. Первых, можно сказать, людей державы — императора Петра, цесаревну Елизавету Петровну, царевну Прасковью Федоровну, цесаревну Анну Петровну, канцлера Головкина, барона Строганова. А теперь еще и Ушаков к ним прибавится. Добре, добре. Пусть пишет…
— Ладно, Никитин! Я положительно подумаю над твоим предложением. Подумаю и скажу о своем решенье. Капрал, — закричал Ушаков, — увести!
Бодрый, румяный капрал передал колодника ефрейтору.
В душе Никитина все оборвалось: "Станет Ушаков раздумывать — так и откажет! Тогда братья пропали".
Бедный, бедный Никитин! Напрасно ты встревожился. Чистая душа твоя решилась сотворить добро ради любви к ближнему. Но ты плохо знаешь Ушакова. Пыточное сладострастие повредило его рассудок, и поступки его нельзя предугадать. Он-то сразу решил, что сделка, тобой предложенная, ему выгодна, ведь он из нее выходит увековеченным. И затрат никаких. Но из-за своей подлости сказать тебе об этом прямо не может. Он видит твою беззащитную спину, как же лишний раз не огреть ее? Как не воспользоваться?..
…Когда-то я совет давал Андрею Матвееву, как надобно узников писать, возил его сюда, в Петропавловскую крепость. Показывал ему темницы. Вот теперь бы Андрей мог и меня написать. Теперь на собственной шкуре я убедился, что есть темница и что в ней узник. С ее сыростью, темнотой, гнилью на стенах, водой на потолке, на полу. Господи, как хочется узнику на волю, на свет божий, на чистый воздух! Подальше, подальше, подальше. От Ушакова, от капралов и сержантов, от палачей, дыбы, кнутов, каленых утюгов. От подлых вопросов, составленных Феофаном.
Все я здесь позабыл. Цвет и запах, названья предметов. Все у меня в голове перепуталось. Погрузилось в сумерки, ушло в темноту. Один свет горит — не выдать никого. Я ничего не жду, ничего не хочу. Я не могу дышать, мне кажется, что я бегу куда-то. Если у меня спросят, чего я хочу, скажу: ничего не хочу. Жить хочешь? Не хочу! Умереть хочешь? Не хочу! А чего же ты хочешь? Ничего не хочу!
Ко всему притерпелся. К тоске, ужасу, мути, крысам, вечной боли… Ко всему. Боже, думаю, как не понимает человек своего счастья, когда помирает у себя дома в собственной постели, среди близких и родных! А другой мечтает помереть на бегу — без лекарей, без свидетелей. А мне, видать, здесь, в Петропавловке, и суждено промучиться до конца… Придут стражники, пожалует генерал Ушаков, составят доношение императрице, что живописной науки мастер Иван Никитин после розысков под арестом умре, а потому вышеозначенного Никитина из ведомостей Петропавловской крепости "О вступивших колодниках" вычеркнуть…
Мысль эта скользнула мимолетно, не прибавив Ивану Никитичу ни отчаянья, ни тоски. Ничем она не отяготила его стойкую и упорную душу. Он заглянул уже в небытие, узнал и вкус, и запах. Но теперь ему хотелось жить. Это был его долг. Если Ушаков не откажется, нужно свершить задуманное. Тогда ему нужно будет все видеть, все слышать, все понимать. Не осталось в нем и следа от пропавшей охоты жить.
И тут он услышал топот бегущего человека.
— Ефрейтору с колодником приказано немедля возвернуться!
Этого солдата Яковлева художник узнал по голосу сразу, как мог узнать и Никонова, и Архипова, и Басырова, и Кормашова, и всех других, служивших здесь, из Кроншатского полку, кто его берег и хранил. Это были люди. Остальные — только охранники. Хранили его в совершенной целости и отвечали за любого узника своей головой.
— Пошли назад.
— Никитин! Я решил принять твое условье. — Ушаков подозрительно и настороженно смотрел на бескровное, осунувшееся лицо живописца, пытаясь уловить в нем перемену, движение или особый блеск в глазах, но ничего не было. — И так как Иродион и Роман, — продолжал генерал, — братья твои, в допросах правду сказали, ничего не утаили, чем следственной комиссии много помогли, я им обоим дам послабленье. Да, пожалуй что дам… От пыток устраню… Н-да! Уповаю, что мы сговорились…
"Ах ты ж, моровая язва, сукин сын, тварь площадная, ведь мог бы и сразу так сказать", — подумал Никитин, а вымолвил тихо:
— Приношу нижайшее мое благодарение, ваша милость!
У живописца в душе шевельнулось даже чувство благодарности — внезапное, примиряющее. А в следующую минуту у него сильно закружилась голова, как от изрядного опьянения, он качнулся. Ефрейтор поддержал его за плечо. Поединок с генералом забрал у художника последние остатки сил. Захотелось спать…
Вспомнил Никитин, как говорил Андрею Матвееву, что темнице нужен узник, она его ждет, жаждет, зовет! "Да, так. Но хватит, конец! Ныне темница получит вместо узника персонного мастера. Послужили мы розыску о государственной измене, баста! Возьмемся и за художество. Пришла пора. Оно, конечно, и взяться особо нечем, руки мне его превосходительство генерал и кавалер, и лейб-гвардии Семеновского полку подполковник, и ее императорского величества генерал-адъютант Андрей Иванович Ушаков в пыточном своем рвенье изрядно попортил. С таким, как у меня, обстоятельным несросшимся переломом плечевых костей не шибко наработаешь, но все одно я тебе, милостивый господин Ушаков, не поддамся, не жди. В людском всем роду ты последняя скотина. Погоди ж у меня, погоди! Я возьму тебя кистью своей так, как ты меня не смог взять ни дыбой, ни плетьми, ни утюгами!"
Видит бог: идя на сделку с Ушаковым, Никитин погрешил противу своей совести, но он хотел помочь братьям, избавить от мук тех, кто мог бы стать невинной жертвой. Из любви к ближнему на многое пойдешь. Средство у Никитина было только одно — его кисть. Художество — тоже возмездие…
— Иван Никитич, какие просьбы у вас до меня имеются, о том скажите…
"Боже правый, ишь как заговорил, мучитель ты мой, пытчик мягкосердный, — Никитин едва подавил усмешку. — Висишь ты у меня на крючке, победу торжествовать рано, однако ж что-то мне уже указывает на нее".
— Благодарствую, ваше державство, мне нужды ни в чем не имеется! А брату моему Роману нижайше прошу дать вволю пищи, також брату Иродиону лекарь требуется… А мне какие материалы для портрету надобны, так о том я Матвееву Андрею в живописную команду отпишу, он все немедля и отправит!
Ушаков тут же обо всем распорядился. И увидел вдруг в глазах Никитина новое выражение: вместо обычной затравленной ненависти и спокойного бесстрашия в них появилась деловая озабоченность.
Он, начальник Тайной канцелярии, всякое видывал и теперь был удовлетворен. Он даже ощутил колотье в груди и поднявшуюся волну никогда еще не испытанного к узнику состраданья. "Для себя-то ничего не просит, не мужик, а кремень!"
— Ваше превосходительство, мне для работы желательно привезти из дому моего, что у Синего мосту, камзол, кафтан и… и… кортик, чтобы мне по всей форме мастера быть при писании… Каторжная одежа руку сдерживает…
Генерал понимающе кивнул.
— Капрал! — рявкнул Ушаков, тот влетел, стуча сапогами. — Возьми мою карету, гони к дому гоф-малера Никитина у Синего мосту, возьми там кафтан, камзол и кортик, доставишь сюда ко мне. И чтоб галопом! Слыхал?! — снова гаркнул Ушаков.
Капрал исчез.
— А вас буду просить, ваше державство, надеть камзол желательно темно-коричневый, ленту с орденом и белый ворот нужон.
— Не сумневайтесь, Иван Никитич, все будет сполнено. Вот здесь за столом можете отписать к Матвееву касательно до потребных вам материалов. Я б сам ему письмо отправил, да в художествах ваших не шибко грамотен, напутаю чего…
"Зато в ремесле своем наторел". Никитин подошел к столу, уселся медленно и стал поудобней пристраивать правую руку. Каждое неловкое движение отзывалось. Ныли смятые и поврежденные кости, саднила лопнувшая кожа, изболелся каждый сантиметр тела. Никитин подумал, что теперь для него живопись не тем будет, что прежде, сущим блаженством и восхищеньем, теперь она обернется маетой и чистым страданьем. Воздуху вдохнуть — и то больно. Вот до чего довели, гады!
Предстоящий портрет Ушакова тоже составлял немалую для художника загадку. Сделать генерала таким, каков он есть, как его видел живописец, было нельзя. Тогда всем Никитиным крышка. Написать в розовом свете, приукрасить, сделать нежно и воздушно, наподобие Каравакка, — не получится. Никогда не умел Никитин делать из живой натуры куклу. Своим портретом, может, он раз и навсегда рассчитается с Ушаковым — и за свою горькую судьбу, которая внезапно постигла его, не виновного ровно ни в чем, и за то, что Ушаков позорил его, и за мучительство. Кто же он? Столп власти, палач кровавый? В открытую об этом нельзя. К тому же нужно еще исхитриться, приблизиться к миловидной кукольности придворных портретов.
Довелось Никитину как-то видеть рисунок старшего Растрелли, один из возможных вариантов проекта статуи Анны Иоанновны. Рисунок — не скульптура, в нем все заострено, обнажено, замысел художника выражен более нетерпеливо и мимовольно. Скульптору удалось в этом рисунке сказать и о варварской грубости, и о чудовищной вульгарности, о самодурстве, утопающем в роскоши. Удастся ли старшему Растрелли все это осуществить в скульптуре, Никитин не знал. Но его поразила тогда смелость мастера, который отважился показать чугунную застылость императрицы. Живописец сознавал, что ни один художник на его месте не взялся бы за то, что он задумал. И дело было не только в жестоких истязаньях, через них он уже прошел. Ему предстояло изобразить помрачненную злодеяньями совесть. Нужно было направить все усилия на то, чтобы одушевить портрет и вложить в него тайный высший смысл, до которого не так-то легко добраться. Уже потом, когда душа художника очнулась и свое взяла, Никитин понял: свою месть злодею, свое отмщенье нужно осуществить так скрытно, чтобы они жили в портрете до поры до времени своей особой, малозаметной жизнью.
Для замысла своего Никитин решил воспользоваться живописью очень плотной по цвету с жесткими отношеньями светотени. В этом контрасте — освещенной половины лица и теневой — и была зарыта собака. Разместить фигуру по центру холста. Разделить ее пополам. Разрезать лицо как ножом, чтобы правая сторона его была благостной, мягкой, а левая, затемненная, с резкими складками на щеках, выражала бы гнилую сущность этого истукана и обер-палача. Портрет будет жить, если ему повезет, как воплощение пылкого художества Ивана Никитина.
Он донесет до людей правду о трагической жизни мастера, скажет о его гении, о его подвиге. Скажет он все и о мерзком облике Ушакова. Поймут люди, не смогут не понять, каков он был, не ошибутся. Хотя так уж часто бывает, что живопись терпит убыток от недостатка истолкования. Истинное художество подвергается стольким хулам и стольким ошибкам в оценках. Но проходят годы, и все, все расставляется по своим местам…
Пришло и время Ивана Никитина. И теперь, через двести пятьдесят лет, его работы составляют гордость российского искусства. Об Иване Никитине вышло две книги. Правда, авторство его в портрете генерала Ушакова пока что отрицается. А потому и числится портрет этот с музейной табличкой Третьяковской галереи как работа неизвестного художника. Сомнение специалистов опирается, на мой взгляд, на доводы весьма слабые. Характер живописи, говорится у одного автора, не соответствует обычному и устоявшемуся представлению об Иване Никитине. А можно ли в тюремном каземате, работая сломанными руками, жертвуя последней надеждой на спасение, написать портрет своего палача в той же манере, что на воле? Далее идет ссылка на ярлык "портрет графа Ушакова", а титул графа-де он получил лишь в 1744 году, то есть намного позже, когда Ивана Никитина уже не было в живых. Но ведь ярлык мог
появиться и через сто лет, должен ли исследователь всерьез считаться со случайной наклейкой, когда перед ним портрет столь необычный и по нему сразу видно, что написан он человеком, немало потерпевшим от Ушакова. Вызывает у искусствоведов сомнение парик генерала, близкий по своему фасону к моде 1750-х годов. Парик мог при реставрациях переписываться десятки раз. И наконец, ссылаются на портрет Анны Иоанновны на ленте, осыпанный бриллиантами. Та лента была получена Ушаковым от правительницы Анны Леопольдовны в ноябре 1740 года. В это время из ссылки вернулся брат Ивана Никитина — Роман. Любопытно, отказал бы он Ушакову, если б тот его попросил, дописать полученную награду на старый портрет работы Ивана Никитина?
И вот перед нами портрет Ушакова. Попеременно закрывая то одну сторону лица, то другую, начинаешь вдруг постигать самодовлеющую жизнь этого произведения искусства. Одна сторона лица написана кистью мягкой, медленно скользящей, даже замирающей на сильных световых точках. Доверительная трактовка вызывает симпатию к модели, к одной ее части, по крайней мере. Тонкая, изысканная гамма всего колорита привлекательна и успокоительно проста. Все выдержано в самых плавных ритмах. Но стоит закрыть эту половину лица и взглянуть на другую, как вся картина резко меняется. Мягкие линии рта и шеи модели вдруг становятся неприятными, резкими, отталкивающими. Они обрывистые, омертвелые и неподвижные. Змеино сжатые губы, искривленные линии носа, непомерно большое глазное яблоко и расширенный зрак представляют лицо законченного дегенерата, приплясывающего на своей жертве убийцу, с червячным кровожадным порывом неутоленной патологической злобы. Иван Никитин знал, что делает. Пусть еще не отысканы неоспоримые подтверждения авторства Ивана Никитина. Но автор портрета генерала Ушакова горячо надеялся на то, что его не забудут, оживят силой мысли и глубиной созерцания. На худой конец любви-то он достоин за свое мужество, за чистоту души.
…Никитин скользнул взглядом по лицу Ушакова, который стоял в профиль у окна, против света. Иван Никитич прищурил глаза, запоминая позу и лицо в повороте, потом придвинул к себе бумагу и стал писать:
"Милостивый государь мой Андрей Матвеевич, уведомляю тебя, что я, слава богу, здоров, а тебе желаю здравствовать на многие лета. Покорно тебя прошу прислать мне, где я ныне обретаюсь, кисти щетинные и беличьи, краски подбери по моей палитре, поболее красно-коричневых и всех зеленых, особливо кости жженой, совсем плохой от плечей до локтя, пусть нимало тебя не удивляет, чего ради я прошу, — потребно мне для писания одной важной персоны, а и у ней к тому ж подрамник надобен и холст размеру восемьдесят на шестьдесят три. А ту обильную краску, что нутро лесирует, я и названье забыл, ты и сам ведаешь. Она легкая, как дыхалки, и никуды более не годится, ровно мехи скрипят. Еще и лак нужон мне, и масло льняное. Бога ради не медля перешли все ко мне. При сем письме остаюсь слуга твой покорный живописец недостойный Иван Никитин моя тридцатого дня 1733 году".
Ушаков дважды перечел письмо, чертыхнулся про себя на недоступный его разуму язык этих проклятых живописных мастеров и кликнул солдата, чтоб снес немедля цидулку в Канцелярию от строений.
— На словах скажи, — велел он, — чтоб со тщанием к завтрему все собрано было и прислано, прибавь, что я самолично о том просил!
Вечером того же дня Матвеев сидел у себя дома с письмом Никитина в руках и читал его вместе со своим другом — архитектором Михайлом Земцовым, который и Ивану Никитину был человеком близким и родным. Оба заметно волновались весточке от Ивана Никитина. Словно с того света дошел до них живой голос человека, давно умершего.
Андрей ерзал, вскакивал, бегал по комнате, снова садился к письму. Лицо его пошло красными пятнами. Лоб вспотел. Он что-то растерянно бормотал, хмыкал, чертыхался, сжимал голову руками, а после вдруг громко закричал, напугав Орину и Михаила Григорьевича:
— Вот! Вот! Вот! Понял, дошел, раскусил. Дощупал-ся! Не отупел еще Андрейка! Ах ты ж, мать-перемать…
Дрожа от нервного возбуждения, Матвеев вскочил и понесся в соседнюю комнату, где сидела Орина и вязала.
— Орина, давай скорее тот состав, — закричал Андрей, теребя ее за плечо, — помнишь, что я пил, там мед, медвежий жир, скорлупа яичная, виноградовый шпирт! Вымой банку из-под краски и доверху тотчас же наполни!
— А для чего тебе, Андрюша, столько-то надо?
— Наполняй, как говорю. Это Ивану Никитину, а не мне. В казематы — вот куда! Он болен сильно. Чахоткой.
— Господи! — Орина помертвела и кинулась выполнять. О судьбе Никитиных в их доме говорилось часто.
— Смотри, Михайло Григорьевич, что я вычитал из письма Ивана, — горячечно сказал Матвеев, подвигая свечу поближе. — Кости жженой совсем плохой от плечей до локтя… Смекаешь, о чем речь? Нет? И я не враз дошел, а означает сие, что Ивану руки переломали на дыбе. Ах, ироды, собаки кровожадные. Такому живописцу и доброму мастеру!
— Ты потише, Андрюха, читай далее… Может, это твоя выдумка?
— Выдумка?! — разъярился Андрей. — Ну, пойдем далее: для писания одной персоны, а и у ней… Персоны а и у… Понятно? Андрея Ивановича Ушакова — вот кого писать должон Никитин. Так… Вот дела-то. Начальник Тайной ему руки ломает… Заставить Ивана никто не сможет… Я его знаю, и ты тоже… Видать, хочет Родиона и Романа заслонить или еще что-то, не иначе. Есть тут загвоздка.
— Давай дальше! — торопил Земцов. До него уже стал доходить потаенный смысл никитинского письма, рассчитанного на друзей.
— Дальше и совсем плохо: краску, что нутро лесирует, я и названье забыл, она легкая, как дыхалки, и никуды более не годится… — С голоду Иван пухнет, и легкие у него больны сильно, ровно мехи скрипят!
Земцов болезненно поморщился.
— Бедный Никитич. Что будем делать, Андрей?
— Пошлем, что просит. Положим в одну банку снадобье от чахотки. Спасать надо Никитича. В одну банку заместо краски я ему налью лекарства.
— А как же он узнает-то? — пожал плечами Земцов. — Ткнет кистью — не краска, отставит. Не выйдет из этого ничего, а писать ему нельзя.
— Выйдет! Выйдет! Я ему на банке ложку маленьку нарисую, он и поймет, что в ней съедобное. Враз увидит. У него ж разум какой, до бога доходит!
— Молодец, Андрей, хорошо придумал.
Земцов думал о том, что не было еще в русском художестве такого великого мученика, как Иван Никитин. Боже, боже! Какой силой духа нужно обладать, чтоб все стерпеть.
Вот истинный творец! Он и в каземате остался художником, да еще и красок требует, чтоб поломанными руками малевать… Ну и ну… И как это Андрюху толкнуло? Ухватил, ничего мимо него не прошло. Ума в этом Матвееве! Не-ет, нас голой рукой не возьмешь. Никакое ухвостье, подлипалы, временщики, ничего с нашим народом не сделают. Чинить вред могут сколько им влезет. Калечить тела и души, морить, губить, мучить… Но сломить, подмять, победить — кишка тонка. И ведь Никитин, когда писал, тоже надеялся, что Андрей Матвеев поймет, прочтет, откликнется.
Минет несколько лет, и сам Михайло Земцов будет читать адресованное уже ему письмо Ивана Никитина. Тот все еще будет узником. А станет Иван Никитич просить друга своего вот о чем: "Милостивый государь мой, Михаил Григорьевич, здравствуй на лета многия. Прошу, государь мой, вас не оставлять меня. Который двор имеется на Адмиралтейском острове у Синего мосту с мастерской моей, дозволено мне продать. И я вас прошу покорно, чтоб вы его продали по вольной цене и деньги ко мне прислали, узнавши, где я буду обитаться. А при сем я отдаю в вашу волю, коли купиться не будет, то вы изволите им владеть без всякого опасения. По сему моему письму, которое засвидетельствовано моею рукою…"
Для порядку Земцов испросил у Тайной канцелярии разрешенья, по которому он мог бы исполнить просьбу друга. Там думали, рядили, долго не отвечали, а после махнули рукой: делай, мол, что хочешь. А Земцов никитинский дом продавать не стал. Он понял, что Иван Никитин все еще держится. И надеется вырваться из ушаковских лап.
Никитин лежал в своей тесной, но уже далеко не такой сырой, как прежде, камере, хмыкал про себя, вздыхал, смотрел в темноту. Он думал о том, что провести такую хитрую бестию, как Ушаков, очень и очень непросто. Эту волчью кудлу и оборотня и на кривой не объедешь. Ну и затеял я дельце! Ради братьёв на такое решился, да и прочих людей пожалел. "Заступник мой есмь и прибежище мое Бог мой и уповаю на него, яко той избавит от сети ловчи…" Руки с горла Родиона генерал уже снял, тот может отдышаться. Это моя первая маленькая победа.
Когда буду писать, нельзя поддаться чувству, забыть обо всем, смотреть на модель цельно, пролепить всю форму как можно общее, лицо наметить и лепить объемно. Детали потом, в самом конце. Работать камзол, тщательно прописывать парик, белый ворот. Все контрасты и особенно разноглазье в последнюю очередь. Пусть генерал любуется деталями. Это будет ему добрая приманка.
Никогда еще в жизни Ивана Никитина не было такой тесной связи между живописным художеством и их собственной судьбой — его и двух его братьев. Он поставил свою живопись словно щит, отгораживающий Ушакова от братьев. Он понимал, что любой сговор с Ушаковым постыден, но совесть велела ему пойти на это. И стоило такое решение Ивану Никитичу тяжких, нечеловеческих усилий. Подавить боль, забыть обо всем, забыть, забыть… Почувствовать себя легким и беззаботным, веселым. Ему предстояло сращиваться с этим портретом, стать неотделимым от него. Он должен выйти победителем из этого единоборства. Запечатлеть человеческую низость, жестокость, лицемерие. Сделать Ушакова олицетворением тьмы, чтобы в его шарящих глазах палача не было ничего живого, а указывало бы только на смерть. Показать глубину его ничтожности — Никитин справился. Никитин любил жизнь, меньше всего думал о мести. Он радовался: выразительная модель. Упивался переливами красок. Он чувствовал себя уверенно, работал с подъемом, и его увлеченность притупила и будто запорошила табаком собачий нюх обер-палача.
Ушаков портретом остался доволен. В порыве благодарности он прекратил допросы и доложил, что дело закончено, пора выносить приговор. Братьев Никитиных сослали в Тобольск. Приговор по такому делу был слишком мягким. Добился генерал и того, чтобы Никитиным разрешили продать дом и деньги, вырученные от продажи, пустить на пропитание. Сама императрица подписала указ об этом.
Никто до времени не обращал внимания на странный контраст в портрете Никитина между правой, освещенной, половиной лица Ушакова и левой его стороной, что в тени.
И поплыл себе портрет кисти Ивана Никитина вверх по течению по реке времен.
Когда после долгого перерыва, в кабинете Ушакова, Никитин взял в руки палитру, вооружился кистями, душевные силы его укрепились. Он ощутил вдруг азарт. Это был азарт лавины, азарт страсти. Азарт творящей воли мастера.
Никитин высоко ценил свой дар, презирал жалкую жизнь, а потому и потребовал от Ушакова костюм мастера. Когда облачился в него, что-то тяжелое свалилось с плеч, они распрямились. Повеяло старым, родным. Потом притащили краски от Матвеева. Никитин брал кисти, нежно проводил ими по щеке, гладил ладонью шершавый холст, трогал пальцем маслянистую поверхность в банке. Он был счастлив, он смеялся. Для мастера его главное дело было жизнью, восходом солнца, обладанием любимой.
А замечательная догадливость Матвеева привела Ивана Никитича в восторг. Он мало надеялся, что горячий, необузданный Андрей станет разгадывать его намеки. Но как увидел ложку, нарисованную на банке, так и ахнул: "Дошел! Разгадал! Умница".
Какой-то досужий человек, кто это был в точности — неизвестно, ни записей, ни других каких свидетельств не сохранилось, может быть, ученый муж Дмитрий Голицын или коротышка — князь Черкасский, а только удосужило кому-то указать Ушакову на злую насмешку, совершенную над начальником Тайной канцелярии опальным живописцем. И неведомый нам посетитель дома Ушакова предъявил свою догадку прямо в лицо хозяину. А тот так оцепенел, что и не сразу поверил.
— Да этот твой Никитин, что у тебя в руках был, надул тебя, Андрей Иваныч. Гляди-ка, вон тот глаз у тебя какой большой и вспученный. Он же истым зверем глядит, а вот этот добрый, жалостливый и совсем маленький в сравнении с тем. Тебе, видно, нравится, что куда б ты ни стал в зале, а портрет прямо на тебя и смотрит. Скажи, нравится?
— Дд-да, — еле выдавил Ушаков.
— Так это хитрость не столь великая. Зрак посередке сделать — и вся тут недолга… Ты вглядись, вглядись получше, персону твою художник выставил на всеобщее по-смеянье и позор. Он тебя представил в виде злой собаки…
— Хватит тебе брехать! Раздери тебя черт! — заорал Ушаков. — Ты на себя погляди! У тебя же один глаз тоже вспученный, а?! Гляди на себя вон в то большое зеркало! Видишь! А у тебя так же…
Но что-то все же заронило в генерале смутную тревогу.
Он еще раз придирчиво осмотрел свое изображение, дернулся как ужаленный.
— Гри-и-шка! — прерывистым голосом крикнул Андрея Иваныч сержанту Новгородской сотни, не замечая, что оный Гришка стоит прямо за его спиной.
Карие глаза сержанта хитро поблескивали, — он внимательно слушал весь разговор и теперь тоже смотрел на портрет, находя в нем то собачье, на что указал посетитель.
— Да тут я, ваше превосходительство!
— Ах, ты тут, так снять же мне сей же час портрет со стены! Снять и стащить его в чулан! Да подалее засунь, чтоб не выглядывал! Пшел!
Ушаков был вне себя, кричал, ругался, и Гришке показалось, когда полез он за портретом, что совсем не генерал так должен кричать, а тощая ведьма с Лысой горы.
Гришка ослаблял привязь портрета, а сам вполглаза следил за девкой, что пришла убирать посуду со стола. Девка была свежа, весела, большерота. Она походила на огурчик с грядки — упруга, круглехонька.
Она стояла под ним, складывала в стопку тарелки, а Гришке нравилось разглядывать: две круглые щеки у девки переходили в два круглых ядра, рвавшихся вперед, а сзади было тоже что-то заманчивое, прелестное, живое. Навроде двух бочонков, что не стояли на месте, а прыгали и стукались друг об друга.
Гришка своими наблюденьями был заворожен, а после срезал картину и понес ее в чулан, как приказали. Нёс он её осторожно, чтоб не повредить, а сам думал, что так уж хорошо, когда есть на свете белом такие вот круглые девки: на них рука не споткнется, и что он еще в цвете и добром здравии, и в голове у него и в других местах вроде бы все в порядке. Ну, может, где-то трех гривен до рубля не хватает, так это ж разве беда? Каждый живой причастен плоти и духу, порой и недостатки случаются… Только мужик должен быть мужиком, а иначе какой же он мужик? А баба пущай будет бабою, чтобы из нее огонь шел, а не дым, а иначе какая же она баба? Чтобы щи могла при случае из топора сварить и чтобы холодно с ней под одеялом не было. "Одно токмо ясно мне, — додумывал Гришка уже возле чулана, — что никакой мужик, никакая баба не походят на бесовского генерала, потому что не можно человеку извиваться, ровно глисте в обмороке, не за тем ведь его бог отправил на землю жить своим посланником. И приносить другим, ближним своим посильную помощь и тихую радость. Не в шутку господь сказал: да любите друг друга. И они любят. Любят, как только могут. До самого гробового покоя".

Эпилог


других странах, помимо России, работать Варфоломею Растрелли не пришлось. По своему опыту он мог сказать — служба архитектора здесь изрядно тяжела.
Никогда и нигде не виданная и не слыханная волокита с прохождением бумаг, вечное откладывание дела на завтра, нехватка людей, инструмента, материалов — все это изо дня в день выматывало душу, подрывало силы. Когда-то за границей агенты Петра, а затем и его наследников усердно искали мастеров. Искали в Германии, Италии, Голландии, Франции. Ехали и ехали в Россию архитекторы, художники, инженеры, ученые.
Иноземцы приезжали, энергично брались за дело, потом уставали и заметно охладевали, наталкиваясь на неразбериху, воровство, разбой подрядчиков, на пасмурную российскую администрацию.
Они жаловались, писали челобитные, встречая неблагоприятные обстоятельства, чудовищные конфузии и пучины, из коих выбраться было невозможно. Многие из приезжих умирали, не выдерживая здешнего безрассудства, глупости, непротеки, видя, что все их усилия уходят и теряются в песках и болотах. Суровый быт приводил в отчаянье, а потом и добивал многих иноземных архитекторов. Умученный беспрерывными царскими понуканьями, уснул и больше не проснулся слабый и болезненный Андреас Шлютер. Навеки приютила его петербургская земля, бывшего архитектора прусского короля, знаменитого строителя Берлинского дворца, проектировщика Монплезира в Петергофе и Летнего дворца Петра. Всего два с половиною года выдержал в Петербурге Леблон.
12 ноября 1719 года пьяный подрядчик, потеряв равновесие, невзначай столкнул с лесов Георга Маттарнови, проектировщика Зимнего дворца и церкви Исаакия Долматского, автора Кунсткамеры, разбившегося насмерть о камни своего же детища. Меньше пяти лет продержался строитель Конюшенного двора Николай Гербель.
Северная столица не щадила не только иноземных мастеров, не могших ни понять, ни принять местных условий. Крайне сурово обходилась она и со своими мастерами — лучшими из лучших.
Самой большой надежде русской архитектуры, совсем молодому Петру Еропкину, обученному в Италии, отрубили голову на плахе, создав выдуманное политическое дело. А был он великий знаток градостроительства, искусный инженер, который впервые перевел на русский язык многие труды знатных иноземных архитекторов.
А оба брата Никитины? Учились во Флоренции у Том-мазо Реди, и по возвращении в Россию Иван Никитин по таланту и умению сразу же признан лучшим из всех русских живописцев. И что же? Братья подверглись пыткам.
Слушайте, глухие, смотрите, слепые, русских художников истязают. Ни совести, ни страха, ни стыда у грозных палачей…
Всего двадцать восемь лет довелось прожить Тимофею Усову, руководившему постройками в Петергофе, а до того получившему художественное образование в Италии. Не-, многим больше было Александру Захарову, обучавшемуся в Голландии, затем в Италии. Он писал Петра Великого, был им обласкан и сделан придворным художником, смотрителем всех картин. Императору знатоки говорили, что такого искусного и сильного живописца еще не было в России, но вскоре его отвергли, отставили, забыли. С досады он запил горькую и умер в молодых годах.
Архитектор Варфоломей Растрелли всегда высоко ставил Матвеева. Ни на кого не похожий Матвеев достиг такой виртуозности, какая определила ему особое место в художестве. Матвеев на деле показал, что он — большой мастер живописи. Он восходил быстро и, занимая пост начальника живописной команды в Канцелярии от строений, оставался таким же добрым, простым. После долгого пребывания в Голландии Андрею Матвееву не так-то легко было приспособиться к жестким и суровым условиям жизни мастерового в России. Многие художники так и не смогли привыкнуть к средневековому цеховому гнету и пускались в бега. Тех, кого удалось поймать, били кнутом, вырезали ноздри и ссылали на вечную работу на галеры.
А как платили художнику за каторжный труд? Скудно платили, скупо. Казна истощалась на содержание двора. Пришлось облагать долговыми поборами даже помещиков, пощипать архиереев, монастырских владык. Что же тут говорить о черном народе?..
Растрелли видел, что Матвеев работает, задыхаясь от непомерного количества спешных заказов двора. Он писал картины в Петропавловский собор — "Вознесение господне", "Моление о чаше", "Фомино уверение", разрабатывал композиции многих других полотен.
К приезду императрицы Анны Иоанновны в Петербурге были построены трое триумфальных ворот — Аничковские, Адмиралтейские и Троицкие. Высокий, худой, подвижный Растрелли все время проводил меж строителей. Небесно-голубые, с позолотой и резьбой — ворота эти обильно были изукрашены живописью. Команда мастеров под началом Андрея Матвеева сбивалась с ног, чтоб поспеть к сроку. Матвеев спешно писал большой портрет императрицы в рост. Она была в короне и порфире, со скипетром и державой. И все это писано самым добрым и искусным художеством.
В 1732 и 1733 годах, когда Растрелли строил дворец в Летнем саду на Неве, Матвеев снова не успевал ни есть, ни пить, ни спать. Нужно было срочно подновить всю живопись, починить старые плафоны, написать множество новых. Спешная царская работа, словно моровая язва, преследовала мастера. В конце концов — настигла, ударила наотмашь. "Осталась после мужа своего с малолетними детьми на руках и не имею даже средств, чтоб погребсти тело мужа своего для расплаты долгов и на пропитание" — это из прошения жены Матвеева — Ирины Степановны. Не было на истинных художников в казне денег, не было! На все было, а на это не было. И на прошение вдовы Матвеева — самого видного российского мастера живописи — ответили, что маленько помогут. И выдали тридцать рублей. Живи как хочешь…
Канцелярия от строений выполняла предписание ее императорского величества: найти того среди мастеров, кто по искусству живописной науки достоин быть в ведомстве на место означенного умершего мастера Матвеева. Спрашивали совета у Растрелли. К присяге решили наконец привести Михаила Захарова, обучавшегося художеству за границей, в Италии. Не судьба была этому мастеру устоять на матвеевском месте. Меньше месяца пробыл Захаров на посту начальника живописной команды, и уже его жена, ставшая вдовой, так же, как и Ирина Степановна Матвеева, просит выдать ей жалованье мужа, так как он "волею божей умре".
Угасли яркие цветущие жизни, нужные и полезные державе, которых она, однако, или не больно замечала, или уничтожала равнодушной своей жестокостью.
Бог его знает, как сам Варфоломей Растрелли выдерживал, как отец его сносил все напасти! И не только сносил, но и создал столько превосходных кунштов!
Они были в узде. Самый выносливый, ретивый, могучий конь, если его не выпрягать, рухнет. Художники, покуда могли, держались.
Растрелли, печальный, величественный, уже слегка сгорбленный возрастом, стоял у окна и смотрел на липы, с которых слетели последние сухие листья.
Было тихо. Затаилась нескончаемая Русь, умолкли все ее большие и малые колокола, притих работный люд, не шумели и разбойники по лесным чащобам, и кандальные не бренькали ржавыми цепями.
Весь мир божий, получив необходимую передышку между летом и зимой, наслаждался короткими минутами земного счастья. И был он очень простой и трогательный в этой тишине под белым небом.
Судьба не баловала Растрелли. Хлебнул он и горьких мук, и убийственного равнодушия. В земле были его дети, а на земле стояли дворцы. В новом граде Санкт-Питер-Бурхе катила свои холодные воды спокойная Нева, а в Москве серые мужики сплавляли по Яузе сырые бревна. Ох, сколько довелось всего перенести, как у обер-архитектора за длинную его жизнь изнывала душа, как меркло в глазах, как отшибало память! Все было в его жизни, а искусство оставалось радостным, волшебным. Как ему удавалось пробить лбом стену невежества, холуйства, бессмыслицы, он и сам не знал. Но сохранить образ классической гармонии, пронизать огромный и широко растянутый фасад цельным ритмом — это он знал. И знал так, что хоть в смоле его кипяти — не вышибешь!
Стояли его дворцы — безмолвные, нарядные, гордые.
Это была роскошь. Это была победа. Это был праздник. Дворцы были пронизаны духом торжествующей свободы. Могучий поток лестниц, колонн, сочная и причудливая игра света и тени — в этом Растрелли не имел себе равных во всей Западной Европе.
"Нужно уметь бесстрашно заглянуть в бездну, — размышлял Варфоломей Варфоломеевич, — все дело в мужестве, оно возвышает человека. Не стоит бояться поражения — всегда кажется, что ничего не выходит, а потом видишь: все-таки что-то получилось. Гораздо хуже, когда поражение как две капли воды похоже на удачу".
Казалось ему, что он идет по нескончаемой дороге, которая внезапно выводит его к триумфальной арке, созданной каким-то блистательным мастером. Быть может, дорога эта вела прямо в рай. Только она была мрачновата. Наверное, и рай — такой же…
Вечная земля — Россия, со своими полями и суходолами, суровыми ликами святых и угодников в церквах, со своими белыми монастырями, мужиками и бабами, неуклюжими, косолапыми, обнищавшими, но неунывающими. Обер-архитектор припомнил ведомость, по которой он получал жалованье в Канцелярии.
Воспоминанье кольнуло его.
Там, в той ведомости, был Растрелли затерян между именами пажей и лекарей, камер-лакеев и гайдуков, скороходов и карлиц, поваров и хлебников, музыкантов и часовых дел мастеров, стрелков и конфетников, состоящих в штате вдов и гардеробных девушек. Будто не заслужил он большего. Далеко не регулярно платили ему жалованье, по прошествии каждой трети, по тысяче двести рублей в год, включая сюда карету, дом, дрова и свечи. И порой сильно дивился зодчий своей выдержке, тому, что удалось ему так прочно сжиться с Россией, так полюбить ее, что даже на итальянской земле чувствовал он себя чужеземцем. Но всюду и везде художество для него — дело святое. И даже когда нужда в деньгах прижимала крепко, а работа продвигалась вперед — он был счастлив.
Отрешенный от всего, Растрелли смотрел в одну точку и все пытался понять — видел он недавно Ивана Никитина или нет или померещилось ему, от рассказа Романа.
Тянулся бесконечный золотой фасад. Без мелочной игры узора, тяжеловесности и беспокойного плетения линий. Все было крупно, ясно, устойчиво и легко. Архитектурная фраза лилась могучим потоком. Глаз охватывал целое, переходил к частям, взбегал к окнам верхнего этажа, повторявшим очертания нижней части фасада. Да, это был Петергоф — Растрелли узнал его — с мощной гармонией и жизнерадостной красочностью. Петергоф, рожденный горячим беспрерывным вдохновением.
Но даже самый лучший, беспечный и заповедный фасад не мог скрыть бед и несчастий гениальных художников, возвысивших Россию в ее переломный момент. Художнику истинному всегда больше хотелось выразить общий тип человеческого благородства и красоты. А то, что вокруг себя видели они всяческих монстров, не суть важно…
Скоро придут непогоды — и в Москве, и в Санкт-Питер-Бурхе подернется небо темной тяжелой завесой. А в дальних краях все так же будет светить солнце. И плеск моря будет, зовущий жить и надеяться. Море… То синее, то зеленое, то фиолетовое. Оно вздымается отвесно, соединяясь с небом, скрывая линию горизонта.
Растрелли, печальный, величественный, стоял у окна и смотрел на липы, с которых слетели последние сухие листья.
* * *
Окна были распахнуты прямо в сад. Теплой была римская полночь. В серебряных канделябрах, потрескивая, ярко горели толстые свечи.
В большую залу вливался густой душистый аромат ночных запахов.
За изящным столиком у окна сидели испанский живописец Франсиско Гойя и маркиз Маруцци — русский поверенный в итальянских городах. Дипломат выполнял личное поручение императрицы — склонить Гойю в российскую службу. Склонить любой ценой.
Маленький, румяный, ослепительно одетый маркиз, потягивая из бокала вино, говорил:
— Российское правительство, господин Гойя, уполномочило меня предложить вам самые выгодные условия для службы живописцем в Петербурге. Вас ждет место первого придворного живописца. Нам известно, что на родине вы получаете за картон три тысячи восемьсот реалов. Мы обязываемся платить вам вдвое больше. И за портреты царской фамилии тоже вдвое больше, нежели платит вам король.
Темно-серые внимательные глаза Гойи вспыхнули. Он поднял тяжелые веки, едва заметно усмехнулся.
"И откуда это они все пронюхали, хитрецы…"
— У нас много своих, обучавшихся за границей, — продолжал нажимать маркиз, — а также иностранных, но вы будете первейшим среди всех! Скажу вам откровенно: Россия — превосходный учитель для каждого художника.
Гойя взял бокал, легко покачал его в руке и сквозь тонкое стекло, сощурившись, посмотрел на маркиза.
— Учитель для каждого художника? — переспросил он. — Но ведь так не бывает, господин Маруцци. Учитель у каждого свой. У меня это Рембрандт, Веласкес.
Я не прав?
— Правы, правы! Петр Великий учителя вашего приобретал, не жалея денег. А недавно посол Дмитрий Голицын привез из Парижа "Блудного сына".
"Умру, не увижу", — подумал Гойя, а сказал:
— Да, не ошибся ваш посол.
Живописец с усмешкой посмотрел на маркиза.
Маруцци с презреньем относился к артистам, художникам и циркачам, считая их никчемной, утомительно капризной публикой, от которой только и жди подвоха. Однако поручение государыни…
Маркиз дружески улыбнулся:
— Да, Россия для европейца загадочна. Холод, метель, мгла. Это не Италия, не Голландия. Но художества и у нас процветают. А мастера всех искусств — благоденствуют.
Понизив голос, маркиз доверительно прибавил:
— Заказы на картины у нас раздает сама императрица. И по-царски жалует за труд. Соглашайтесь же, Гойя! Не прогадаете.
— Заманчивое предложение, — сказал Гойя, а подумал: кругом — одни благодетели. Спасенья от них нет. Скорей бы приняться за работу. Только она — единственный приют, который дает всю полноту жизни.
Москва 1973–1978
1984–1986


нету в данном формате, просто оставлена картинка




Примечания
1
Дьяк — должностное лицо, ведающее в древней Руси делами какого-нибудь приказа.
(обратно)
2
Подьячий — в Московской Руси помощник дьяка, канцелярист.
(обратно)
3
Разряд — административное государственное учреждение XVI–XVII веков.
(обратно)
4
Бас — мастер
(голландск.).
(обратно)
5
О, ты замечательный купец, отменный!
(нем.)
(обратно)
6
Морской трос, да?
(нем.)
(обратно)
7
Естественная природа
(лат.).
(обратно)
8
Стихи Ю. Домбровского.
(обратно)
9
О молодость! Что тебе горе, трудности, препятствия… (
итал.)
(обратно)
10
Дама для итальянца — это священное созданье!.. (итал.)
(обратно)
11
Мальчик мой
(итал.).
(обратно)
12
Мы — итальянцы — излишне доверчивы
(итал.).
(обратно)
13
Скотство неотвязно преследует нас. Оно старо, как мир, и родилось задолго до того, как бога распяли на Голгофе
(итал.)
(обратно)
14
Экстракт — договор, соглашение.
(обратно)
15
Абшит — расчет, увольнение
(нем.)
(обратно)
16
Капитуляция — договор.
(обратно)
17
Пилястр — вертикальный плоский выступ на стене.
(обратно)
18
Маскарон — лепное, резное или литое изображение человека или зверя.
(обратно)
19
Антаблемент — верхняя горизонтальная, поддерживаемая колоннами часть архитектурного ордера. Ордер — порядок в расположении частей здания.
(обратно)
20
Туаз — старинная французская мера длины, равная 1 м 949 мм.
(обратно)
21
Трактамент — в данном случае обед в честь именитых гостей.
(обратно)
22
Архитектор Растрелли, к счастью, не знал, что его собор Смольного монастыря простоял не отделанным внутри ровно 75 лет.
(обратно)
23
— Увы, не иначе! Вы не ошиблись. Это действительно так. В самом деле — это я. А вы-то кто?
(обратно)
24
— Попробуйте узнать сами.
(обратно)
25
— Мой бог! Неужели?
(итал.)
(обратно)
Оглавление
Часть первая
Возвращение
Всё, всё изменилось
Глава первая
Град святого Петра
Глава вторая
Экзамен у Каравакка
Глава третья
Иван Никитин
Посвящение в художники
Петропавловская крепость
Глава четвертая
Два портрета в Петровском
Часть вторая
Живописного дела мастер
Глава первая
Яган-часовщик
Глава вторая
Автопортрет с женой
Глава третья
Письма в Лондон
Глава четвертая
Варфоломей Растрелли
Глава пятая
Молчал матвеевский портрет
Глава шестая
У Остермана
Пейзаж с ласточками
Глава седьмая
Клубок дворцовых интриг
Глава восьмая
Пейзаж с галкой
Глава девятая
Пейзаж с купцом
Глава десятая
…С разумом и намерением
Глава одиннадцатая
Первый сеанс
Глава двенадцатая
Второй сеанс
Часть третья
Путь искусства долог
Глава первая
Царский выезд
Глава вторая
Ловушка захлопнулась
Глава третья
Сдача двойного портрета
Глава четвертая
В Москве у каруселя
Глава пятая
Из мертвых воскресе
Глава шестая
Магия художества
Эпилог
Часть четвёртая
Золотой фасад
Глава первая
Живые токи молодости
Глава вторая
Впереди — счастье
Глава третья
"Езжай, Растрелли, трудись!"
Глава четвертая
Франческо Бартоломео. Год 1730-й
Глава пятая
Непосильная ноша
Глава шестая
"Хватает воздух он пустой…"
Глава седьмая
Воспоминания отца
Глава восьмая
"Клинья выбивай!"
Глава девятая
Дело было сделано
Часть пятая
Варфоломей Варфоломевич и братья Никитины
Глава пятая
Петергоф и Смольный монастырь
Глава вторая
Сон Растрелли
Глава третья
Нет несносней — ненавидеть, нет приятнее — любить
Глава четвертая
Что будет — то будет…
Глава пятая
Итоги
Глава шестая
Рассказ Романа Никитина
Глава седьмая
Бедный, бедный Никитин
Эпилог
*** Примечания ***


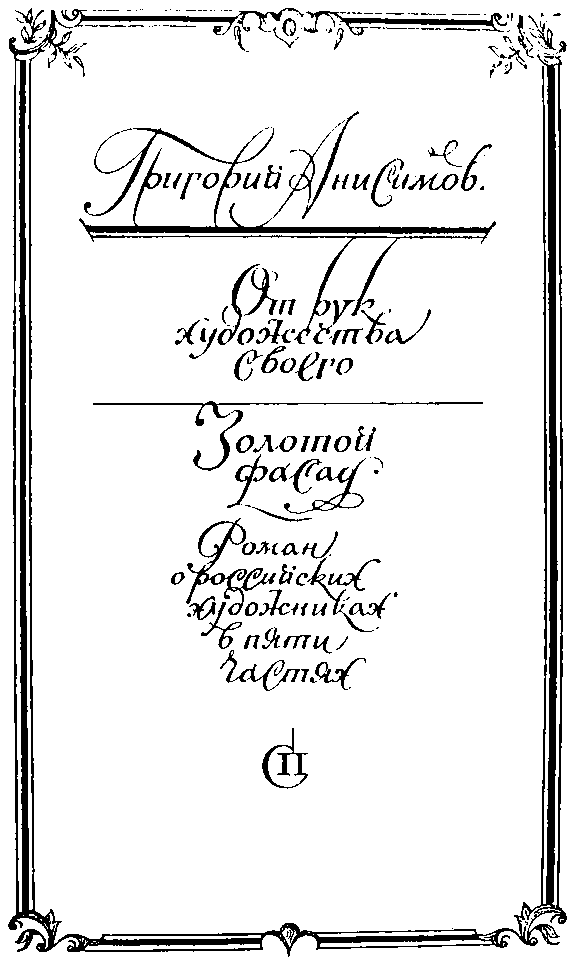





 ыбилась на палубах башмачная деревянная дробь:
— Все наверх! Канаты очищай!
Убирали и ставили паруса. Словно обращенный в птицу, легко и быстро скользил по воде русский фрегат.
Прошли Толбухин маяк. Матросы набирали воду и втаскивали ее наверх в коротких, узких ведерках. Вахта орудовала пеньковыми швабрами.
Вскоре показался уже и Кронштадт. Ободрились люди: слава богу, доплыли! Ободрился даже фрегат: хотя и морская посудина, все же и ей в порту дом…
Легли в дрейф и взяли на борт лоцмана. Медленно и осторожно вошли в устье Невы.
— Ей, на русленях! Сказывай глубину!
— Восемь сажен!
— Брось лот еще раз!
— Подвахтенные, на низ!
— Пять сажен по лоту! Пять сажен!
— Готовь якоря!
Фрегат из Ревеля прибыл в Троицкий порт Санкт-Петербурга. Вот это, наверное, и называется приехать наконец домой.
«Возвращение блудного сына в отчий дом», — подумал Андрей.
…Да, домой, домой!
На троицкой пристани остро и свежо пахло обжитой землей. Соскочив с причала, Андрей Матвеев огляделся и обмер. Еще и свет едва забрезжил, а столица — град святого Петра — уже проснулась. Дымятся трубы, возы тянутся по мостовой. Двери складов и амбаров растворены настежь, а возле них что-то перетаскивают, отвешивают, привозят, увозят, грузят на возы и на тележки.
Раньше в это время улицы стояли тихие, безлюдные, глухие. Все окна были намертво забиты ставнями и железными болтами. Как сундуки в купецких домах.
Не отрываясь смотрел сейчас на все это Андрей. Тогда, в первый раз, когда попал сюда из новгородской глуши, он был робкий ученик. Теперь мастер голландской выучки, повидавший немало, а смотрел на все с нескрываемым удивлением. Ну, значит, действительно он приехал. Вернулся в родные края, домой. Все ему здесь было знакомо и в то же время как бы не совсем свое.
Откуда же оно взялось, как выстроилось? Как будто со дна моря поднялось и встало само собой… Как будто не великий царь Петр-антихрист, насильно бривший бороды, согнал сюда тысячи плотников, каменщиков, а воля и судьба или сам господь бог создал этот град из камня и воды, с мостами и каналами, с причалами и кораблями, с хриплыми криками простых деревенских мужиков и черепичными крышами, с частоколом высоких мачт, пестрых от английских, голландских, шведских, германских, французских флагов.
Город всплывает из тумана, все растет, растет, растет. Он будто на якоре стоит, как тяжело нагруженный корабль. Матросы разгружают корабль, он легчает, подымается, делается выше, выше — и вот уже весь целиком и явственно прочертился он меж небом и водой.
Когда Андрей уезжал, город тянулся всего версты на две, а ныне и конца ему не видно! Вон куда вымахнул! А по ту сторону Невы проступают неясные очертания храмов и дворцов, подернутые утренним сизым туманом.
Ошалело смотрел Андрей на парадиз. Парадиз — рай — так называл его император всея Руси. Может быть, может быть… Да только рай этот какой-то неприютный, сырой, холодный. «Дивиться-то им можно, а вот жить в нем как? Я-то как буду здесь?» — с опаской подумал Андрей. Глянул он вдаль, и показалось ему, что линия горизонта чуть-чуть качается. От долгого плавания это или со страху?
— Нет, врешь, — сказал Андрей вроде и не себе, а кому-то стоящему рядом и чужому. — Ничего я не раскис. Запугивает, стерва! А я — ничего… Я не боюсь! И ты меня не запугивай. Вот так-то — не запугивай!
Он приложил палец к шляпе на манер голландских рыбаков, а потом по-русски поклонился на все четыре стороны — туманному небу, темной воде, серому камню и черной родной земле.
— Ну, здравствуй! Принимай меня, родная сторона!
Андрей взял свои баулы, связку картин, вышел на плац, кликнул извозчика. «Поеду к Адмиралтейству перво-наперво, посмотрю там, что к чему, кто жив и кто помер, знакомых поищу… А потом прямо к светлейшему князю Александру Данилычу нагряну, к Меншикову, пусть на службу определит». Решил и поехал.
Ехали по непролазной грязи. Камень, доски и ровные дороги были только у пристани, а тут повозка опасно кренилась, лошадь еле-еле вытаскивала ноги, храпела и недовольно фыркала. Кнут щелкал, извозчик негромко ругался. Боже мой, это и была Россия! И Андрей был доволен. Он будто очутился за кулисами, по ту сторону декораций, но ее-то, сторону эту, он знал хорошо и поэтому сразу успокоился. Тут ему было привычней, все как прежде. Даже эта глубокая, вдавленная в грязь колея. Но скоро они въехали на мостовую, и колеса весело застучали по деревянным торцам.
— Ну-ка, братец, постой, останови! — попросил Андрей. — Это чей же дом? — спрашивал он, разглядывая массивное фигурное сооружение.
— Вон энтот? Это — князя Кантемира, а тот — князя Голицына.
— A-а, знаю!
Он вынул кошелек и расплатился. Пошел пешком.
Шел и спрашивал:
— А это чей дом?
— Царского интенданта Мошкова, — отвечали ему. — А ты што, приезжий? — спрашивали к у Андрея, разглядывая его новомодный шелковый камзол и тупоносые башмаки с серебряными пряжками.
— Да нет! Тутошний! Не был давно…
— Вона што-о…
— А там кто живет?
— Там — вице-адмирал Вильмор. И тот вон тоже вице-адмиральский, его превосходительства господина Шильтинга.
— Ну и вице-адмиралов поразвелось тут, — подивился Андрей.
— А как же! — ответил прохожий и добавил важно: — Флотоводцы!
Подул нежный морской ветерок. Туман рассеялся. И проклюнулось совсем уже ясное санкт-петербургское утро. День обещал быть солнечным, хотя и холодным.
ыбилась на палубах башмачная деревянная дробь:
— Все наверх! Канаты очищай!
Убирали и ставили паруса. Словно обращенный в птицу, легко и быстро скользил по воде русский фрегат.
Прошли Толбухин маяк. Матросы набирали воду и втаскивали ее наверх в коротких, узких ведерках. Вахта орудовала пеньковыми швабрами.
Вскоре показался уже и Кронштадт. Ободрились люди: слава богу, доплыли! Ободрился даже фрегат: хотя и морская посудина, все же и ей в порту дом…
Легли в дрейф и взяли на борт лоцмана. Медленно и осторожно вошли в устье Невы.
— Ей, на русленях! Сказывай глубину!
— Восемь сажен!
— Брось лот еще раз!
— Подвахтенные, на низ!
— Пять сажен по лоту! Пять сажен!
— Готовь якоря!
Фрегат из Ревеля прибыл в Троицкий порт Санкт-Петербурга. Вот это, наверное, и называется приехать наконец домой.
«Возвращение блудного сына в отчий дом», — подумал Андрей.
…Да, домой, домой!
На троицкой пристани остро и свежо пахло обжитой землей. Соскочив с причала, Андрей Матвеев огляделся и обмер. Еще и свет едва забрезжил, а столица — град святого Петра — уже проснулась. Дымятся трубы, возы тянутся по мостовой. Двери складов и амбаров растворены настежь, а возле них что-то перетаскивают, отвешивают, привозят, увозят, грузят на возы и на тележки.
Раньше в это время улицы стояли тихие, безлюдные, глухие. Все окна были намертво забиты ставнями и железными болтами. Как сундуки в купецких домах.
Не отрываясь смотрел сейчас на все это Андрей. Тогда, в первый раз, когда попал сюда из новгородской глуши, он был робкий ученик. Теперь мастер голландской выучки, повидавший немало, а смотрел на все с нескрываемым удивлением. Ну, значит, действительно он приехал. Вернулся в родные края, домой. Все ему здесь было знакомо и в то же время как бы не совсем свое.
Откуда же оно взялось, как выстроилось? Как будто со дна моря поднялось и встало само собой… Как будто не великий царь Петр-антихрист, насильно бривший бороды, согнал сюда тысячи плотников, каменщиков, а воля и судьба или сам господь бог создал этот град из камня и воды, с мостами и каналами, с причалами и кораблями, с хриплыми криками простых деревенских мужиков и черепичными крышами, с частоколом высоких мачт, пестрых от английских, голландских, шведских, германских, французских флагов.
Город всплывает из тумана, все растет, растет, растет. Он будто на якоре стоит, как тяжело нагруженный корабль. Матросы разгружают корабль, он легчает, подымается, делается выше, выше — и вот уже весь целиком и явственно прочертился он меж небом и водой.
Когда Андрей уезжал, город тянулся всего версты на две, а ныне и конца ему не видно! Вон куда вымахнул! А по ту сторону Невы проступают неясные очертания храмов и дворцов, подернутые утренним сизым туманом.
Ошалело смотрел Андрей на парадиз. Парадиз — рай — так называл его император всея Руси. Может быть, может быть… Да только рай этот какой-то неприютный, сырой, холодный. «Дивиться-то им можно, а вот жить в нем как? Я-то как буду здесь?» — с опаской подумал Андрей. Глянул он вдаль, и показалось ему, что линия горизонта чуть-чуть качается. От долгого плавания это или со страху?
— Нет, врешь, — сказал Андрей вроде и не себе, а кому-то стоящему рядом и чужому. — Ничего я не раскис. Запугивает, стерва! А я — ничего… Я не боюсь! И ты меня не запугивай. Вот так-то — не запугивай!
Он приложил палец к шляпе на манер голландских рыбаков, а потом по-русски поклонился на все четыре стороны — туманному небу, темной воде, серому камню и черной родной земле.
— Ну, здравствуй! Принимай меня, родная сторона!
Андрей взял свои баулы, связку картин, вышел на плац, кликнул извозчика. «Поеду к Адмиралтейству перво-наперво, посмотрю там, что к чему, кто жив и кто помер, знакомых поищу… А потом прямо к светлейшему князю Александру Данилычу нагряну, к Меншикову, пусть на службу определит». Решил и поехал.
Ехали по непролазной грязи. Камень, доски и ровные дороги были только у пристани, а тут повозка опасно кренилась, лошадь еле-еле вытаскивала ноги, храпела и недовольно фыркала. Кнут щелкал, извозчик негромко ругался. Боже мой, это и была Россия! И Андрей был доволен. Он будто очутился за кулисами, по ту сторону декораций, но ее-то, сторону эту, он знал хорошо и поэтому сразу успокоился. Тут ему было привычней, все как прежде. Даже эта глубокая, вдавленная в грязь колея. Но скоро они въехали на мостовую, и колеса весело застучали по деревянным торцам.
— Ну-ка, братец, постой, останови! — попросил Андрей. — Это чей же дом? — спрашивал он, разглядывая массивное фигурное сооружение.
— Вон энтот? Это — князя Кантемира, а тот — князя Голицына.
— A-а, знаю!
Он вынул кошелек и расплатился. Пошел пешком.
Шел и спрашивал:
— А это чей дом?
— Царского интенданта Мошкова, — отвечали ему. — А ты што, приезжий? — спрашивали к у Андрея, разглядывая его новомодный шелковый камзол и тупоносые башмаки с серебряными пряжками.
— Да нет! Тутошний! Не был давно…
— Вона што-о…
— А там кто живет?
— Там — вице-адмирал Вильмор. И тот вон тоже вице-адмиральский, его превосходительства господина Шильтинга.
— Ну и вице-адмиралов поразвелось тут, — подивился Андрей.
— А как же! — ответил прохожий и добавил важно: — Флотоводцы!
Подул нежный морской ветерок. Туман рассеялся. И проклюнулось совсем уже ясное санкт-петербургское утро. День обещал быть солнечным, хотя и холодным.
 огда на Неве показались первые льдины, Андрей Матвеев уже вполне обжился.
В Петербурге было много иноземных мастеров художества. Всем русским послам было предписано искать по всем странам и вербовать в Россию искусных живописцев. Петр лично следил за этим. В столице на Неве появились Иоганн Танауэр, учившийся в Венеции и затем копировавший Рубенса во Фландрии, Андриан Шхонебек — первоклассный гравер, швейцарец Георг Гзель — первый мастер цветов, рыб, орнаментов, иллюминированных изображений и всякой живности, за ними потянулись Бартоломео Тарсиа — мастер по росписи плафонов, отец и сын Растрелли — скульптор и архитектор. Первым среди всех иноземных мастеров считался француз Людовик Каравакк.
Он приехал в Россию еще совсем молодым и сразу вошел в моду. Петербург жаждал увидеть себя в портретах, да притом в натуральную величину. Ободренный щедрыми посулами, — а на них русские никогда не скупились, — из солнечного Марселя Каравакк двинулся в деревенеющую стынь. Он был наслышан о русском монархе и видел его самого в Париже, этот геркулес, рослый, черноглазый, плечистый, на широко расставленных ногах, покорил его с первого взгляда.
Россия представлялась иноземцу краем дремучих лесов, населенных разбойниками, волками и медведями.
Окунувшись же с головой в петербургский холодный сумрак, он понял, что не ошибся, только разбойники и волки ходят в париках и кафтанах. И еще понял, что тут без верткости и без особой подвижности ума никак не прожить. И тогда ему сделалось страшно, так страшно, что он увяз сразу всеми колесами, как дорожная карета в русской грязи.
Но он был душой француз. И решил — раз уже выбрал эту дорогу, то и идти по ней до конца. А русские дороги тем и хороши, что они помогают идущим и сочувствуют им, как могут.
И одолевают такие дороги не те, что бегут по ним, задыхаясь, лишь бы скорее дорваться до света и тепла, и не те, что в бессильной злобе садятся на обочину и проклинают эту окаянную землю. Русские дороги выносят на себе тех, кто идет до конца, сжав зубы, разбивая башмаки и стирая в кровь ноги. Уже и дорога расплывается, уже едва различима, она и туманится перед глазами, и ног давно не чувствуешь, но пока в тебе трепещет душа и чуешь запах надежды — иди да иди! И дойдешь до цели. А остановишься — пиши пропало. Одни кости от тебя останутся, вон их сколько втоптано во все распутья. Каравакк верил в себя как в великого мастера живописи. Знал, что не подведет рука. «Буду держаться, доколе терпенья хватит!» — решил марселец. Он работал часто по шестнадцати часов кряду. Взял себе за правило — ничему не удивляться. Научился брать с заказчиков немалые деньги. Он любил тех русских девок, что были сговорчивы и не слишком жеманились. Но женился он на испанке, необузданной и свирепой. Он с удовольствием писал портреты Петра: во весь рост, в кирасе поверх кафтана и в мантии, в андреевской ленте и со звездою в шарфе, с жезлом в руке. Старательно писал.
И Петру эти портреты нравились, он был ими очень доволен. Каравакк написал малолетнего цесаревича Петра Петровича и поднес портрет сей Меншикову. Живописец французский понял к тому времени великую силу взяток. У него были легкое сердце и легкая кисть.
Он писал царевен Анну и Елизавету Петровну вместе, на одной картине, в виде гениев с крылышками за плечами, с развевающимися на ветру драпировками.
Каравакк увидел две России. Одну — пропахшую потом и водкой. Огромную бесшабашную страну. Невероятное пространство под скупым северным солнцем, на котором пышнее всего растет трын-трава. Потому и говорят тут: «A-а, все трын-трава!»
И он узнал и увидел другую Россию: любая держава, думал он, могла бы гордиться такими храмами с летящими в небесах колокольнями, такими сказочными дворцами, нежно-прозрачными иконами, узорочьем шитья и деревянной грациозной резьбой.
Первую увиденную им Россию он едва стерпел, но зато вторую принял всей душой художника.
А потому и прижился в ней. Здесь все представлялось ему новым, невспаханным, необжитым, удивительным. Все одновременно влекло и отталкивало — и прежде всего Нева, ее мутные равнодушные волны, запахи смолы, пеньки и огромного водного пространства, подступающего к самому городу. Этот смутный морской дух помогал ему выстоять. Ведь недаром же он был марсельцем!
Каравакк работал не покладая рук. Он рисовал портреты, гербы, знамена, иллюминировал кареты, делал рисунки для стен, расписывал особняки и дворцы, обучал живописи. И печать долготерпения лежала на его южном лице.
В России, знал он, работают либо надрывая жилы, «на рывок», или же ни шатко и ни валко — постучат топором и молотком, помахают кистью да сядут. Перекур… Или водочки сообразят. И заведут длинные разговоры о житье-бытье, о том да о сем… Отсюда и мудрость родилась: работа ведь не волк, в лес не убежит. Но мастер Каравакк исполнял свое ремесло всегда добросовестно. Русские это ценили. Жалованья ему было положено по первому договору пятьсот рублев, а ныне, на десятом году житья в России, тысячу двести — деньги приличные!
Ему оказывались почести. Он сопровождал Петра и Екатерину в их военных походах. Бывал вхож к самым знатным особам. Его портреты были не весьма похожи на модели, но зато розовый цвет в лице, легкий, как пена, он брал так нежно, так воздушно, как никто из мастеров в Петербурге. И это всем нравилось.
Жил он, придворный первый моляр Людовик Каравакк, на Васильевском острове, во Французской улице, в собственном каменном доме, дарованном ему императором.
Когда Каравакка нанимали, то писали ему ехать в Петербург на три года и работать в живописи на масле в службе царского величества. Нанимали для письма исторических картин, портретов, баталий, лесов и зверей, деревьев и цветов, а еще и для миниатюрной живописи. Вменили ему в обязанность непременную взять к себе из русского народа людей для научения во всем, что касается до живописного художества.
Нанимался-то он на три, а застрял в России на все десять лет, покуда добрался до вершин придворной лестницы. А оттуда и спихнуть могли в любой момент. Это тоже он знал и опасался, но пока его жаловали. Правда, после кончины Петра и он почувствовал холодок вокруг себя. Все больше и больше его начинали использовать как декоратора и ремесленного рисовальщика.
И теперь он все чаще стал подумывать о возвращении на родину. Он попросту устал: на смену молодому бодрому утру приходил трезвый день, а потом и холодные, серые сумерки, и в нем все больше терпкий, упругий мускус молодости превращался в уксус трудной старости.
И все чаще и чаще вспоминалась Каравакку милая сердцу земля Гасконии, теплая и родная. Былон еще крепок телом, коренаст, и когда он обсуждал заказ или говорил о работе, в его карих глазах загоралось чувство торжествующей жизни — восторг. И по-русски он говорил почти свободно, не задумываясь и мало коверкая слова.
Иноземным художникам на Руси и платили всегда больше, чем своим, и служебное положение их было намного выше. А потому Андрей Матвеев, хотя Меншиков и говорил, что ничего-де не надо, что он напишет — и баста, — по заведенному Петром обычаю непременно должен был пройти экзамен у Каравакка. До этого они несколько раз виделись, но держались друг с другом холодно и отчужденно.
Андрей шел к Каравакку с немалым предубеждением: работы его Андрею не больно нравились, и розовый французский колорит мало трогал. Словом, он шел экзаменоваться к тому, в ком не чтил большого мастера. Притворяться Андрей не умел, но ругаться и ссориться с Кара-вакком тоже не входило в его намерения. Ему позарез нужно было получить от француза отзыв для повышения жалованья.
Было еще раннее утро. Ему сказали, что знатный моляр встает чуть свет и работает дотемна, а посетителей принимает спозаранку.
Тоскливо и монотонно лаяли собаки на дворах ремесленников. Первая заводила с привыванием, ей отвечала другая, третья. Потом они все сразу умолкали, и наступала звенящая тишина. У Андрея и так скверно было на душе, да еще этот сиротливый вой навязчиво оседал в ушах.
Когда он подошел к дому Каравакка под новой черепичной крышей, то увидел, что он весь залит светом.
Андрей негромко постучал.
Открыл слуга, согбенный старик, очевидно вывезенный мастером из Франции. Из-за его спины выглядывал сам Каравакк в рубахе с засученными рукавами и в переднике, перепачканном красками. В левой руке он держал сразу несколько кистей.
Он вгляделся в лицо пришедшего.
— Матвеев? Вот так сюрприз с утра! — крикнул он. — Ну, входи, входи, рад тебе!
Никак не ожидавший такого радушия Андрей немного растерялся.
— Проходи, проходи! — пригласил Каравакк широким жестом, пропуская Андрея вперед, а сзади за ними слуга задвинул тяжелый засов. Сюда, сюда, — Каравакк кистями показал дорогу, — прямо в мастерскую! Я спешно работаю, но получас уделить тебе могу.
В дверях мастерской Каравакк обогнал Андрея, быстро подошел к мольберту с укрепленным на нем недоконченным полотном и отвернул его к стене. Матвееву это понравилось.
«Как и я, не любит показывать незавершенное», — отметил Андрей.
— Портрет князя Черкасского, — пояснил Каравакк. — Несколько дней пишу без разгибу. Погоняют!
Матвеев понимающе кивнул.
Цену-то он себе знал, но чувствовал сейчас себя очень неловко. Работы на Андрея сразу же взвалили много, а платили гроши, приходилось залезать в долги, их накапливалось все больше и больше. Потому и пошел он одалживаться у Каравакка, знатного мастера, отзывом. Удостоверит, что Матвеев живописец немалой руки, тогда и о прибавке можно просить и, значит, из долгов вылезти. А не даст — беда! Придется ему искать другие пути.
То, что Каравакк встретил его непринужденно-доброжелательно, сразу успокоило Андрея. Он быстрым взглядом окинул мастерскую и вдруг задохнулся, остолбенел: в кресле кто-то сидел. И была в сидящем какая-то недостоверная, жуткая странность. По-видимому, это сидел сам князь Черкасский, которого писал Каравакк. На князе был нарядный бархатный кафтан с пристегнутым сзади воротника богатым ожерельем, пола кафтана была отвернута так, что виднелся песцовый подбой. На кафтане сверкали звезда и золотые позументы. Одна рука князя лежала на колене, другая — ее-то Андрей сразу и увидел — покоилась на подлокотнике кресла. Одного Матвеев не мог понять никак — перед ним сидел нормальный человек, но без головы. А голова стояла на столе. Рядом с креслом. Голова как голова — с черными надменными бровями, с горбинкой на породистом носу, с серыми навыкате глазами. Над ушами торчали букли хорошо уложенного светлого парика.
— Фу-ты! — шумно выдохнул Матвеев. — Ну и дела! Гляжу-гляжу и никак в толк не возьму: сидит вроде князь, а головы у него нет! Вижу — она особняком стоит. Что такое? Никак не свяжу, чуть мозги не свихнул!
Француз развеселился, хохотнул, глядя на обескураженного Андрея.
— Я с этим изрядно наловчился, — насмешливо сказал Каравакк, — вылеплю голову из глины, подкрашу, дорисую, одену персону — и пошел мазать! Как по маслу идет. Только успевай кистью разглаживать. Да-да, разглаживать — ведь полотно как шелковое, оно любит, чтобы его гладили, не так ли? Полотно надобно любить, ласкать, как женщину. А, Матвеев?
— Не знаю, — нерешительно сказал Андрей, — наверное, надо… Я его и ласкаю, и бью, и даже насквозь часом проткну, если не по-моему выходит. Когда как… Головы наши молярские завсегда забиты, — вздохнул он, — ни ночью, ни утром, ни днем покою нет!
— Куда там покой! — отмахнулся Каравакк в сердцах, а потом спросил: — А ты с манекеном не работаешь?
— Нет, я больше с памяти.
— Ну, это всяк на свой лад, — согласился Каравакк. — В нашем деле ведь правил для всех не существует. Кто как может, так и красит. А знаешь, мне этот безголовый князь, — он ткнул в манекен кистью, — сто раз милее живого! С тем возня, нужно с ним болтать, развлекать. Это несподручно, рассеивает, а я люблю работать спокойно.
Он пододвинул свободное кресло.
— Садись!
Андрей сел. Хозяин тоже устало опустился на маленький синий диванчик, положил на колени тяжелые локти.
— Ну, расскажи, Матвеев, какие новости на белом свете? Я уже целую неделю живу затворником… Что там делается, в Канцелярии?
— Бог мой, какие там дела! — пожал плечами Матвеев. — Бегают, суетятся, ругаются. Слышно стало, что двор в Москву переедет. Так живописную команду уже подушно расписывают — кому у каких дел быть и что кому делать надлежит. Ну, и пошел раздор, все так перегрызлись, что и не глядят друг на друга! Противно сие. Ушами живут.
Каравакк с удовольствием поглядел на него, сочувственно улыбнулся. Андрей вздохнул.
— Я ныне работаю портрет Ульяна Акимовича Синявина. Сами знаете, начальника писать дело хлопотное… Вот он-то, Синявин, велел мне к вам пойти, сказал, указ Каравакку есть, чтоб Матвеева освидетельствовал в художестве. Вот и пришел! На вас полагаюсь, мастер. Бумага мне от вас нужна.
— Что ж, я готов! — сказал без задержки Каравакк. — Картину твою, что в Канцелярии висит, видел. Покаянье святого Петра. Изрядно написано, с пылом! Ничего не скажешь. Цвет хорош, скомпоновано остро. Я тебя со всей охотой аттестую! Что ж, бумага дело великое! Знаю. Вот меня сам царь вызвал, а как приехал я сюда, мой друг, так первым делом меня экзаменовать стали. Вот натура, вот холст, садись и пиши! Ну, и писал неделю…
Припомнив что-то свое, ему одному принадлежащее, Каравакк сердито повернул голову князя Черкасского затылком к себе.
— Пучится! Я вот уже десять лет в России живу — все портреты, портреты, уж весь двор переписал, все довольны, хвалят, а мне-то что? Одни деньги. Скучно все это. Не в том же совсем дело… Не в том! Верхний слой пишу, кожу одну, а до нутра не добираюсь. Некогда. Вот и цесаревен недавно писал по рисункам, они довольны, хихикают… А-а… — Он махнул рукой.
— Я видел эти портреты, — сказал Матвеев искренне, — их истинный живописец создал. Вашу кисть легко узнать, она везде видна, я не вру! Без всякой лести говорю.
— Спасибо, мой друг! Спасибо! От доброго слова у художника в душе цветы растут. Знаешь, как Леонардо говорил: высшая цель в портрете — уловить в лице душу! Вот в чем собака зарыта! Да нет, не зарыта, она здесь, — Каравакк постучал себя по груди, — она рычит и грызет сердце.
Оба помолчали.
— Матвеев! — вдруг сказал Каравакк иным уже голосом, веселым и бодрым. — Ты уже продумал, что будешь писать? Так вот, посиди, подумай, а я мигом вернусь. Закажу кое-что. А то от этого князя запить хочется. Сатана пучеглазый!
огда на Неве показались первые льдины, Андрей Матвеев уже вполне обжился.
В Петербурге было много иноземных мастеров художества. Всем русским послам было предписано искать по всем странам и вербовать в Россию искусных живописцев. Петр лично следил за этим. В столице на Неве появились Иоганн Танауэр, учившийся в Венеции и затем копировавший Рубенса во Фландрии, Андриан Шхонебек — первоклассный гравер, швейцарец Георг Гзель — первый мастер цветов, рыб, орнаментов, иллюминированных изображений и всякой живности, за ними потянулись Бартоломео Тарсиа — мастер по росписи плафонов, отец и сын Растрелли — скульптор и архитектор. Первым среди всех иноземных мастеров считался француз Людовик Каравакк.
Он приехал в Россию еще совсем молодым и сразу вошел в моду. Петербург жаждал увидеть себя в портретах, да притом в натуральную величину. Ободренный щедрыми посулами, — а на них русские никогда не скупились, — из солнечного Марселя Каравакк двинулся в деревенеющую стынь. Он был наслышан о русском монархе и видел его самого в Париже, этот геркулес, рослый, черноглазый, плечистый, на широко расставленных ногах, покорил его с первого взгляда.
Россия представлялась иноземцу краем дремучих лесов, населенных разбойниками, волками и медведями.
Окунувшись же с головой в петербургский холодный сумрак, он понял, что не ошибся, только разбойники и волки ходят в париках и кафтанах. И еще понял, что тут без верткости и без особой подвижности ума никак не прожить. И тогда ему сделалось страшно, так страшно, что он увяз сразу всеми колесами, как дорожная карета в русской грязи.
Но он был душой француз. И решил — раз уже выбрал эту дорогу, то и идти по ней до конца. А русские дороги тем и хороши, что они помогают идущим и сочувствуют им, как могут.
И одолевают такие дороги не те, что бегут по ним, задыхаясь, лишь бы скорее дорваться до света и тепла, и не те, что в бессильной злобе садятся на обочину и проклинают эту окаянную землю. Русские дороги выносят на себе тех, кто идет до конца, сжав зубы, разбивая башмаки и стирая в кровь ноги. Уже и дорога расплывается, уже едва различима, она и туманится перед глазами, и ног давно не чувствуешь, но пока в тебе трепещет душа и чуешь запах надежды — иди да иди! И дойдешь до цели. А остановишься — пиши пропало. Одни кости от тебя останутся, вон их сколько втоптано во все распутья. Каравакк верил в себя как в великого мастера живописи. Знал, что не подведет рука. «Буду держаться, доколе терпенья хватит!» — решил марселец. Он работал часто по шестнадцати часов кряду. Взял себе за правило — ничему не удивляться. Научился брать с заказчиков немалые деньги. Он любил тех русских девок, что были сговорчивы и не слишком жеманились. Но женился он на испанке, необузданной и свирепой. Он с удовольствием писал портреты Петра: во весь рост, в кирасе поверх кафтана и в мантии, в андреевской ленте и со звездою в шарфе, с жезлом в руке. Старательно писал.
И Петру эти портреты нравились, он был ими очень доволен. Каравакк написал малолетнего цесаревича Петра Петровича и поднес портрет сей Меншикову. Живописец французский понял к тому времени великую силу взяток. У него были легкое сердце и легкая кисть.
Он писал царевен Анну и Елизавету Петровну вместе, на одной картине, в виде гениев с крылышками за плечами, с развевающимися на ветру драпировками.
Каравакк увидел две России. Одну — пропахшую потом и водкой. Огромную бесшабашную страну. Невероятное пространство под скупым северным солнцем, на котором пышнее всего растет трын-трава. Потому и говорят тут: «A-а, все трын-трава!»
И он узнал и увидел другую Россию: любая держава, думал он, могла бы гордиться такими храмами с летящими в небесах колокольнями, такими сказочными дворцами, нежно-прозрачными иконами, узорочьем шитья и деревянной грациозной резьбой.
Первую увиденную им Россию он едва стерпел, но зато вторую принял всей душой художника.
А потому и прижился в ней. Здесь все представлялось ему новым, невспаханным, необжитым, удивительным. Все одновременно влекло и отталкивало — и прежде всего Нева, ее мутные равнодушные волны, запахи смолы, пеньки и огромного водного пространства, подступающего к самому городу. Этот смутный морской дух помогал ему выстоять. Ведь недаром же он был марсельцем!
Каравакк работал не покладая рук. Он рисовал портреты, гербы, знамена, иллюминировал кареты, делал рисунки для стен, расписывал особняки и дворцы, обучал живописи. И печать долготерпения лежала на его южном лице.
В России, знал он, работают либо надрывая жилы, «на рывок», или же ни шатко и ни валко — постучат топором и молотком, помахают кистью да сядут. Перекур… Или водочки сообразят. И заведут длинные разговоры о житье-бытье, о том да о сем… Отсюда и мудрость родилась: работа ведь не волк, в лес не убежит. Но мастер Каравакк исполнял свое ремесло всегда добросовестно. Русские это ценили. Жалованья ему было положено по первому договору пятьсот рублев, а ныне, на десятом году житья в России, тысячу двести — деньги приличные!
Ему оказывались почести. Он сопровождал Петра и Екатерину в их военных походах. Бывал вхож к самым знатным особам. Его портреты были не весьма похожи на модели, но зато розовый цвет в лице, легкий, как пена, он брал так нежно, так воздушно, как никто из мастеров в Петербурге. И это всем нравилось.
Жил он, придворный первый моляр Людовик Каравакк, на Васильевском острове, во Французской улице, в собственном каменном доме, дарованном ему императором.
Когда Каравакка нанимали, то писали ему ехать в Петербург на три года и работать в живописи на масле в службе царского величества. Нанимали для письма исторических картин, портретов, баталий, лесов и зверей, деревьев и цветов, а еще и для миниатюрной живописи. Вменили ему в обязанность непременную взять к себе из русского народа людей для научения во всем, что касается до живописного художества.
Нанимался-то он на три, а застрял в России на все десять лет, покуда добрался до вершин придворной лестницы. А оттуда и спихнуть могли в любой момент. Это тоже он знал и опасался, но пока его жаловали. Правда, после кончины Петра и он почувствовал холодок вокруг себя. Все больше и больше его начинали использовать как декоратора и ремесленного рисовальщика.
И теперь он все чаще стал подумывать о возвращении на родину. Он попросту устал: на смену молодому бодрому утру приходил трезвый день, а потом и холодные, серые сумерки, и в нем все больше терпкий, упругий мускус молодости превращался в уксус трудной старости.
И все чаще и чаще вспоминалась Каравакку милая сердцу земля Гасконии, теплая и родная. Былон еще крепок телом, коренаст, и когда он обсуждал заказ или говорил о работе, в его карих глазах загоралось чувство торжествующей жизни — восторг. И по-русски он говорил почти свободно, не задумываясь и мало коверкая слова.
Иноземным художникам на Руси и платили всегда больше, чем своим, и служебное положение их было намного выше. А потому Андрей Матвеев, хотя Меншиков и говорил, что ничего-де не надо, что он напишет — и баста, — по заведенному Петром обычаю непременно должен был пройти экзамен у Каравакка. До этого они несколько раз виделись, но держались друг с другом холодно и отчужденно.
Андрей шел к Каравакку с немалым предубеждением: работы его Андрею не больно нравились, и розовый французский колорит мало трогал. Словом, он шел экзаменоваться к тому, в ком не чтил большого мастера. Притворяться Андрей не умел, но ругаться и ссориться с Кара-вакком тоже не входило в его намерения. Ему позарез нужно было получить от француза отзыв для повышения жалованья.
Было еще раннее утро. Ему сказали, что знатный моляр встает чуть свет и работает дотемна, а посетителей принимает спозаранку.
Тоскливо и монотонно лаяли собаки на дворах ремесленников. Первая заводила с привыванием, ей отвечала другая, третья. Потом они все сразу умолкали, и наступала звенящая тишина. У Андрея и так скверно было на душе, да еще этот сиротливый вой навязчиво оседал в ушах.
Когда он подошел к дому Каравакка под новой черепичной крышей, то увидел, что он весь залит светом.
Андрей негромко постучал.
Открыл слуга, согбенный старик, очевидно вывезенный мастером из Франции. Из-за его спины выглядывал сам Каравакк в рубахе с засученными рукавами и в переднике, перепачканном красками. В левой руке он держал сразу несколько кистей.
Он вгляделся в лицо пришедшего.
— Матвеев? Вот так сюрприз с утра! — крикнул он. — Ну, входи, входи, рад тебе!
Никак не ожидавший такого радушия Андрей немного растерялся.
— Проходи, проходи! — пригласил Каравакк широким жестом, пропуская Андрея вперед, а сзади за ними слуга задвинул тяжелый засов. Сюда, сюда, — Каравакк кистями показал дорогу, — прямо в мастерскую! Я спешно работаю, но получас уделить тебе могу.
В дверях мастерской Каравакк обогнал Андрея, быстро подошел к мольберту с укрепленным на нем недоконченным полотном и отвернул его к стене. Матвееву это понравилось.
«Как и я, не любит показывать незавершенное», — отметил Андрей.
— Портрет князя Черкасского, — пояснил Каравакк. — Несколько дней пишу без разгибу. Погоняют!
Матвеев понимающе кивнул.
Цену-то он себе знал, но чувствовал сейчас себя очень неловко. Работы на Андрея сразу же взвалили много, а платили гроши, приходилось залезать в долги, их накапливалось все больше и больше. Потому и пошел он одалживаться у Каравакка, знатного мастера, отзывом. Удостоверит, что Матвеев живописец немалой руки, тогда и о прибавке можно просить и, значит, из долгов вылезти. А не даст — беда! Придется ему искать другие пути.
То, что Каравакк встретил его непринужденно-доброжелательно, сразу успокоило Андрея. Он быстрым взглядом окинул мастерскую и вдруг задохнулся, остолбенел: в кресле кто-то сидел. И была в сидящем какая-то недостоверная, жуткая странность. По-видимому, это сидел сам князь Черкасский, которого писал Каравакк. На князе был нарядный бархатный кафтан с пристегнутым сзади воротника богатым ожерельем, пола кафтана была отвернута так, что виднелся песцовый подбой. На кафтане сверкали звезда и золотые позументы. Одна рука князя лежала на колене, другая — ее-то Андрей сразу и увидел — покоилась на подлокотнике кресла. Одного Матвеев не мог понять никак — перед ним сидел нормальный человек, но без головы. А голова стояла на столе. Рядом с креслом. Голова как голова — с черными надменными бровями, с горбинкой на породистом носу, с серыми навыкате глазами. Над ушами торчали букли хорошо уложенного светлого парика.
— Фу-ты! — шумно выдохнул Матвеев. — Ну и дела! Гляжу-гляжу и никак в толк не возьму: сидит вроде князь, а головы у него нет! Вижу — она особняком стоит. Что такое? Никак не свяжу, чуть мозги не свихнул!
Француз развеселился, хохотнул, глядя на обескураженного Андрея.
— Я с этим изрядно наловчился, — насмешливо сказал Каравакк, — вылеплю голову из глины, подкрашу, дорисую, одену персону — и пошел мазать! Как по маслу идет. Только успевай кистью разглаживать. Да-да, разглаживать — ведь полотно как шелковое, оно любит, чтобы его гладили, не так ли? Полотно надобно любить, ласкать, как женщину. А, Матвеев?
— Не знаю, — нерешительно сказал Андрей, — наверное, надо… Я его и ласкаю, и бью, и даже насквозь часом проткну, если не по-моему выходит. Когда как… Головы наши молярские завсегда забиты, — вздохнул он, — ни ночью, ни утром, ни днем покою нет!
— Куда там покой! — отмахнулся Каравакк в сердцах, а потом спросил: — А ты с манекеном не работаешь?
— Нет, я больше с памяти.
— Ну, это всяк на свой лад, — согласился Каравакк. — В нашем деле ведь правил для всех не существует. Кто как может, так и красит. А знаешь, мне этот безголовый князь, — он ткнул в манекен кистью, — сто раз милее живого! С тем возня, нужно с ним болтать, развлекать. Это несподручно, рассеивает, а я люблю работать спокойно.
Он пододвинул свободное кресло.
— Садись!
Андрей сел. Хозяин тоже устало опустился на маленький синий диванчик, положил на колени тяжелые локти.
— Ну, расскажи, Матвеев, какие новости на белом свете? Я уже целую неделю живу затворником… Что там делается, в Канцелярии?
— Бог мой, какие там дела! — пожал плечами Матвеев. — Бегают, суетятся, ругаются. Слышно стало, что двор в Москву переедет. Так живописную команду уже подушно расписывают — кому у каких дел быть и что кому делать надлежит. Ну, и пошел раздор, все так перегрызлись, что и не глядят друг на друга! Противно сие. Ушами живут.
Каравакк с удовольствием поглядел на него, сочувственно улыбнулся. Андрей вздохнул.
— Я ныне работаю портрет Ульяна Акимовича Синявина. Сами знаете, начальника писать дело хлопотное… Вот он-то, Синявин, велел мне к вам пойти, сказал, указ Каравакку есть, чтоб Матвеева освидетельствовал в художестве. Вот и пришел! На вас полагаюсь, мастер. Бумага мне от вас нужна.
— Что ж, я готов! — сказал без задержки Каравакк. — Картину твою, что в Канцелярии висит, видел. Покаянье святого Петра. Изрядно написано, с пылом! Ничего не скажешь. Цвет хорош, скомпоновано остро. Я тебя со всей охотой аттестую! Что ж, бумага дело великое! Знаю. Вот меня сам царь вызвал, а как приехал я сюда, мой друг, так первым делом меня экзаменовать стали. Вот натура, вот холст, садись и пиши! Ну, и писал неделю…
Припомнив что-то свое, ему одному принадлежащее, Каравакк сердито повернул голову князя Черкасского затылком к себе.
— Пучится! Я вот уже десять лет в России живу — все портреты, портреты, уж весь двор переписал, все довольны, хвалят, а мне-то что? Одни деньги. Скучно все это. Не в том же совсем дело… Не в том! Верхний слой пишу, кожу одну, а до нутра не добираюсь. Некогда. Вот и цесаревен недавно писал по рисункам, они довольны, хихикают… А-а… — Он махнул рукой.
— Я видел эти портреты, — сказал Матвеев искренне, — их истинный живописец создал. Вашу кисть легко узнать, она везде видна, я не вру! Без всякой лести говорю.
— Спасибо, мой друг! Спасибо! От доброго слова у художника в душе цветы растут. Знаешь, как Леонардо говорил: высшая цель в портрете — уловить в лице душу! Вот в чем собака зарыта! Да нет, не зарыта, она здесь, — Каравакк постучал себя по груди, — она рычит и грызет сердце.
Оба помолчали.
— Матвеев! — вдруг сказал Каравакк иным уже голосом, веселым и бодрым. — Ты уже продумал, что будешь писать? Так вот, посиди, подумай, а я мигом вернусь. Закажу кое-что. А то от этого князя запить хочется. Сатана пучеглазый!
 а, Никитин — вот с кем можно поговорить об узниках и темницах.
Ведь это мастер самой большой руки во всем Петербурге.
Было уже темно. Моросил мелкий, нудный дождь. Андрей нёс завернутый в клеенку эскиз своей картины. Изредка мимо него стремительно мчалась богатая придворная карета. Наверно, во дворце было что-то торжественное.
Никитин жил не близко, и поэтому Андрей взял извозчика. Рыжий рослый жеребец бежал резво, но коляску подбрасывало на рытвинах, и внутри у Андрея все дрожало. Он закрыл глаза, вдыхая всей грудью холодный морской воздух.
Лицо его было мокро, но он не вытирал его. Все это напоминало ему Амстердам и верфи.
Вдруг за одним крутым поворотом блеснул желтый угарный огонь и донеслась пьяная песня: это кабак сбивал вечернюю выручку.
Он улыбнулся. Да, это не Голландия — там тоже любили плясать и петь, но не на улице.
Двухэтажный дом Ивана Никитина, выстроенный наподобие жилого здания во Флоренции, стоял на правом берегу Мойки-реки, близ Синего моста" И об этом имелся особый документ: "1721 года мая в 17 день, по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, по объявленному чертежу, живописцам Ивану да Роману Никитиным хоромное деревянное строение на определенном им месте для отправления живописной работы построить на каменном фундаменте наймом вольными людьми".
Это был самый вельможный участок столицы, кругом дворцы, хоромы, храмы. Строено все было затейливо, знатно и добротно. Чертеж дома Никитин сделал сам — он обучился в Италии не только живописи, но и архитектурии.
Снаружи никитинское жилище было строгое, белое и гладкое. Хотя строение было из бревен, но оштукатурено под камень.
Тяжелые створчатые двери из кованого железа казались несокрушимыми, как крепостные врата. Окна — их было четыре внизу и три вверху — не светились. "Неужто спит Иван Никитин так рано? Или ушел куда?" — разочарованно подумал Андрей.
Он легко взбежал по узким высоким ступеням каменного крыльца и постучал в дверь кулаком. На стук никто не отозвался. Тогда он грохнул посильнее. Снова тишина. Андрей стал стучать не переставая.
И вот в доме возник какой-то неясный шорох.
— Кто там? — откликнулись из-за дверей.
— Андрей Матвеев! — ответил он.
Опять наступила тишина. Потом скрипнули шаги, раздались голоса. Загремели тяжелые засовы, закладки, пробои, дверь распахнулась. И он увидел на пороге Ивана Никитина в наброшенном на плечи длинном халате. Сзади с канделябром в руках стоял мальчик.
— Здравствуй, Иван Никитич! — смущенно и почтительно сказал Андрей. — Не обессудь, что потревожил…
— За что ж судить-то? Здравствуй! Хороший гость — радость. Молодец, что пришел! Проходи!
Он взял из рук мальчика канделябр и поднял его высоко, разглядывая Андрея. Потом снова сунул канделябр мальчику.
— Дай-ка я тебя поцелую! Давно что-то не виделись. Нет, ты здорово подгадал! А я, знаешь, наработался и никак не могу уснуть, в голову всякая дрянь лезет — рожи, арапы, кафтаны золотые, попугаи. Зажгу свечи — не читается, погашу — не спится! Снова зажгу. Вот так и маюсь… Ну, встал, достал бутылку зеленого змия, приложился — вроде полегчало, а сна все нет, ни на волос не уснул. Ну, идем, идем! Очень ты к месту сейчас пришел, Андрей!
Никитин шел, зажигая по дороге стенные канделябры, пока все не осветилось ровным белым светом.
— Ну, пойдем, покажу тебе свои владения!
За шесть лет Никитин обжился здесь основательно. Везде стояла резная мебель, кресла с золочеными спинками, висели зеркала, картины иноземных мастеров. Стены сплошь были обиты шпалерами — на желтом фоне сверкали и переплетались зеленые с серебром травы.
В большой гостиной висели кортики с медными рукоятками, в ножнах, в углу на стене крест-накрест блестели две пары пистолетов с золотой насечкой, а рядом висели седло и сбруя.
У противоположной стены изящно выточенная деревянная лестница вела на верхний этаж через лаз, обтянутый красным сукном. Между печью и лестницей Андрей увидал в распахнутую дверь еще одну камору, а в ней полки с книгами, инструменты, кисти, низкий мольберт.
"У Каравакка не мастерская, а оранжерея, французский заповедник, травки да цветочки, а тут не то жилье офицера, не то каюта", — подумал Андрей.
И верно, возле двери в стену были вделаны три корабельных крюка — гака, а на них плащи, треугольная шляпа, подзорная труба, в простенке от пола до потолка высилось зеркало в раме из желтой меди.
И следующая комната была гостиная, только поменьше, поуютней.
Никитин усадил Андрея за стол, а сам — высокий, прямой, узкоплечий — ушел и явился с тем же мальчиком, который нёс на серебряном подносе бутылки, сыр и тарелку с луплеными грецкими орехами.
— Я ныне, понимаешь, один с учеником. Брат Роман подался на Москву расписывать Триумфальные ворота, да и застрял там же — не то женился, не то спутался с бабенкой. Слуги отпросились в город…
Никитин уселся рядом с Матвеевым.
— Ну как ты, Андрей, оклемался? Впрягся? — Никитин ласково смотрел на него. — Куда, спрашиваю, пропал-то?
— Да вот обживаюсь на новом месте… Мне бы, Иван Никитич, сидеть бы в мастерской и писать, писать — и чтоб никто не трогал! Вот рай!
— Ишь чего захотел! — засмеялся Никитин. — Рай ему подайте, в мастерской сидеть ему. И не трогали чтоб! Какой скорый! Милый, да живописцы спокон веков только о том и мечтали! — с жаром воскликнул Никитин. — Да нет! Так не получается. Подожди, войдешь в моду, такой тебе рай устроят — дым пойдет!
— Значит, я не последний из них! — с хитрецой ответил Матвеев и засмеялся. — Об этом же мечтаю… Живописцы братия хитрющая, они завсегда хотели парить в поднебесьях…
— Парить-то хорошо, а вот как бы в парилку не угодить. С лёта! Так тоже у нас бывает.
— Не приведи господи, Иван Никитич, ни тебе, ни мне сие не надобно! Да мне много и не требуется — полотна, красок, подрамников, харч там какой-нибудь, так ведь и этого порой нет.
— Да-а.. — Никитин вздохнул. — Все вздорожало. Лихолетье!
— Посему и пошел я, Иван Никитич, к Каравакке экзаменоваться. Надоела нужда — и пошел к нему. Принял хорошо, уважил. По правде, и не ожидал я такого, подивился чернявому. Задал он мне извод ангелом апостола Петра из темницы. Рисунок при нем сделал, а картину у себя дома писал. Все, знаешь, вроде завязалось. А вот узники… ну никак не получаются, хоть помри. И так я их, и эдак. Нет! Чувствую — не то! А почему — не знаю… Не лезут в полотно: я их туда, а они обратно. — Андрей беспомощно, совсем по-детски, улыбнулся. — Вот пришел за советом, посмотри, научи.
— Посмотрим, Андрей, поглядим, какая у тебя там беда, какая твоя забота… — Никитин усмехнулся, разливая вино. Он ловко вбросил в рот орешину, захрустел, измалывая ее крепкими зубами. — Не лезут — экое чудо! — говорил он жуя. — У тебя что? Все всегда лезет? Инда бьешься над каким-нибудь куском, всю палитру переберешь. Глянешь — все насмарку. Хоть руку отруби. И вроде все на месте — и тут, и там! Вдруг видишь — дыра зияет. Ничем ее не заткнешь. Сдерешь все, перепишешь, с грехом пополам восстановишь, что раньше было. И видишь — запорол картинку, напрочь запорол, сызнова пиши ее. А узников твоих попробуем вместе, помаракуем, все же две головы, четыре руки, авось выйдет путное что-нибудь, а? Не совсем же мы с тобой еще ремеслом оскудели?
Андрей улыбнулся, благодарно кивнул. И Иван Никитин заговорил, будто продолжая давно начатый разговор:
— Вот ты, почитай, десять лет проучился в Голландии, видывал мастеров куда повыше градусом нашего Каравакка, а приехал — и тебя снова экзаменуют, апробацию тебе выдает тот же Каравакк, вот так, брат, всё предел, его не перейдеши". Всю нашу жизнь экзаменуют нас, надсаживают, проверяют, приглядываются. Одному угодишь, так другой недоволен, ему угодишь — третий найдется, от ругателей отвертишься — воспитатели подоспеют. Стригут, бреют. То двор, то Канцелярия. Я, Андрей, спрашиваю себя: до кто ж я таков? Живописных дел мастер или заяц-стрекач? И выходит, что заяц… Так и вижу: несется за мною необузданная свора с гиком, криком, трубами, собаками. Никитина — во дворец! Никитина — в Москву, Никитина — в Курляндию! Пиши их в портрет одного за другим! И так, чтоб каждая персона была во всем достоинстве. Пер-р-рсоны! — злобно пророкотал Никитин и стукнул кулаком об стол. — Этой весной, Андрей, мне картину заказали. Так тоже через Каравакка прошел, экзаменовался. Постой-ка, сейчас покажу тебе бумагу. — Он приподнял клеенку, достал какой-то лист, протянул: — На, читай!
Матвеев стал медленно читать. Это была копия протокола Канцелярии от строений:
"По указу Его Императорского Величества, Канцелярия от строений, слушав поданного сего 1727 года мая 17 дня доношения придворного его императорского величества персонного живописного дела мастера Ивана Никитина, по которому обязуется он в Летнем его императорского величества доме написать подрядом картину Полтавской баталии живописною работою, на полотне, длиною и поперек близ трех аршин, из своих материалов, в два месяца, ценою за 80 рублей, приказали: послать его императорского величества указ к живописному мастеру Каравакку, чтоб подал в Канцелярию от строений известие, за письмо оной картины изо всех его, Никитина, материалов, какие к тому надлежащ какую цену, по мнению его, дать надлежит.
11 августа Никитин представил свою картину в Канцелярию от строений, которая поручила ее освидетельствовать Каравакку и дать заключение. И оный Каравакк признавает, что картина сия писана живописным самым добрым художеством против картины, писанной во Франции, и считает цену ей 70 рублей".
Андрей дочитал, задумался. А Никитин смотрел на него, и синие глаза его в глубоких глазницах мерцали и блестели. "Сколько я уже персон перемалевал, и не сосчитать, — подумал Никитин. — Петра Великого разов десять пришлось, дважды писал Меншикова, императрицу Екатерину тоже дважды, великих княжен всех подряд — Анну Петровну, Елизавету Петровну, Наталью Петровну, герцога Голштинского, канцлера Головкина, князя Долгорукова, духоника Дашкова, барона Строганова… Пустое дело считать всех!"
— Да-a, Андрей, не стало душе моей приюта ни в чем, все больше у нас ложь властвует, а истина — вон она, у меня на потолке, на облаках сидит — не достанешь! А теперь поговаривают уже, что в Никитине нужды больше не имеется, значит, от двора прочь, пусть он, мол, довольствуется от рук своего художества… Руки вот они! — он вытянул их перед Андреем ладонями кверху — сильные, сухие, изящные. — С голоду, положим, я не помру. Меня бесстыжесть их бесит. Клейкая, безбожная кривда их — вот что покою не дает!
Андрей оторопел. Он преклонялся перед талантом Никитина, ему нравились его звучность цвета, душевность, уверенное спокойствие, самоценность живописи. В Венеции Никитин тщательно изучал Тициана, Веронезе, Тинторетто. Мастерство у этого живописца было итальянское, твердое, четкое и в то же время певучее. Невозможно было найти мастера более русского, чем Иван Никитин. Он знал характер тех людей, которых пишет, досконально и отлично понимал все их подспудное, их слабости и сокровенную человеческую суть. Ни французы, ни итальянцы, ни голландцы так писать русских вельмож не умели — иные образы у них были перед глазами и в памяти. Они рисовали герцогов, графов, императоров, негоциантов так, как умудрили их великие учителя прошлого. И даже самого царя Петра иностранные художники — Каравакк, Танауэр, Натье, Моор — понимали и изображали как античного императора.
А Никитин был совсем не такой. Он писал Петра с искренней любовью и расположением и без всякой парадной лести. В художестве он чувствовал себя вровень с государем. Ему были близки и понятны истинность и сущность петровских преобразований. Он смотрел на свою модель острым и трезвым взглядом, и у него выходила на первый план курносость Петра, погруженного в глубокую, почти трагическую думу, полное, круглое лицо Петра — не то солдата, не то мастерового. Уверенными, властными ударами кисти создавал Никитин форму, подчеркивая гордую посадку головы сильным светом, льющимся сверху слева. Он выписывал упрямый, волевой подбородок, подстриженные усы, белесые длинные ресницы, извлекая из темно-коричневой черноты бледное и уже обрюзгшее лицо. Серебристы, серы, зеленоваты были тона в картине, но они создавали гармонию единства, еще больше обостряя поразительный, сияющий лик.
Никитин как никто из российских художников понимал значение деяний Петра, глубоко пережил одиночество размышляющей души и выразил это кистью. Вот запись, сделанная в сентябре 1721 года: "На Котлине-острову, перед литоргиею писал его величество персону живописец Иван Никитин". И еще его величество заботился, чтобы вовремя выдали Никитину денег на покупку красок, полотен, масел и на прочие к тому нужные припасы.
Писал Никитин Петра в упор, глаза в глаза, без регалий и орденов, без притворства и прикрас, прощал его и судил, жалел и утверждал, тщательно изучал и взвешивал, определяя природу и естество этого человека остро и беспощадно.
— Дай бог тебе здоровья, Иван Никитич, — сказал вдруг Андрей, волнуясь, и лицо его запылало. — Хорошо, что ты есть на земле.
— Благодарствую! — Никитин удивленно взглянул на Матвеева и подлил в свою чару.
Они чокнулись.
Андрей понимал, что услышанное от Никитина сейчас на досужий взгляд крамола, да еще какая, за такое еще как могут вздуть! Но он понял, что сказанное Никитиным давно у него наболело, не сей секунд родилось. И гордился доверием, ведь они были знакомы совсем недавно.
— Я, Иван Никитич, душой тебя понимаю, но башка все еще на голландский манер работает. Не обвык еще. А понимаю тебя я из-за того, что у нас, живописцев русских, язык общий. Я приглядываюсь, я глазами живу, не умом еще. Для меня все тут вдиковину. Вот вижу — архимандрита везут в тяжелом рыдване. Стою, провожаю взглядом. Чудо! Улицы по утрам полны народами. Трактиры, купцов тьма, бабы-стряпухи прут с базара, вельможи в париках. Чудо! А работные пошли мужики-ухари! Бочки катят, лес везут, стены возводят. Все кипит у них в руках, ладится, фабрики дымят. Кругом незнакомое, неведомое, ты пойми, уезжал — ничего этого не было! Все обворажает душу, все пленяет меня тут, в граде Петровом, соскучил я в заграницах… Меня цвет и то радует. Гляну на небо — облака несутся рваные: свет — тьма, свет — тьма!
— Так-то оно так, все тут решительно переменилось, содеяно немало. Это верно, — согласился Никитин. И дружелюбно посмотрел на Андрея. — Но сейчас для тебя все больше фасады выступают, в них вся суть, а нутро, брат, меняется к худшему — вот что горько! Ты сам вскоре поймешь, что к чему… Коли к худшему меняется, так это беда!
Андрей повторил по-деревенски:
— Бяда! У нас двух жизней нету.
— То-то и оно, что нету. Мне, Андрей, на тот год сорок стукнет. Ты-то еще молод, поживешь — посмотришь. У тебя запас есть. А у меня нету.
— И ты поживешь, Иван Никитин, я верю, вот тебе святой крест — верю я! А насчет фасадов, — помолчав, снова заговорил Андрей, — ты прав, Иван Никитич. Нутро-то — оно у нас иное, не то, что там… В Голландии какой-нибудь мастер напьется, и ведут его под руку, а он идет важно, только глазами зыркает, как филин. И с ним здороваются все. А вот я вчера иду — вижу, какой-то горемыка прямо посередь мостовой валяется, под головой шапка, и он еще руку подложил. Его экипажи объезжают, люди обходят. Поднять было пробовали, будят, а он — никак, одно только твердит: "Вы, говорит, ребята, по голове только не бейте!" Ну и оставили его в покое, пусть отдыхает, проспится — дальше пойдет. Знаешь, что с ним там, в Амстердаме, сделали бы! Вмиг бы раздавили каретами. А тут — ничего! Лежи, отсыпайся… Хорошо мне тут дышится, Иван Никитич, ей-богу!
— Да, — сказал Никитин, глядя на Андрея и думая о чем-то своем, — это так, конечно. Дышится, конечно, Легко, воздух морской. Это так! Только я тебе скажу — умер Петр, и другой наша Русь стала. Нет, совсем не то нынче, Андрей. Денег не платят, каждый волчком вертится, ворует, казна пуста… Пес с ними. И с двором тоже! Пока живу, как жил и при Петре, — не льщу, не подлаживаюсь. Нам сам господь от трудов своего художества кормиться положил — ин ладно. Прокормимся! Так нет же! Чую я над собой, Андрей, паутину, оплетает она меня, душит, подергивает. Кто-то что-то вынюхивает вокруг меня, сжимает кольцо. Бояться я их не боюсь, а всего выворачивает. Тайная канцелярия — от этих слов у людей язык сейчас отнимается. Более всего мне досадно, что царь Петр тянул-тянул Русь за повод, так тянул, что крестец у него трещал. Ну, и что выходит? Я тебя спрашиваю: что на поверку выходит?
Пшик — вот что… Говорил я об этом, не сдержался. Видать, донесли, дошло по адресу. Слышал я, что Феофан на меня взбеленился. Овод ненависти его укусил! Латинист православный! Ну и… — Никитин мрачно выругался, — и Петербург не тот стал, обветшал, опустел. Это снаружи люди бегают, копошатся, строят, корабли в море гоняют. А внутри-то пустое давно. Бегут отсюда в Москву, только давай бог ноги. Некому их теперь дубинкой гнать. В Кунсткамере небось та дубинка-то! А погуляла бы она по кое-кому. Ох, погуляла бы! Я на Феофана Прокоповича гляжу и дивлюся. Угадыватель воли Петра, вернейший его пособник… А ныне что? Своих же единомышленников рубит. Безжалостен, бессердечен, совести ни на полушку не осталося. А как плакал, причитал, — дескать, Петр дух свой оставил нам. Борзый, наглый, подхалюзничает пред теми, на кого раньше и глядеть считал зазорным. Да еще и кат хороший — ему любо на муки своих жертв глядеть. С самого бы дух выбить!
Никитин говорил отрывисто, резко, громко. Видимо, уже перестал остерегаться… И было ясно из его слов, что он не только искусный живописец, который радел, чтоб в картинах его живые люди были, страсти, истина. Нет! Он, как и Петр Великий, был ревнителем о благе отечества. Гражданин не тот, у кого чины и отличия, жалуемые за службу, а тот, кто болеет за общее дело по долгу совести и обязанности души.
Андрей пил вино, слушал Никитина. Думал: "Вот тебе и парадиз!" И все-таки оставался спокоен. Он уже и сам кое-что странное видел, но не все понимал и думал, что многое Никитину опостылело просто от собственной горечи душевной и от обиды. Как ни говори, что на двор тебе наплевать, а куда денешься?
а, Никитин — вот с кем можно поговорить об узниках и темницах.
Ведь это мастер самой большой руки во всем Петербурге.
Было уже темно. Моросил мелкий, нудный дождь. Андрей нёс завернутый в клеенку эскиз своей картины. Изредка мимо него стремительно мчалась богатая придворная карета. Наверно, во дворце было что-то торжественное.
Никитин жил не близко, и поэтому Андрей взял извозчика. Рыжий рослый жеребец бежал резво, но коляску подбрасывало на рытвинах, и внутри у Андрея все дрожало. Он закрыл глаза, вдыхая всей грудью холодный морской воздух.
Лицо его было мокро, но он не вытирал его. Все это напоминало ему Амстердам и верфи.
Вдруг за одним крутым поворотом блеснул желтый угарный огонь и донеслась пьяная песня: это кабак сбивал вечернюю выручку.
Он улыбнулся. Да, это не Голландия — там тоже любили плясать и петь, но не на улице.
Двухэтажный дом Ивана Никитина, выстроенный наподобие жилого здания во Флоренции, стоял на правом берегу Мойки-реки, близ Синего моста" И об этом имелся особый документ: "1721 года мая в 17 день, по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, по объявленному чертежу, живописцам Ивану да Роману Никитиным хоромное деревянное строение на определенном им месте для отправления живописной работы построить на каменном фундаменте наймом вольными людьми".
Это был самый вельможный участок столицы, кругом дворцы, хоромы, храмы. Строено все было затейливо, знатно и добротно. Чертеж дома Никитин сделал сам — он обучился в Италии не только живописи, но и архитектурии.
Снаружи никитинское жилище было строгое, белое и гладкое. Хотя строение было из бревен, но оштукатурено под камень.
Тяжелые створчатые двери из кованого железа казались несокрушимыми, как крепостные врата. Окна — их было четыре внизу и три вверху — не светились. "Неужто спит Иван Никитин так рано? Или ушел куда?" — разочарованно подумал Андрей.
Он легко взбежал по узким высоким ступеням каменного крыльца и постучал в дверь кулаком. На стук никто не отозвался. Тогда он грохнул посильнее. Снова тишина. Андрей стал стучать не переставая.
И вот в доме возник какой-то неясный шорох.
— Кто там? — откликнулись из-за дверей.
— Андрей Матвеев! — ответил он.
Опять наступила тишина. Потом скрипнули шаги, раздались голоса. Загремели тяжелые засовы, закладки, пробои, дверь распахнулась. И он увидел на пороге Ивана Никитина в наброшенном на плечи длинном халате. Сзади с канделябром в руках стоял мальчик.
— Здравствуй, Иван Никитич! — смущенно и почтительно сказал Андрей. — Не обессудь, что потревожил…
— За что ж судить-то? Здравствуй! Хороший гость — радость. Молодец, что пришел! Проходи!
Он взял из рук мальчика канделябр и поднял его высоко, разглядывая Андрея. Потом снова сунул канделябр мальчику.
— Дай-ка я тебя поцелую! Давно что-то не виделись. Нет, ты здорово подгадал! А я, знаешь, наработался и никак не могу уснуть, в голову всякая дрянь лезет — рожи, арапы, кафтаны золотые, попугаи. Зажгу свечи — не читается, погашу — не спится! Снова зажгу. Вот так и маюсь… Ну, встал, достал бутылку зеленого змия, приложился — вроде полегчало, а сна все нет, ни на волос не уснул. Ну, идем, идем! Очень ты к месту сейчас пришел, Андрей!
Никитин шел, зажигая по дороге стенные канделябры, пока все не осветилось ровным белым светом.
— Ну, пойдем, покажу тебе свои владения!
За шесть лет Никитин обжился здесь основательно. Везде стояла резная мебель, кресла с золочеными спинками, висели зеркала, картины иноземных мастеров. Стены сплошь были обиты шпалерами — на желтом фоне сверкали и переплетались зеленые с серебром травы.
В большой гостиной висели кортики с медными рукоятками, в ножнах, в углу на стене крест-накрест блестели две пары пистолетов с золотой насечкой, а рядом висели седло и сбруя.
У противоположной стены изящно выточенная деревянная лестница вела на верхний этаж через лаз, обтянутый красным сукном. Между печью и лестницей Андрей увидал в распахнутую дверь еще одну камору, а в ней полки с книгами, инструменты, кисти, низкий мольберт.
"У Каравакка не мастерская, а оранжерея, французский заповедник, травки да цветочки, а тут не то жилье офицера, не то каюта", — подумал Андрей.
И верно, возле двери в стену были вделаны три корабельных крюка — гака, а на них плащи, треугольная шляпа, подзорная труба, в простенке от пола до потолка высилось зеркало в раме из желтой меди.
И следующая комната была гостиная, только поменьше, поуютней.
Никитин усадил Андрея за стол, а сам — высокий, прямой, узкоплечий — ушел и явился с тем же мальчиком, который нёс на серебряном подносе бутылки, сыр и тарелку с луплеными грецкими орехами.
— Я ныне, понимаешь, один с учеником. Брат Роман подался на Москву расписывать Триумфальные ворота, да и застрял там же — не то женился, не то спутался с бабенкой. Слуги отпросились в город…
Никитин уселся рядом с Матвеевым.
— Ну как ты, Андрей, оклемался? Впрягся? — Никитин ласково смотрел на него. — Куда, спрашиваю, пропал-то?
— Да вот обживаюсь на новом месте… Мне бы, Иван Никитич, сидеть бы в мастерской и писать, писать — и чтоб никто не трогал! Вот рай!
— Ишь чего захотел! — засмеялся Никитин. — Рай ему подайте, в мастерской сидеть ему. И не трогали чтоб! Какой скорый! Милый, да живописцы спокон веков только о том и мечтали! — с жаром воскликнул Никитин. — Да нет! Так не получается. Подожди, войдешь в моду, такой тебе рай устроят — дым пойдет!
— Значит, я не последний из них! — с хитрецой ответил Матвеев и засмеялся. — Об этом же мечтаю… Живописцы братия хитрющая, они завсегда хотели парить в поднебесьях…
— Парить-то хорошо, а вот как бы в парилку не угодить. С лёта! Так тоже у нас бывает.
— Не приведи господи, Иван Никитич, ни тебе, ни мне сие не надобно! Да мне много и не требуется — полотна, красок, подрамников, харч там какой-нибудь, так ведь и этого порой нет.
— Да-а.. — Никитин вздохнул. — Все вздорожало. Лихолетье!
— Посему и пошел я, Иван Никитич, к Каравакке экзаменоваться. Надоела нужда — и пошел к нему. Принял хорошо, уважил. По правде, и не ожидал я такого, подивился чернявому. Задал он мне извод ангелом апостола Петра из темницы. Рисунок при нем сделал, а картину у себя дома писал. Все, знаешь, вроде завязалось. А вот узники… ну никак не получаются, хоть помри. И так я их, и эдак. Нет! Чувствую — не то! А почему — не знаю… Не лезут в полотно: я их туда, а они обратно. — Андрей беспомощно, совсем по-детски, улыбнулся. — Вот пришел за советом, посмотри, научи.
— Посмотрим, Андрей, поглядим, какая у тебя там беда, какая твоя забота… — Никитин усмехнулся, разливая вино. Он ловко вбросил в рот орешину, захрустел, измалывая ее крепкими зубами. — Не лезут — экое чудо! — говорил он жуя. — У тебя что? Все всегда лезет? Инда бьешься над каким-нибудь куском, всю палитру переберешь. Глянешь — все насмарку. Хоть руку отруби. И вроде все на месте — и тут, и там! Вдруг видишь — дыра зияет. Ничем ее не заткнешь. Сдерешь все, перепишешь, с грехом пополам восстановишь, что раньше было. И видишь — запорол картинку, напрочь запорол, сызнова пиши ее. А узников твоих попробуем вместе, помаракуем, все же две головы, четыре руки, авось выйдет путное что-нибудь, а? Не совсем же мы с тобой еще ремеслом оскудели?
Андрей улыбнулся, благодарно кивнул. И Иван Никитин заговорил, будто продолжая давно начатый разговор:
— Вот ты, почитай, десять лет проучился в Голландии, видывал мастеров куда повыше градусом нашего Каравакка, а приехал — и тебя снова экзаменуют, апробацию тебе выдает тот же Каравакк, вот так, брат, всё предел, его не перейдеши". Всю нашу жизнь экзаменуют нас, надсаживают, проверяют, приглядываются. Одному угодишь, так другой недоволен, ему угодишь — третий найдется, от ругателей отвертишься — воспитатели подоспеют. Стригут, бреют. То двор, то Канцелярия. Я, Андрей, спрашиваю себя: до кто ж я таков? Живописных дел мастер или заяц-стрекач? И выходит, что заяц… Так и вижу: несется за мною необузданная свора с гиком, криком, трубами, собаками. Никитина — во дворец! Никитина — в Москву, Никитина — в Курляндию! Пиши их в портрет одного за другим! И так, чтоб каждая персона была во всем достоинстве. Пер-р-рсоны! — злобно пророкотал Никитин и стукнул кулаком об стол. — Этой весной, Андрей, мне картину заказали. Так тоже через Каравакка прошел, экзаменовался. Постой-ка, сейчас покажу тебе бумагу. — Он приподнял клеенку, достал какой-то лист, протянул: — На, читай!
Матвеев стал медленно читать. Это была копия протокола Канцелярии от строений:
"По указу Его Императорского Величества, Канцелярия от строений, слушав поданного сего 1727 года мая 17 дня доношения придворного его императорского величества персонного живописного дела мастера Ивана Никитина, по которому обязуется он в Летнем его императорского величества доме написать подрядом картину Полтавской баталии живописною работою, на полотне, длиною и поперек близ трех аршин, из своих материалов, в два месяца, ценою за 80 рублей, приказали: послать его императорского величества указ к живописному мастеру Каравакку, чтоб подал в Канцелярию от строений известие, за письмо оной картины изо всех его, Никитина, материалов, какие к тому надлежащ какую цену, по мнению его, дать надлежит.
11 августа Никитин представил свою картину в Канцелярию от строений, которая поручила ее освидетельствовать Каравакку и дать заключение. И оный Каравакк признавает, что картина сия писана живописным самым добрым художеством против картины, писанной во Франции, и считает цену ей 70 рублей".
Андрей дочитал, задумался. А Никитин смотрел на него, и синие глаза его в глубоких глазницах мерцали и блестели. "Сколько я уже персон перемалевал, и не сосчитать, — подумал Никитин. — Петра Великого разов десять пришлось, дважды писал Меншикова, императрицу Екатерину тоже дважды, великих княжен всех подряд — Анну Петровну, Елизавету Петровну, Наталью Петровну, герцога Голштинского, канцлера Головкина, князя Долгорукова, духоника Дашкова, барона Строганова… Пустое дело считать всех!"
— Да-a, Андрей, не стало душе моей приюта ни в чем, все больше у нас ложь властвует, а истина — вон она, у меня на потолке, на облаках сидит — не достанешь! А теперь поговаривают уже, что в Никитине нужды больше не имеется, значит, от двора прочь, пусть он, мол, довольствуется от рук своего художества… Руки вот они! — он вытянул их перед Андреем ладонями кверху — сильные, сухие, изящные. — С голоду, положим, я не помру. Меня бесстыжесть их бесит. Клейкая, безбожная кривда их — вот что покою не дает!
Андрей оторопел. Он преклонялся перед талантом Никитина, ему нравились его звучность цвета, душевность, уверенное спокойствие, самоценность живописи. В Венеции Никитин тщательно изучал Тициана, Веронезе, Тинторетто. Мастерство у этого живописца было итальянское, твердое, четкое и в то же время певучее. Невозможно было найти мастера более русского, чем Иван Никитин. Он знал характер тех людей, которых пишет, досконально и отлично понимал все их подспудное, их слабости и сокровенную человеческую суть. Ни французы, ни итальянцы, ни голландцы так писать русских вельмож не умели — иные образы у них были перед глазами и в памяти. Они рисовали герцогов, графов, императоров, негоциантов так, как умудрили их великие учителя прошлого. И даже самого царя Петра иностранные художники — Каравакк, Танауэр, Натье, Моор — понимали и изображали как античного императора.
А Никитин был совсем не такой. Он писал Петра с искренней любовью и расположением и без всякой парадной лести. В художестве он чувствовал себя вровень с государем. Ему были близки и понятны истинность и сущность петровских преобразований. Он смотрел на свою модель острым и трезвым взглядом, и у него выходила на первый план курносость Петра, погруженного в глубокую, почти трагическую думу, полное, круглое лицо Петра — не то солдата, не то мастерового. Уверенными, властными ударами кисти создавал Никитин форму, подчеркивая гордую посадку головы сильным светом, льющимся сверху слева. Он выписывал упрямый, волевой подбородок, подстриженные усы, белесые длинные ресницы, извлекая из темно-коричневой черноты бледное и уже обрюзгшее лицо. Серебристы, серы, зеленоваты были тона в картине, но они создавали гармонию единства, еще больше обостряя поразительный, сияющий лик.
Никитин как никто из российских художников понимал значение деяний Петра, глубоко пережил одиночество размышляющей души и выразил это кистью. Вот запись, сделанная в сентябре 1721 года: "На Котлине-острову, перед литоргиею писал его величество персону живописец Иван Никитин". И еще его величество заботился, чтобы вовремя выдали Никитину денег на покупку красок, полотен, масел и на прочие к тому нужные припасы.
Писал Никитин Петра в упор, глаза в глаза, без регалий и орденов, без притворства и прикрас, прощал его и судил, жалел и утверждал, тщательно изучал и взвешивал, определяя природу и естество этого человека остро и беспощадно.
— Дай бог тебе здоровья, Иван Никитич, — сказал вдруг Андрей, волнуясь, и лицо его запылало. — Хорошо, что ты есть на земле.
— Благодарствую! — Никитин удивленно взглянул на Матвеева и подлил в свою чару.
Они чокнулись.
Андрей понимал, что услышанное от Никитина сейчас на досужий взгляд крамола, да еще какая, за такое еще как могут вздуть! Но он понял, что сказанное Никитиным давно у него наболело, не сей секунд родилось. И гордился доверием, ведь они были знакомы совсем недавно.
— Я, Иван Никитич, душой тебя понимаю, но башка все еще на голландский манер работает. Не обвык еще. А понимаю тебя я из-за того, что у нас, живописцев русских, язык общий. Я приглядываюсь, я глазами живу, не умом еще. Для меня все тут вдиковину. Вот вижу — архимандрита везут в тяжелом рыдване. Стою, провожаю взглядом. Чудо! Улицы по утрам полны народами. Трактиры, купцов тьма, бабы-стряпухи прут с базара, вельможи в париках. Чудо! А работные пошли мужики-ухари! Бочки катят, лес везут, стены возводят. Все кипит у них в руках, ладится, фабрики дымят. Кругом незнакомое, неведомое, ты пойми, уезжал — ничего этого не было! Все обворажает душу, все пленяет меня тут, в граде Петровом, соскучил я в заграницах… Меня цвет и то радует. Гляну на небо — облака несутся рваные: свет — тьма, свет — тьма!
— Так-то оно так, все тут решительно переменилось, содеяно немало. Это верно, — согласился Никитин. И дружелюбно посмотрел на Андрея. — Но сейчас для тебя все больше фасады выступают, в них вся суть, а нутро, брат, меняется к худшему — вот что горько! Ты сам вскоре поймешь, что к чему… Коли к худшему меняется, так это беда!
Андрей повторил по-деревенски:
— Бяда! У нас двух жизней нету.
— То-то и оно, что нету. Мне, Андрей, на тот год сорок стукнет. Ты-то еще молод, поживешь — посмотришь. У тебя запас есть. А у меня нету.
— И ты поживешь, Иван Никитин, я верю, вот тебе святой крест — верю я! А насчет фасадов, — помолчав, снова заговорил Андрей, — ты прав, Иван Никитич. Нутро-то — оно у нас иное, не то, что там… В Голландии какой-нибудь мастер напьется, и ведут его под руку, а он идет важно, только глазами зыркает, как филин. И с ним здороваются все. А вот я вчера иду — вижу, какой-то горемыка прямо посередь мостовой валяется, под головой шапка, и он еще руку подложил. Его экипажи объезжают, люди обходят. Поднять было пробовали, будят, а он — никак, одно только твердит: "Вы, говорит, ребята, по голове только не бейте!" Ну и оставили его в покое, пусть отдыхает, проспится — дальше пойдет. Знаешь, что с ним там, в Амстердаме, сделали бы! Вмиг бы раздавили каретами. А тут — ничего! Лежи, отсыпайся… Хорошо мне тут дышится, Иван Никитич, ей-богу!
— Да, — сказал Никитин, глядя на Андрея и думая о чем-то своем, — это так, конечно. Дышится, конечно, Легко, воздух морской. Это так! Только я тебе скажу — умер Петр, и другой наша Русь стала. Нет, совсем не то нынче, Андрей. Денег не платят, каждый волчком вертится, ворует, казна пуста… Пес с ними. И с двором тоже! Пока живу, как жил и при Петре, — не льщу, не подлаживаюсь. Нам сам господь от трудов своего художества кормиться положил — ин ладно. Прокормимся! Так нет же! Чую я над собой, Андрей, паутину, оплетает она меня, душит, подергивает. Кто-то что-то вынюхивает вокруг меня, сжимает кольцо. Бояться я их не боюсь, а всего выворачивает. Тайная канцелярия — от этих слов у людей язык сейчас отнимается. Более всего мне досадно, что царь Петр тянул-тянул Русь за повод, так тянул, что крестец у него трещал. Ну, и что выходит? Я тебя спрашиваю: что на поверку выходит?
Пшик — вот что… Говорил я об этом, не сдержался. Видать, донесли, дошло по адресу. Слышал я, что Феофан на меня взбеленился. Овод ненависти его укусил! Латинист православный! Ну и… — Никитин мрачно выругался, — и Петербург не тот стал, обветшал, опустел. Это снаружи люди бегают, копошатся, строят, корабли в море гоняют. А внутри-то пустое давно. Бегут отсюда в Москву, только давай бог ноги. Некому их теперь дубинкой гнать. В Кунсткамере небось та дубинка-то! А погуляла бы она по кое-кому. Ох, погуляла бы! Я на Феофана Прокоповича гляжу и дивлюся. Угадыватель воли Петра, вернейший его пособник… А ныне что? Своих же единомышленников рубит. Безжалостен, бессердечен, совести ни на полушку не осталося. А как плакал, причитал, — дескать, Петр дух свой оставил нам. Борзый, наглый, подхалюзничает пред теми, на кого раньше и глядеть считал зазорным. Да еще и кат хороший — ему любо на муки своих жертв глядеть. С самого бы дух выбить!
Никитин говорил отрывисто, резко, громко. Видимо, уже перестал остерегаться… И было ясно из его слов, что он не только искусный живописец, который радел, чтоб в картинах его живые люди были, страсти, истина. Нет! Он, как и Петр Великий, был ревнителем о благе отечества. Гражданин не тот, у кого чины и отличия, жалуемые за службу, а тот, кто болеет за общее дело по долгу совести и обязанности души.
Андрей пил вино, слушал Никитина. Думал: "Вот тебе и парадиз!" И все-таки оставался спокоен. Он уже и сам кое-что странное видел, но не все понимал и думал, что многое Никитину опостылело просто от собственной горечи душевной и от обиды. Как ни говори, что на двор тебе наплевать, а куда денешься?
 ыло указано 10 октября 1727 года объявить всенародно: император Петр Второй возложит на себя корону в Москве, там же будет и его резиденция.
Двор спешно готовился к отъезду. Все! Конец финским болотам! К черту петербургские дворцы и хоромы, куда их силой загнал Петр!
Придирчиво подбирали лошадей. Делали смотры ездовому парку. Смазывались дегтем — в который же раз! — колеса. Они должны были вертеться бесшумно и легко. Выкатывали кареты — розовые, голубые, черные с золотыми орлами: ремонтировали, подкрашивали, обновляли.
Срочно готовили парадные одеяния для московских балов. Не уставая сверкали иглы в руках портных. Кроились горностаевые мантии и накидки. В ход шли разные меха — куница и бобер, лисы и соболя, лбы и лапы.
Дни и ночи корпели ювелиры — шлифовали, огранивали, оправляли. Все торопились. Теперь уже скоро, скоро зазвонят колокола и поскачут кони…
Сановная знать ликовала: ждали-ждали, молились-молились — и домолились. Упросили всевышнего. Услыхал, помог. А ныне в Москву, подальше от вечных туманов, треклятых ветров и потопов! Давно бы так сбежать божьим людям, да Петр — пропасть бы ему раньше! — ни за что не отпускал. А вот внук-то его, вот он-то поумней вышел…
В это время Андрей Матвеев жил в подмосковном сельце Петровском, в имении князя Ивана Голицына. Там ему подвернулся выгодный заказ на два портрета их сиятельств. Не случись этого, худо пришлось бы Андрею…
Князья Голицыны приняли моляра радушно, обласкали, поселили с комфортом в барском доме, ничем не стесняли, и он зажил в полное своё удовольствие. Вольготно бродил по пустошам и отхожим пашням, ненадолго останавливался передохнуть, ходил в окрестные деревни — в Булатово, Оринкино, Бузланово, любовался тихой речкой Липочкой.
Андрей брал с собой альбом — вдруг захочется срисовать ландшафт или еще что, — но потом забывал о нем.
Пришли к Матвееву те редкие радостные минуты, когда хотелось спокойно разобраться в самом себе — что у тебя в голове, что в руке, что на душе… Но, даже размышляя, живописец вбирал в себя все: цвет неба, песню зорянки, слушал, как монотонно шумят в листве дождевые капли. Постепенно к нему приходила здоровая усталость, и на щеках проступал румянец свежести, простора и жизни.
Одетая в багрянец природа, грустная и торжественная в своем предзимнем увядании, вызывала у Матвеева чувство какого-то светлого упоения. Он отдыхал и ничего не ждал больше — ни от людей, ни от судьбы, ни от себя самого.
Какое блаженство — никуда не спешить, никому не повиноваться, а только глядеть, думать и вот так шагать и шагать без конца!
В замок, как почтительно называл свой дом князь Иван Алексеевич Голицын, Матвеев возвращался только вечером и еще довольно долго сидел на лавочке, разглядывая его. Замок ему нравился, он был прост и легок: стрельчатая готика, большие окна, много комнат. Весь фасад занимает галерея. Боковые двери соединяют ее с флигелями. Почти к самому замку подступал густой лес. В треугольнике воды, там, внизу, где сливались Истра и Москва-река, отражались деревья и низкое небо. В непогоду оно было серым и туманным.
Очень хороша была каменная церковь в Петровском — высокий восьмигранник с четырьмя полукруглыми выступами. Башня венчалась куполом, а из него подымалась еще маленькая башенка, в ней помещалась звонница. Утром и вечером на ней пели на разные голоса колокола.
Удивительный иконостас был в этом храме Успения. Благоговейно всматривался в него Матвеев. Он знал, что иконостас этот писали тут же, в Петровском, Симон Ушаков со своими учениками. Бывшие владельцы замка — Прозоровские — засадили иконописцев и сказали: "Вот харч, вот водка — и сидеть, пока не окончите!" И все было сделано — семь саженей в высоту, а в них пять иконных рядов. Каждый в человеческий рост! Матвееву помимо портретов теперь предстояло подновить иконостас. Вот это дело было ему по душе. Он еще в Голландии полюбил работать по дереву.
Немного обжившись, Андрей заговорил о первом сеансе. Начать он захотел с княгини и сговорился о времени с дворецким.
ыло указано 10 октября 1727 года объявить всенародно: император Петр Второй возложит на себя корону в Москве, там же будет и его резиденция.
Двор спешно готовился к отъезду. Все! Конец финским болотам! К черту петербургские дворцы и хоромы, куда их силой загнал Петр!
Придирчиво подбирали лошадей. Делали смотры ездовому парку. Смазывались дегтем — в который же раз! — колеса. Они должны были вертеться бесшумно и легко. Выкатывали кареты — розовые, голубые, черные с золотыми орлами: ремонтировали, подкрашивали, обновляли.
Срочно готовили парадные одеяния для московских балов. Не уставая сверкали иглы в руках портных. Кроились горностаевые мантии и накидки. В ход шли разные меха — куница и бобер, лисы и соболя, лбы и лапы.
Дни и ночи корпели ювелиры — шлифовали, огранивали, оправляли. Все торопились. Теперь уже скоро, скоро зазвонят колокола и поскачут кони…
Сановная знать ликовала: ждали-ждали, молились-молились — и домолились. Упросили всевышнего. Услыхал, помог. А ныне в Москву, подальше от вечных туманов, треклятых ветров и потопов! Давно бы так сбежать божьим людям, да Петр — пропасть бы ему раньше! — ни за что не отпускал. А вот внук-то его, вот он-то поумней вышел…
В это время Андрей Матвеев жил в подмосковном сельце Петровском, в имении князя Ивана Голицына. Там ему подвернулся выгодный заказ на два портрета их сиятельств. Не случись этого, худо пришлось бы Андрею…
Князья Голицыны приняли моляра радушно, обласкали, поселили с комфортом в барском доме, ничем не стесняли, и он зажил в полное своё удовольствие. Вольготно бродил по пустошам и отхожим пашням, ненадолго останавливался передохнуть, ходил в окрестные деревни — в Булатово, Оринкино, Бузланово, любовался тихой речкой Липочкой.
Андрей брал с собой альбом — вдруг захочется срисовать ландшафт или еще что, — но потом забывал о нем.
Пришли к Матвееву те редкие радостные минуты, когда хотелось спокойно разобраться в самом себе — что у тебя в голове, что в руке, что на душе… Но, даже размышляя, живописец вбирал в себя все: цвет неба, песню зорянки, слушал, как монотонно шумят в листве дождевые капли. Постепенно к нему приходила здоровая усталость, и на щеках проступал румянец свежести, простора и жизни.
Одетая в багрянец природа, грустная и торжественная в своем предзимнем увядании, вызывала у Матвеева чувство какого-то светлого упоения. Он отдыхал и ничего не ждал больше — ни от людей, ни от судьбы, ни от себя самого.
Какое блаженство — никуда не спешить, никому не повиноваться, а только глядеть, думать и вот так шагать и шагать без конца!
В замок, как почтительно называл свой дом князь Иван Алексеевич Голицын, Матвеев возвращался только вечером и еще довольно долго сидел на лавочке, разглядывая его. Замок ему нравился, он был прост и легок: стрельчатая готика, большие окна, много комнат. Весь фасад занимает галерея. Боковые двери соединяют ее с флигелями. Почти к самому замку подступал густой лес. В треугольнике воды, там, внизу, где сливались Истра и Москва-река, отражались деревья и низкое небо. В непогоду оно было серым и туманным.
Очень хороша была каменная церковь в Петровском — высокий восьмигранник с четырьмя полукруглыми выступами. Башня венчалась куполом, а из него подымалась еще маленькая башенка, в ней помещалась звонница. Утром и вечером на ней пели на разные голоса колокола.
Удивительный иконостас был в этом храме Успения. Благоговейно всматривался в него Матвеев. Он знал, что иконостас этот писали тут же, в Петровском, Симон Ушаков со своими учениками. Бывшие владельцы замка — Прозоровские — засадили иконописцев и сказали: "Вот харч, вот водка — и сидеть, пока не окончите!" И все было сделано — семь саженей в высоту, а в них пять иконных рядов. Каждый в человеческий рост! Матвееву помимо портретов теперь предстояло подновить иконостас. Вот это дело было ему по душе. Он еще в Голландии полюбил работать по дереву.
Немного обжившись, Андрей заговорил о первом сеансе. Начать он захотел с княгини и сговорился о времени с дворецким.




 ысоко над Санкт-Петербургом среди предрассветного неба висел человек. Он отчаянно ругался.
Ему казалось, что он болтается в петле, как мелкий карманник.
Сонные солдаты, что нехотя подняли его, остались внизу. Где-то на самом дне этой ужасной бездны была твердая земля, а тут он стоял в люльке, и люлька эта ходила под ним, как утлый бот в непогоду. Его подташнивало, как при морской качке, только сейчас под ногами была не белесая вода, а темная каменная пропасть.
Яган Ферстер, голландец, мастер часового цеха из Амстердама, старался не глядеть вниз, в эту бездну, но когда все-таки не удерживался и взглядывал (люлька в это время вставала чуть ли не торчком), у него сразу заламывало под ногтями.
Проклятый канат! Он скрипит и перетирается. И сколько он еще выдержит? И подвешенная душа Ягана тоже перетирается.
Уже было почти светло, и с Невы клочьями плыл туман.
Да, было, было отчего ругаться Ягану Ферстеру!
Какого черта ему, уважаемому человеку, известному мастеру курантов, болтаться здесь?! Увертливая доска под ногами ходила-кренилась, и ее постоянно нужно было выправлять и вылавливать ногами. Тысяча чертей!
Ой, он просто сбесился! Когда нужно обращаться к господу, рн поминает нечистого… Вот нечистый и пустил его волчком, и не дает добраться до единственной твердой опоры. А она, эта опора, была совсем рядом — амбразура узкого, продолговатого оконца в куполе колокольни.
Ах, проклятые, ах, немытые! Сулили рай, орден, а засунули чуть ли не в преисподнюю. И он, старый идиот, поверил им! Поделом ему, поделом, чурбак поганый! Снова выругался. Куда только не полезешь ради проклятых денег! На русских, на город ему, видите ли, захотелось посмотреть! А в этом городе ровно никому нет до него никакого дела! Болтайся себе, срывайся, убивайся! Ах ты господи, боже мой! Где еще найдешь такого идиота? Паче всего, трепетнее всего, дороже всего Яган любил часы и колокольную музыку. Ее он изучил, ей был предан, только ей и поклонялся. Она, проклятая, и завлекла его в Санкт-Петербург. А деньги он бы и дома заработал. Так нет, понесло!
Люлька чудовищно дернулась, заскрежетала о кирпичи колокольни.
Часовщику показалось, что с него сдирают кожу. И сколько ему тут изводиться?
Он раскачивался вдоль стены, как маятник.
"Вот перетрется канат — и все!" — устало и почти безучастно подумал голландец. И конец, и останется от него мокрое место! И на что тогда деньги, ордена!.. Тысяча чертей — больших и маленьких! Господи, он опять призвал нечистого…
Черный провал окна в колокольне скользил, надвигался и уходил назад.
Да стой же, наконец! Стой, окно! Стой, башня! Стой, люлька!
Стойте, стойте, стойте!! Он из последних сил рвался к окну, а бес вел его в сторону. Он всем телом жался к шпилю поближе, а черт его гнал от шпиля, от шпиля.
А тут еще вдруг поднялся от Невы сырой ветер, и он сразу продрог до зубов. Через минуту Яган уже и рук не чувствовал — ни ту, что держалась за веревку, ни ту, что дрожала и пыталась забросить маленький железный якорь в черный провал окна.
Как ему удалось это все-таки сделать, он и сам не понимал. Но в первый раз за все это время он подумал о себе хорошо — хоть на что-то он еще способен. Мужик все же, не баба! Люлька дернулась и замерла, будто она всегда так послушно была пришвартована к окну. Скрип прекратился.
Стало очень тихо. Только снизу, с земли, кто-то из солдат удивленно и весело крикнул:
— Гляди-ка, немчура-то наш, залез все-таки! Ну, хват!
— Лучче б он шмякнулся, дьявол! Нам не мерзнуть, и делов поменее.
А Яган на коленях и на руках, а потом просто на пузе протиснулся в узкое окно. И очутился почти в барсучьей норе. Что-то хрустело под ним.
Пахнуло мокрым кирпичом. Часовщик перевел дыхание. Грязной рукой, отер потный лоб. Подтянулся, встал на ноги. Выглянул в окно. Через туман было видно желтое расплывчатое пятно фонаря и неясные фигуры людей.
Потом как сквозь мутную бумагу Яган-часовщик увидел город — волшебный, холодный, перламутровый. Он вставал церквями, соборами, дворцами, слободами, каменными бастионами. Мастер различал Петергоф, Кроншлот, Ораниенбаум, в которых он уже успел побывать.
Город походил на правильный овал с розоватыми краями. При самом взморье, между посверкивающей Большой Невой и Малой Невою, лежал Васильевский остров. По правую же сторону город прорезан был каналами. С колокольни открывался вид на длинный и прямой проспект, похожий на аллею — столько здесь было деревьев.
"Вот дьяволы, какой город спроворили! — Яган ругнулся уже беззлобно и не боясь бога, ибо бог ему был сейчас не нужен. — И что за диковинный народ, — с легкой неприязнью подумал мастер, — город на болоте могут поставить, а довести лестницу до самого купола — так нет, на это ни рук, ни головы не хватило. Ведь была же она до пожара. Ведь была. Вот и лезь, как кошка, царапайся, а сорвешься — туда и дорога!"
Яган Ферстер постоял еще, приходя в себя, перевел дыханье и даже что-то такое крикнул туда, вниз, солдатам: "Ви, шеловеки, мать вашу в крест и в оглоблу!" Но горло его пересохло, да и ругался он по-русски не так, как все в России, — голосисто и горячо, а с натугой и с боязнью. Солдаты внизу и не поняли, но дружно захохотали и тут же ответили ему — кто по-голландски, кто по-немецки. Что-что, а ругаться в Санкт-Петербурге умели на всех сущих языках.
Яган спрыгнул на кирпичный пол колокольни, расстегнул широкий пояс и начал снимать инструменты. Тут поверх ватного кафтана у него оказался весь необходимый набор — гаечные ключи разных размеров, зубила, конус, метровка, молоток увесистый, скребки мягкие и жесткие, щетки такие и эдакие, масленки большие и малые, плоскогубцы, кусачки, резаки и еще какие-то заковырины и крючки, названия и назначенье которых знали только дел часовых мастера.
Яган послушал ход часов, они шли исправно, но колокола давно уже молчали. А их тут было изрядно — тридцать пять больших и малых колоколов. Целый музыкальный город. У всякого колокола было по два молота и по одному языку, часовые куранты играли молотами, а полуденные — язычками. Яган был этим часам земляк, их привезли из Амстердама в 1720 году, заплатив мастерам сорок пять тысяч рублей.
Часовщик засветил фонарь и приступил к работе. Она была срочная, особая царская. Надо было срезать застывшие куски масла, отладить часовую музыку, заново смазать все части самыми лучшими маслами, все протереть и проверить, подтянуть ослабевшие конуса, установить степень крепления болтов. Работы было много, но Яган был примерный мастер, его знали и в славном городе Потсдаме, и в Лондоне. А уж там-то каких только не было умельцев! И все же Ферстер Яган был и среди них мастер мастеров, и впрямь ли руки у него золотые, или ухо золотое, только эту музыку, наверное, один он и мог сладить. Не знал он, верно, что еще и верхолазом придется ему побыть. А то бы и на аркане его не вытащили. Он работал с великой охотой, споро, но и не больно торопясь. Как и надлежит мастеру его ранга и достоинства.
К рассвету эта деликатная, особая царская работа была окончена. В последний раз ощупав, огладив, словно лаская, и осмотрев каждый колокол, нежно потрогав каждый молот и язык, Яган вздохнул облегченно, обтер руки тряпкой, собрал инструменты, подпоясался и уже уверенно спрыгнул в неподвижную люльку. Там он вытащил молоток и несколько раз ударил в привязанную к борту медную тарелку. Это был условленный знак.
Внизу зашевелились. Люлька, покачиваясь, медленно пошла вниз.
ысоко над Санкт-Петербургом среди предрассветного неба висел человек. Он отчаянно ругался.
Ему казалось, что он болтается в петле, как мелкий карманник.
Сонные солдаты, что нехотя подняли его, остались внизу. Где-то на самом дне этой ужасной бездны была твердая земля, а тут он стоял в люльке, и люлька эта ходила под ним, как утлый бот в непогоду. Его подташнивало, как при морской качке, только сейчас под ногами была не белесая вода, а темная каменная пропасть.
Яган Ферстер, голландец, мастер часового цеха из Амстердама, старался не глядеть вниз, в эту бездну, но когда все-таки не удерживался и взглядывал (люлька в это время вставала чуть ли не торчком), у него сразу заламывало под ногтями.
Проклятый канат! Он скрипит и перетирается. И сколько он еще выдержит? И подвешенная душа Ягана тоже перетирается.
Уже было почти светло, и с Невы клочьями плыл туман.
Да, было, было отчего ругаться Ягану Ферстеру!
Какого черта ему, уважаемому человеку, известному мастеру курантов, болтаться здесь?! Увертливая доска под ногами ходила-кренилась, и ее постоянно нужно было выправлять и вылавливать ногами. Тысяча чертей!
Ой, он просто сбесился! Когда нужно обращаться к господу, рн поминает нечистого… Вот нечистый и пустил его волчком, и не дает добраться до единственной твердой опоры. А она, эта опора, была совсем рядом — амбразура узкого, продолговатого оконца в куполе колокольни.
Ах, проклятые, ах, немытые! Сулили рай, орден, а засунули чуть ли не в преисподнюю. И он, старый идиот, поверил им! Поделом ему, поделом, чурбак поганый! Снова выругался. Куда только не полезешь ради проклятых денег! На русских, на город ему, видите ли, захотелось посмотреть! А в этом городе ровно никому нет до него никакого дела! Болтайся себе, срывайся, убивайся! Ах ты господи, боже мой! Где еще найдешь такого идиота? Паче всего, трепетнее всего, дороже всего Яган любил часы и колокольную музыку. Ее он изучил, ей был предан, только ей и поклонялся. Она, проклятая, и завлекла его в Санкт-Петербург. А деньги он бы и дома заработал. Так нет, понесло!
Люлька чудовищно дернулась, заскрежетала о кирпичи колокольни.
Часовщику показалось, что с него сдирают кожу. И сколько ему тут изводиться?
Он раскачивался вдоль стены, как маятник.
"Вот перетрется канат — и все!" — устало и почти безучастно подумал голландец. И конец, и останется от него мокрое место! И на что тогда деньги, ордена!.. Тысяча чертей — больших и маленьких! Господи, он опять призвал нечистого…
Черный провал окна в колокольне скользил, надвигался и уходил назад.
Да стой же, наконец! Стой, окно! Стой, башня! Стой, люлька!
Стойте, стойте, стойте!! Он из последних сил рвался к окну, а бес вел его в сторону. Он всем телом жался к шпилю поближе, а черт его гнал от шпиля, от шпиля.
А тут еще вдруг поднялся от Невы сырой ветер, и он сразу продрог до зубов. Через минуту Яган уже и рук не чувствовал — ни ту, что держалась за веревку, ни ту, что дрожала и пыталась забросить маленький железный якорь в черный провал окна.
Как ему удалось это все-таки сделать, он и сам не понимал. Но в первый раз за все это время он подумал о себе хорошо — хоть на что-то он еще способен. Мужик все же, не баба! Люлька дернулась и замерла, будто она всегда так послушно была пришвартована к окну. Скрип прекратился.
Стало очень тихо. Только снизу, с земли, кто-то из солдат удивленно и весело крикнул:
— Гляди-ка, немчура-то наш, залез все-таки! Ну, хват!
— Лучче б он шмякнулся, дьявол! Нам не мерзнуть, и делов поменее.
А Яган на коленях и на руках, а потом просто на пузе протиснулся в узкое окно. И очутился почти в барсучьей норе. Что-то хрустело под ним.
Пахнуло мокрым кирпичом. Часовщик перевел дыхание. Грязной рукой, отер потный лоб. Подтянулся, встал на ноги. Выглянул в окно. Через туман было видно желтое расплывчатое пятно фонаря и неясные фигуры людей.
Потом как сквозь мутную бумагу Яган-часовщик увидел город — волшебный, холодный, перламутровый. Он вставал церквями, соборами, дворцами, слободами, каменными бастионами. Мастер различал Петергоф, Кроншлот, Ораниенбаум, в которых он уже успел побывать.
Город походил на правильный овал с розоватыми краями. При самом взморье, между посверкивающей Большой Невой и Малой Невою, лежал Васильевский остров. По правую же сторону город прорезан был каналами. С колокольни открывался вид на длинный и прямой проспект, похожий на аллею — столько здесь было деревьев.
"Вот дьяволы, какой город спроворили! — Яган ругнулся уже беззлобно и не боясь бога, ибо бог ему был сейчас не нужен. — И что за диковинный народ, — с легкой неприязнью подумал мастер, — город на болоте могут поставить, а довести лестницу до самого купола — так нет, на это ни рук, ни головы не хватило. Ведь была же она до пожара. Ведь была. Вот и лезь, как кошка, царапайся, а сорвешься — туда и дорога!"
Яган Ферстер постоял еще, приходя в себя, перевел дыханье и даже что-то такое крикнул туда, вниз, солдатам: "Ви, шеловеки, мать вашу в крест и в оглоблу!" Но горло его пересохло, да и ругался он по-русски не так, как все в России, — голосисто и горячо, а с натугой и с боязнью. Солдаты внизу и не поняли, но дружно захохотали и тут же ответили ему — кто по-голландски, кто по-немецки. Что-что, а ругаться в Санкт-Петербурге умели на всех сущих языках.
Яган спрыгнул на кирпичный пол колокольни, расстегнул широкий пояс и начал снимать инструменты. Тут поверх ватного кафтана у него оказался весь необходимый набор — гаечные ключи разных размеров, зубила, конус, метровка, молоток увесистый, скребки мягкие и жесткие, щетки такие и эдакие, масленки большие и малые, плоскогубцы, кусачки, резаки и еще какие-то заковырины и крючки, названия и назначенье которых знали только дел часовых мастера.
Яган послушал ход часов, они шли исправно, но колокола давно уже молчали. А их тут было изрядно — тридцать пять больших и малых колоколов. Целый музыкальный город. У всякого колокола было по два молота и по одному языку, часовые куранты играли молотами, а полуденные — язычками. Яган был этим часам земляк, их привезли из Амстердама в 1720 году, заплатив мастерам сорок пять тысяч рублей.
Часовщик засветил фонарь и приступил к работе. Она была срочная, особая царская. Надо было срезать застывшие куски масла, отладить часовую музыку, заново смазать все части самыми лучшими маслами, все протереть и проверить, подтянуть ослабевшие конуса, установить степень крепления болтов. Работы было много, но Яган был примерный мастер, его знали и в славном городе Потсдаме, и в Лондоне. А уж там-то каких только не было умельцев! И все же Ферстер Яган был и среди них мастер мастеров, и впрямь ли руки у него золотые, или ухо золотое, только эту музыку, наверное, один он и мог сладить. Не знал он, верно, что еще и верхолазом придется ему побыть. А то бы и на аркане его не вытащили. Он работал с великой охотой, споро, но и не больно торопясь. Как и надлежит мастеру его ранга и достоинства.
К рассвету эта деликатная, особая царская работа была окончена. В последний раз ощупав, огладив, словно лаская, и осмотрев каждый колокол, нежно потрогав каждый молот и язык, Яган вздохнул облегченно, обтер руки тряпкой, собрал инструменты, подпоясался и уже уверенно спрыгнул в неподвижную люльку. Там он вытащил молоток и несколько раз ударил в привязанную к борту медную тарелку. Это был условленный знак.
Внизу зашевелились. Люлька, покачиваясь, медленно пошла вниз.
 ндрей Матвеев родился в первый год восемнадцатого века. Тогда Петр Великий после неудачи под Нарвой пришел к ним в город и, опасаясь преследования шведского короля, повелел строить в Новгороде бастионы по валу вкруг кремля.
К работе употреблены были новгородцы без разбора чина, пола и возраста. Даже здешний митрополит Иов, дабы участием своим утешить и облегчить своих сограждан, несмотря на старость свою, работал при копании и возке земли.
В несколько недель работа совершенно была кончена.
Радовались люди — век начался! Начинался он с первого месяца — януария, получившего имя от Януса, бога мира. Значит, быть миру вовек.
Петр заводил в России новое летосчисление — не от сотворения мира, а от рождества Христова. В указе своем напомнил, что нужно сообразоваться с остальной Европой. Тому много недовольных нашлось. Говорили они, что не мог мир заключен быть зимою, в январе, а непременно в сентябре, во время жатвы и собирания плодов.
Однако вышло так, как того царь хотел, — стали считать с 1 генваря. А для крепости Петр и еще указ издал: "В знак того доброго начинания и нового столетнего века перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным хотя по древцу или ветви на вороты или над хороминою своею поставить и чтоб то поспело ныне, будущего января к первому числу".
И еще предписано было не только поздравлять друг друга с новым годом и "столетним веком", а и производить стрельбу из пушечек и, буде у кого есть, из мушкетов.
Пальба не умолкала целую неделю. Ночью везде горели огни и хлопали ракеты.
В стольной Москве в темно-зеленых кафтанах стоял в параде Преображенский полк, рядом с ним выстроены были на Москве-реке другие полки хорошо обмундированных и вооруженных солдат.
Нововведение требовало торжественности.
Шестого января был крестный ход, но Петр в процессии не участвовал, а стоял с солдатами в полку своем.
ндрей Матвеев родился в первый год восемнадцатого века. Тогда Петр Великий после неудачи под Нарвой пришел к ним в город и, опасаясь преследования шведского короля, повелел строить в Новгороде бастионы по валу вкруг кремля.
К работе употреблены были новгородцы без разбора чина, пола и возраста. Даже здешний митрополит Иов, дабы участием своим утешить и облегчить своих сограждан, несмотря на старость свою, работал при копании и возке земли.
В несколько недель работа совершенно была кончена.
Радовались люди — век начался! Начинался он с первого месяца — януария, получившего имя от Януса, бога мира. Значит, быть миру вовек.
Петр заводил в России новое летосчисление — не от сотворения мира, а от рождества Христова. В указе своем напомнил, что нужно сообразоваться с остальной Европой. Тому много недовольных нашлось. Говорили они, что не мог мир заключен быть зимою, в январе, а непременно в сентябре, во время жатвы и собирания плодов.
Однако вышло так, как того царь хотел, — стали считать с 1 генваря. А для крепости Петр и еще указ издал: "В знак того доброго начинания и нового столетнего века перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным хотя по древцу или ветви на вороты или над хороминою своею поставить и чтоб то поспело ныне, будущего января к первому числу".
И еще предписано было не только поздравлять друг друга с новым годом и "столетним веком", а и производить стрельбу из пушечек и, буде у кого есть, из мушкетов.
Пальба не умолкала целую неделю. Ночью везде горели огни и хлопали ракеты.
В стольной Москве в темно-зеленых кафтанах стоял в параде Преображенский полк, рядом с ним выстроены были на Москве-реке другие полки хорошо обмундированных и вооруженных солдат.
Нововведение требовало торжественности.
Шестого января был крестный ход, но Петр в процессии не участвовал, а стоял с солдатами в полку своем.
 утра над Санкт-Петербургом туман. В нем всё растворено — небо, земля, деревья, люди, строенья. Все плавает, колышется, смещается, замирает. Туман поглощает даже звуки. Еле слышен слабый звон издали — звонят к обедне.
Во дворе, отгороженном от узкой улицы каменным забором, паслась темно-гнедая лошадь. Пройдет — остановится. Понюхает землю — снова переступит. Поведет головой туда-сюда и опять ходит, ходит, ходит.
Перед окном, задумчиво глядя на двор, сидит красивая женщина, покручивая на пальце светлый локон. Пожалуй, она даже красавица. У нее тонкое, нежное, розовое, породистое лицо. Такой цвет бывает только у дорогих ваз и шелковых тканей. Это леди Рондо, жена английского резидента при русском дворе. Ей скучно, ей некуда девать себя. И вот она неотрывно следит за лошадью, загнанной в такую же тесную ограду, как и она. А та все ходит и ходит по двору. Ходит и нюхает чужую холодную землю. Скучает призовая английская лошадь, скучает и английская молодая леди. Однако свое одиночество она переживает стойко. Судьба забросила ее на чужбину, в, страну непонятных людей. Ее чуть ли не каждый день приглашают во дворец — на гулянья, балы, иллуминации, машкерады. Поэтому она постоянно напряжена и неспокойна. Русские интересны до тех пор, пока в них нет доброго фунта водки. А после они становятся опасны, хватают женщин за что попало, орут, ругаются, дерутся. Потные, грубые, того и гляди обесчестят. А то и по голове хватят в раже. Зачем ей нужны эти варварские развлеченья? Толкотня, мордобой. Дня не проживешь, как тебе хочется, всегда надо хитрить, ловчить, выгадывать. Одна отрада и осталась у леди — письма в Лондон. Она часто пишет своей подруге. Вот и сейчас она начнет такое письмо, вернее, целое послание, подробное и обстоятельное. А там подоспеет время ехать к принцессе Елизавете Петровне в карты играть.
Последний раз она взглядывает в окно. Туман все сгущается и сгущается, и вот уже через него смутно проступают очертания лошади. Она стоит с поднятой головой, как памятник. Леди Рондо вздыхает, усаживается за стол, берет в руки перо. "Петербург. 1738 год, — выводит она медленно. — …Не думайте, что можно заставить женщину говорить о другой или других, если к этому не примешивается что-нибудь скандальное, — пишет леди Рондо, — по крайней мере вы увидите, что я не отступаю от остальных женщин… Недавно у меня была одна из здешних красавиц, супруга русского вельможи г. Лопухина, которого вы видели в Англии. Она статс-дама императрицы и приходится племянницей той особе, которая была любовницей Петра Первого и историю которой я вам рассказывала (то есть Анны Монс), но скандальная хроника гласит, что она не так твердо защищала свою добродетель. Она и ея любовник — если он у нее только один — очень постоянны и в течение многих лет сохраняют друг к другу сильную страсть. Она приезжала отдать мне визит после родов".
Леди Рондо бросила перо в чернильницу и задумалась. Душа ее потянулась туда, в Лондон, где она жила весело и беззаботно. Многое ей тут вспомнилось, и она даже застонала от острой жалости к самой себе. Но надо было держаться, держаться во что бы то ни стало. И она снова взяла перо.
"Когда она родила, то при первой встрече с ея супругом я поздравила его с рождением сына и спросила о здоровье его жены. Он ответил мне по-английски: "Зачем вы спрашиваете меня об этом? Спросите графа Левенвольде, ему это известно лучше, нежели мне…" Видя, что таковой ответ меня совершенно озадачил, г. Лопухин прибавил: "Что ж! всем известно, что это так, и это меня нисколько не волнует. Петр Великий принудил нас вступить в брак, я знал, что она ненавидит меня, и был к ней равнодушен, несмотря на ее красоту. Я не мог ни любить, ни ненавидеть. И в настоящее время продолжаю оставаться равнодушным к ней, к чему ж мне смущаться связью ея с человеком, который ей нравится, тем более что, нужно отдать ей справедливость, она ведет себя так прилично, как только позволяет ей ея положение".
Судите о моем удивлении и подумайте, как поступили бы вы в подобных обстоятельствах? Я же скажу вам, как поступила я: внезапно я оставила его и обратилась к первому, кого увидела. Эта дама говорит только по-русски и по-немецки, а так как я плохо говорю на этих языках, то наш разговор вертелся на общих местах, и потому я могу сказать вам лишь о ея наружности, которая действительно прекрасна. Я презираю себя, однако, за злоязычие, которое вы едва ли захотите мне простить. Мы все очень заняты приготовлением к свадьбе принцессы Анны с принцем Антоном Брауншвейгским. Кажется, я еще не говорила вам, что шесть лет назад его привезли сюда, чтоб женить на принцессе. Его воспитали вместе с нею, дабы заронить в них взаимную привязанность, но, по-видимому, это привело к совершенно противоположному результату, потому что она оказывает ему нечто худшее, нежели ненависть, — презрение. Полагая, что супружество их примирит, или, как говорят в России: обживутся — так и слюбятся, императрица решила заказать одному из лучших русских живописцев двойной портрет принца и принцессы. Императрица рассуждает так: поскольку они в парном портрете будут рядом, как голубь с голубкой, и этот портрет будет у них всегда перед глазами, значит, так и в жизни их случится. В настоящее время говорят, что этот портрет любви поручен для спешного исполнения какому-то Матвееву, живописцу, который считается здесь искуснейшим мастером. Он долгое время обучался за границей. Скажу вам кстати, что здешние живописцы ни в чем не уступают европейским.
В императрице больше расчета, нежели ума: по-видимому, она надеется посредством этого портрета сблизить будущих супругов. Брак этот должен поставить венскому кабинету преобладающее влияние при русском дворе.
Все сказанное мною должно оставаться между нами, вы, конечно, не знаете, что за готовность мою удовлетворить вашему любопытству меня могут повесить, поэтому-то, не желая рисковать, я не отправлю настоящего письма с обыкновенным курьером… Как бы то ни было, но делаются большие приготовления к свадьбе, которая будет праздноваться с возможным великолепием и о которой теперь только и говорят. Итак, будьте верны вашей и проч.
Леди Рондо".
Она поставила точку, встала, подошла к зеркалу, оглядела себя и подумала: "А ведь я еще чертовски хороша. Выбраться бы отсюда поскорей в Англию, родить детей и жить в свое удовольствие".
Писала свои письма леди Рондо в Лондон. Наполняла их сплетнями, слухами, анекдотами, сведеньями. А Матвеев писал свои картины.
В 1773 году письма собрали и не отделывая издали под заглавием "Письма дамы, проживавшей несколько лет в России, к ея приятельнице в Англию, с историческими комментариями". По замечанию историка К. Бестужева-Рюмина, письма леди Рондо — произведение наблюдательной, образованной, умной и веселой светской женщины, чуждой всякого педантства, претензии и предвзятых мыслей.
Наш живописец тех писем не читал. Да и на что они ему нужны были? Многое из того он и сам знал. Ведь художники народ дошлый, догадливый, а чего не знают, так придумают и недорого возьмут. Не про них ли сказано: лапти растеряли, по дворам искали; было шесть, а нашли семь.
И все же очень-очень далек был Андрей Матвеев от всех печалей и забот леди Рондо. Какое ему дело до людей знати, своихзабот полон рот, деваться некуда. Ничегошеньки не знал он о своем новом заказе, о котором леди почти воровски успела уже сообщить подруге в не близкую от невских берегов Англию. Да и самое леди Андрей тоже не знал. Видел, правда, ее несколько раз, когда приезжала она с мужем в живописную команду и в Канцелярию от строений заказывать портрет своей матушки.
Леди Рондо вращалась среди вершителей судеб, а Андрей был всего лишь мастер живописного художества, мелкий казенный чин при дворе, от которого старался подальше держаться.
Но кое-кто из тех, кому леди перемывала косточки в письмах, был ему известен. К примеру, Наталью Федоровну Лопухину увидел он еще до отъезда своего в Голландию. Ей тогда, как и ему, было шестнадцать лет. Наталья была дочерью сестры Анны Монс — Матрены Ивановны. Отличаясь замечательной красотой, Наталья вызывала зависть у придворных дам. Страстная, слепая любовь ее к ветреному Левенвольде сыграла в ее жизни роковую роль. Перевернула, исковеркала судьбу. Ненаглядный ее Карлуша беспрестанно изменял ей, издевался над ее чувствами. А она все не отставала и даже при восшествии на престол Елизаветы Петровны, когда Левенвольде был арестован и сослан в Сибирь, все хлопотала о нем, обращалась с прошениями и ходатайствами. Императрица во всем отказывала Лопухиной, и та возненавидела ее. В кружке родных и друзей Наталья не скрывала своей неприязни. Обернулось это для нее весьма скверно — самодержцы не терпят ропота. Наталья Лопухина была наказана плетьми и урезанием языка, сослана в Сибирь, где прожила в нужде и бедности много лет.
Знал Андрей и мужа Натальи Лопухиной. Прежде тот долгое время жил в Лондоне, обучался морским наукам, был человеком знающим, умным, образованным. Его Андрей часто встречал в Адмиралтействе. Между ними существовала даже какая-то симпатия, хотя Степан Лопухин был уже камергером и генерал-лейтенантом.
Лучше других знал Андрей Карла Левенвольде. С него постоянно заказывали живописной команде портреты. От этого живописцам был немалый прибыток. Граф был отменно хорош собой, а на красный цветок и пчела летит. И много этих пчел женского полу прилетало в руки Левенвольде. Покоритель сердец, картежный игрок, жуир и пьяница, он был душой и устроителем самых блестящих придворных праздников. Еще при Екатерине он сделался фаворитом этой государыни, хотя начинал службу простым камер-юнкером. Но в мутных водах придворных интриг он плыл, как старая, опытная щука. Камергер, граф, александровской ленты носитель, владелец портрета императрицы, осыпанного бриллиантами. Все это валилось на него прямо с неба, а получал он из самоличных рук Екатерины.
При дворе Петра Второго граф уже не занимал особенно видного места. Но был одно время дружком и собутыльником Ивана Долгорукого, сына князя Алексея Григорьевича. Сестра Ивана Екатерина была объявлена невестою царя, ей дан был титул "ея величество государыня-невеста", хотя питала она большую страсть совсем не к Петру Второму, а к шурину австрийского посла графу Мелиссимо. Что ни говори, а двор такая яма и так глубоко протязается, что сам черт захромает!
Но вот уж кто был истинным чертом и дьяволом, так это Иван Долгорукий, ближайший любимец Петра Второго. Наибольшее удовольствие ему доставляло уводить чужих жен. Так, увел он жену у Никиты Трубецкого Настасью Головкину и без всякой закрытости жил с нею, да еще бивал и ругивал мужа, имеющего чин генерал-майора. Было бы болото, а черти всегда найдутся! Князь Иван на месяц и на два увозил молодого царя Петра от дел на охоты и пиры, на балы и распутства, на медвежью травлю и кулачные бои. И все это пролетало вдали от Андрея Матвеева, о нем вспоминали только, когда нужно было срочно написать портрет, украсить триумфальные ворота, нарисовать орнаменты, обои, миниатюры, написать иконы или баталии.
Но разбойный вертеп все же больно задел и русское художество. Князь Иван Долгорукий обратил как-то нетрезвый взор на Марию Маменс, жену персонных дел мастера и гоф-малера Ивана Никитина. Стали шептаться об этом при дворе, там тайн нет никаких, все и всё знают обо всех. Дошло и до Никитина. Да еще прибавили к известию этому, что ждет Мария ребенка от князя Ивана. С тех пор, говорят, и стал Никитин угрюм, нелюдим, работал мало, а все больше читал "Жития святых" и "Молитвослов". Верил живописец, что правого и неправого рассудит бог по своей правде, но когда? Кто ж знает?
…Если б дольше пожил Иван Никитич, то узнал бы, что Левенвольде, до которого ему дела не было, сослан в Соликамск, где и почил, а Иван Долгорукий совсем плохо кончил при Бироне — колесовали князя на Скудельничьем поле, в версте от Новгорода.
утра над Санкт-Петербургом туман. В нем всё растворено — небо, земля, деревья, люди, строенья. Все плавает, колышется, смещается, замирает. Туман поглощает даже звуки. Еле слышен слабый звон издали — звонят к обедне.
Во дворе, отгороженном от узкой улицы каменным забором, паслась темно-гнедая лошадь. Пройдет — остановится. Понюхает землю — снова переступит. Поведет головой туда-сюда и опять ходит, ходит, ходит.
Перед окном, задумчиво глядя на двор, сидит красивая женщина, покручивая на пальце светлый локон. Пожалуй, она даже красавица. У нее тонкое, нежное, розовое, породистое лицо. Такой цвет бывает только у дорогих ваз и шелковых тканей. Это леди Рондо, жена английского резидента при русском дворе. Ей скучно, ей некуда девать себя. И вот она неотрывно следит за лошадью, загнанной в такую же тесную ограду, как и она. А та все ходит и ходит по двору. Ходит и нюхает чужую холодную землю. Скучает призовая английская лошадь, скучает и английская молодая леди. Однако свое одиночество она переживает стойко. Судьба забросила ее на чужбину, в, страну непонятных людей. Ее чуть ли не каждый день приглашают во дворец — на гулянья, балы, иллуминации, машкерады. Поэтому она постоянно напряжена и неспокойна. Русские интересны до тех пор, пока в них нет доброго фунта водки. А после они становятся опасны, хватают женщин за что попало, орут, ругаются, дерутся. Потные, грубые, того и гляди обесчестят. А то и по голове хватят в раже. Зачем ей нужны эти варварские развлеченья? Толкотня, мордобой. Дня не проживешь, как тебе хочется, всегда надо хитрить, ловчить, выгадывать. Одна отрада и осталась у леди — письма в Лондон. Она часто пишет своей подруге. Вот и сейчас она начнет такое письмо, вернее, целое послание, подробное и обстоятельное. А там подоспеет время ехать к принцессе Елизавете Петровне в карты играть.
Последний раз она взглядывает в окно. Туман все сгущается и сгущается, и вот уже через него смутно проступают очертания лошади. Она стоит с поднятой головой, как памятник. Леди Рондо вздыхает, усаживается за стол, берет в руки перо. "Петербург. 1738 год, — выводит она медленно. — …Не думайте, что можно заставить женщину говорить о другой или других, если к этому не примешивается что-нибудь скандальное, — пишет леди Рондо, — по крайней мере вы увидите, что я не отступаю от остальных женщин… Недавно у меня была одна из здешних красавиц, супруга русского вельможи г. Лопухина, которого вы видели в Англии. Она статс-дама императрицы и приходится племянницей той особе, которая была любовницей Петра Первого и историю которой я вам рассказывала (то есть Анны Монс), но скандальная хроника гласит, что она не так твердо защищала свою добродетель. Она и ея любовник — если он у нее только один — очень постоянны и в течение многих лет сохраняют друг к другу сильную страсть. Она приезжала отдать мне визит после родов".
Леди Рондо бросила перо в чернильницу и задумалась. Душа ее потянулась туда, в Лондон, где она жила весело и беззаботно. Многое ей тут вспомнилось, и она даже застонала от острой жалости к самой себе. Но надо было держаться, держаться во что бы то ни стало. И она снова взяла перо.
"Когда она родила, то при первой встрече с ея супругом я поздравила его с рождением сына и спросила о здоровье его жены. Он ответил мне по-английски: "Зачем вы спрашиваете меня об этом? Спросите графа Левенвольде, ему это известно лучше, нежели мне…" Видя, что таковой ответ меня совершенно озадачил, г. Лопухин прибавил: "Что ж! всем известно, что это так, и это меня нисколько не волнует. Петр Великий принудил нас вступить в брак, я знал, что она ненавидит меня, и был к ней равнодушен, несмотря на ее красоту. Я не мог ни любить, ни ненавидеть. И в настоящее время продолжаю оставаться равнодушным к ней, к чему ж мне смущаться связью ея с человеком, который ей нравится, тем более что, нужно отдать ей справедливость, она ведет себя так прилично, как только позволяет ей ея положение".
Судите о моем удивлении и подумайте, как поступили бы вы в подобных обстоятельствах? Я же скажу вам, как поступила я: внезапно я оставила его и обратилась к первому, кого увидела. Эта дама говорит только по-русски и по-немецки, а так как я плохо говорю на этих языках, то наш разговор вертелся на общих местах, и потому я могу сказать вам лишь о ея наружности, которая действительно прекрасна. Я презираю себя, однако, за злоязычие, которое вы едва ли захотите мне простить. Мы все очень заняты приготовлением к свадьбе принцессы Анны с принцем Антоном Брауншвейгским. Кажется, я еще не говорила вам, что шесть лет назад его привезли сюда, чтоб женить на принцессе. Его воспитали вместе с нею, дабы заронить в них взаимную привязанность, но, по-видимому, это привело к совершенно противоположному результату, потому что она оказывает ему нечто худшее, нежели ненависть, — презрение. Полагая, что супружество их примирит, или, как говорят в России: обживутся — так и слюбятся, императрица решила заказать одному из лучших русских живописцев двойной портрет принца и принцессы. Императрица рассуждает так: поскольку они в парном портрете будут рядом, как голубь с голубкой, и этот портрет будет у них всегда перед глазами, значит, так и в жизни их случится. В настоящее время говорят, что этот портрет любви поручен для спешного исполнения какому-то Матвееву, живописцу, который считается здесь искуснейшим мастером. Он долгое время обучался за границей. Скажу вам кстати, что здешние живописцы ни в чем не уступают европейским.
В императрице больше расчета, нежели ума: по-видимому, она надеется посредством этого портрета сблизить будущих супругов. Брак этот должен поставить венскому кабинету преобладающее влияние при русском дворе.
Все сказанное мною должно оставаться между нами, вы, конечно, не знаете, что за готовность мою удовлетворить вашему любопытству меня могут повесить, поэтому-то, не желая рисковать, я не отправлю настоящего письма с обыкновенным курьером… Как бы то ни было, но делаются большие приготовления к свадьбе, которая будет праздноваться с возможным великолепием и о которой теперь только и говорят. Итак, будьте верны вашей и проч.
Леди Рондо".
Она поставила точку, встала, подошла к зеркалу, оглядела себя и подумала: "А ведь я еще чертовски хороша. Выбраться бы отсюда поскорей в Англию, родить детей и жить в свое удовольствие".
Писала свои письма леди Рондо в Лондон. Наполняла их сплетнями, слухами, анекдотами, сведеньями. А Матвеев писал свои картины.
В 1773 году письма собрали и не отделывая издали под заглавием "Письма дамы, проживавшей несколько лет в России, к ея приятельнице в Англию, с историческими комментариями". По замечанию историка К. Бестужева-Рюмина, письма леди Рондо — произведение наблюдательной, образованной, умной и веселой светской женщины, чуждой всякого педантства, претензии и предвзятых мыслей.
Наш живописец тех писем не читал. Да и на что они ему нужны были? Многое из того он и сам знал. Ведь художники народ дошлый, догадливый, а чего не знают, так придумают и недорого возьмут. Не про них ли сказано: лапти растеряли, по дворам искали; было шесть, а нашли семь.
И все же очень-очень далек был Андрей Матвеев от всех печалей и забот леди Рондо. Какое ему дело до людей знати, своихзабот полон рот, деваться некуда. Ничегошеньки не знал он о своем новом заказе, о котором леди почти воровски успела уже сообщить подруге в не близкую от невских берегов Англию. Да и самое леди Андрей тоже не знал. Видел, правда, ее несколько раз, когда приезжала она с мужем в живописную команду и в Канцелярию от строений заказывать портрет своей матушки.
Леди Рондо вращалась среди вершителей судеб, а Андрей был всего лишь мастер живописного художества, мелкий казенный чин при дворе, от которого старался подальше держаться.
Но кое-кто из тех, кому леди перемывала косточки в письмах, был ему известен. К примеру, Наталью Федоровну Лопухину увидел он еще до отъезда своего в Голландию. Ей тогда, как и ему, было шестнадцать лет. Наталья была дочерью сестры Анны Монс — Матрены Ивановны. Отличаясь замечательной красотой, Наталья вызывала зависть у придворных дам. Страстная, слепая любовь ее к ветреному Левенвольде сыграла в ее жизни роковую роль. Перевернула, исковеркала судьбу. Ненаглядный ее Карлуша беспрестанно изменял ей, издевался над ее чувствами. А она все не отставала и даже при восшествии на престол Елизаветы Петровны, когда Левенвольде был арестован и сослан в Сибирь, все хлопотала о нем, обращалась с прошениями и ходатайствами. Императрица во всем отказывала Лопухиной, и та возненавидела ее. В кружке родных и друзей Наталья не скрывала своей неприязни. Обернулось это для нее весьма скверно — самодержцы не терпят ропота. Наталья Лопухина была наказана плетьми и урезанием языка, сослана в Сибирь, где прожила в нужде и бедности много лет.
Знал Андрей и мужа Натальи Лопухиной. Прежде тот долгое время жил в Лондоне, обучался морским наукам, был человеком знающим, умным, образованным. Его Андрей часто встречал в Адмиралтействе. Между ними существовала даже какая-то симпатия, хотя Степан Лопухин был уже камергером и генерал-лейтенантом.
Лучше других знал Андрей Карла Левенвольде. С него постоянно заказывали живописной команде портреты. От этого живописцам был немалый прибыток. Граф был отменно хорош собой, а на красный цветок и пчела летит. И много этих пчел женского полу прилетало в руки Левенвольде. Покоритель сердец, картежный игрок, жуир и пьяница, он был душой и устроителем самых блестящих придворных праздников. Еще при Екатерине он сделался фаворитом этой государыни, хотя начинал службу простым камер-юнкером. Но в мутных водах придворных интриг он плыл, как старая, опытная щука. Камергер, граф, александровской ленты носитель, владелец портрета императрицы, осыпанного бриллиантами. Все это валилось на него прямо с неба, а получал он из самоличных рук Екатерины.
При дворе Петра Второго граф уже не занимал особенно видного места. Но был одно время дружком и собутыльником Ивана Долгорукого, сына князя Алексея Григорьевича. Сестра Ивана Екатерина была объявлена невестою царя, ей дан был титул "ея величество государыня-невеста", хотя питала она большую страсть совсем не к Петру Второму, а к шурину австрийского посла графу Мелиссимо. Что ни говори, а двор такая яма и так глубоко протязается, что сам черт захромает!
Но вот уж кто был истинным чертом и дьяволом, так это Иван Долгорукий, ближайший любимец Петра Второго. Наибольшее удовольствие ему доставляло уводить чужих жен. Так, увел он жену у Никиты Трубецкого Настасью Головкину и без всякой закрытости жил с нею, да еще бивал и ругивал мужа, имеющего чин генерал-майора. Было бы болото, а черти всегда найдутся! Князь Иван на месяц и на два увозил молодого царя Петра от дел на охоты и пиры, на балы и распутства, на медвежью травлю и кулачные бои. И все это пролетало вдали от Андрея Матвеева, о нем вспоминали только, когда нужно было срочно написать портрет, украсить триумфальные ворота, нарисовать орнаменты, обои, миниатюры, написать иконы или баталии.
Но разбойный вертеп все же больно задел и русское художество. Князь Иван Долгорукий обратил как-то нетрезвый взор на Марию Маменс, жену персонных дел мастера и гоф-малера Ивана Никитина. Стали шептаться об этом при дворе, там тайн нет никаких, все и всё знают обо всех. Дошло и до Никитина. Да еще прибавили к известию этому, что ждет Мария ребенка от князя Ивана. С тех пор, говорят, и стал Никитин угрюм, нелюдим, работал мало, а все больше читал "Жития святых" и "Молитвослов". Верил живописец, что правого и неправого рассудит бог по своей правде, но когда? Кто ж знает?
…Если б дольше пожил Иван Никитич, то узнал бы, что Левенвольде, до которого ему дела не было, сослан в Соликамск, где и почил, а Иван Долгорукий совсем плохо кончил при Бироне — колесовали князя на Скудельничьем поле, в версте от Новгорода.
 ывший флорентинец, а ныне русский итальянского происхождения, высокий и грузный, шел он по Невской першпективе как хозяин, думал что-то свое, сводил что-то в уме и раскидывал, а ухом подслушивал, как шелестит и потрескивает ледок под мостками через Фонтан-реку.
Живописный мастер Андрей Матвеев любил этого человека и, когда его звали с ним работать, являлся сразу же. В растреллиевских дворцах он охотно писал плафоны, расписывал триумфальные ворота, украшал новый Зимний дом, тоже построенный Варфоломеем Варфоломеевичем.
Откуда — и понять нельзя, — но была в этом флорентинце-графе крутая мужицкая закваска. Работал как бешеный. Русскими ветрами его пообдуло, и ко всему он привык. Но как увидит, бывало, граф нерадивость, кось да перекось российскую, как попадет ему на постройке человечишко, что стоит и почесывает то затылок, а то и где пониже, так и вскипит граф и уже совсем по-нашенски заорет: "Ах ты лентяй, огузок собачий!" — да и прибавит еще пару словечек, таких, что каждый россиянин чтит и понимает сразу же. На него не обижались, знали, что зря позорить не станет, что не со зла это. Другой бы и унизил, и поучил собственноручно, да еще б добился у начальства, чтоб вложили нерадивому ума туда, куда следует. Растрелли только огорчался, даже заболевал частенько, когда постройка не ладилась. Вздыхал и жаловался, что в России его служба изрядно тяжела. А строил все равно быстро. Упорен был и добросердечен. А ругань-то — она что? Она на вороте не виснет…
Граф жил в России давно, обрусел порядком, говорил без акцента. И пил порой граф тоже, как самый серый русский мужик. Это у него называлось "вырваться на волю", Тогда обширность Петербурга становилась ему тесна, он брал тройку и летел мимо сосен и берез, над верстами и ночами, над зарослями и прибрежными кустами, по косогорам и лугам, по долам и по горам и оказывался под конец почти под Москвой.
Проезжал он Владимир с его вишневыми садами, лебяжьими церквами, мчал большой излучиной Клязьмы-реки и, еще не вполне пьяный, а только подгулявший, останавливался где-нибудь в Торжке на постоялом дворе. И тут как из-под земли появлялись грудастые блудные девки. Слухи о том, что столичный граф приехал и гуляет, разносились сразу, и девки спешили к нему. Нарядные, веселые, в румянах, пахнущие чисто выстиранным бельем и белым марсельским мылом. Ведь и чужеземные купцы, бывавшие здесь, тоже не скупились ради гульбищ и женской прелести на духи, пудру, сурьму и мыло.
Приезд столичного гостя, крепкого мужика с полным кошельком, был событием, явлением ангела женам-мироносицам. Граф терпеть не мог крохоборов, сам никогда не был таким, и потому веселье захватывало не только постоялый двор, но всю округу. Итальянцу было хорошо и просто. Он лапал своими огромными ручищами всех подряд, при каждом дотроге блажливые девки закатывали глаза и визжали не сильно, а так, как положено, — от этого у графа троилось и плыло в глазах, он переводил взгляд за окно и видел там русское небо, запрокинутое за тощие песчаные пастбища, черные избы, занесенные метелями, колодцы и кресты, и ему становилось еще лучше: там — нищета, грязь, слезы, хлеб с мякиной, калечь и голь, а здесь — тепло, хорошо, укромно. И ничто не запрещено. Дуй, Дунька, поддувай, Дунька! А она, пышная и багровая, дело свое знает, не первоучка, у нее груди по два фунта каждая, таких ни в Европе, ни на придворных балах не увидишь. Хоть тресни глаза. Шум, смех, кто-то на гитаре бренчит, полунагие девки-визгуньи с ногами-колоннами пляшут, они совсем обомлели от сладкого. Нежится Растрелли, легко и приятно здесь.
Знатно! Знатно!
Чем дальше отъезжал Растрелли от двора с его вечными сплетнями, интригами, подлостями, тем веселей он становился. Неслись кони мимо ветхих изб, шарахались бредущие куда-то люди. Беглые, что ли? А далеко ли тут убежишь-то? Ведь вся Русь — одна бескрайняя равнина, заваленная глубокими снегами, и конца и края ей нет — небо да снег. Куда же бежать-то, милые?!
И такая тоска иногда вдруг навалится на графа, что он смахнет слезу и крикнет кучеру: "А ну, поворачивай к дому!"
И тот покачает головой: сдурел, чай, Варфоломеевич-то — с утра велел к Москве мчать, а теперь подавай ему к дому, в Петербург, значит. Ну что ж, дело хозяйское! Эй, милые! Эй, залетные! Впрочем, это случалось с графом редко, обыкновенно он докатывал до своих любимых мест — до Торжка или Валдая, а вот сегодня случилось так…
Растрелли нравилось все — и белая земля внизу, под ногами, и бесконечность неба над головой, он был зодчим России, свод над ним казался ласковым кровом, смягчающим морозное дыхание каменного города-сфинкса… Веселый, румяный, жизнерадостный шел Варфоломей Варфоломеевич по Невской першпективе. Издали завидев Матвеева, заулыбался. Матвеев почтительно снял шляпу.
— Добрый день, ваше сиятельство! Бог в помощь!
— A-а, Матвеев, здравствуй, здравствуй, спасибо! — Растрелли приветливо кивнул ему, крепко пожал руку.
— Далеко ли путь держите? — спросил Матвеев.
— И не спрашивай, ой, не спрашивай, Матвеев, — махнул рукой граф. И помрачнел лицом. — Добродетель губительна, мой друг. В Юстиц-коллегию иду вот давать показания. В пользу мужа. Обвинила его супруга в неисполнении брачныя должности…
Растрелли чертыхнулся, сверкнул глазами, а после беспомощно улыбнулся, а Матвеев расхохотался без удержу.
— Вольно же вам, ваше сиятельство! И кто ж это уклоняется от столь сладкой работы?
— Лицо тебе известное! Оно увещевает свою жену, чтоб жила с ним как ангел и таковые скотские и грешные мысли оставила бы навсегда. Ну, муженек и поучил ее малость. А она за поругание и убытки телесные требует с него ежегодно две тысячи рублев. Я и графиня Растрелли ныне в свидетелях ходим, простым словам нашим не верят, заставляют свидетельскую присягу учинять. А мы учинять ее отрицаемся. Не по нашему закону сие. Уж весь город смеется. А что толку-то? На высочайшее имя прошение подано и отвечено — неукоснительно разобраться. Вот и гоняют нас!
— Ну, если так, то непременно разберутся, — улыбнулся Андрей.
— А черт с ними обоими! — взорвался вдруг архитектор. — Оба они продувные бестии, да там еще любовник-ротмистр объявился. Так что такая там каша, такая катавасия заварилась, что… — Он крепко выругался. — Ты вот что лучше скажи, Матвеев, тебе что, срочный заказ из дворца передали?
Андрей удивленно поднял брови и отрицательно покачал головой:
— Нет! И разговора не было…
— Так вот, — деловито нахмурился Растрелли, — государыня поручила Остерману срочно найти живописных дел мастера для парного портрета принцессы Анны и принца Брауншвейгского.
Андрей замер: неужто счастье само идет в руки?
Он достал из кармана этюдную тетрадь, раскрыл лист с набросками двойного портрета и молча протянул Растрелли.
Тот посмотрел и удивленно спросил:
— Так ты уже знал?
Живописец быстро ответил:
— Не знал, не знал, Варфоломей Варфоломеевич! Никто мне ничего не говорил. Это я для себя пробовал, так, само пришло в голову написать. Если мне дадут, я вам вовек благодарен буду!
— Ах, какие там благодарности! — рассеянно отмахнулся Растрелли. — Считай, что заказ твой! А знаешь, у тебя вот тут отличная композиция, — он ткнул пальцем в один набросок. — Это просто и хорошо. Я верю, что ты сделаешь. Твои эмблемы и картины для триумфальных ворот превосходны!
Матвеев благодарно поклонился архитектору. Он был до глубины души растроган и счастлив. Они тепло распрощались.
ывший флорентинец, а ныне русский итальянского происхождения, высокий и грузный, шел он по Невской першпективе как хозяин, думал что-то свое, сводил что-то в уме и раскидывал, а ухом подслушивал, как шелестит и потрескивает ледок под мостками через Фонтан-реку.
Живописный мастер Андрей Матвеев любил этого человека и, когда его звали с ним работать, являлся сразу же. В растреллиевских дворцах он охотно писал плафоны, расписывал триумфальные ворота, украшал новый Зимний дом, тоже построенный Варфоломеем Варфоломеевичем.
Откуда — и понять нельзя, — но была в этом флорентинце-графе крутая мужицкая закваска. Работал как бешеный. Русскими ветрами его пообдуло, и ко всему он привык. Но как увидит, бывало, граф нерадивость, кось да перекось российскую, как попадет ему на постройке человечишко, что стоит и почесывает то затылок, а то и где пониже, так и вскипит граф и уже совсем по-нашенски заорет: "Ах ты лентяй, огузок собачий!" — да и прибавит еще пару словечек, таких, что каждый россиянин чтит и понимает сразу же. На него не обижались, знали, что зря позорить не станет, что не со зла это. Другой бы и унизил, и поучил собственноручно, да еще б добился у начальства, чтоб вложили нерадивому ума туда, куда следует. Растрелли только огорчался, даже заболевал частенько, когда постройка не ладилась. Вздыхал и жаловался, что в России его служба изрядно тяжела. А строил все равно быстро. Упорен был и добросердечен. А ругань-то — она что? Она на вороте не виснет…
Граф жил в России давно, обрусел порядком, говорил без акцента. И пил порой граф тоже, как самый серый русский мужик. Это у него называлось "вырваться на волю", Тогда обширность Петербурга становилась ему тесна, он брал тройку и летел мимо сосен и берез, над верстами и ночами, над зарослями и прибрежными кустами, по косогорам и лугам, по долам и по горам и оказывался под конец почти под Москвой.
Проезжал он Владимир с его вишневыми садами, лебяжьими церквами, мчал большой излучиной Клязьмы-реки и, еще не вполне пьяный, а только подгулявший, останавливался где-нибудь в Торжке на постоялом дворе. И тут как из-под земли появлялись грудастые блудные девки. Слухи о том, что столичный граф приехал и гуляет, разносились сразу, и девки спешили к нему. Нарядные, веселые, в румянах, пахнущие чисто выстиранным бельем и белым марсельским мылом. Ведь и чужеземные купцы, бывавшие здесь, тоже не скупились ради гульбищ и женской прелести на духи, пудру, сурьму и мыло.
Приезд столичного гостя, крепкого мужика с полным кошельком, был событием, явлением ангела женам-мироносицам. Граф терпеть не мог крохоборов, сам никогда не был таким, и потому веселье захватывало не только постоялый двор, но всю округу. Итальянцу было хорошо и просто. Он лапал своими огромными ручищами всех подряд, при каждом дотроге блажливые девки закатывали глаза и визжали не сильно, а так, как положено, — от этого у графа троилось и плыло в глазах, он переводил взгляд за окно и видел там русское небо, запрокинутое за тощие песчаные пастбища, черные избы, занесенные метелями, колодцы и кресты, и ему становилось еще лучше: там — нищета, грязь, слезы, хлеб с мякиной, калечь и голь, а здесь — тепло, хорошо, укромно. И ничто не запрещено. Дуй, Дунька, поддувай, Дунька! А она, пышная и багровая, дело свое знает, не первоучка, у нее груди по два фунта каждая, таких ни в Европе, ни на придворных балах не увидишь. Хоть тресни глаза. Шум, смех, кто-то на гитаре бренчит, полунагие девки-визгуньи с ногами-колоннами пляшут, они совсем обомлели от сладкого. Нежится Растрелли, легко и приятно здесь.
Знатно! Знатно!
Чем дальше отъезжал Растрелли от двора с его вечными сплетнями, интригами, подлостями, тем веселей он становился. Неслись кони мимо ветхих изб, шарахались бредущие куда-то люди. Беглые, что ли? А далеко ли тут убежишь-то? Ведь вся Русь — одна бескрайняя равнина, заваленная глубокими снегами, и конца и края ей нет — небо да снег. Куда же бежать-то, милые?!
И такая тоска иногда вдруг навалится на графа, что он смахнет слезу и крикнет кучеру: "А ну, поворачивай к дому!"
И тот покачает головой: сдурел, чай, Варфоломеевич-то — с утра велел к Москве мчать, а теперь подавай ему к дому, в Петербург, значит. Ну что ж, дело хозяйское! Эй, милые! Эй, залетные! Впрочем, это случалось с графом редко, обыкновенно он докатывал до своих любимых мест — до Торжка или Валдая, а вот сегодня случилось так…
Растрелли нравилось все — и белая земля внизу, под ногами, и бесконечность неба над головой, он был зодчим России, свод над ним казался ласковым кровом, смягчающим морозное дыхание каменного города-сфинкса… Веселый, румяный, жизнерадостный шел Варфоломей Варфоломеевич по Невской першпективе. Издали завидев Матвеева, заулыбался. Матвеев почтительно снял шляпу.
— Добрый день, ваше сиятельство! Бог в помощь!
— A-а, Матвеев, здравствуй, здравствуй, спасибо! — Растрелли приветливо кивнул ему, крепко пожал руку.
— Далеко ли путь держите? — спросил Матвеев.
— И не спрашивай, ой, не спрашивай, Матвеев, — махнул рукой граф. И помрачнел лицом. — Добродетель губительна, мой друг. В Юстиц-коллегию иду вот давать показания. В пользу мужа. Обвинила его супруга в неисполнении брачныя должности…
Растрелли чертыхнулся, сверкнул глазами, а после беспомощно улыбнулся, а Матвеев расхохотался без удержу.
— Вольно же вам, ваше сиятельство! И кто ж это уклоняется от столь сладкой работы?
— Лицо тебе известное! Оно увещевает свою жену, чтоб жила с ним как ангел и таковые скотские и грешные мысли оставила бы навсегда. Ну, муженек и поучил ее малость. А она за поругание и убытки телесные требует с него ежегодно две тысячи рублев. Я и графиня Растрелли ныне в свидетелях ходим, простым словам нашим не верят, заставляют свидетельскую присягу учинять. А мы учинять ее отрицаемся. Не по нашему закону сие. Уж весь город смеется. А что толку-то? На высочайшее имя прошение подано и отвечено — неукоснительно разобраться. Вот и гоняют нас!
— Ну, если так, то непременно разберутся, — улыбнулся Андрей.
— А черт с ними обоими! — взорвался вдруг архитектор. — Оба они продувные бестии, да там еще любовник-ротмистр объявился. Так что такая там каша, такая катавасия заварилась, что… — Он крепко выругался. — Ты вот что лучше скажи, Матвеев, тебе что, срочный заказ из дворца передали?
Андрей удивленно поднял брови и отрицательно покачал головой:
— Нет! И разговора не было…
— Так вот, — деловито нахмурился Растрелли, — государыня поручила Остерману срочно найти живописных дел мастера для парного портрета принцессы Анны и принца Брауншвейгского.
Андрей замер: неужто счастье само идет в руки?
Он достал из кармана этюдную тетрадь, раскрыл лист с набросками двойного портрета и молча протянул Растрелли.
Тот посмотрел и удивленно спросил:
— Так ты уже знал?
Живописец быстро ответил:
— Не знал, не знал, Варфоломей Варфоломеевич! Никто мне ничего не говорил. Это я для себя пробовал, так, само пришло в голову написать. Если мне дадут, я вам вовек благодарен буду!
— Ах, какие там благодарности! — рассеянно отмахнулся Растрелли. — Считай, что заказ твой! А знаешь, у тебя вот тут отличная композиция, — он ткнул пальцем в один набросок. — Это просто и хорошо. Я верю, что ты сделаешь. Твои эмблемы и картины для триумфальных ворот превосходны!
Матвеев благодарно поклонился архитектору. Он был до глубины души растроган и счастлив. Они тепло распрощались.
 е сладко в Березове, не сладко… Вой ветра похож на человеческий крик. Истошный, отчаянный. С ума можно спятить.
Боже, боже! Вот занесло Меншикова. Даже его привычная выдержка изменяет, озноб словно льдом всего обхватывает.
В большой, просторной светлице сумрак, три плошки горят, толстые фитили постреливают. Вздыхая и проклиная свою судьбу, сидит Александр Данилович и пьет горькую — сам не сам!
Косая слепящая пурга за окном гонит целые стога снега, наваливает сугробы. Казалось, весь белый свет померк и по всей земле разливается этот страшный вой. Но только в Санкт-Петербурге не так: здесь веет ссыльно, а там вольно. И кто же он, что сидит в этой трущобе? По временам Ментиков забывает, кто он и где. Это не он ли наголову разбил прославленного шведского генерала Мардефельда при Калише? Не его ли, Меншикова, царь Петр называл "дитя сердца моего"? Не у него ли были девяносто одна тысяча крестьян и семь миллионов деньгами, бриллиантами и банковыми билетами? Все прахом, все ушло… Не ему ли даден был диплом князя Римской империи? И что же? Вот так и смерзнуться в этой березовской мгле?
Приехал Меншиков сюда с надеждами, гоголем держался, думал: "Ну, погодите, еще пожалеете, еще попросите. Ох, как еще попросите!"
Пождал-пождал — нет, не просят! Словно его и не было… И стал светлейший понемногу сдавать. Какой-то дряхлый стал, какой-то подержанный, несостоятельный какой-то. Никто ему, сердечному, в утешенье словечка не скажет, поясница ноет, дочери ходят с постными лицами, будто по ним качалкой прошлись. И так уж прескверно на душе-то, такая побежденность и растоптанность, так уж подло, мрачно и каторжно, что и не высказать!
И за что на них, на Меншиковых, такая напасть! Все эти проклятущие минихи, головкины, левенвольды, князья да графья… Ведь лебезили же, без мыла лезли, заискивали, а он, сын капрала петровской гвардии, едва имя свое мог подписать. Свели-таки счеты, сволочи!
"Нет! — так и вскинулся Меншиков. — Нет!" Шмякнул кулаком в стол. Ссылкой его не возьмешь. Не сломишь. Не таковский. Знаем мы и сами, что кривы наши сани. Да только разве муха может убить орла, а муравей может ли повредить льву! Нате-ка! Выкусите!
Злоба пробежала в потухших старческих глазах Александра Даниловича. Налил он себе еще стакан водки, выпил, крякнул, утерся ладонью, не стал закусывать.
Ордена, ленты, бриллиантовые звезды — все было! Шпаги с драгоценными каменьями, женские ласки, власть, сундуки с золотыми деньгами, зеркала из Парижа, мраморные столы, люстры, наилучшие картины, английские кареты — все было, и все Меншиков оставил дома, в Петербурге. А здесь, в Березове, у него одни только простуды, головные боли, смятенье духа, тоска по невозвратимым утратам.
Совсем Александр Данилович в Березове задубел. Холодно и сыро ему стало жить, а еще и шестидесяти не стукнуло. Все он ждал чего-то, да так, видно, и не дождется никогда. Отчаялся и поник светлейший. Разлюбил жизнь. "Что остается впереди?" — сам себя спрашивает. А ответа нет. Охоты, гульба, пьянки, бабы развеселые, всеобщее уваженье — все враз отпало. Покуражился — баста!
Нынче аминить пора, вроде как об угол острый головой ударился. Одной радости ему осталось — это глядеть на свой портрет, что Андрюшка Матвеев списал с него. Перед самым отъездом в ссылку принес. В неделю намахал и в добром художестве. Хорошо в Голландии научился, мастак!
Засиживался Меншиков с глазу на глаз со своим портретом, беседовал, шептал что-то, качал утвердительно головой. Так они и сидели: по одну сторону ссыльный старик с ноющей печенью в животе, по другую сторону, на портрете, — орел мужик, ладный, удачливый, в орденах и лентах, а главное — в соку, с кровью, естеством. Да, такому, как в портрете, хоть два века жить, ничего не сделается. "Постарался Андрейка", — ласково думал о живописце Александр Данилыч, любуясь картиной. С душою писал, раскусил он его, понял, каков он человек! Многие ценности побросал Данилыч, а эту картину матвеевскую увез с собой. Особливо нравились ему в картине глаза. Умные, твердые, наигранные, открытые настежь, это глаза властелина с веселым нравом.
Умилялся Меншиков. Будто ему из масляных красок проглядывало прежнее ясное солнышко. Да, переменчива жизнь: на всякий час ума не напасешься, и хорошее до святок никак не растянешь.
Вон ничего уже и не хочется, а каков был молодец!
Не забыть ему никогда, какой у него был вид, какой гордый манер. Вон он, портрет. Персона! Герой, поклонник наук и свободных художеств, законодатель, друг и соратник Петра, царство ему небесное, тот судил, да не ссылал, знал цену! Десять лет по судам таскали за казнокрадство, а не трогали. Петр Алексеевич умел прощать промахи. Знал он, что Алексашка до всего своим умом дошел. А что на руку нечист, так кто же чист!
Храбр был Александр Данилович, талантлив, за дело Петрово радел, за это, за муки и затраты свои, и стал светлейшим князем, и герцогом Ижорским, и наследным господином Аранибурха и иных городов, и первым действительным тайным советником, и генерал-фельдмаршалом, и генерал-губернатором Санкт-Петербургской и многих других провинций, и кавалером Святого Андрея, и Слона, и Белого и Черного Орлов, и прочая и прочая…
Молчал матвеевский портрет, а мог бы и сказать…
Молчал матвеевский портрет, а Меншиков Александр Данилыч пил горькую, житья ему оставалось два года. Нашел он могилу свою там же, в Березове.
А портрет его кисти гоф-малера Андрея Матвеева затерялся…
…Когда Матвеев вернулся домой после разговора с Растрелли, Орина, серьезная и взволнованная, подала ему письмо с печатями. Андрей торопливо вскрыл его.
"Господин гоф-малеру Матвееву. Объявляю тебе мое соизволенье: чтобы ты в незамедлительное время исполнил в живописном добром художестве парный портрет с принцессы Анны и принца Антона Брауншвейгского. Дальнейшие распоряжения получишь у графа Остермана. В прочем пребываю благосклонна.
Анна".
Собственноручное письмо императрицы! Настал наш черед садиться наперед!
Андрей схватил Орину, притянул к себе:
— Ну, Орина, заживем, денег будет — ого! И работа по мне!
А про себя подумал: "Писать буду их высочества, а видеть на полотне себя с Ориной. Вот повезло так повезло! Будь здоров, граф Варфоломей Варфоломеевич, подгадал ты мне, дорогой, сто годов тебе жить, а что прожил — не в зачет!" Страсть как ему подфартило!
е сладко в Березове, не сладко… Вой ветра похож на человеческий крик. Истошный, отчаянный. С ума можно спятить.
Боже, боже! Вот занесло Меншикова. Даже его привычная выдержка изменяет, озноб словно льдом всего обхватывает.
В большой, просторной светлице сумрак, три плошки горят, толстые фитили постреливают. Вздыхая и проклиная свою судьбу, сидит Александр Данилович и пьет горькую — сам не сам!
Косая слепящая пурга за окном гонит целые стога снега, наваливает сугробы. Казалось, весь белый свет померк и по всей земле разливается этот страшный вой. Но только в Санкт-Петербурге не так: здесь веет ссыльно, а там вольно. И кто же он, что сидит в этой трущобе? По временам Ментиков забывает, кто он и где. Это не он ли наголову разбил прославленного шведского генерала Мардефельда при Калише? Не его ли, Меншикова, царь Петр называл "дитя сердца моего"? Не у него ли были девяносто одна тысяча крестьян и семь миллионов деньгами, бриллиантами и банковыми билетами? Все прахом, все ушло… Не ему ли даден был диплом князя Римской империи? И что же? Вот так и смерзнуться в этой березовской мгле?
Приехал Меншиков сюда с надеждами, гоголем держался, думал: "Ну, погодите, еще пожалеете, еще попросите. Ох, как еще попросите!"
Пождал-пождал — нет, не просят! Словно его и не было… И стал светлейший понемногу сдавать. Какой-то дряхлый стал, какой-то подержанный, несостоятельный какой-то. Никто ему, сердечному, в утешенье словечка не скажет, поясница ноет, дочери ходят с постными лицами, будто по ним качалкой прошлись. И так уж прескверно на душе-то, такая побежденность и растоптанность, так уж подло, мрачно и каторжно, что и не высказать!
И за что на них, на Меншиковых, такая напасть! Все эти проклятущие минихи, головкины, левенвольды, князья да графья… Ведь лебезили же, без мыла лезли, заискивали, а он, сын капрала петровской гвардии, едва имя свое мог подписать. Свели-таки счеты, сволочи!
"Нет! — так и вскинулся Меншиков. — Нет!" Шмякнул кулаком в стол. Ссылкой его не возьмешь. Не сломишь. Не таковский. Знаем мы и сами, что кривы наши сани. Да только разве муха может убить орла, а муравей может ли повредить льву! Нате-ка! Выкусите!
Злоба пробежала в потухших старческих глазах Александра Даниловича. Налил он себе еще стакан водки, выпил, крякнул, утерся ладонью, не стал закусывать.
Ордена, ленты, бриллиантовые звезды — все было! Шпаги с драгоценными каменьями, женские ласки, власть, сундуки с золотыми деньгами, зеркала из Парижа, мраморные столы, люстры, наилучшие картины, английские кареты — все было, и все Меншиков оставил дома, в Петербурге. А здесь, в Березове, у него одни только простуды, головные боли, смятенье духа, тоска по невозвратимым утратам.
Совсем Александр Данилович в Березове задубел. Холодно и сыро ему стало жить, а еще и шестидесяти не стукнуло. Все он ждал чего-то, да так, видно, и не дождется никогда. Отчаялся и поник светлейший. Разлюбил жизнь. "Что остается впереди?" — сам себя спрашивает. А ответа нет. Охоты, гульба, пьянки, бабы развеселые, всеобщее уваженье — все враз отпало. Покуражился — баста!
Нынче аминить пора, вроде как об угол острый головой ударился. Одной радости ему осталось — это глядеть на свой портрет, что Андрюшка Матвеев списал с него. Перед самым отъездом в ссылку принес. В неделю намахал и в добром художестве. Хорошо в Голландии научился, мастак!
Засиживался Меншиков с глазу на глаз со своим портретом, беседовал, шептал что-то, качал утвердительно головой. Так они и сидели: по одну сторону ссыльный старик с ноющей печенью в животе, по другую сторону, на портрете, — орел мужик, ладный, удачливый, в орденах и лентах, а главное — в соку, с кровью, естеством. Да, такому, как в портрете, хоть два века жить, ничего не сделается. "Постарался Андрейка", — ласково думал о живописце Александр Данилыч, любуясь картиной. С душою писал, раскусил он его, понял, каков он человек! Многие ценности побросал Данилыч, а эту картину матвеевскую увез с собой. Особливо нравились ему в картине глаза. Умные, твердые, наигранные, открытые настежь, это глаза властелина с веселым нравом.
Умилялся Меншиков. Будто ему из масляных красок проглядывало прежнее ясное солнышко. Да, переменчива жизнь: на всякий час ума не напасешься, и хорошее до святок никак не растянешь.
Вон ничего уже и не хочется, а каков был молодец!
Не забыть ему никогда, какой у него был вид, какой гордый манер. Вон он, портрет. Персона! Герой, поклонник наук и свободных художеств, законодатель, друг и соратник Петра, царство ему небесное, тот судил, да не ссылал, знал цену! Десять лет по судам таскали за казнокрадство, а не трогали. Петр Алексеевич умел прощать промахи. Знал он, что Алексашка до всего своим умом дошел. А что на руку нечист, так кто же чист!
Храбр был Александр Данилович, талантлив, за дело Петрово радел, за это, за муки и затраты свои, и стал светлейшим князем, и герцогом Ижорским, и наследным господином Аранибурха и иных городов, и первым действительным тайным советником, и генерал-фельдмаршалом, и генерал-губернатором Санкт-Петербургской и многих других провинций, и кавалером Святого Андрея, и Слона, и Белого и Черного Орлов, и прочая и прочая…
Молчал матвеевский портрет, а мог бы и сказать…
Молчал матвеевский портрет, а Меншиков Александр Данилыч пил горькую, житья ему оставалось два года. Нашел он могилу свою там же, в Березове.
А портрет его кисти гоф-малера Андрея Матвеева затерялся…
…Когда Матвеев вернулся домой после разговора с Растрелли, Орина, серьезная и взволнованная, подала ему письмо с печатями. Андрей торопливо вскрыл его.
"Господин гоф-малеру Матвееву. Объявляю тебе мое соизволенье: чтобы ты в незамедлительное время исполнил в живописном добром художестве парный портрет с принцессы Анны и принца Антона Брауншвейгского. Дальнейшие распоряжения получишь у графа Остермана. В прочем пребываю благосклонна.
Анна".
Собственноручное письмо императрицы! Настал наш черед садиться наперед!
Андрей схватил Орину, притянул к себе:
— Ну, Орина, заживем, денег будет — ого! И работа по мне!
А про себя подумал: "Писать буду их высочества, а видеть на полотне себя с Ориной. Вот повезло так повезло! Будь здоров, граф Варфоломей Варфоломеевич, подгадал ты мне, дорогой, сто годов тебе жить, а что прожил — не в зачет!" Страсть как ему подфартило!
 утра у вице-канцлера графа Остермана болела голова. Подобное может быть со всякой живой тварью. Лекаря считают, что происходит сие от полнокровия. А люди говорят, что от дурного характера и злобства. Ломило глаза, напирало на затылок. Боль была такая, что граф мычал в подушку и его всего выворачивало.
Подошла жена с деревянной банкой в руке.
— Ну что ты расстонался, не всякая болезнь к смерти. На вот, выпей, Андрей Иваныч, аптекарь сказывал, что мед с морсом от головы спасенье.
— А что, Марфенька, ты доверяешь этим прощелыгам?
— Пей ты, пей! И от прощелыг польза бывает.
Андрей Иваныч поморщился и залпом осушил кружку.
И действительно, вскоре ему стало вроде бы полегче.
— Пойду к себе, там и лягу. Как спросит меня живописный мастер Матвеев, вели, чтоб ко мне проводили!
Вице-канцлер Остерман, по мнению многих, считался лучшим в Европе дипломатом, искуснейшим политиком. На язык остер был и крайне изворотлив. О нем говорили, что вертится он, как лысый бес перед заутреней. Как орехи расщелкивал граф тайны придворных каверз. В прошлом у него был успех — заключение выгоднейшего для России Ништадтского мира, тогда он стал любимцем царя.
— Ну, Андрей Иваныч, этот мир для нас такое благо, такое счастье, — сиял Петр, — я уж не знаю, как мне тебя и наградить!
Остермана возвели в баронское достоинство, осыпали деньгами и орденами. Пожаловали деревнями.
— Ну вот, — сказал царь, — ты теперь, Андрей Иваныч, знатен и богат, но в России ты еще чужой человек, без родства. Я хочу тебя просватать. Есть у меня на примете одна невеста. Как смотришь?
И через несколько дней Петр женил его на дочери ближнего стольника Марфе Стрешневой.
Зажили молодые счастливо. Остерман к России привык. Мужчины уважали его за трезвость ума, женщинам нравилось, что граф большой любезник и к каждой умеет найти свой манир. В свою очередь Остерман смотрел на женщин как на забавные игрушки. Ему приятно было слушать их легкую, заливчатую болтовню. Вице-канцлер был не жаден до богатства, образцово честен. Не станет Петра, и его бывшего любимца приговорят за несуществующие вины к смерти, замененной пожизненным заключением в Сибирь. И окажется вдруг вершитель судеб Европы на берегу Сосьвы-реки, там, где она впадает в Обь, в Березове, посередине тайги. А вослед ему полетит особая инструкция — содержать арестанта под крепким и осторожным караулом, наблюдая, чтобы никто с ним не разговаривал. Ему не позволят ни с кем видеться, ему запретят иметь чернила и бумагу и станут смотреть, чтобы служители его ходили в город только для закупки провизии раз в сутки, не иначе как в сопровождении солдата. А обо всем прочем доносить в Сенат. В случае же чего виновных под строжайший караул и о том обстоятельно рапортовать в Сенат же.
Туда, в Березов, Остерман поехал вместе с женою Марфой, десятком гвардейских солдат, тремя лакеями, поваром и двумя горничными. Увидел он край суровый, где порой так прижмет мороз, что птицы мертвыми валятся в снег. Холод теснит дыханье. Кругом кедр, ель, сосны. Не убежишь. До ближайшего большого города Тобольска от Березова отмерена ровным счетом одна тысяча шестьдесят шесть верст. Через озера и протоки, через зыбкие болота и хвойный лес, через погибель и дремучую чащу.
В Петербурге о ссыльном не забудут. Императрица, зная, что бывший вице-канцлер лютеранин, пошлет ему пастора с жалованьем в полтораста рублев в месяц. Молись, дескать, о душе. Но и пастор не поможет. Проживет в Березове граф пять лет и помрет. А жена его верная Марфа вернется в Петербург. Два сына их будут служить капитанами в Преображенском полку. Один станет московским генерал-губернатором, другой — президентом Коллегии иностранных дел. Детки умом в отца… Но это все потом.
А пока еще вице-канцлер в полной силе. Его слово — закон.
К нему-то и велено явиться живописцу Андрею Матвееву. Чтоб уяснить спешный царский заказ на двойной портрет.
утра у вице-канцлера графа Остермана болела голова. Подобное может быть со всякой живой тварью. Лекаря считают, что происходит сие от полнокровия. А люди говорят, что от дурного характера и злобства. Ломило глаза, напирало на затылок. Боль была такая, что граф мычал в подушку и его всего выворачивало.
Подошла жена с деревянной банкой в руке.
— Ну что ты расстонался, не всякая болезнь к смерти. На вот, выпей, Андрей Иваныч, аптекарь сказывал, что мед с морсом от головы спасенье.
— А что, Марфенька, ты доверяешь этим прощелыгам?
— Пей ты, пей! И от прощелыг польза бывает.
Андрей Иваныч поморщился и залпом осушил кружку.
И действительно, вскоре ему стало вроде бы полегче.
— Пойду к себе, там и лягу. Как спросит меня живописный мастер Матвеев, вели, чтоб ко мне проводили!
Вице-канцлер Остерман, по мнению многих, считался лучшим в Европе дипломатом, искуснейшим политиком. На язык остер был и крайне изворотлив. О нем говорили, что вертится он, как лысый бес перед заутреней. Как орехи расщелкивал граф тайны придворных каверз. В прошлом у него был успех — заключение выгоднейшего для России Ништадтского мира, тогда он стал любимцем царя.
— Ну, Андрей Иваныч, этот мир для нас такое благо, такое счастье, — сиял Петр, — я уж не знаю, как мне тебя и наградить!
Остермана возвели в баронское достоинство, осыпали деньгами и орденами. Пожаловали деревнями.
— Ну вот, — сказал царь, — ты теперь, Андрей Иваныч, знатен и богат, но в России ты еще чужой человек, без родства. Я хочу тебя просватать. Есть у меня на примете одна невеста. Как смотришь?
И через несколько дней Петр женил его на дочери ближнего стольника Марфе Стрешневой.
Зажили молодые счастливо. Остерман к России привык. Мужчины уважали его за трезвость ума, женщинам нравилось, что граф большой любезник и к каждой умеет найти свой манир. В свою очередь Остерман смотрел на женщин как на забавные игрушки. Ему приятно было слушать их легкую, заливчатую болтовню. Вице-канцлер был не жаден до богатства, образцово честен. Не станет Петра, и его бывшего любимца приговорят за несуществующие вины к смерти, замененной пожизненным заключением в Сибирь. И окажется вдруг вершитель судеб Европы на берегу Сосьвы-реки, там, где она впадает в Обь, в Березове, посередине тайги. А вослед ему полетит особая инструкция — содержать арестанта под крепким и осторожным караулом, наблюдая, чтобы никто с ним не разговаривал. Ему не позволят ни с кем видеться, ему запретят иметь чернила и бумагу и станут смотреть, чтобы служители его ходили в город только для закупки провизии раз в сутки, не иначе как в сопровождении солдата. А обо всем прочем доносить в Сенат. В случае же чего виновных под строжайший караул и о том обстоятельно рапортовать в Сенат же.
Туда, в Березов, Остерман поехал вместе с женою Марфой, десятком гвардейских солдат, тремя лакеями, поваром и двумя горничными. Увидел он край суровый, где порой так прижмет мороз, что птицы мертвыми валятся в снег. Холод теснит дыханье. Кругом кедр, ель, сосны. Не убежишь. До ближайшего большого города Тобольска от Березова отмерена ровным счетом одна тысяча шестьдесят шесть верст. Через озера и протоки, через зыбкие болота и хвойный лес, через погибель и дремучую чащу.
В Петербурге о ссыльном не забудут. Императрица, зная, что бывший вице-канцлер лютеранин, пошлет ему пастора с жалованьем в полтораста рублев в месяц. Молись, дескать, о душе. Но и пастор не поможет. Проживет в Березове граф пять лет и помрет. А жена его верная Марфа вернется в Петербург. Два сына их будут служить капитанами в Преображенском полку. Один станет московским генерал-губернатором, другой — президентом Коллегии иностранных дел. Детки умом в отца… Но это все потом.
А пока еще вице-канцлер в полной силе. Его слово — закон.
К нему-то и велено явиться живописцу Андрею Матвееву. Чтоб уяснить спешный царский заказ на двойной портрет.
 ешению вызвать живописных дел мастера во дворец и поручить ему парный портрет Анны Леопольдовны и принца Антона предшествовали события, смысла которых Матвеев не знал и не мог знать. Да и на что они ему, художнику? Он понимал толк в пропорциях, умел пользоваться всем богатством цвета, оттенков, тонов и полутонов, по-настоящему любил и чутко понимал художество.
Он постиг тайны самых хитрых учителей, знал, как надобно смешивать синило и желть, как трутся краски на водке и прибавляется к ним немного желчи рыбьей — из щуки или же карпа, как добиваться звучания кремор-тартара — алой краски с квасцами, как смешивать мел с крушинным соком, чтоб вышел отличный желтый шижгиль, умел готовить отменные белила на пшеничном клею, вязать кисти, перепускать краски, грунтовать холст тонким пшеничным тестом, помазывая поверх водою, знал секреты камеди александрийской, на которой растворяются все краски и киноварь, мастерски варил рыбий клей — корлук. Художество, как любая профессия, имело множество секретов, и Матвеев знал их совершенно. Не зря же Академия наук со своей стороны заключала, что оной Матвеев к живописанию и рисованию зело способен и склонную природу имеет.
И все же в штат Академии наук Матвеева так и незачислили.
Но где была первопричина, почему двойной портрет нужен? Узелок развязывался скрытно, манекены издавали звуки, нажимались невидимые пружины, мчались гонцы, происходили тайные совещания, перешептывания, посылались записочки, клубком свивались дворцовые интриги, и в этот грозный водоворот оказался втянутым бедный и скудный наш художник, удостоверясь печальным опытом в своем полнейшем неразумении корыстей, неправд и подсидок. Все дворцовое вызывало в Матвееве духовное отягощенье. Он часто страдал от срочных заказов, писать приходилось то, что требовал двор. Зато он мог все, завяжи ему глаза — напишет получше прославленного Каравакка или Ротари. Матвеев был невольником своей жизни, потому что в картине никуда не спрячешься, колер все выдаст, распахнет дальше некуда.
Причина же вызова ко двору гоф-малера Матвеева была вот какая. Вскоре после вступления на престол императрицы Анны Иоанновны, так как она была бездетна, граф Остерман и граф Левенвольде-старший стали опасаться самых дурных последствий для немецкой партии в случае внезапной кончины бездетной императрицы. Они забеспокоились о престолонаследии, зашевелились. Имея намерение утвердить престол в своем роде, императрица решилась выдать дочь своей сестры, герцогини Мекленбургской, за какого-нибудь иностранного принца. А потом уже избрать наследника престола из детей, которые произойдут от этого брака, не обращая внимания на право первородства. Остерман и Левенвольде указывали прямо на будущих детей Анны Леопольдовны, а не на нее лично, имея в виду, во-первых, утвердить на троне мужское поколение и, во-вторых, устранить всякое влияние и вмешательство находившегося еще в живых отца принцессы, беспокойного, непутевого герцога Мекленбургского, который не замедлил бы причинить России много затруднений и неприятностей, если б дочь его сделалась русской императрицей.
После некоторых колебаний царица согласилась на такое предложение и поручила графу Левенвольде отправиться за границу и высмотреть где-нибудь рядом, под рукою, принца, достойного сделаться родителем будущего русского императора.
Узнав об этом решении русской самодержицы, австрийский император Карл Шестой поспешил в интересах своей политики рекомендовать в женихи Анне Леопольдовне племянника своего, принца Брауншвейг-Беверн-Люнебургского Антона-Ульриха. В ход были пущены все средства — и дипломатические, и подспудные, о которых знали только те, кто их употреблял.
Благодаря представлениям венского двора и стараниям задобренного Карлом Шестым Левенвольде принц Антон был приглашен в Россию и в феврале 1733 года приехал в Петербург. Двумя годами раньше Анна Леопольдовна, которой шел тринадцатый год, была взята ко двору, помещена в императорских покоях, воспитывалась в правилах православной веры и была торжественно миропомазана и наречена Анною, тогда как ранее она звалась Елизавета Екатерина Христина. Некоторые иностранные писатели о России уверяли, будто императрица "удочерила" Анну Леопольдовну.
Девятнадцатилетний принц, худой, небольшого роста, неловкий и застенчивый, произвел весьма невыгодное впечатление на русскую императрицу и уж совсем не глянулся Анне, будущей своей супруге. Несмотря на это, был принят очень вежливо — русский двор был по-европейски учтив. Антон сделан был подполковником кирасирского полка, названного в честь его Бевернским.
"Принц нравится мне так же мало, как и принцессе, — говорила Анна Иоанновна своим приближенным, — но ведь высокие особы не всегда соединяются по склонности. Впрочем, он кажется мне человеком миролюбивым и уступчивым, и я, во всяком случае, не удалю его от двора, чтобы не обидеть австрийского императора".
В ожидании совершеннолетия невесты принц остался жить при русском дворе. Он попытался сблизиться с Анной, но все его старания встречали с ее стороны холодность и явное нерасположение. Вскоре еще и открылось, что сердце молодой принцессы уже принадлежит красивому саксонскому посланнику графу Линару и что гувернантка ее госпожа Адеркас вместо наблюдения за своей воспитанницей содействует развитию в ней этой страсти. Адеркас была немедленно выслана за границу, а Линар по просьбе императрицы отозван своим двором.
Между тем Бирон, убедившись в полном равнодушии Анны Леопольдовны к принцу Антону, задумал воспользоваться этим обстоятельством и женить на ней старшего сына своего Петра, подполковника конной гвардии, именовавшегося наследным принцем.
Чтобы иметь более свободы и времени для достижения цели, Бирон под предлогом военного образования принца Антона отправил последнего в армию Миниха волонтером. Принц участвовал в турецкой кампании 1737–1738 годов, успел несколько раз отличиться.
По возвращении в Петербург в награду за оказанную храбрость получил чин генерал-майора.
Надежда Бирона на доставление своему потомству русского престола не осуществилась. Когда императрица предложила племяннице сделать окончательный выбор между сыном Бирона и принцем Антоном, Анна Леопольдовна, ненавидевшая Бирона и все его семейство, отрубила:
— Если на то воля вашего величества, я лучше пойду за принца Брауншвейгского, потому что он в совершенных летах и старого дома.
Императрица была счастлива тем, что Анна во всем покоряется ей, хотя и не сразу, но безропотно. Ответ принцессы и настойчивые представления венского двора решили наконец судьбу принца Антона. И еще до того, как было совершено торжественное бракосочетание, с целью сблизить будущих супругов Анна решила прибегнуть к помощи искусства. "Я их сведу в парном портрете, рядом, рука в руке, — думала Анна Иоанновна, — может быть, хоть так зародится в них намек на взаимную привязанность. Пока будет писаться портрет, они привыкнут друг к другу, меньше станет в них притворства, убавится неприязнь". Тут же императрица вспомнила слова Анны, что она всегда покоряется приказаниям ее величества. Но готовилась к свадьбе Анна с отвращением и говорила, что желала бы лучше умереть.
Анна Иоанновна представила себе парный портрет, на котором принц Антон, женственный и белокурый, стоит рядом с Анной, которую он обнимает правой рукой, держа в своей левой ее левую руку. Он одет в красный кафтан и белый камзол, — да, так будет хорошо — в контрасте чистоты и молодой страсти, голова повернута налево. А во что же нарядить Анну? Вопрос этот надолго занял императрицу, она перебирала весь свой гардероб мысленно, пока не остановилась на простом сером платье с розой на груди, которую на портрете Анна будет придерживать правой рукой. А по левому плечу пойдет красная драпировка. Пусть все это будет изображено моляром на фоне голубого неба, колонн, неоглядных далей молодой жизни. Она тут же велела нарядить принцессу и Антона так, как задумала. Достала из потайного ящичка с драгоценностями ожерелье из яхонтов с бриллиантами и позвала Анну к себе.
— Возьми, душечка, эту прелесть, надень, — сказала императрица, протягивая ожерелье Анне. — А? Ты посмотри только на себя в зеркало! Чудесно, чудесно!
Анна улыбнулась. Ей мало было утешенья в той красоте, которую она видела в зеркале, потому что суждено было отдать ее плюгавому заике Антону, он, кажется, так и не избавился еще от страха, в котором находился постоянно со времени своего приезда в Петербург.
Анна вспомнила графа Линара — бойкого красавца с приятным, воркующим баритоном, с точеным профилем. Вот уж это был настоящий мужчина — с твердостью в глазах, в руках, во всей фигуре.
А как он бывал страстен… Счастливая улыбка осветила лицо принцессы, она обняла Анну Иоанновну, и та подумала: "Ну, слава богу, кажется, мои усилья были не напрасны". Она заглядывала в сухие, блестящие странным возбуждением глаза племянницы, словно говорила ей: "Отдай, милочка, свое сердце Антону, а больше — мне и русскому престолу. У тебя все впереди, и ты еще научишься скрывать свои чувства".
Императрица велела пригласить к вечеру живописца Матвеева, подготовить ему комнату для первого сеанса.
Судьба Антона, невзрачного прусского цветка, не прижившегося к русской почве, и впоследствии ломалась и раскалывалась на крутых русских ухабах. Жена родила ему сына Ивана, потом еще четырех детей, Антон получил звание генералиссимуса русских войск, впоследствии был арестован, содержался с семейством в рижской крепости, в Динамюнде, Ранненбурге и, наконец, в Холмогорах. Здесь он лишился жены, оплакал сына, задушенного в Шлиссельбурге, ослеп и умер, проклиная день и час своего отъезда из родного дома.
ешению вызвать живописных дел мастера во дворец и поручить ему парный портрет Анны Леопольдовны и принца Антона предшествовали события, смысла которых Матвеев не знал и не мог знать. Да и на что они ему, художнику? Он понимал толк в пропорциях, умел пользоваться всем богатством цвета, оттенков, тонов и полутонов, по-настоящему любил и чутко понимал художество.
Он постиг тайны самых хитрых учителей, знал, как надобно смешивать синило и желть, как трутся краски на водке и прибавляется к ним немного желчи рыбьей — из щуки или же карпа, как добиваться звучания кремор-тартара — алой краски с квасцами, как смешивать мел с крушинным соком, чтоб вышел отличный желтый шижгиль, умел готовить отменные белила на пшеничном клею, вязать кисти, перепускать краски, грунтовать холст тонким пшеничным тестом, помазывая поверх водою, знал секреты камеди александрийской, на которой растворяются все краски и киноварь, мастерски варил рыбий клей — корлук. Художество, как любая профессия, имело множество секретов, и Матвеев знал их совершенно. Не зря же Академия наук со своей стороны заключала, что оной Матвеев к живописанию и рисованию зело способен и склонную природу имеет.
И все же в штат Академии наук Матвеева так и незачислили.
Но где была первопричина, почему двойной портрет нужен? Узелок развязывался скрытно, манекены издавали звуки, нажимались невидимые пружины, мчались гонцы, происходили тайные совещания, перешептывания, посылались записочки, клубком свивались дворцовые интриги, и в этот грозный водоворот оказался втянутым бедный и скудный наш художник, удостоверясь печальным опытом в своем полнейшем неразумении корыстей, неправд и подсидок. Все дворцовое вызывало в Матвееве духовное отягощенье. Он часто страдал от срочных заказов, писать приходилось то, что требовал двор. Зато он мог все, завяжи ему глаза — напишет получше прославленного Каравакка или Ротари. Матвеев был невольником своей жизни, потому что в картине никуда не спрячешься, колер все выдаст, распахнет дальше некуда.
Причина же вызова ко двору гоф-малера Матвеева была вот какая. Вскоре после вступления на престол императрицы Анны Иоанновны, так как она была бездетна, граф Остерман и граф Левенвольде-старший стали опасаться самых дурных последствий для немецкой партии в случае внезапной кончины бездетной императрицы. Они забеспокоились о престолонаследии, зашевелились. Имея намерение утвердить престол в своем роде, императрица решилась выдать дочь своей сестры, герцогини Мекленбургской, за какого-нибудь иностранного принца. А потом уже избрать наследника престола из детей, которые произойдут от этого брака, не обращая внимания на право первородства. Остерман и Левенвольде указывали прямо на будущих детей Анны Леопольдовны, а не на нее лично, имея в виду, во-первых, утвердить на троне мужское поколение и, во-вторых, устранить всякое влияние и вмешательство находившегося еще в живых отца принцессы, беспокойного, непутевого герцога Мекленбургского, который не замедлил бы причинить России много затруднений и неприятностей, если б дочь его сделалась русской императрицей.
После некоторых колебаний царица согласилась на такое предложение и поручила графу Левенвольде отправиться за границу и высмотреть где-нибудь рядом, под рукою, принца, достойного сделаться родителем будущего русского императора.
Узнав об этом решении русской самодержицы, австрийский император Карл Шестой поспешил в интересах своей политики рекомендовать в женихи Анне Леопольдовне племянника своего, принца Брауншвейг-Беверн-Люнебургского Антона-Ульриха. В ход были пущены все средства — и дипломатические, и подспудные, о которых знали только те, кто их употреблял.
Благодаря представлениям венского двора и стараниям задобренного Карлом Шестым Левенвольде принц Антон был приглашен в Россию и в феврале 1733 года приехал в Петербург. Двумя годами раньше Анна Леопольдовна, которой шел тринадцатый год, была взята ко двору, помещена в императорских покоях, воспитывалась в правилах православной веры и была торжественно миропомазана и наречена Анною, тогда как ранее она звалась Елизавета Екатерина Христина. Некоторые иностранные писатели о России уверяли, будто императрица "удочерила" Анну Леопольдовну.
Девятнадцатилетний принц, худой, небольшого роста, неловкий и застенчивый, произвел весьма невыгодное впечатление на русскую императрицу и уж совсем не глянулся Анне, будущей своей супруге. Несмотря на это, был принят очень вежливо — русский двор был по-европейски учтив. Антон сделан был подполковником кирасирского полка, названного в честь его Бевернским.
"Принц нравится мне так же мало, как и принцессе, — говорила Анна Иоанновна своим приближенным, — но ведь высокие особы не всегда соединяются по склонности. Впрочем, он кажется мне человеком миролюбивым и уступчивым, и я, во всяком случае, не удалю его от двора, чтобы не обидеть австрийского императора".
В ожидании совершеннолетия невесты принц остался жить при русском дворе. Он попытался сблизиться с Анной, но все его старания встречали с ее стороны холодность и явное нерасположение. Вскоре еще и открылось, что сердце молодой принцессы уже принадлежит красивому саксонскому посланнику графу Линару и что гувернантка ее госпожа Адеркас вместо наблюдения за своей воспитанницей содействует развитию в ней этой страсти. Адеркас была немедленно выслана за границу, а Линар по просьбе императрицы отозван своим двором.
Между тем Бирон, убедившись в полном равнодушии Анны Леопольдовны к принцу Антону, задумал воспользоваться этим обстоятельством и женить на ней старшего сына своего Петра, подполковника конной гвардии, именовавшегося наследным принцем.
Чтобы иметь более свободы и времени для достижения цели, Бирон под предлогом военного образования принца Антона отправил последнего в армию Миниха волонтером. Принц участвовал в турецкой кампании 1737–1738 годов, успел несколько раз отличиться.
По возвращении в Петербург в награду за оказанную храбрость получил чин генерал-майора.
Надежда Бирона на доставление своему потомству русского престола не осуществилась. Когда императрица предложила племяннице сделать окончательный выбор между сыном Бирона и принцем Антоном, Анна Леопольдовна, ненавидевшая Бирона и все его семейство, отрубила:
— Если на то воля вашего величества, я лучше пойду за принца Брауншвейгского, потому что он в совершенных летах и старого дома.
Императрица была счастлива тем, что Анна во всем покоряется ей, хотя и не сразу, но безропотно. Ответ принцессы и настойчивые представления венского двора решили наконец судьбу принца Антона. И еще до того, как было совершено торжественное бракосочетание, с целью сблизить будущих супругов Анна решила прибегнуть к помощи искусства. "Я их сведу в парном портрете, рядом, рука в руке, — думала Анна Иоанновна, — может быть, хоть так зародится в них намек на взаимную привязанность. Пока будет писаться портрет, они привыкнут друг к другу, меньше станет в них притворства, убавится неприязнь". Тут же императрица вспомнила слова Анны, что она всегда покоряется приказаниям ее величества. Но готовилась к свадьбе Анна с отвращением и говорила, что желала бы лучше умереть.
Анна Иоанновна представила себе парный портрет, на котором принц Антон, женственный и белокурый, стоит рядом с Анной, которую он обнимает правой рукой, держа в своей левой ее левую руку. Он одет в красный кафтан и белый камзол, — да, так будет хорошо — в контрасте чистоты и молодой страсти, голова повернута налево. А во что же нарядить Анну? Вопрос этот надолго занял императрицу, она перебирала весь свой гардероб мысленно, пока не остановилась на простом сером платье с розой на груди, которую на портрете Анна будет придерживать правой рукой. А по левому плечу пойдет красная драпировка. Пусть все это будет изображено моляром на фоне голубого неба, колонн, неоглядных далей молодой жизни. Она тут же велела нарядить принцессу и Антона так, как задумала. Достала из потайного ящичка с драгоценностями ожерелье из яхонтов с бриллиантами и позвала Анну к себе.
— Возьми, душечка, эту прелесть, надень, — сказала императрица, протягивая ожерелье Анне. — А? Ты посмотри только на себя в зеркало! Чудесно, чудесно!
Анна улыбнулась. Ей мало было утешенья в той красоте, которую она видела в зеркале, потому что суждено было отдать ее плюгавому заике Антону, он, кажется, так и не избавился еще от страха, в котором находился постоянно со времени своего приезда в Петербург.
Анна вспомнила графа Линара — бойкого красавца с приятным, воркующим баритоном, с точеным профилем. Вот уж это был настоящий мужчина — с твердостью в глазах, в руках, во всей фигуре.
А как он бывал страстен… Счастливая улыбка осветила лицо принцессы, она обняла Анну Иоанновну, и та подумала: "Ну, слава богу, кажется, мои усилья были не напрасны". Она заглядывала в сухие, блестящие странным возбуждением глаза племянницы, словно говорила ей: "Отдай, милочка, свое сердце Антону, а больше — мне и русскому престолу. У тебя все впереди, и ты еще научишься скрывать свои чувства".
Императрица велела пригласить к вечеру живописца Матвеева, подготовить ему комнату для первого сеанса.
Судьба Антона, невзрачного прусского цветка, не прижившегося к русской почве, и впоследствии ломалась и раскалывалась на крутых русских ухабах. Жена родила ему сына Ивана, потом еще четырех детей, Антон получил звание генералиссимуса русских войск, впоследствии был арестован, содержался с семейством в рижской крепости, в Динамюнде, Ранненбурге и, наконец, в Холмогорах. Здесь он лишился жены, оплакал сына, задушенного в Шлиссельбурге, ослеп и умер, проклиная день и час своего отъезда из родного дома.
 зимнем императорском доме господствовали тишь, отупенье, полусон, полумрак. Все зевали. По залам неслышно, совсем по-мышиному, скользила прислуга, на ходу потягиваясь и мелко крестя отверстие рта. За высокими окнами ничего более не было, как этот нескончаемый равнодушный дождь. Он проникал, казалось, во все, что встречал на своем пути, — в дерево, в человека, в птицу, в дома и амбары и даже в матово поблескивающий шпиц на петропавловской колокольне.
Ненастный санкт-петербургский ситничек сеялся и сеялся, одевая весь белый свет в серо-лиловый саван.
Императрица подошла к окну во двор, отворила его и некоторое время тоскливо глядела в небо. Назвать то, что она видела, небом едва ли кто-нибудь мог, потому что оно обычно шло, двигалось, менялось, а теперь вот уже несколько дней стояло беззвучно и заморенно. И было это небо тусклое, неясное, грязное.
Клонилось уже к вечеру. Караульный внизу встрепенулся, узнав государыню. Он подтянулся и замер, стремясь вжаться в голубую дворцовую стену. В него вонзился страх, ноги разъезжались, и солдату казалось, что набухшая земля вот-вот начнет выталкивать влагу обратно и что повсюду забьют фонтаны.
В глубине сада кружила над старой липой одинокая галка. Она беспокойно и горько вскрикивала, слетала с верхних веток на землю и снова в несколько сильных взмахов подымалась вверх.
Потом птица резко взмыла и странно подымалась, распластав крылья. В этот миг из окна раздался оглушительный выстрел. Галка, приняв в свое тело лишний вес, остановилась в воздухе, зависла и, заваливаясь на одно крыло, камнем упала под дерево.
Со страху караульному стало трудно дышать, в груди сперло. Он попятился, не отрывая спину и зад от стены, завернул за угол и тотчас же растворился во мгле.
Отшвырнув от себя тяжелое ружье и поморщившись от грохота, императрица велела комнатному лакею призвать девицу Анну Федоровну Юшкову, дочь боярина. Та обещала для развлечения государыни доставить во дворец Настасью Филатовну Шестакову, давнюю знакомую Анны Иоанновны.
Юшкова неслышно вплыла в опочивальню. Но государыня имела звериный слух. Не оборачиваясь она спросила:
— Ты обещала Филатовну. Доставили?
Юшкова встрепенулась:
— Доставили, доставили!
— Зови немедля!
Филатовну привели, когда императрица уже изволила раздеться ко сну.
Ее величество позволила Филатовне пожаловать к ручке и взяла ее за плечо так крепко, что с телом захватила.
Она подвела ее к окну, разглядывала, засматривала в глаза. Потом сказала:
— Стара ты очень стала, Филатовна, не так, как раньше была. — Она тяжело вздохнула. — Пожелтела вона как!
— Уже, матушка, — запричитала Филатовна, — запустила я себя, прежде пачкалась, белилась, брови марала, румянилась, так и получше была. А ноне захирела!
Анна Иоанновна улыбнулась.
— Румяниться не надобно, а брови марай! Получше будешь! Ну, а я, Филатовна, стара ли стала, погляди-ка?
— Никак, матушка, ни капельки старинки в вашем лице, ну ни капельки в вашем величестве нет!
— Ну, а толщиною я какова? — спросила государыня. — Небось уже с Авдотью Ивановну Чернышову? А? Только не ври!
— Господь вам судья, матушка, нельзя и сравнить ваше величество с нею, она же вдвое толще!
— Вот, вот видишь ли! — удовлетворенно протянула императрица и строго приказала: — Ну, говори, Филатовна!
Та замигала часто, замешкалась:
— Не знаю, что, матушка, и говорить. Дай отдохнуть, матушка!
— На том свете отдохнем! На том! — Императрица рассмеялась, видя неловкость и смущение Филатовны, и приказала: — Ну, поди ко мне поближе!
Филатовна плюхнулась пред нею в самые ножки.
— Подымите ее! — крикнула Анна Иоанновна.
Мужеподобная шутиха, что неотлучно была при императрице, бросилась со всех ног подымать Филатовну. А та еще пуще растерялась, не умея встать. Наконец кое-как Филатовну поставили на ноги.
Императрица снова велит:
— Ну, Филатовна, говори! А то отдам Бирону на конюшню! Он на тебе ездить будет!
— Спаси и помилуй, не знаю, матушка, что и говорить!
— Рассказывай страшное, про разбойников. Живо!
Гостья про себя подумала: "Вот навязалась, ведьма, на мою голову", — а вслух сказала:
— Да я же с разбойниками, матушка, и не живала.
— Не живала! Ну, так выдумай! Ну что, не можешь? Ладно уж, иди спать!
Обрадованная Филатовна выплыла из опочивальни лебедем. Уже за дверьми передохнула: "Фу, слава богу, отцепилась!" А поутру, в десятом часу, ее снова призвала императрица.
— Чаю, тебе не мягко спать было, Филатовна?
— Мягко, матушка, мягко, уж так выспалась! — Филатовна снова упала в землю перед ее величеством.
Императрица тешилась. Она встала с утра в хорошем расположении духа.
— Подымите ее, а то сызнова уснет! Ну, Филатовна, рассказывай! Не томи!
— Да что и говорить, матушка! Вчерашний день я была будто каменная. С дороги устала. И ко встрече, как к исповеди, готовилась.
— Ну, Филатовна, говори, говори еще!
— Не знаю, что и говорить, всемилостивая!
— Эко ты поглупела, милая, к старости! Где твой муж, у каких дел?
— В селе Дединове, матушка, в Коломенском уезде, управителем служит. Живем хорошо с ним, ладно.
— А вы же раньше были в новгородских?
— Да, матушка, а нынче эти волости, государыня, отданы в Невский монастырь.
— Ну, и где же вам лучше?
— В новгородских лучше было, государыня! А в энтих беднее…
— Ну, а мужики в ваших местах богаты ли?
— Богаты, матушка, в достатке.
— Почему вы от них не богаты?
— А кто знает! Может, они ловчат, может, воруют… А у меня, всемилостивейшая государыня, муж честен и беден. Он спать ляжет и говорит: "Я сплю и ничего не боюся, и подушка в головах не вертится".
— Так-то лучше, Филатовна! Не богатство пользует, а честь, не воровство избавляет от смерти, а правда! Или не так?
— Так, матушка, истинно так!
— Ну, Филатовна, говори, говори!
— Да уж все высказала, матушка!
— Еще не все! А скажи-ка, стреляют ли дамы у вас в Москве?
— Видела, государыня, князь Алексей Михайлович Черкасский учит стрелять княжну из окна. А мишень у них на заборе поставлена. Вот и тешатся…
— Ну, а попадает ли княжна в мишень?
— Иное, матушка, попадает, а иное кривенько.
— Ну, а в птиц стреляет ли?
— Да, видела сама, государыня, посадили голубя близко к мишени и застрелили в крыло. И голубь, бедный, ходил накривобок, уж так, сердешного, жалко мне было, а в другой раз его княжна и пристрелила.
— Ну, а другие дамы стреляют ли?
— Не могу, матушка, донесть, не видывала. А врать не стану!
— А я, Филатовна, страсть как люблю стрелять! У меня возле Аничкокой слободы сад для охоты заведен — ягдгартен прозывается. Так там устраиваем гоньбу и стреляние оленей, кабанов, зайцев. Ну, что скажешь, Филатовна?
— Вольному воля, матушка, стреляй себе на здоровье! Все благо, в чем душа подможение находит!
— Верно говоришь, Филатовна, верно! Не зря тебя сюда завезли.
Императрицу пришли одевать, и она, занятая туалетом, оставила Филатовну в покое.
— Отпускаю тебя, Филатовна, пока, только прости, а я опять за тобой пришлю. Вот тебе сто рублев. Гляди, на безделку не трать! А знаешь, Филатовна, я помню ваше Дединово, с матушкою ездила молиться к Николе Родовицкому, между Коломною и Рязанью. Места там хороши! Не то что у нас — сыплет дождик, как горох, на все двенадцать дорог.
— Вот бы, матушка, ты и ныне к Николе-то чудотворцу пожаловала помолиться!
— Куда там! Молись богу, как мир будет, а пока что турка надобно воевать. А ты сходи-ка, Филатовна, в сад мой, погляди, а уж после тебя домой возвратно отвезут! Моих птиц погляди-ка!
Филатовна вышла в сад. Там все было ухожено, подстрижено, посыпано. Только сильно тянуло сыростью. Там Филатовна передохнула от расспросов державных. Радехонька она была — и сотне за пазухой, и близкой дороге домой. Ходила-ходила да вдруг и вышла на диковинных птиц, и рот от их чудного вида разинула. Птицы те от копыт до головы были величиною с лошадь. Копыта на них были коровьи, а коленки лошадиные и бедра тоже лошадиные. Птицы ходили величественно, что-то выискивали в траве. Они подымали крылья, выклевывали под ними, сверкали голыми бедрами. Их длинные, лебяжьи шеи несли гусиные головки с черными бусинами глаз. Перья на птицах были необычайно длинные — такие Филатовна не видывала на шляпах.
— Как же их зовут-то, птиц энтих? — спросила Филатовна у лакея, что стоял неподалеку.
— А ляд их знает! — Лакей поскреб по спине тремя пальцами. Потом он поправил камзол и сказал Фила-товне: — Ты постой-ка здесь, я мигом сбегаю!
Он помчался во дворец и вскоре вернулся.
— Страхокамин! — выпалил он. — Тьфу, пропади они пропадом, забыл! Строфокамил! — вскричал он радостно. — Точно, стро-фо-камил! Привезены из жарких стран. За великие деньги! Они яйца несут во какие! В одну руку не уберешь. Не видала? Эх, ты! В церквах такие яйца по паникадилам привешивают.
— Ну, спаси тя Христос, милый! Так уж ты мне хорошо разъяснил.
Филатовну пришли звать в дорогу. Карета была снаряжена.
зимнем императорском доме господствовали тишь, отупенье, полусон, полумрак. Все зевали. По залам неслышно, совсем по-мышиному, скользила прислуга, на ходу потягиваясь и мелко крестя отверстие рта. За высокими окнами ничего более не было, как этот нескончаемый равнодушный дождь. Он проникал, казалось, во все, что встречал на своем пути, — в дерево, в человека, в птицу, в дома и амбары и даже в матово поблескивающий шпиц на петропавловской колокольне.
Ненастный санкт-петербургский ситничек сеялся и сеялся, одевая весь белый свет в серо-лиловый саван.
Императрица подошла к окну во двор, отворила его и некоторое время тоскливо глядела в небо. Назвать то, что она видела, небом едва ли кто-нибудь мог, потому что оно обычно шло, двигалось, менялось, а теперь вот уже несколько дней стояло беззвучно и заморенно. И было это небо тусклое, неясное, грязное.
Клонилось уже к вечеру. Караульный внизу встрепенулся, узнав государыню. Он подтянулся и замер, стремясь вжаться в голубую дворцовую стену. В него вонзился страх, ноги разъезжались, и солдату казалось, что набухшая земля вот-вот начнет выталкивать влагу обратно и что повсюду забьют фонтаны.
В глубине сада кружила над старой липой одинокая галка. Она беспокойно и горько вскрикивала, слетала с верхних веток на землю и снова в несколько сильных взмахов подымалась вверх.
Потом птица резко взмыла и странно подымалась, распластав крылья. В этот миг из окна раздался оглушительный выстрел. Галка, приняв в свое тело лишний вес, остановилась в воздухе, зависла и, заваливаясь на одно крыло, камнем упала под дерево.
Со страху караульному стало трудно дышать, в груди сперло. Он попятился, не отрывая спину и зад от стены, завернул за угол и тотчас же растворился во мгле.
Отшвырнув от себя тяжелое ружье и поморщившись от грохота, императрица велела комнатному лакею призвать девицу Анну Федоровну Юшкову, дочь боярина. Та обещала для развлечения государыни доставить во дворец Настасью Филатовну Шестакову, давнюю знакомую Анны Иоанновны.
Юшкова неслышно вплыла в опочивальню. Но государыня имела звериный слух. Не оборачиваясь она спросила:
— Ты обещала Филатовну. Доставили?
Юшкова встрепенулась:
— Доставили, доставили!
— Зови немедля!
Филатовну привели, когда императрица уже изволила раздеться ко сну.
Ее величество позволила Филатовне пожаловать к ручке и взяла ее за плечо так крепко, что с телом захватила.
Она подвела ее к окну, разглядывала, засматривала в глаза. Потом сказала:
— Стара ты очень стала, Филатовна, не так, как раньше была. — Она тяжело вздохнула. — Пожелтела вона как!
— Уже, матушка, — запричитала Филатовна, — запустила я себя, прежде пачкалась, белилась, брови марала, румянилась, так и получше была. А ноне захирела!
Анна Иоанновна улыбнулась.
— Румяниться не надобно, а брови марай! Получше будешь! Ну, а я, Филатовна, стара ли стала, погляди-ка?
— Никак, матушка, ни капельки старинки в вашем лице, ну ни капельки в вашем величестве нет!
— Ну, а толщиною я какова? — спросила государыня. — Небось уже с Авдотью Ивановну Чернышову? А? Только не ври!
— Господь вам судья, матушка, нельзя и сравнить ваше величество с нею, она же вдвое толще!
— Вот, вот видишь ли! — удовлетворенно протянула императрица и строго приказала: — Ну, говори, Филатовна!
Та замигала часто, замешкалась:
— Не знаю, что, матушка, и говорить. Дай отдохнуть, матушка!
— На том свете отдохнем! На том! — Императрица рассмеялась, видя неловкость и смущение Филатовны, и приказала: — Ну, поди ко мне поближе!
Филатовна плюхнулась пред нею в самые ножки.
— Подымите ее! — крикнула Анна Иоанновна.
Мужеподобная шутиха, что неотлучно была при императрице, бросилась со всех ног подымать Филатовну. А та еще пуще растерялась, не умея встать. Наконец кое-как Филатовну поставили на ноги.
Императрица снова велит:
— Ну, Филатовна, говори! А то отдам Бирону на конюшню! Он на тебе ездить будет!
— Спаси и помилуй, не знаю, матушка, что и говорить!
— Рассказывай страшное, про разбойников. Живо!
Гостья про себя подумала: "Вот навязалась, ведьма, на мою голову", — а вслух сказала:
— Да я же с разбойниками, матушка, и не живала.
— Не живала! Ну, так выдумай! Ну что, не можешь? Ладно уж, иди спать!
Обрадованная Филатовна выплыла из опочивальни лебедем. Уже за дверьми передохнула: "Фу, слава богу, отцепилась!" А поутру, в десятом часу, ее снова призвала императрица.
— Чаю, тебе не мягко спать было, Филатовна?
— Мягко, матушка, мягко, уж так выспалась! — Филатовна снова упала в землю перед ее величеством.
Императрица тешилась. Она встала с утра в хорошем расположении духа.
— Подымите ее, а то сызнова уснет! Ну, Филатовна, рассказывай! Не томи!
— Да что и говорить, матушка! Вчерашний день я была будто каменная. С дороги устала. И ко встрече, как к исповеди, готовилась.
— Ну, Филатовна, говори, говори еще!
— Не знаю, что и говорить, всемилостивая!
— Эко ты поглупела, милая, к старости! Где твой муж, у каких дел?
— В селе Дединове, матушка, в Коломенском уезде, управителем служит. Живем хорошо с ним, ладно.
— А вы же раньше были в новгородских?
— Да, матушка, а нынче эти волости, государыня, отданы в Невский монастырь.
— Ну, и где же вам лучше?
— В новгородских лучше было, государыня! А в энтих беднее…
— Ну, а мужики в ваших местах богаты ли?
— Богаты, матушка, в достатке.
— Почему вы от них не богаты?
— А кто знает! Может, они ловчат, может, воруют… А у меня, всемилостивейшая государыня, муж честен и беден. Он спать ляжет и говорит: "Я сплю и ничего не боюся, и подушка в головах не вертится".
— Так-то лучше, Филатовна! Не богатство пользует, а честь, не воровство избавляет от смерти, а правда! Или не так?
— Так, матушка, истинно так!
— Ну, Филатовна, говори, говори!
— Да уж все высказала, матушка!
— Еще не все! А скажи-ка, стреляют ли дамы у вас в Москве?
— Видела, государыня, князь Алексей Михайлович Черкасский учит стрелять княжну из окна. А мишень у них на заборе поставлена. Вот и тешатся…
— Ну, а попадает ли княжна в мишень?
— Иное, матушка, попадает, а иное кривенько.
— Ну, а в птиц стреляет ли?
— Да, видела сама, государыня, посадили голубя близко к мишени и застрелили в крыло. И голубь, бедный, ходил накривобок, уж так, сердешного, жалко мне было, а в другой раз его княжна и пристрелила.
— Ну, а другие дамы стреляют ли?
— Не могу, матушка, донесть, не видывала. А врать не стану!
— А я, Филатовна, страсть как люблю стрелять! У меня возле Аничкокой слободы сад для охоты заведен — ягдгартен прозывается. Так там устраиваем гоньбу и стреляние оленей, кабанов, зайцев. Ну, что скажешь, Филатовна?
— Вольному воля, матушка, стреляй себе на здоровье! Все благо, в чем душа подможение находит!
— Верно говоришь, Филатовна, верно! Не зря тебя сюда завезли.
Императрицу пришли одевать, и она, занятая туалетом, оставила Филатовну в покое.
— Отпускаю тебя, Филатовна, пока, только прости, а я опять за тобой пришлю. Вот тебе сто рублев. Гляди, на безделку не трать! А знаешь, Филатовна, я помню ваше Дединово, с матушкою ездила молиться к Николе Родовицкому, между Коломною и Рязанью. Места там хороши! Не то что у нас — сыплет дождик, как горох, на все двенадцать дорог.
— Вот бы, матушка, ты и ныне к Николе-то чудотворцу пожаловала помолиться!
— Куда там! Молись богу, как мир будет, а пока что турка надобно воевать. А ты сходи-ка, Филатовна, в сад мой, погляди, а уж после тебя домой возвратно отвезут! Моих птиц погляди-ка!
Филатовна вышла в сад. Там все было ухожено, подстрижено, посыпано. Только сильно тянуло сыростью. Там Филатовна передохнула от расспросов державных. Радехонька она была — и сотне за пазухой, и близкой дороге домой. Ходила-ходила да вдруг и вышла на диковинных птиц, и рот от их чудного вида разинула. Птицы те от копыт до головы были величиною с лошадь. Копыта на них были коровьи, а коленки лошадиные и бедра тоже лошадиные. Птицы ходили величественно, что-то выискивали в траве. Они подымали крылья, выклевывали под ними, сверкали голыми бедрами. Их длинные, лебяжьи шеи несли гусиные головки с черными бусинами глаз. Перья на птицах были необычайно длинные — такие Филатовна не видывала на шляпах.
— Как же их зовут-то, птиц энтих? — спросила Филатовна у лакея, что стоял неподалеку.
— А ляд их знает! — Лакей поскреб по спине тремя пальцами. Потом он поправил камзол и сказал Фила-товне: — Ты постой-ка здесь, я мигом сбегаю!
Он помчался во дворец и вскоре вернулся.
— Страхокамин! — выпалил он. — Тьфу, пропади они пропадом, забыл! Строфокамил! — вскричал он радостно. — Точно, стро-фо-камил! Привезены из жарких стран. За великие деньги! Они яйца несут во какие! В одну руку не уберешь. Не видала? Эх, ты! В церквах такие яйца по паникадилам привешивают.
— Ну, спаси тя Христос, милый! Так уж ты мне хорошо разъяснил.
Филатовну пришли звать в дорогу. Карета была снаряжена.
 вольные, и казенные живописцы — народ глазастый, приметчивый. Все вокруг высмотрят. И знают, и помнят. И любая малость страсть как любопытна. Имеют свойство глядеть на все земное спокойно, неторопливо, основательно. А там — помогай бог! — употребят в дело то, что сгодится.
В стольном городе гвалт стоит, снуют, ровно им нашатырем под хвост плеснули. Девки попадаются сдобные, румяные, круглые, взоры в них горят опасно. Тут на все свой закон, своя форма.
У Матвеева-живописца глаз вострый, так и нижет, так и раздевает. Его не оттолкнешь, не вытравишь. На спор Андрей может ловко отгадывать, что за человек ему встретился. Поглядит на прохожего и тут же говорит, кто есть кто. Уже не раз ему собратья художники и пивы ставили за проигрыш, и водку.
Нынче идет Андрей, глядит, не для спора, а для себя отмечает. Вон тот, к примеру, носом шмыгает, будто не знает куда его девать, — наверняка стряпчий. Щами от него за версту прет. А этот семенит — церковный причетник. Вон бабенка, растерянная улыбка на устах. Видать, любви ищет, скучает. А сама тельная еще. Вдова! Взор потух оттого, что мужика у ней давно не было. А талья точеная и бедра полны. Этот суровый дядя, бровастый, с иголками, заколотыми в борта, в короткой поддевке — суконного дела мастер. И выпить мастак, бровка дугой, а в глазу искра так и взыгрывает.
Ага, шведский капитан пожаловали морем. Посадский человек. Корабельный мастер. Монастырский слуга. Все спешат. И отчего, думает Матвеев, люди больше свою телесную жизнь устраивают, а о душе меньше думают?
Молодость ведь пташкой скачет, а старость черепашкой добирается. Суета сует!
А тот вон гусь с длинным, книзу носом — канцелярист? Точно. Руки чо локоть в чернильях. Этот, верткий, в лоснящемся камзоле, — провиантмейстер, должно быть. Их ты! Вот так чучело-мучело. Из-за моря или наш купец так вырядился? Они теперь толк узнали, как поездили по чужим землям, все норовят на заморский манер вырядиться. О, камзол зеленый — суп несоленый… А ну, дай-кось спрошу, кто таков. Рожа добродушная. Или мимо пройти?
— Слушай, ты кто будешь-то, мил человек? — спрашивает Андрей приветливо. — Уж не обессудь на любопытстве, я живописных дел мастер, свой интерес имею…
— Я будет сдесь торговайль, — охотно отзывается зеленый камзол, а рожа у него вся лоснится улыбкой и довольством. Он тычет себя в грудь, называется: — Эзоп Мариот аус Гамбург, кюпець. — И губы складывает на манер куриного зада. Ему, гамбургскому купцу, нравится, что так сносно у него по-русски получается.
А Матвеев ему в ответ на чистом германском режет:
— О, du bist hipsch kaupon! Primal[5]
Гамбуржец и рот открыл, смотрит на Андрея как на духа или же на привидение. "В этой России все непросто, первый встречный, и не с пьяных глаз, по-немецки к тебе заговорит. А выпьет, так того и гляди Вергилия читать начнет".
— Чтоб какой-никакой торговлишкой промышлять, — Андрей вдохновенно говорит, — первое — хитрость каналью нужно, — он на руке пальцы загибает, — второе — твердость, а третье — ловкость. А? Разве не так?
Купец согласно кивает.
— Двум купцам на одном дереве тесно, не усядутся, — продолжает Андрей, — в вашем деле семечки лузгать некогда! Только гляди. А еще и крепость нужно, — он показывает сжатый кулак, — ну как у каната в двойную нить.
— Kabelgaren, ja?[6] — переспрашивает купец. Он в восторге, что все понимает, что русский говорит со знанием их тонкого ремесла. — О, хорошо говорить рюс, ошшень хорошо говорить, — от удовольствия у немца в горле клокочет. — Давай пьем небольшой стаканчик? — Немец хлопает себя по горлу указательным пальцем.
— Благодарствую, но не могу. Вызван в царский дворец, а туда надобно быть как стеклышку. Не дай бог холуйский нос почует запах, пропала моя голова тогда. Понял, друже? Я бы с радостью поговорил с тобой без толмача, и хлопнули бы по фляжечке под грибки. Ну, еще встретимся небось… Таскает нас по свету, как почтарь депешу, все бегом-бегом, а там и шмякнет обземь. Прощевай пока что!
Андрей крепко жмет руку немцу — и дальше. А купец долго смотрит ему вслед, улыбается, качает головой.
вольные, и казенные живописцы — народ глазастый, приметчивый. Все вокруг высмотрят. И знают, и помнят. И любая малость страсть как любопытна. Имеют свойство глядеть на все земное спокойно, неторопливо, основательно. А там — помогай бог! — употребят в дело то, что сгодится.
В стольном городе гвалт стоит, снуют, ровно им нашатырем под хвост плеснули. Девки попадаются сдобные, румяные, круглые, взоры в них горят опасно. Тут на все свой закон, своя форма.
У Матвеева-живописца глаз вострый, так и нижет, так и раздевает. Его не оттолкнешь, не вытравишь. На спор Андрей может ловко отгадывать, что за человек ему встретился. Поглядит на прохожего и тут же говорит, кто есть кто. Уже не раз ему собратья художники и пивы ставили за проигрыш, и водку.
Нынче идет Андрей, глядит, не для спора, а для себя отмечает. Вон тот, к примеру, носом шмыгает, будто не знает куда его девать, — наверняка стряпчий. Щами от него за версту прет. А этот семенит — церковный причетник. Вон бабенка, растерянная улыбка на устах. Видать, любви ищет, скучает. А сама тельная еще. Вдова! Взор потух оттого, что мужика у ней давно не было. А талья точеная и бедра полны. Этот суровый дядя, бровастый, с иголками, заколотыми в борта, в короткой поддевке — суконного дела мастер. И выпить мастак, бровка дугой, а в глазу искра так и взыгрывает.
Ага, шведский капитан пожаловали морем. Посадский человек. Корабельный мастер. Монастырский слуга. Все спешат. И отчего, думает Матвеев, люди больше свою телесную жизнь устраивают, а о душе меньше думают?
Молодость ведь пташкой скачет, а старость черепашкой добирается. Суета сует!
А тот вон гусь с длинным, книзу носом — канцелярист? Точно. Руки чо локоть в чернильях. Этот, верткий, в лоснящемся камзоле, — провиантмейстер, должно быть. Их ты! Вот так чучело-мучело. Из-за моря или наш купец так вырядился? Они теперь толк узнали, как поездили по чужим землям, все норовят на заморский манер вырядиться. О, камзол зеленый — суп несоленый… А ну, дай-кось спрошу, кто таков. Рожа добродушная. Или мимо пройти?
— Слушай, ты кто будешь-то, мил человек? — спрашивает Андрей приветливо. — Уж не обессудь на любопытстве, я живописных дел мастер, свой интерес имею…
— Я будет сдесь торговайль, — охотно отзывается зеленый камзол, а рожа у него вся лоснится улыбкой и довольством. Он тычет себя в грудь, называется: — Эзоп Мариот аус Гамбург, кюпець. — И губы складывает на манер куриного зада. Ему, гамбургскому купцу, нравится, что так сносно у него по-русски получается.
А Матвеев ему в ответ на чистом германском режет:
— О, du bist hipsch kaupon! Primal[5]
Гамбуржец и рот открыл, смотрит на Андрея как на духа или же на привидение. "В этой России все непросто, первый встречный, и не с пьяных глаз, по-немецки к тебе заговорит. А выпьет, так того и гляди Вергилия читать начнет".
— Чтоб какой-никакой торговлишкой промышлять, — Андрей вдохновенно говорит, — первое — хитрость каналью нужно, — он на руке пальцы загибает, — второе — твердость, а третье — ловкость. А? Разве не так?
Купец согласно кивает.
— Двум купцам на одном дереве тесно, не усядутся, — продолжает Андрей, — в вашем деле семечки лузгать некогда! Только гляди. А еще и крепость нужно, — он показывает сжатый кулак, — ну как у каната в двойную нить.
— Kabelgaren, ja?[6] — переспрашивает купец. Он в восторге, что все понимает, что русский говорит со знанием их тонкого ремесла. — О, хорошо говорить рюс, ошшень хорошо говорить, — от удовольствия у немца в горле клокочет. — Давай пьем небольшой стаканчик? — Немец хлопает себя по горлу указательным пальцем.
— Благодарствую, но не могу. Вызван в царский дворец, а туда надобно быть как стеклышку. Не дай бог холуйский нос почует запах, пропала моя голова тогда. Понял, друже? Я бы с радостью поговорил с тобой без толмача, и хлопнули бы по фляжечке под грибки. Ну, еще встретимся небось… Таскает нас по свету, как почтарь депешу, все бегом-бегом, а там и шмякнет обземь. Прощевай пока что!
Андрей крепко жмет руку немцу — и дальше. А купец долго смотрит ему вслед, улыбается, качает головой.
 атвеев любил петербургскую осень, когда затихали и унимались люди, жизни и дела. Весь город становился тише. Повсюду читался след осени, неспешной ее поступи — на серой мокрой земле, в светлых сумерках и в светло-сером небе, что подымалось прямо из невской воды.
Приезжему могло показаться, что невской столице спокон веку свойственно было такое притишье. Ах, не видывал он Петербурга шумного, взбудораженного, когда зажигались фейерверки! Гудели питейные дома с галереями, катился огненный шар веселья, поджигая гульбу по обоим берегам Невы. Тогда-то и выказывал Петербург свой норов, скованный до того холодом и застегнутый на все немецкие и французские пуговицы. Тогда говорили друг другу: "Хорошо пить да гулять — ни забот, ни печалей".
И пили, и гуляли, не помня себя, дети и внуки тех самых подкопщиков, мастеровых крестьян, что все это выстроили. Многие из них лежали тут же, под мостовыми, проглоченные болотом и голодом. Раньше на месте домов и улиц были временные кладбища, потом их сровняли с землей и позастроили. И редко кто вспоминал, что было раньше, потому что красота зачеркивает убогость. Шел Андрей, смотрел, как холодные лучи солнца расписали и осветили меншиковский посольский дворец, где принимают иноземных послов, и палаты Кикина, и дом вице-канцлера Шафирова. А на дворцовой набережной с золотыми лепными наличниками, превосходя нарядностью все здания Адмиралтейского острова, выступали хоромы генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Их-то и облюбовала себе для житья Анна Иоанновна. Стояли хоромы на самой середине между Миллионной улицей и Невой. К ним пристроили набережные палаты и залы для торжеств.
Анне Иоанновне понравился этот обширный теперь дом. Она избрала его для жительства после торжественного своего приезда в Петербург в 1732 году. А в старом своем дворце поселила придворных музыкантов и служителей.
Внутренняя отделка дворца, в которой принимал участие и Матвеев со своей живописной командой, отличалась редкостной роскошью.
Пышность Анна Иоанновна любила до крайности, денег не жалела до расточительности, считалось, что ее двор превосходил великолепием все европейские.
Лакеи, встретившие живописца, чинно шли рядом. Они не спешили, так как им велено было повременить.
Андрей мог спокойно разглядывать каменные вазы в бронзовой оправе, изящные терракотовые статуэтки, чудесный кубок розовой слоновой кости с крышкой, на которой толпились амуры.
Когда Андрей работал здесь, он просил для вспоможения из Москвы Ивана Вишнякова и Мишу Захарова как мастеров искусных в писании фигур, но они были тогда при Каравакке, который тоже обретался в Москве. Тот уперся, пока не последовал указ императрицы — выдать средства и подводы и отправить в помощь Матвееву одного Михаила Захарова. Тогда они вместе с Мишей писали баталии в "Залу для славных торжествований" и картины в Петропавловский собор. Их все время понукали, подгоняли, они писали до изнеможения, похудели, осунулись, но были веселы и никому не жаловались. Для Андрея Миша Захаров был истинным идеалом живописца. Он учился в Италии вместе с братьями Иваном и Романом Никитиными, много знал, много видел, но был всегда скромен, искренен. И беззаветен в художестве. А такого верного в товариществе человека, как Миша Захаров, трудно было сыскать! Вот кто был даровит, самостоятелен в суждениях. От него Андрей всегда черпал духовную силу. Он без труда вызвал в памяти бледное Мишино лицо, густые черные брови, острые скулы, большой рот, всю его ладную рослую фигуру с крупной головой, упорным взглядом карих глаз. От него веяло тихой отрадой, а для такой добрейшей души, как у Миши, не жалко было пожертвовать и своей. На таких, как Миша Захаров, Вася Ерошевский, Вася Белопольский, Логин Гаврилов, Иван Вишняков, Иван Милюков, держалась не только живописная команда. Они были опорой всему русскому художеству. Люди это были стойкие, твердые, все устремления ума и духа отдавали они ремеслу своему. А больше им ничего и не требовалось.
Из них многие усвоили европейскую манеру, но с годами выработали и свой собственный, очень трогательный и простой почерк, открывая в художестве новое, дотоле никому не известное, дерзкое, свое.
Они были наделены редкой чуткостью не только к ремеслу, к цвету, но и ко всему окружавшему их. Эта отзывчивость впиталась в них как бы сама собой от икон и парсун. В художестве для них не было пророков, они соглашались с советами, предписаниями, но делали по-своему. Они писали мягко и любовно, сочно и резко. У них было и прирожденное, и вполне сознательное понятие об истине и лжи в художестве, о воле и любви. Среди них мало было кротких и тихих, а больше буйных, вспыльчивых, неуживчивых. Их художество начиналось и оканчивалось самоотверженьем, которое всегда согласуется с честью и достоинством человека.
Они вывернули льстивый парадный портрет с изнанки на лицо. От них требовали жеманной и кокетливой грации в портретах, вельможное дворянство хотело видеть себя величественным, красивым и умным. Портреты оплачивались наличными, но кисть этих художников оставалась неподкупной.
Они ломали и отбрасывали каноническую точность, не боясь обвинений в наивности и неумении. Они исправно молились, взывали к богу, но в ремесле хотели проникнуть в святая святых души и слушали только свою совесть. Они свершали то, что считали нужным. У них обо всем были свои понятия. Они были верны в дружбах и не раз спасали Матвеева всякой помощью. Глядя на труды своих сотоварищей, Андрей не раз думал, что искреннее и самобытное российское художество таит в себе разума и живости гораздо более того, чем это кажется на первый взгляд. Хотя давалось это нелегко, много было отреченья, мук и доблести.
Один писатель о художниках и сам художник Иван Урванов составил "Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах". В нем говорится: "Что же касается до кисти художника, оная должна быть смела, легка и приятна, и чтобы из оной каждому можно было усмотреть, что живописец употребляет ее везде с разумом и намерением". И вот с таким-то разумом и намерением и Никитин, и Вишняков, и сам Матвеев, и вся его живописная команда трудились в поте лица.
"Академии мы проходили Флорентийские, Антверпенские, — думал Матвеев, — краска у нас ирис-грин да лазурь берлинская, а судьба-то русская, никуда от этого не уйдешь. В наших-то российских европиях начнешь писать облака или снега, так бери белила московские, или немецкие, или бьянка ди Венеция. А что утеплить нужно, добиться тельного цвета, так тут тебе бакан, киноварь, сурик, кармин. Хочешь фона да цветы списывать, празелень есть и ярь веницейская, черные тучи желаешь изобразить — бери кость слоновую и кельнские земли, в плафоны небеса делать из ультрамарина, и горной синей, и голубец хорош. Шпарь себе на доброе здоровье. А еще под рукой и умбра, и охры, индиго и шафран. Одни краски свет поглощают, другие отталкивают от себя. Холст от этого то темнеет, то ярче горит. Тени, светотени, тона, переходы, оттенки… Все дает живописи свободу и полет.
Вона я как "Автопортрет с женой" писал, так мазок стушевывал, краску жидко разводил на масляном лаке, а ныне гуще писать стал и уж такого тонкого ровного слоя не придерживаю. А все равно краска имеет мягкость и нежность, ежели её положить куда следует. Упаси бог промазать!" Андрей хмыкнул…
атвеев любил петербургскую осень, когда затихали и унимались люди, жизни и дела. Весь город становился тише. Повсюду читался след осени, неспешной ее поступи — на серой мокрой земле, в светлых сумерках и в светло-сером небе, что подымалось прямо из невской воды.
Приезжему могло показаться, что невской столице спокон веку свойственно было такое притишье. Ах, не видывал он Петербурга шумного, взбудораженного, когда зажигались фейерверки! Гудели питейные дома с галереями, катился огненный шар веселья, поджигая гульбу по обоим берегам Невы. Тогда-то и выказывал Петербург свой норов, скованный до того холодом и застегнутый на все немецкие и французские пуговицы. Тогда говорили друг другу: "Хорошо пить да гулять — ни забот, ни печалей".
И пили, и гуляли, не помня себя, дети и внуки тех самых подкопщиков, мастеровых крестьян, что все это выстроили. Многие из них лежали тут же, под мостовыми, проглоченные болотом и голодом. Раньше на месте домов и улиц были временные кладбища, потом их сровняли с землей и позастроили. И редко кто вспоминал, что было раньше, потому что красота зачеркивает убогость. Шел Андрей, смотрел, как холодные лучи солнца расписали и осветили меншиковский посольский дворец, где принимают иноземных послов, и палаты Кикина, и дом вице-канцлера Шафирова. А на дворцовой набережной с золотыми лепными наличниками, превосходя нарядностью все здания Адмиралтейского острова, выступали хоромы генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Их-то и облюбовала себе для житья Анна Иоанновна. Стояли хоромы на самой середине между Миллионной улицей и Невой. К ним пристроили набережные палаты и залы для торжеств.
Анне Иоанновне понравился этот обширный теперь дом. Она избрала его для жительства после торжественного своего приезда в Петербург в 1732 году. А в старом своем дворце поселила придворных музыкантов и служителей.
Внутренняя отделка дворца, в которой принимал участие и Матвеев со своей живописной командой, отличалась редкостной роскошью.
Пышность Анна Иоанновна любила до крайности, денег не жалела до расточительности, считалось, что ее двор превосходил великолепием все европейские.
Лакеи, встретившие живописца, чинно шли рядом. Они не спешили, так как им велено было повременить.
Андрей мог спокойно разглядывать каменные вазы в бронзовой оправе, изящные терракотовые статуэтки, чудесный кубок розовой слоновой кости с крышкой, на которой толпились амуры.
Когда Андрей работал здесь, он просил для вспоможения из Москвы Ивана Вишнякова и Мишу Захарова как мастеров искусных в писании фигур, но они были тогда при Каравакке, который тоже обретался в Москве. Тот уперся, пока не последовал указ императрицы — выдать средства и подводы и отправить в помощь Матвееву одного Михаила Захарова. Тогда они вместе с Мишей писали баталии в "Залу для славных торжествований" и картины в Петропавловский собор. Их все время понукали, подгоняли, они писали до изнеможения, похудели, осунулись, но были веселы и никому не жаловались. Для Андрея Миша Захаров был истинным идеалом живописца. Он учился в Италии вместе с братьями Иваном и Романом Никитиными, много знал, много видел, но был всегда скромен, искренен. И беззаветен в художестве. А такого верного в товариществе человека, как Миша Захаров, трудно было сыскать! Вот кто был даровит, самостоятелен в суждениях. От него Андрей всегда черпал духовную силу. Он без труда вызвал в памяти бледное Мишино лицо, густые черные брови, острые скулы, большой рот, всю его ладную рослую фигуру с крупной головой, упорным взглядом карих глаз. От него веяло тихой отрадой, а для такой добрейшей души, как у Миши, не жалко было пожертвовать и своей. На таких, как Миша Захаров, Вася Ерошевский, Вася Белопольский, Логин Гаврилов, Иван Вишняков, Иван Милюков, держалась не только живописная команда. Они были опорой всему русскому художеству. Люди это были стойкие, твердые, все устремления ума и духа отдавали они ремеслу своему. А больше им ничего и не требовалось.
Из них многие усвоили европейскую манеру, но с годами выработали и свой собственный, очень трогательный и простой почерк, открывая в художестве новое, дотоле никому не известное, дерзкое, свое.
Они были наделены редкой чуткостью не только к ремеслу, к цвету, но и ко всему окружавшему их. Эта отзывчивость впиталась в них как бы сама собой от икон и парсун. В художестве для них не было пророков, они соглашались с советами, предписаниями, но делали по-своему. Они писали мягко и любовно, сочно и резко. У них было и прирожденное, и вполне сознательное понятие об истине и лжи в художестве, о воле и любви. Среди них мало было кротких и тихих, а больше буйных, вспыльчивых, неуживчивых. Их художество начиналось и оканчивалось самоотверженьем, которое всегда согласуется с честью и достоинством человека.
Они вывернули льстивый парадный портрет с изнанки на лицо. От них требовали жеманной и кокетливой грации в портретах, вельможное дворянство хотело видеть себя величественным, красивым и умным. Портреты оплачивались наличными, но кисть этих художников оставалась неподкупной.
Они ломали и отбрасывали каноническую точность, не боясь обвинений в наивности и неумении. Они исправно молились, взывали к богу, но в ремесле хотели проникнуть в святая святых души и слушали только свою совесть. Они свершали то, что считали нужным. У них обо всем были свои понятия. Они были верны в дружбах и не раз спасали Матвеева всякой помощью. Глядя на труды своих сотоварищей, Андрей не раз думал, что искреннее и самобытное российское художество таит в себе разума и живости гораздо более того, чем это кажется на первый взгляд. Хотя давалось это нелегко, много было отреченья, мук и доблести.
Один писатель о художниках и сам художник Иван Урванов составил "Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах". В нем говорится: "Что же касается до кисти художника, оная должна быть смела, легка и приятна, и чтобы из оной каждому можно было усмотреть, что живописец употребляет ее везде с разумом и намерением". И вот с таким-то разумом и намерением и Никитин, и Вишняков, и сам Матвеев, и вся его живописная команда трудились в поте лица.
"Академии мы проходили Флорентийские, Антверпенские, — думал Матвеев, — краска у нас ирис-грин да лазурь берлинская, а судьба-то русская, никуда от этого не уйдешь. В наших-то российских европиях начнешь писать облака или снега, так бери белила московские, или немецкие, или бьянка ди Венеция. А что утеплить нужно, добиться тельного цвета, так тут тебе бакан, киноварь, сурик, кармин. Хочешь фона да цветы списывать, празелень есть и ярь веницейская, черные тучи желаешь изобразить — бери кость слоновую и кельнские земли, в плафоны небеса делать из ультрамарина, и горной синей, и голубец хорош. Шпарь себе на доброе здоровье. А еще под рукой и умбра, и охры, индиго и шафран. Одни краски свет поглощают, другие отталкивают от себя. Холст от этого то темнеет, то ярче горит. Тени, светотени, тона, переходы, оттенки… Все дает живописи свободу и полет.
Вона я как "Автопортрет с женой" писал, так мазок стушевывал, краску жидко разводил на масляном лаке, а ныне гуще писать стал и уж такого тонкого ровного слоя не придерживаю. А все равно краска имеет мягкость и нежность, ежели её положить куда следует. Упаси бог промазать!" Андрей хмыкнул…
 ебольшая комната, в которой установили мольберт и где предстояло писать Матвееву, была не роскошна, опрятна, покойна. В ней были гладкие белые стены. На одной из них висело овальное зеркало в раме с бронзовою оправою. И расставлено было несколько стульев с высокими овальными спинками и черными кожаными подушками. Маленький круглый столик на искривленных ножках был приготовлен для красок. В углу высилась огромная печь, сложенная из синих изразцов. По всему полу настелена была узорчатая клеенка на войлоке. Тут было тепло, хорошо, ничто не мешало.
Мольберт Матвеев переставил так, чтобы свет из окна правильно падал на холст. С наслаждением расставлял он баночки с красками и раскладывал кисти.
Матвеев решил сделать предварительный рисунок черным голландским мелом. Он давал отменную черноту и широкую густую тень. Сам он не считал себя портретистом, но уверенность глаза, свобода руки, а более всего любовь к работе во всех ее мельчайших подробностях вселяли в него радость и надежду.
Он всегда боготворил работу живописца, его мускулы становились упругими, голова ясной, душа вольной. Ему не нужно было приспособлять себя к живописи. Он жил только ради нее одной, и она жила в нем. Он испытывал счастье, когда под его кистью оживали безразличные до того времени люди и предметы, художник оживлял их, они оживляли его. И тогда радость его была паче меры.
…Матвеев часто взглядывал на смуглое и привлекательное лицо принцессы Анны, встречался по временам с ней рассеянным взглядом, но у него это было мимолетно, потому что он старался запомнить посадку головы, движение бровей, склад губ…
Его особенно поразило ожерелье на шее Анны. Оно было из сапфиров и изумрудов в серебре, с бриллиантами. "Ух какое знатное ожерелье, чудо! — думал Андрей, разглядывая подробней, как оно лежит на шее. — Оно создает вокруг себя какой-то удивительный, сияющий воздух, это пригодится". Он дивился красоте яхонтов, чистоте и силе цвета, вложенных в камень самой природой. Видать, этот яхонт належался где-нибудь в глубине крутой горки против солнышка, набрал там силенок.
Самоцветы сияли, испускали свой собственный свет, который прыгал снопами летящих искр. Они перебегали в длинные лучи, вспыхивая и дрожа. Камни словно рвались из глухих закрепок, и нежные ажурные лапки, казалось, едва сдерживают их. Мерцающий свет канделябров будто дразнил бриллианты, и они лучились всей своей огранкой, манили глаз радужностью.
Андрею всегда самое большое наслажденье доставляла игра цвета. Весь мир виделся ему цветным, и каждый раз он восхищался игрой дополнительных цветов и оттенков.
Бесконечный перламутр, праздник цвета его зачаровывал. Его глаза схватывали цвет на лету, в паренье, и Матвеев уже не видел ни близкого, ни далекого — все сходилось в одной точке. Цвета сталкивались и колебались, все подчиняя своему движению. Цвет становился формой, которую Андрею предстояло воплотить в рельеф и рисунок.
Живописцу внезапно захотелось увидеть это чудное яхонтовое ожерелье на шее Орины, чтобы оно шло поверх царского платья. "А что, как заместо принцессы напишу я когда-нибудь Оринушку в таком же одеянье? — подумал вдруг Андрей и улыбнулся своей мечте. — Повторю по-иному "Автопортрет с женой", но уже спустя десять лет после того… А что, возьму и впрямь напишу, — уже твердо решил он. — Пусть будет что будет, хоть трава не расти!"
Дрожь злобного наслаждения сотрясла его. Он широко и простодушно улыбнулся принцессе. А она, приняв улыбку художника как знак восхищения ее красотой, улыбнулась ему в ответ.
Затея будто подхлестнула Андрея. Он стал писать яростно, заметно повеселел, что тут же вызвало тревожное любопытство у принца Антона, который сидел поодаль. Принц взглянул на живописца с удивлением.
— У тебя пошло дело, не правда ли? — тихо спросил Антон по-немецки.
— Так точно, ваше высочество, — быстро и с поклоном ответил Матвеев по-немецки же и поморщился.
Спрашивая, принц не думал даже, что художник поймет его. Он удивился, инстинктивно чувствуя какую-то неприязнь со стороны этого мужлана.
Андрей делал подмалевок английской краской, прописывал платье от шеи, прорисовывал мягкой кистью глаза, намечал вохрой красной губы, искал выразительный поворот и думал про себя о том, что у этих немецких принцев, — а их он повидал достаточно еще в Голландии во время учебы, — странная манера налезать на человека. Пишут тебя, ну и стой покойно. Андрей был хлесток рукой и глазом, не зря попал в лучшие ученики в Антверпенской академии художеств. За эту резкую манеру письма полюбил его ректор Клас ван Схоор, суровый старик с желчным лицом, который увидел в Матвееве единомышленника и собрата, крепко привязался к нему.
Андрей с удовольствием вглядывался в черты Анны, она нравилась ему своей непосредственностью, простодушием, порывистостью. Принцесса тоже прониклась к живописцу симпатией и, сама не зная почему, улыбалась ему. Может быть, чтобы досадить принцу Антону.
"И она будет принадлежать этому пучеглазому прусскому заике", — думал Андрей с неприязнью. Он даже осмелился ревновать Анну. От этого еще яростнее шваркал кистью по холсту. Упоенно отбегал от мольберта, возвращался обратно. Был странно, непонятно счастлив и даже тихонько поскуливал от полноты чувств.
Он видел только холст и пятно белого нежного лица Анны в резко очерченном овале.
Принцу Антону вся эта возня с двойным портретом казалась пустой и ненужной затеей императрицы, оспорить которую он конечно же не мог. Да и сам живописец производил на него довольно странное и неприятное впечатление. "Все эти пиктуры с придурью, — думал Антон, бледнея от злости. — От них всего можно ожидать. Давно известно: художники и сумасшедшие — одного поля ягоды".
Принц с недоумением увидел на лице Матвеева ухмылку и несколько даже взъярился. Но вдруг живописец сделал два больших шага к Антону. Тот вздрогнул от неожиданности. Это нескрылось от Анны, и она, не показывая виду, от души веселилась. Испуг принца не ускользнул и от Андрея. Но внешне он оставался сосредоточенным, нахмуренным, погруженным в работу.
Антон негодовал. Он презирал этого самодовольного, дерзкого моляра и смотрел на него с нескрываемым раздражением. "Всыпать бы ему горячих, чтоб знал свое место!" — думал принц.
А живописец поводил головой в сторону, смотрел в кулак, отходил в дальний угол комнаты, снова подходил к холсту, что-то там тер, размазывал, подтирал, скреб. В его угрюмых глазах загорались веселые искорки, по тонким губам пробегала довольная улыбка.
Антон недоумевал. "Что бы это, — думал он, — значило?"
— Получается? — нетерпеливо спрашивал он у художника.
— Непременно получится, ваше высочество, — односложно отвечал Матвеев.
Антон досадовал, что принужден тратить время, которое он мог бы с большей пользой употребить в обществе юной француженки, капризной пылкой камерфрейлины Мари.
— А ты обучался у Каравакка? — спросила Анна у художника.
— Он желал меня привлечь, ваше высочество, к учению у себя, — отвечал Матвеев. — Полагая ошибочно, что я в том весьма нуждаюсь. Сие могу объяснить тем лишь, что иные иноземцы думают, будто русские все еще находятся в глубоком невежестве. Мы же убеждать их можем самим делом, что они в таком своем мнении изволят заблуждаться!
— Да, — сказала принцесса, — русские не раз показали себя. Есть среди них отменные мастера живописного художества.
— Осмелюсь спросить, ваше высочество, вы любите ли на качелях качаться? — негромко спросил Андрей у Анны.
— Да, — быстро ответила она, — это прелестно. А почему ты спрашиваешь? — удивленно сказала Анна.
— На качелях человек счастлив, ваше высочество. Все внутри обрывается… Ничего более не надобно. Подобное и в живописном художестве. Когда получается что в задумке. Не знаю, как объяснить, но вы это поймете, ваше высочество.
— Да, я очень понимаю, — задумчиво сказала Анна, и лицо ее сделалось грустно.
У Анны было мало общего с Ориной. Но все же какое-то неуловимое сходство существовало. То ли в выражении лица, то ли в глазах. Жену свою Андрей обожал и теперь, как в первые годы супружества. Считал ее для себя невероятным ангелом.
Ему хотелось видеть Орину свободной от забот по дому. Чтоб не стирала, не варила, не обихаживала детей. Чтоб была гордым, красивым животным, каковым, по мнению Матвеева, надлежит быть истинной женщине. "Такой я ее и напишу! В этом ожерелье и в царском платье, — решил Андрей, — эта картина — крик любви".
Здесь, рядом с Анной, жизнь представлялась Матвееву светлой и полной. Он работал, соображась со своими набросками, сделанными раньше. Взглядывая на Анну, он старался бежать внешней похожести, старался изучить, насколько возможно, все ее особенности. Постичь душу и даже уловить наклонность мыслей. На принца Андрей смотрел косо.
Он видел одну Анну. Ему неожиданно захотелось поцеловать ее. Но невозможно, никак нельзя. Головой поплатишься за одно только желанье, да еще этот с угреватым лицом сверлил его рыбьими глазами.
— Живописцу, вероятно, открывается в людях много злого, нечистого? — снова спросила Анна у Матвеева. — Вы ведь насквозь видите. — И поглядела на Антона, который вслушивался в их разговор с явным недоброжелательством. Они разговаривали по-русски, а он почти ничего не понимал. "И откуда у этого живописца взялось такое словотечение?" — думал принц.
— Ваше высочество, — воскликнул Матвеев, — вы очень правы! От нашего глазу не укроешься. — Он даже топнул ногой от удовольствия.
Принц Антон дернулся и остолбенел. "Распустили этих моляров, они имеют еще наглость топать и выкрикивать в царском дворце".
А живописец растирал весь холст большим пальцем, держа кисти во рту. Он горячо добавил:
— Художеству, ваше высочество, всем нашим творениям, потребно вечно бдящее, совестливое сердце. Без душевного трепетания и к холсту нет нужды подходить. Оно одно способно возвысить живописное дело, одушевить его.
Андрей потер рукой подбородок, оставив там жирный след черной краски. Анна улыбнулась, даже Антон осклабился. Но живописец этого не заметил.
— Я знаю совершенно точно, ваше высочество, что такое грех в живописи, но что такое грех в жизни, этого мне знать не дано. С этим всечасным терзанием души я и помру, ваше высочество. Простите мою болтливость.
Анна внимательно слушала художника. Она будто читала на его лице отражение своих сокровенных мыслей.
Антон взял Анну за руку и молча показал ей на выход. Он с радостью увидел наконец, что Матвеев протирает тряпкой кисти, складывает их в деревянный ящик на толстом ремне.
Сеанс был окончен.
Стоило поддаться сомнениям, неуверенности — всё летело к чёрту, ныла душа. Матвеев знал, что где-то есть выход, но задуманное им осуществить было нелегко. В двойном портрете их сиятельств принцессы Анны Леопольдовны и принца Антона ему хотелось, оставя все на своих местах, чуть-чуть переписать лица, глаза, найти им новое выражение. Когда он писал во дворце, то в картине его между царствующими особами пробегала какая-то тень неприязни, явно не получалось согласия. Приятно и заманчиво было думать живописцу, что принцесса Анна под его кистью вдруг превратится в Оринушку. Жена его в новом обличье будет сидеть рядом с принцем Брауншвейгским. В царском платье, с бриллиантовым в яхонтах ожерельем. А потом и сам принц в той же обволочи станет едва похожим на живописца Матвеева. И тогда совсем иначе будут те же двое рядом, появится между ними тепло, о котором так пеклась императрица, уверенная, что из двойного портрета оно постепенно перейдет и в жизнь будущих супругов.
Чтобы сделать задуманное незаметно, Матвееву нужно было употребить все свое усердие, все искусство. Живопись такая уж трудная штука: чуть тронешь кистью — и появится дыханье совсем другой жизни. Одним мазком в зрачке можно изменить весь характер натуры. И в те же хорошо устроенные на холсте фигуры вдохнется новое. Появится душевное движенье, трепет. Мягкая, добрая Оринушка будет глядеть своими глазами, а во всем остальном это будет принцесса.
Жесткость уйдет, новое выражение лиц иначе согласует картину внутри, фигуры и лица тогда выйдут чисто, как медный звон колокола, как гимн тому самому ангелу любви, что держит нас на земле.
ебольшая комната, в которой установили мольберт и где предстояло писать Матвееву, была не роскошна, опрятна, покойна. В ней были гладкие белые стены. На одной из них висело овальное зеркало в раме с бронзовою оправою. И расставлено было несколько стульев с высокими овальными спинками и черными кожаными подушками. Маленький круглый столик на искривленных ножках был приготовлен для красок. В углу высилась огромная печь, сложенная из синих изразцов. По всему полу настелена была узорчатая клеенка на войлоке. Тут было тепло, хорошо, ничто не мешало.
Мольберт Матвеев переставил так, чтобы свет из окна правильно падал на холст. С наслаждением расставлял он баночки с красками и раскладывал кисти.
Матвеев решил сделать предварительный рисунок черным голландским мелом. Он давал отменную черноту и широкую густую тень. Сам он не считал себя портретистом, но уверенность глаза, свобода руки, а более всего любовь к работе во всех ее мельчайших подробностях вселяли в него радость и надежду.
Он всегда боготворил работу живописца, его мускулы становились упругими, голова ясной, душа вольной. Ему не нужно было приспособлять себя к живописи. Он жил только ради нее одной, и она жила в нем. Он испытывал счастье, когда под его кистью оживали безразличные до того времени люди и предметы, художник оживлял их, они оживляли его. И тогда радость его была паче меры.
…Матвеев часто взглядывал на смуглое и привлекательное лицо принцессы Анны, встречался по временам с ней рассеянным взглядом, но у него это было мимолетно, потому что он старался запомнить посадку головы, движение бровей, склад губ…
Его особенно поразило ожерелье на шее Анны. Оно было из сапфиров и изумрудов в серебре, с бриллиантами. "Ух какое знатное ожерелье, чудо! — думал Андрей, разглядывая подробней, как оно лежит на шее. — Оно создает вокруг себя какой-то удивительный, сияющий воздух, это пригодится". Он дивился красоте яхонтов, чистоте и силе цвета, вложенных в камень самой природой. Видать, этот яхонт належался где-нибудь в глубине крутой горки против солнышка, набрал там силенок.
Самоцветы сияли, испускали свой собственный свет, который прыгал снопами летящих искр. Они перебегали в длинные лучи, вспыхивая и дрожа. Камни словно рвались из глухих закрепок, и нежные ажурные лапки, казалось, едва сдерживают их. Мерцающий свет канделябров будто дразнил бриллианты, и они лучились всей своей огранкой, манили глаз радужностью.
Андрею всегда самое большое наслажденье доставляла игра цвета. Весь мир виделся ему цветным, и каждый раз он восхищался игрой дополнительных цветов и оттенков.
Бесконечный перламутр, праздник цвета его зачаровывал. Его глаза схватывали цвет на лету, в паренье, и Матвеев уже не видел ни близкого, ни далекого — все сходилось в одной точке. Цвета сталкивались и колебались, все подчиняя своему движению. Цвет становился формой, которую Андрею предстояло воплотить в рельеф и рисунок.
Живописцу внезапно захотелось увидеть это чудное яхонтовое ожерелье на шее Орины, чтобы оно шло поверх царского платья. "А что, как заместо принцессы напишу я когда-нибудь Оринушку в таком же одеянье? — подумал вдруг Андрей и улыбнулся своей мечте. — Повторю по-иному "Автопортрет с женой", но уже спустя десять лет после того… А что, возьму и впрямь напишу, — уже твердо решил он. — Пусть будет что будет, хоть трава не расти!"
Дрожь злобного наслаждения сотрясла его. Он широко и простодушно улыбнулся принцессе. А она, приняв улыбку художника как знак восхищения ее красотой, улыбнулась ему в ответ.
Затея будто подхлестнула Андрея. Он стал писать яростно, заметно повеселел, что тут же вызвало тревожное любопытство у принца Антона, который сидел поодаль. Принц взглянул на живописца с удивлением.
— У тебя пошло дело, не правда ли? — тихо спросил Антон по-немецки.
— Так точно, ваше высочество, — быстро и с поклоном ответил Матвеев по-немецки же и поморщился.
Спрашивая, принц не думал даже, что художник поймет его. Он удивился, инстинктивно чувствуя какую-то неприязнь со стороны этого мужлана.
Андрей делал подмалевок английской краской, прописывал платье от шеи, прорисовывал мягкой кистью глаза, намечал вохрой красной губы, искал выразительный поворот и думал про себя о том, что у этих немецких принцев, — а их он повидал достаточно еще в Голландии во время учебы, — странная манера налезать на человека. Пишут тебя, ну и стой покойно. Андрей был хлесток рукой и глазом, не зря попал в лучшие ученики в Антверпенской академии художеств. За эту резкую манеру письма полюбил его ректор Клас ван Схоор, суровый старик с желчным лицом, который увидел в Матвееве единомышленника и собрата, крепко привязался к нему.
Андрей с удовольствием вглядывался в черты Анны, она нравилась ему своей непосредственностью, простодушием, порывистостью. Принцесса тоже прониклась к живописцу симпатией и, сама не зная почему, улыбалась ему. Может быть, чтобы досадить принцу Антону.
"И она будет принадлежать этому пучеглазому прусскому заике", — думал Андрей с неприязнью. Он даже осмелился ревновать Анну. От этого еще яростнее шваркал кистью по холсту. Упоенно отбегал от мольберта, возвращался обратно. Был странно, непонятно счастлив и даже тихонько поскуливал от полноты чувств.
Он видел только холст и пятно белого нежного лица Анны в резко очерченном овале.
Принцу Антону вся эта возня с двойным портретом казалась пустой и ненужной затеей императрицы, оспорить которую он конечно же не мог. Да и сам живописец производил на него довольно странное и неприятное впечатление. "Все эти пиктуры с придурью, — думал Антон, бледнея от злости. — От них всего можно ожидать. Давно известно: художники и сумасшедшие — одного поля ягоды".
Принц с недоумением увидел на лице Матвеева ухмылку и несколько даже взъярился. Но вдруг живописец сделал два больших шага к Антону. Тот вздрогнул от неожиданности. Это нескрылось от Анны, и она, не показывая виду, от души веселилась. Испуг принца не ускользнул и от Андрея. Но внешне он оставался сосредоточенным, нахмуренным, погруженным в работу.
Антон негодовал. Он презирал этого самодовольного, дерзкого моляра и смотрел на него с нескрываемым раздражением. "Всыпать бы ему горячих, чтоб знал свое место!" — думал принц.
А живописец поводил головой в сторону, смотрел в кулак, отходил в дальний угол комнаты, снова подходил к холсту, что-то там тер, размазывал, подтирал, скреб. В его угрюмых глазах загорались веселые искорки, по тонким губам пробегала довольная улыбка.
Антон недоумевал. "Что бы это, — думал он, — значило?"
— Получается? — нетерпеливо спрашивал он у художника.
— Непременно получится, ваше высочество, — односложно отвечал Матвеев.
Антон досадовал, что принужден тратить время, которое он мог бы с большей пользой употребить в обществе юной француженки, капризной пылкой камерфрейлины Мари.
— А ты обучался у Каравакка? — спросила Анна у художника.
— Он желал меня привлечь, ваше высочество, к учению у себя, — отвечал Матвеев. — Полагая ошибочно, что я в том весьма нуждаюсь. Сие могу объяснить тем лишь, что иные иноземцы думают, будто русские все еще находятся в глубоком невежестве. Мы же убеждать их можем самим делом, что они в таком своем мнении изволят заблуждаться!
— Да, — сказала принцесса, — русские не раз показали себя. Есть среди них отменные мастера живописного художества.
— Осмелюсь спросить, ваше высочество, вы любите ли на качелях качаться? — негромко спросил Андрей у Анны.
— Да, — быстро ответила она, — это прелестно. А почему ты спрашиваешь? — удивленно сказала Анна.
— На качелях человек счастлив, ваше высочество. Все внутри обрывается… Ничего более не надобно. Подобное и в живописном художестве. Когда получается что в задумке. Не знаю, как объяснить, но вы это поймете, ваше высочество.
— Да, я очень понимаю, — задумчиво сказала Анна, и лицо ее сделалось грустно.
У Анны было мало общего с Ориной. Но все же какое-то неуловимое сходство существовало. То ли в выражении лица, то ли в глазах. Жену свою Андрей обожал и теперь, как в первые годы супружества. Считал ее для себя невероятным ангелом.
Ему хотелось видеть Орину свободной от забот по дому. Чтоб не стирала, не варила, не обихаживала детей. Чтоб была гордым, красивым животным, каковым, по мнению Матвеева, надлежит быть истинной женщине. "Такой я ее и напишу! В этом ожерелье и в царском платье, — решил Андрей, — эта картина — крик любви".
Здесь, рядом с Анной, жизнь представлялась Матвееву светлой и полной. Он работал, соображась со своими набросками, сделанными раньше. Взглядывая на Анну, он старался бежать внешней похожести, старался изучить, насколько возможно, все ее особенности. Постичь душу и даже уловить наклонность мыслей. На принца Андрей смотрел косо.
Он видел одну Анну. Ему неожиданно захотелось поцеловать ее. Но невозможно, никак нельзя. Головой поплатишься за одно только желанье, да еще этот с угреватым лицом сверлил его рыбьими глазами.
— Живописцу, вероятно, открывается в людях много злого, нечистого? — снова спросила Анна у Матвеева. — Вы ведь насквозь видите. — И поглядела на Антона, который вслушивался в их разговор с явным недоброжелательством. Они разговаривали по-русски, а он почти ничего не понимал. "И откуда у этого живописца взялось такое словотечение?" — думал принц.
— Ваше высочество, — воскликнул Матвеев, — вы очень правы! От нашего глазу не укроешься. — Он даже топнул ногой от удовольствия.
Принц Антон дернулся и остолбенел. "Распустили этих моляров, они имеют еще наглость топать и выкрикивать в царском дворце".
А живописец растирал весь холст большим пальцем, держа кисти во рту. Он горячо добавил:
— Художеству, ваше высочество, всем нашим творениям, потребно вечно бдящее, совестливое сердце. Без душевного трепетания и к холсту нет нужды подходить. Оно одно способно возвысить живописное дело, одушевить его.
Андрей потер рукой подбородок, оставив там жирный след черной краски. Анна улыбнулась, даже Антон осклабился. Но живописец этого не заметил.
— Я знаю совершенно точно, ваше высочество, что такое грех в живописи, но что такое грех в жизни, этого мне знать не дано. С этим всечасным терзанием души я и помру, ваше высочество. Простите мою болтливость.
Анна внимательно слушала художника. Она будто читала на его лице отражение своих сокровенных мыслей.
Антон взял Анну за руку и молча показал ей на выход. Он с радостью увидел наконец, что Матвеев протирает тряпкой кисти, складывает их в деревянный ящик на толстом ремне.
Сеанс был окончен.
Стоило поддаться сомнениям, неуверенности — всё летело к чёрту, ныла душа. Матвеев знал, что где-то есть выход, но задуманное им осуществить было нелегко. В двойном портрете их сиятельств принцессы Анны Леопольдовны и принца Антона ему хотелось, оставя все на своих местах, чуть-чуть переписать лица, глаза, найти им новое выражение. Когда он писал во дворце, то в картине его между царствующими особами пробегала какая-то тень неприязни, явно не получалось согласия. Приятно и заманчиво было думать живописцу, что принцесса Анна под его кистью вдруг превратится в Оринушку. Жена его в новом обличье будет сидеть рядом с принцем Брауншвейгским. В царском платье, с бриллиантовым в яхонтах ожерельем. А потом и сам принц в той же обволочи станет едва похожим на живописца Матвеева. И тогда совсем иначе будут те же двое рядом, появится между ними тепло, о котором так пеклась императрица, уверенная, что из двойного портрета оно постепенно перейдет и в жизнь будущих супругов.
Чтобы сделать задуманное незаметно, Матвееву нужно было употребить все свое усердие, все искусство. Живопись такая уж трудная штука: чуть тронешь кистью — и появится дыханье совсем другой жизни. Одним мазком в зрачке можно изменить весь характер натуры. И в те же хорошо устроенные на холсте фигуры вдохнется новое. Появится душевное движенье, трепет. Мягкая, добрая Оринушка будет глядеть своими глазами, а во всем остальном это будет принцесса.
Жесткость уйдет, новое выражение лиц иначе согласует картину внутри, фигуры и лица тогда выйдут чисто, как медный звон колокола, как гимн тому самому ангелу любви, что держит нас на земле.
 следующий сеанс, который был и последним, Андрей выверял портретное сходство, он тонко прорисовал глаза Анны с припухлыми веками, высветлил кончик носа. Широко посадив на лице глаза, Андрей добился выражения внутреннего, глубоко спрятанного страдания Анны. Антон у него получался таким, каким и был в жизни, — худым, небольшого роста, с длинными бесцветными ресницами, неловкий, застенчивый, безвольный. Двойной портрет рассказывал о любви тех, кто был на нем изображен. Таков был приказ. Сердцу императрицы портрет должен был доказать убедительно, что родственный союз с Австрией упрочит положение в России немецкой партии, чего от нее так настоятельно добивались.
Для Матвеева писать красками было чистое наслаждение. Не сравнимое ни с чем. Как нужна была живопись его жизни! Разве, так работая, не достигнет он желанного? У него были ученики, семья. Был дом на Васильевском острову. Много за жизнь содеяно. Батальные полотна для Летнего дома. Плафоны для меншиковского дворца расписывал. В Петропавловский собор иконостас выполнил. Портреты достойной памяти Петра Великого с арапчонком, на коне и без учинил. Анну Иоанновну писал дважды. Декоративные росписи в новый Зимний дворец намахал.
Он испытал а труде своем минуты неизъяснимые, сладостные. Так, невольно улыбаясь от восторга, можно было и закончить жизнь, только бы дописать свое. Невысказанное. Дойти до самой сути цвета, до гармонии. Давно известно, что легче измерить глубину моря, чем постичь глубины человеческой души. Андрею порою казалось, что он проживет очень долго, до глубокой старости. И узнает цену славы, которую ему прочили еще в Голландии.
И в этот раз, как и в прошлый, Анне было приятно позировать живописцу. Она, словно играя, тоже старалась так же въедливо смотреть на Матвеева, как он смотрел на нее. Обезьянничала. Будто не он с нее писал портрет, а наоборот. "Ужасно глупо все-таки сидеть безо всякого дела", — думала принцесса.
А живописца одушевляло сегодня одно желание, ему хотелось хотя бы на холсте сорвать с Анны все покровы, пробиться через чопорность, стыдливость к телу, к душе. Хотелось заставить ее, чтобы там, под модной высокой прической, хоть что-нибудь шевельнулось ему навстречу.
Просветленными глазами глядел он на Анну и на свой едва закрашенный холст, где вдруг сильно проступила полунагая женская фигура. "Увидели бы это, огнем бы жгли в ушаковской канцелярии", — весело подумал Матвеев. И провел кистью еще и еще, чтоб хоть самому себе доказать что-то. Ну! Его как обжарило, когда сам увидел. У Андрея даже лопатки вспотели. Он неистово, оголтело, нахраписто писал. Холст звенел под ударами кисти, он его скреб шпахтелем, разглаживал ладонью. Его напористость обвораживала Анну. "Послал бы мне бог такого любовника", — подумала она игриво. Матвеев самозабвенно жил в самом себе и наносил краску с такой силой, что подрамник, мольберт и, кажется, даже пол и стены — все тряслось и колотилось. Матвееву пришлось обхватить картину свободной рукой. "Что-то он не в себе. У него сегодня не все дома, что ли?" — подумала Анна. Да нет! У каждого из этих художников есть то, чего никогда не встретишь во дворцах. Они — бесхитростные, живые люди. Как только пахнет на них краской, закусывают удила, срываются во весь опор. Принцессе Анне приходилось позировать немцам, итальянцу. Те исполняли заказ бесчувственно, холодно, с расчетом. Казалось, что в них остановилась кровь и сердце, страшно было даже вздохнуть, чтоб не нарушить эту академическую застылость. Наверное, эти блаженные беседуют с музами в полусне, сладким шепотом. Видела Анна и других живописцев — огненных, темпераментных. А этот Матвеев был просто безумец. Он полыхал, как печь, глаза свел к переносице, ходил с выкрутасом, вскидывался, выгибался, отбегал в сторону, прищуривался, отводил голову вбок, бежал к холсту, неистовствовал. "А может, он опытный любезник, — подумала Анна, — и нарочно развел здесь эту комедь. Попробуй отгадай… Нет, он все же походит на бешеного сегодня", — решила она и, чтобы успокоить его, ласково ему улыбнулась. Матвеев удовлетворенно поджал губы.
Хоть и велико было расстояние между ними — он живописных дел мастер, которого можно нанять, можно цыкнуть и прогнать, она принцесса, без пяти минут русская императрица, — но расстояние между ними явно сократилось. Это грело Андрееву душу. Что-то в Анне все же стронулось, потеплело, в глазах что-то такое пробежало. Ему это и нужно было, иначе он бы наврал в портрете. Всегда он искал с натурой особой, таинственной связи. У каждого живописца есть своя тайная уловка: когда Матвеев писал женскую персону, он любодействовал с ней, кто б она ни была. Это были его сладкие мечты. Но ему нужно было уравнять себя с тем, кого он писал. Станешь ниже — вранье, станешь выше — тем более вранье.
Ему чудилось… Белый шелк. Роскошное царское ложе. Женщина, которую пишет… Рядом он. Вьются амуры. Рисовались картины его воображению одна обольстительней другой. Он переживал миг любви. И натуре передавалось его волнение. Не шутейное, не наигранное. Он завораживал, колдовал. И портрет выходил хорош.
следующий сеанс, который был и последним, Андрей выверял портретное сходство, он тонко прорисовал глаза Анны с припухлыми веками, высветлил кончик носа. Широко посадив на лице глаза, Андрей добился выражения внутреннего, глубоко спрятанного страдания Анны. Антон у него получался таким, каким и был в жизни, — худым, небольшого роста, с длинными бесцветными ресницами, неловкий, застенчивый, безвольный. Двойной портрет рассказывал о любви тех, кто был на нем изображен. Таков был приказ. Сердцу императрицы портрет должен был доказать убедительно, что родственный союз с Австрией упрочит положение в России немецкой партии, чего от нее так настоятельно добивались.
Для Матвеева писать красками было чистое наслаждение. Не сравнимое ни с чем. Как нужна была живопись его жизни! Разве, так работая, не достигнет он желанного? У него были ученики, семья. Был дом на Васильевском острову. Много за жизнь содеяно. Батальные полотна для Летнего дома. Плафоны для меншиковского дворца расписывал. В Петропавловский собор иконостас выполнил. Портреты достойной памяти Петра Великого с арапчонком, на коне и без учинил. Анну Иоанновну писал дважды. Декоративные росписи в новый Зимний дворец намахал.
Он испытал а труде своем минуты неизъяснимые, сладостные. Так, невольно улыбаясь от восторга, можно было и закончить жизнь, только бы дописать свое. Невысказанное. Дойти до самой сути цвета, до гармонии. Давно известно, что легче измерить глубину моря, чем постичь глубины человеческой души. Андрею порою казалось, что он проживет очень долго, до глубокой старости. И узнает цену славы, которую ему прочили еще в Голландии.
И в этот раз, как и в прошлый, Анне было приятно позировать живописцу. Она, словно играя, тоже старалась так же въедливо смотреть на Матвеева, как он смотрел на нее. Обезьянничала. Будто не он с нее писал портрет, а наоборот. "Ужасно глупо все-таки сидеть безо всякого дела", — думала принцесса.
А живописца одушевляло сегодня одно желание, ему хотелось хотя бы на холсте сорвать с Анны все покровы, пробиться через чопорность, стыдливость к телу, к душе. Хотелось заставить ее, чтобы там, под модной высокой прической, хоть что-нибудь шевельнулось ему навстречу.
Просветленными глазами глядел он на Анну и на свой едва закрашенный холст, где вдруг сильно проступила полунагая женская фигура. "Увидели бы это, огнем бы жгли в ушаковской канцелярии", — весело подумал Матвеев. И провел кистью еще и еще, чтоб хоть самому себе доказать что-то. Ну! Его как обжарило, когда сам увидел. У Андрея даже лопатки вспотели. Он неистово, оголтело, нахраписто писал. Холст звенел под ударами кисти, он его скреб шпахтелем, разглаживал ладонью. Его напористость обвораживала Анну. "Послал бы мне бог такого любовника", — подумала она игриво. Матвеев самозабвенно жил в самом себе и наносил краску с такой силой, что подрамник, мольберт и, кажется, даже пол и стены — все тряслось и колотилось. Матвееву пришлось обхватить картину свободной рукой. "Что-то он не в себе. У него сегодня не все дома, что ли?" — подумала Анна. Да нет! У каждого из этих художников есть то, чего никогда не встретишь во дворцах. Они — бесхитростные, живые люди. Как только пахнет на них краской, закусывают удила, срываются во весь опор. Принцессе Анне приходилось позировать немцам, итальянцу. Те исполняли заказ бесчувственно, холодно, с расчетом. Казалось, что в них остановилась кровь и сердце, страшно было даже вздохнуть, чтоб не нарушить эту академическую застылость. Наверное, эти блаженные беседуют с музами в полусне, сладким шепотом. Видела Анна и других живописцев — огненных, темпераментных. А этот Матвеев был просто безумец. Он полыхал, как печь, глаза свел к переносице, ходил с выкрутасом, вскидывался, выгибался, отбегал в сторону, прищуривался, отводил голову вбок, бежал к холсту, неистовствовал. "А может, он опытный любезник, — подумала Анна, — и нарочно развел здесь эту комедь. Попробуй отгадай… Нет, он все же походит на бешеного сегодня", — решила она и, чтобы успокоить его, ласково ему улыбнулась. Матвеев удовлетворенно поджал губы.
Хоть и велико было расстояние между ними — он живописных дел мастер, которого можно нанять, можно цыкнуть и прогнать, она принцесса, без пяти минут русская императрица, — но расстояние между ними явно сократилось. Это грело Андрееву душу. Что-то в Анне все же стронулось, потеплело, в глазах что-то такое пробежало. Ему это и нужно было, иначе он бы наврал в портрете. Всегда он искал с натурой особой, таинственной связи. У каждого живописца есть своя тайная уловка: когда Матвеев писал женскую персону, он любодействовал с ней, кто б она ни была. Это были его сладкие мечты. Но ему нужно было уравнять себя с тем, кого он писал. Станешь ниже — вранье, станешь выше — тем более вранье.
Ему чудилось… Белый шелк. Роскошное царское ложе. Женщина, которую пишет… Рядом он. Вьются амуры. Рисовались картины его воображению одна обольстительней другой. Он переживал миг любви. И натуре передавалось его волнение. Не шутейное, не наигранное. Он завораживал, колдовал. И портрет выходил хорош.



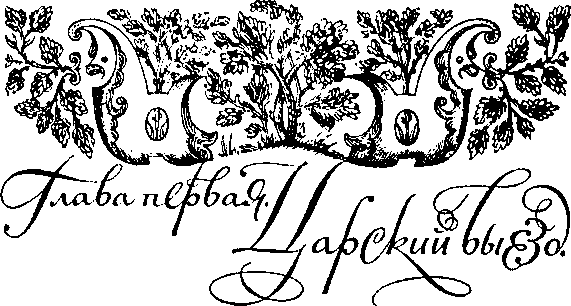
 ерым днем шёл он по Невскому. Темно-вишневый бархатный кафтан плотно обхватывал его. У него были гладкие белые чулки и тупоносые башмаки с огромными блестящими пряжками и красными каблуками. И треугольная шляпа с золотым позументом. Заказ когда сдаешь, так тут все важно — и одежда, и выражение.
Боже мой! Боже мой! Легкий гений юности еще осенял Матвеева. И он ему верил. Но, кажется, это был конец. Он чувствовал это…
От чистого воздуха на щеках у Андрея проступил румянец, а внутри что-то неприятно посасывало. И все же он весь так и светился внутренней добротой.
Матвеев взглядывал на встречных, но как бы не видел их. Его распирало от полноты жизни и радости до конца исполненной работы. Состояние было ясное и трезвое.
Он создал свою картину, и ее нужно было показать императрице. Был человек, и была картина. "Что есть человек? — рассуждал он. — Нынче люди у нас в России дешевле снега. А что есть картина в бездне мироздания? Слабо мерцающая точечка — не больше, не больше!" Но важно, что человек этот, он, Матвеев, написал эту картину. Что он с кистью в руке ощущал в себе мастера, замыкающего длинный ряд своих предков и предшественников. В часы упоения работой как бы переживаешь себя и в тебе бьются многие жизни.
День был беспредельный, он весь выплеснулся за свои обычные грани. Хотелось раствориться в этом дне. Но главное — что он сделал все так, как ему надумалось.
На углу Садовой увидел сбитенщика с рыжей бородой. Тот гремел кружками над медными чайниками-саклами и громко кричал:
— А ну, кому сбитня, а крепкого сбитня!
Матвеев спросил и себе кружечку. Медовый взвар был на редкость хорош — на зверобое, шалфее, с имбирем и стручковым перцем. От питья ожигало рот и в животе сразу распалялся огонь.
— Как жив, парень? — благодарно взглянув на сбитенщика, спросил Андрей.
— А хорошо! — ответил тот. — Жить-то весело, да есть нечего.
— А ты не ешь. Пей!
Парень засмеялся.
— Пить бы рад, хлебать приходится, — отговорился он.
ерым днем шёл он по Невскому. Темно-вишневый бархатный кафтан плотно обхватывал его. У него были гладкие белые чулки и тупоносые башмаки с огромными блестящими пряжками и красными каблуками. И треугольная шляпа с золотым позументом. Заказ когда сдаешь, так тут все важно — и одежда, и выражение.
Боже мой! Боже мой! Легкий гений юности еще осенял Матвеева. И он ему верил. Но, кажется, это был конец. Он чувствовал это…
От чистого воздуха на щеках у Андрея проступил румянец, а внутри что-то неприятно посасывало. И все же он весь так и светился внутренней добротой.
Матвеев взглядывал на встречных, но как бы не видел их. Его распирало от полноты жизни и радости до конца исполненной работы. Состояние было ясное и трезвое.
Он создал свою картину, и ее нужно было показать императрице. Был человек, и была картина. "Что есть человек? — рассуждал он. — Нынче люди у нас в России дешевле снега. А что есть картина в бездне мироздания? Слабо мерцающая точечка — не больше, не больше!" Но важно, что человек этот, он, Матвеев, написал эту картину. Что он с кистью в руке ощущал в себе мастера, замыкающего длинный ряд своих предков и предшественников. В часы упоения работой как бы переживаешь себя и в тебе бьются многие жизни.
День был беспредельный, он весь выплеснулся за свои обычные грани. Хотелось раствориться в этом дне. Но главное — что он сделал все так, как ему надумалось.
На углу Садовой увидел сбитенщика с рыжей бородой. Тот гремел кружками над медными чайниками-саклами и громко кричал:
— А ну, кому сбитня, а крепкого сбитня!
Матвеев спросил и себе кружечку. Медовый взвар был на редкость хорош — на зверобое, шалфее, с имбирем и стручковым перцем. От питья ожигало рот и в животе сразу распалялся огонь.
— Как жив, парень? — благодарно взглянув на сбитенщика, спросил Андрей.
— А хорошо! — ответил тот. — Жить-то весело, да есть нечего.
— А ты не ешь. Пей!
Парень засмеялся.
— Пить бы рад, хлебать приходится, — отговорился он.
 ставалось Андрею дождаться четырех часов, чтобы узнать, как именно императрица Анна Иоанновна и двор распорядится им после осмотра двойного портрета. Томительное чувство ожидания понемногу улеглось в душе его. Осталось только немного усталости и маленький комочек тревоги на самом дне. Может, пронесет на этот раз мимо… И то сказать, сколько у нас в жизни внезапного, не предвиденного заранее. Сделается все как-то вопреки рассудку, приключится само собою, как бы нечаянно!
А в этом нечаянном совпаденье — свой закон, свой случай. СЛУЧАЙ — всесильный и всемогущий сблизитель или неумолимый сокрушитель. Глаз видит, сердце чует, а случай всем располагает. Планируй, маракуй, прикидывай — и вдруг все опрокинется ногами вверх и наизнанку нутром! "Одна последняя надежда на случай", — решил Матвеев, беззлобно сплюнул и побрел к Охте.
Шел по городу; давно величие его обозначилось уже понятием — столица! И обрело право и вес стольного града европейской державы.
…Медленно светает. Свежо, сумрачно, тихо.
В Санкт-Петербурге утренняя заря часто рождается в той же мгле, в какой угасла вечерняя. Молчат птицы. Им не поется. Нависшая мгла давит и на них.
У черного строения возле самого Адмиралтейства увидел Матвеев бородатого, высокого, худого мужика. Лицо серое, брови кустистые, под кряжистым носом изогнулись рыжие залихватские усы. Стоит мужик недвижимо, как в землю врос. И чего это он там встал?
В сером армяке, в просушенных до сухарного хруста лаптях. У него за широким поясом топор.
До самых костей пробирает утренняя стынь, и потому курит он в рукаве цигарку. Затянется глубоко, и уже не так ему одиноко на земле. Нос у мужика от услады краснеет морковкой.
Курит он, курит, душу греет и ничего не знает, не ведает и знать не хочет. А ведь давно царев указ есть, чтоб у галер в гавани табаку не курить: пожары часто случаются. А по тому указу, ежели кто в нарушении сыщется, то будет нещадно бит. По первому приводу десятью ударами у мачты, по другому — сто, да еще виновного под киль корабельный подпустить на канатах и протянуть, а после, коли жив останется, так на вечную каторгу сослать. Но указ на бумаге, а мужик стоит себе, курит. Дым сизый согревает.
Не так давно еще на Руси табак почитался адским зельем. Кто его потреблял, тот, считалось, с нечистой силой связан. Таковых били кнутом, рвали им ноздри, резали носы. А после, слава богу, царь Петр позволил купцам ввозить табак, трубки, табакерки, черешневые чубуки. И все это стало можно продавать свободно. Закурила, задымила Россия вволю.
…Курит мужик, сынишку вспоминает, в деревне оставленного. Славно, когда в голове хорошее держится. Хуже, когда в кармане хорошего нету. Правда говорят, что у кого карман пустой, у того голова лучше смекает. Так оно или не так?
Покурил мужик, поежился, подвигал лопатками для сугреву и пошел в трактир — выпить на последнюю деньгу чарку да свежего хлебца сжевать в закуску, со щами познакомиться.
И Андрей за ним. От скуки. А тот сел в угол, задумался. Как тут ни живи, а деваться некуда — ни защиты, ни охраны, ни приюта. Ни черта не найдешь в этом граде. Стоит себе на болотах проклятых и трясинах. Андрей подсел к мужику, спросил, кто он и откуда. Заявился вот сюда по царскому зову, по высочайшей резолюции. Сам из Новгорода.
— О! Земляк! — обрадовался Андрей.
А мужик свое наболевшее гнет:
— Грезилось — раз зовет царь, значит, будет и достаток за плотницкое ремесло. Как же, заработаешь тут чирьев да болячек! А ты-то как, земляк, кормишь пузо аль нет? И как же тут, в стольном граде, люди живут: каждый сам по себе, отдельно стоит, как гриб валуй. Всюду ты на виду. Кто сорвет, тот и сожрет… Хлебало раззявишь маленько, враз и хрястнут, своих не найдешь. И чего вы такие оглашенные в своих больших городах? Себе же на погибель и понастроили дворцов и хором!
Андрей улыбается. Нравится ему новгородец.
— Эхма, стольный град, стольный град! Здеся на всякую дырку свой гвоздок, — вздыхает тот. — Ну, ничева, Питер, ни-и-ччева! — говорит плотник. — И у нас за душой кой-чего имеется и ниже брюха, тоже голой рукой нас не возьмешь. Авось не дадим оплошки.
— А ко мне в живописную команду пойдешь? Подрамники нужны, рамы.
— Еще б не пойти. Только прикажи, милок!
"И я б таким был, если б не повезло, — думает Андрей, — стоял бы с топором за поясом".
ставалось Андрею дождаться четырех часов, чтобы узнать, как именно императрица Анна Иоанновна и двор распорядится им после осмотра двойного портрета. Томительное чувство ожидания понемногу улеглось в душе его. Осталось только немного усталости и маленький комочек тревоги на самом дне. Может, пронесет на этот раз мимо… И то сказать, сколько у нас в жизни внезапного, не предвиденного заранее. Сделается все как-то вопреки рассудку, приключится само собою, как бы нечаянно!
А в этом нечаянном совпаденье — свой закон, свой случай. СЛУЧАЙ — всесильный и всемогущий сблизитель или неумолимый сокрушитель. Глаз видит, сердце чует, а случай всем располагает. Планируй, маракуй, прикидывай — и вдруг все опрокинется ногами вверх и наизнанку нутром! "Одна последняя надежда на случай", — решил Матвеев, беззлобно сплюнул и побрел к Охте.
Шел по городу; давно величие его обозначилось уже понятием — столица! И обрело право и вес стольного града европейской державы.
…Медленно светает. Свежо, сумрачно, тихо.
В Санкт-Петербурге утренняя заря часто рождается в той же мгле, в какой угасла вечерняя. Молчат птицы. Им не поется. Нависшая мгла давит и на них.
У черного строения возле самого Адмиралтейства увидел Матвеев бородатого, высокого, худого мужика. Лицо серое, брови кустистые, под кряжистым носом изогнулись рыжие залихватские усы. Стоит мужик недвижимо, как в землю врос. И чего это он там встал?
В сером армяке, в просушенных до сухарного хруста лаптях. У него за широким поясом топор.
До самых костей пробирает утренняя стынь, и потому курит он в рукаве цигарку. Затянется глубоко, и уже не так ему одиноко на земле. Нос у мужика от услады краснеет морковкой.
Курит он, курит, душу греет и ничего не знает, не ведает и знать не хочет. А ведь давно царев указ есть, чтоб у галер в гавани табаку не курить: пожары часто случаются. А по тому указу, ежели кто в нарушении сыщется, то будет нещадно бит. По первому приводу десятью ударами у мачты, по другому — сто, да еще виновного под киль корабельный подпустить на канатах и протянуть, а после, коли жив останется, так на вечную каторгу сослать. Но указ на бумаге, а мужик стоит себе, курит. Дым сизый согревает.
Не так давно еще на Руси табак почитался адским зельем. Кто его потреблял, тот, считалось, с нечистой силой связан. Таковых били кнутом, рвали им ноздри, резали носы. А после, слава богу, царь Петр позволил купцам ввозить табак, трубки, табакерки, черешневые чубуки. И все это стало можно продавать свободно. Закурила, задымила Россия вволю.
…Курит мужик, сынишку вспоминает, в деревне оставленного. Славно, когда в голове хорошее держится. Хуже, когда в кармане хорошего нету. Правда говорят, что у кого карман пустой, у того голова лучше смекает. Так оно или не так?
Покурил мужик, поежился, подвигал лопатками для сугреву и пошел в трактир — выпить на последнюю деньгу чарку да свежего хлебца сжевать в закуску, со щами познакомиться.
И Андрей за ним. От скуки. А тот сел в угол, задумался. Как тут ни живи, а деваться некуда — ни защиты, ни охраны, ни приюта. Ни черта не найдешь в этом граде. Стоит себе на болотах проклятых и трясинах. Андрей подсел к мужику, спросил, кто он и откуда. Заявился вот сюда по царскому зову, по высочайшей резолюции. Сам из Новгорода.
— О! Земляк! — обрадовался Андрей.
А мужик свое наболевшее гнет:
— Грезилось — раз зовет царь, значит, будет и достаток за плотницкое ремесло. Как же, заработаешь тут чирьев да болячек! А ты-то как, земляк, кормишь пузо аль нет? И как же тут, в стольном граде, люди живут: каждый сам по себе, отдельно стоит, как гриб валуй. Всюду ты на виду. Кто сорвет, тот и сожрет… Хлебало раззявишь маленько, враз и хрястнут, своих не найдешь. И чего вы такие оглашенные в своих больших городах? Себе же на погибель и понастроили дворцов и хором!
Андрей улыбается. Нравится ему новгородец.
— Эхма, стольный град, стольный град! Здеся на всякую дырку свой гвоздок, — вздыхает тот. — Ну, ничева, Питер, ни-и-ччева! — говорит плотник. — И у нас за душой кой-чего имеется и ниже брюха, тоже голой рукой нас не возьмешь. Авось не дадим оплошки.
— А ко мне в живописную команду пойдешь? Подрамники нужны, рамы.
— Еще б не пойти. Только прикажи, милок!
"И я б таким был, если б не повезло, — думает Андрей, — стоял бы с топором за поясом".
 мператрица сидела в кресле и занимала его все. Кресло было низкое, черное, резное. На коленях императрицы лежала пестрая шаль. Он увидел враз: нездоровое, мучнисто-белое, полное лицо императрицы, ее темные круглые глаза, мягкие губы и большой сырой подбородок. Все это было смято белым светом, льющимся сбоку.
Герцог Бирон стоял возле государыни. Он был без камзола — белая шелковая рубаха, белые панталоны, белые чулки. Обеими руками Бирон держал левую руку императрицы. Другая ее рука, большая, пухлая, мягкая, лежала на колене.
Анна Иоанновна глубоко сидела в кресле, чинно и благостно.
Большие столовые часы в виде бронзового льва показывали ровно девять.
Императрица подняла правую руку и не то погрозила моляру, не то поманила его к себе.
Андрей сделал полшага и замер в нерешительности.
— А ну, ну, — сказала она хрипло, — показывай! Скорей!
Андрей дрожащими руками стал развязывать узел. Бирон подошел к моляру.
Андрей развязал веревку, развернул простыню, достал картину, приставил ее к стене, отошел и замер. Картина неожиданно и нежно сверкнула. Он глянул на труд своих рук и бессонных ночей: "Выручай, родимая!"
Бирон стоял рядом. На лице ласковая улыбка, умные, холодные глаза.
Он мельком взглянул на моляра, и тому стало холодно. С таким же вот ласковым взглядом светлейший отсылал в Тайную канцелярию малых и средних чинов двора. До больших людей он, кажется, еще не касался. Но верный ключ у него был к каждому. И это знали все.
Императрица поднялась, держа шаль в руке, подошла к картине и наклонилась, ее рассматривая.
Сбоку Андрей видел, что государыня была отменно толстая медлительная баба, похожая на молочницу или купчиху. Ничего в ней не было державного, царственного. Даже голос у нее был обыкновенный бабий, с легкой хрипотцой и скрипом.
Художник не знал, куда девать себя. Он мечтал сейчас выпасть отсюда каким-нибудь чудом в улицу, во двор. Бежать без оглядки. Избавиться от напасти. Чтоб оставили в покое, не мешали б жить, работать.
Все, все здесь против него: люди, комната, даже карлица, что сидела в углу на маленьком стульчике и белела крошечным, словно испеченным ликом. Ее он заметил сразу, как вошел, но потом она исчезла, улетучилась из его внимания. Для него в мире существовало только два человека — императрица и герцог.
А сейчас Андрей увидел карлицу снова, низкорослую, тощую. Она подошла и встала позади императрицы. И он рассмотрел ее всю, начиная от нарумяненных вялых щечек до крохотных черных туфелек, так смешно и трогательно торчащих из-под ее богатого алого платья.
Андрей суеверно боялся этого крошечного народца. Маленьких ростом не поймешь, и не пытайся.
Карлица стояла, уставясь на картину.
"Не глядит в мою сторону, будто меня нет на свете", — неприязненно поежился моляр.
Проколок, видать, будет полный. Но никто ведь и не просил его рисовать свое лицо заместо принца Антона, а принцессу делать похожей на жену Орину. Вышло это как-то даже невольно. Моляр созорничал. Поэтому в Андрее страх был наравне со стыдом. Будто он вор и подсовывает покупателю негодный товар за честные деньги.
Андрей снова зыркнул на карлицу и увидел — к нему струится маленькая, слабая улыбка. Это добрый знак.
Вдруг раздался тонкий, свистящий, пронзительно чмокающий звучок. Карлица чихнула.
Бирон нахмурил брови, поморщился. Императрица молча и неподвижно смотрела на портрет, на изображение лиц молодого мужчины и злой девушки, которых она из-за своих династийных соображений решила наречь женихом и невестой. Мужчина был принц Антон, которого Бирон терпеть не мог.
"Этот моляр, — думалаимператрица, — хороший мастер, он изобразил их так, как и требовалось, — в непринужденной позе, и они у него точно влюбленные голубки".
Анна Иоанновна смотрела, а у Андрея шевелилась кожа на спине. Ведь он опасно сосвоевольничал — взял и вместо жениха едва заметно представил самого себя, благо что они были несколько похожи. Это не принц Антон, это он, Андрей Матвеев, обнимал принцессу одной рукой, а другой держал ее за тонкие, длинные пальцы. А невеста, которой было наплевать и на портрет, и на жениха, не то молчаливо допустила эту подмену, не то просто ничего не заметила. Во всяком случае, когда она видела портрет в последний раз у него в мастерской, она ничего не сказала, а только улыбнулась одной половиной лица.
— Ну что ж, неси показывай государыне!
Эту штуку тогда Матвеев проделал с легким сердцем, с наглостью какого-то отчаянья: "Э, все равно!" А сейчас стоял и ждал, чем же это все окончится, и ему было страшно.
Правда, накануне того дня, как ему пришел вызов во дворец для просмотра, к ним заглянул Иван Яковлевич Вишняков. Андрей ему очень обрадовался и, не давая раздеться, потащил в мастерскую, поставил картину на мольберт.
— Ну, гляди, Иван, и говори все, что видишь и думаешь.
Иван Яковлевич долго смотрел, отходил, нагибал голову то влево, то вправо, потом сказал:
— Хорошая картина! Отделка тщательная, колорит выдержан, прилежания и усилий истрачено много! Вот и все. Вольная картина, видать, что писана по охоте, а не по принужденью.
— Ну, спасибо, Иван.
Андрей подошел к нему, чмокнул в жесткую щеку.
Вишняков взглянул на Матвеева, загадочно улыбнулся, спросил:
— Ты что же, хочешь это сдать заместо заказного? Того же Савку, да на других санках, а?
"Раскусил-таки! Вот злыдень! — оцепенело подумал Андрей. — Разгадал, дьявол".
А сказал как ни в чем не бывало с усмешечкой:
— А что? Была не была, хочу спробовать, авось сойдет.
— Гляди, Андрей, одна спробовала — медведя родила, как бы голова твоя с плеч долой не сошла. — Вишняков провел указательным пальцем по горлу.
А сам с гордостью подумал о том, что такому, как Матвеев, художнику все по плечу. Высвободил он все немалые свои силы, оперся на собственные крылья и летит, летит, никто его не остановит… Большую Андрей высоту набрал в художестве, большую!
— Дьявол ты, Андрюха, — сказал Вишняков Матвееву. — Написано нежно, светло, цветно! Все крепко, богатый коричневый фон. Раскатал слой краски, как аглицкое сукно. Увязано в одно, слажено, это ж надо, сущий дьявол! Ну, тащи с богом! Ничего они не раскусят. Сполнено по всей форме и со тщанием. Чего же им еще?!
Меж тем императрица постояла, посмотрела, потом обернулась к герцогу.
А Бирон, или Бирен, а может, и Бюрен, смотрел на картину внимательно и холодно. Андрею казалось — подозрительно. У Бирона был цепкий взгляд знатока. Андрей ощутил укол дурного предчувствия.
"Курляндца не проведешь!"
А Бирон, который кроме лошадей питал тайную слабость к свободным художествам и уважал их, обратился к Андрею:
— Это и есть…
— Так точно, это двойной портрет, ваше высочество… Сие мне и заказывали!
Неожиданно для себя Андрей бойко ответил по-немецки и тут же почтительно поклонился, хотя у него все поджилки дрожали.
Герцог продолжал молча смотреть на картину, словно вслушивался в нее.
Карлица вдруг едва заметно, но все-таки явственно кивнула моляру головкой и подмигнула крошечным, как бусинка, глазком.
"Сойдет, — вдруг мгновенно решил Андрей, — ей-богу сойдет, честное слово, сойдет!"
А карлица скорчила гримасу в спину Бирона и показала ему розовый язык толщиной с палец.
От неожиданности Матвеев хмыкнул носом.
Бирон повернулся к императрице и сделал какое-то незаметное движение. Потом он порывисто подошел к самой картине, присмотрелся к какому-то месту на ней и даже потрогал это место растопыренными пальцами. Он глянул на Матвеева жестким, царапающим взглядом.
"Попался, — застучало у Андрея в висках. — Теперь могила. Если герцог раскусил, унюхал, то ждать от него милости — все равно что от бабы добродетели".
— Так, значит, это двойной портрет, что тебе заказывали к свадьбе принцессы Анны? — спросил Бирон. Его толстый короткий палец указывал на картину, а глаза, темные, страшные, совершенно без зрачков, вопросительно вонзились в моляра.
— Он самый, ваше высочество, это принцесса Анна и принц Антон, — ответил Матвеев, выдерживая взгляд герцога.
Глаза Бирона держали моляра, как когти. И Андрей увидел в них коварную, торжествующую хитрость, но он так и не понял: догадался герцог или только заподозрил?
Матвеев посмотрел на императрицу, потом на Бирона. Она — вся черная, он — весь белый. Оба чужие, холодные. А где-то там, между ними, невидимый и неслышимый, положив голову на лапы, дремал ангел смерти Андрея.
Императрица подошла к креслу и тяжело опустилась в него. Бирон стал рядом.
Андрей искал зацепку спасения.
И тут ему в глаза ударило большое квадратное зеркало на стене над креслом императрицы. Не само даже зеркало, а часть спины императрицы, отраженная в нем. Ее величество как бы вывернули вдруг задней частью вперед.
Андрей сделал полшага влево и сдвинул спину. Теперь она пришлась по центру зеркала. Андрей видел уже целиком широкую, выпуклую, крутую спину с мощными, круглыми плечами и короткой молочно-белой шеей с глубокой впадиной, закрытой кудельками. Художник смотрел на спину цепким взглядом мастера, прикидывающего, как лучше рисовать.
"Бабища! — подумал Андрей с облегчением. — Даром что самодержавная, такой бы в самый раз на Сенной рынок за покупками ездить!"
Восторг перед натурой сделал свое, страх в Андрее понемногу начал растворяться.
— То, что важнее всего дня нас было в этом портрете, как будто есть, — заговорила императрица, — взаимная любовь и согласие… Только сдается мне, что сходство сбилось: что-то Анна вышла на себя не похожа, а? — спросила она, обращаясь к Бирону. — Да и принц тоже…
Герцог молча кивнул головой и пожал плечами:
— Такие портреты делают в разных странах давно. В Нидерландах, во Франции и в Испании. Даже моляры часто малюют сами себя с супругой. Что-то такое, помнится, есть у Ван Рейна и у его светлости Питера Рубенса… Так что…
— Двойной портрет, — повторила императрица задумчиво и значительно, но, кажется, только с тем, чтобы хоть что-нибудь сказать. Она как-то враз сникла и погасла.
В глазах ее уже не было ничего, кроме обычной скуки. Ей все очень быстро надоедало. Сдержку ее падающего настроения мог произвести только герцог.
Бирон снова взял в обе руки руку Анны Иоанновны. И сказал:
— Яхонты-то как блестят…
— Их сиянье, — бойко подхватил Андрей, — и есть тот священный символ слияния двух любящих сердец, коего я более всего добивался!
Матвеев, забыв обо всем, посмотрел на Бирона победно и весело. На его большие коричневые вывернутые уши с пучками черных волос, посмотрел на бычью его шею, на гладкое, холеное лицо. Он уже как-то привык к герцогу. Живоглот-то он живоглот, а так из себя мужчина заметный, чем-то даже привлекательный, не зря же эта… А лютость его от страха и ненависть от страха…
Тут Андрей оборвал себя, а вслух сказал, обращаясь к императрице:
— Ваше великое державство, касательно до портретного сходства, как вы соизволили заметить, и ваша светлость тоже, — обратился он уже и к Бирону с поклоном, — что оно нечаянно сбилось, то смею нижайше заверить со всею моей заботливостью и тщанием, хотел я обратить в оном двойном портрете вниманье на то, из каких тонких материй состоит существо чувствий человеческих.
При этих словах живописца Бирон зловеще ухмыльнулся, но Матвеев уже знал, что останавливаться ему нельзя, и он молол старательно, как добрая голландская мельница:
— Принцесса Анна как женщина не может совладать со своею душой, тогда как принц Антон как мужчина умеет победить всякую страсть умеренной и строгой думой…
Анна Иоанновна слушала живописца с интересом, ее глаза опять ожили, она примеряла слова моляра на себя и на Бирона. Ей нравилось толкование картины, которое давал моляр, еще более, чем сама картина. Она вспомнила, что когда отдала принцессе Анне указание готовиться к свадьбе, та обвила руками ее шею и залилась слезами. И сама императрица тогда заплакала. И теперь ей было приятно об этом думать. "Хорошо быть молодой, готовиться к свадьбе, шить наряды, забываться в мечтах о любовных предметах. Хотя и нет меж Анной и Антоном притяжения взаимности, а вот стоят на картине, как живые, и любят друг друга, и за руки держатся, и в полном согласии… Хорошо бы, чтоб этот же моляр срисовал вот так же и меня с герцогом. Ах, как бы я любила сию картину. Но это невозможно". Государыня горестно вздохнула.
— Мне, вашему рабу нижайшему, — долетел до нее голос моляра, и она стала его слушать, — принцесса виделась как жемчужина всех добродетелей. Я тщился силой своей художества и ремесла передать силу той власти, какую имеет над нами любимый человек.
Анна Иоанновна, услыхав эти слова, многозначительно посмотрела на герцога, а тот улыбнулся ей в ответ и беззлобно подумал: "И что этот моляр басни плетет, ему бы молчать следовало. Принца сделал похожим на себя и заливается". Но герцог видел, что императрица слушает моляра с видимым удовольствием, и решил ему не мешать. Он только хмыкнул и сказал:
— Картина изрядно получилась, только тут они у тебя уж больно оба красивые… — Он слегка покачал головой и добавил: — А принц в особенности!
Сказано это было без осуждения, но с легкой насмешкой. Императрица эту насмешку поняла, а герцог продолжал:
— Таково уж ремесло молярское, видно, ни меры в нем, ни веса нету, и легко сбиться с верного курса.
Тонкие губы герцога дрогнули в еле заметной усмешке.
Затем снова была тишина, страх и ожидание.
Карлица улыбнулась Андрею по-прежнему ласково и спокойно. Императрица взглянула на курносого Матвеева и подумала:
"Как простодушно и славно излагает он смысл картины. Каравакк — тот только надувается, потеет и пыхтит, парик ему на ухо съезжает, а про этого говорили, что он дерзок и гордец, но он же и мастер превеликой, а доброму мастеру можно все простить".
— Ну хорошо, — решила наконец императрица, — мы довольны, и твое усердие будет вознаграждено. — Она протянула Андрею белую, пухлую, по-детски перетянутую ниточкой длань.
Моляр бросился к креслу, рухнул на колени и принял эту длань бережно, как драгоценную святыню, и коснулся ее пересохшими губами.
Потом отполз на несколько шагов и поднял голову. Посмотрел вокруг.
Все улыбались. Андрей встал.
Давно не испытываемое приятное расположение овладело российской государыней.
— Герцог, извольте обрадовать принцессу Анну, что парный портрет вышел удачен.
Бирон кивнул.
А Матвеев сказал неведомо для чего:
— Будет ли высочайше дозволено взять мне сей портрет для внесения в него некоторых исправлений касательно до большего сходства?
— Да, бери! Бери! — вместо императрицы ответил Бирон по-простецки и чуточку раздраженно. Ему это затянувшееся смотренье давно надоело и хотелось скорей попасть в манеж, к любимым лошадям. — Бери, поправь, что тебе — для наилучшего сходства — указали, и немедля доставишь во дворец.
Андрей взял картину и вышел. Он обтер лицо рукавом камзола.
Лоб у него был потный, лицо, как он увидел в зеркало, желтовато-зеленое. От напряга чуть сердце не лопнуло. Он смертельно устал и хотел спать.
Его снова бережно вели по переходам, лестницам и коридорам, по зеркальным полам и залам. Кто-то забегал вперед, двери распахивались, ему кланялись.
Он ничего не видел.
Очнулся Андрей только на крыльце. Дворец сиял огнями.
Моляр набрал полную грудь воздуха, выдохнул и набрал снова. Несколько минут он стоял, закрыв глаза и опустив голову. Потом быстро обернул картину в простыню, завязал накрест веревкой и побрел к воротам.
На карауле при выходе из дворца стоял солдат. Андрей вынул кошель, набитый медью и мелким серебром, и положил у его ног. Тот стоял так же деревянно, не шелохнувшись, приставя мушкет к тяжелому блестящему штиблету.
— Выпей, братец, за господ живописцев!
мператрица сидела в кресле и занимала его все. Кресло было низкое, черное, резное. На коленях императрицы лежала пестрая шаль. Он увидел враз: нездоровое, мучнисто-белое, полное лицо императрицы, ее темные круглые глаза, мягкие губы и большой сырой подбородок. Все это было смято белым светом, льющимся сбоку.
Герцог Бирон стоял возле государыни. Он был без камзола — белая шелковая рубаха, белые панталоны, белые чулки. Обеими руками Бирон держал левую руку императрицы. Другая ее рука, большая, пухлая, мягкая, лежала на колене.
Анна Иоанновна глубоко сидела в кресле, чинно и благостно.
Большие столовые часы в виде бронзового льва показывали ровно девять.
Императрица подняла правую руку и не то погрозила моляру, не то поманила его к себе.
Андрей сделал полшага и замер в нерешительности.
— А ну, ну, — сказала она хрипло, — показывай! Скорей!
Андрей дрожащими руками стал развязывать узел. Бирон подошел к моляру.
Андрей развязал веревку, развернул простыню, достал картину, приставил ее к стене, отошел и замер. Картина неожиданно и нежно сверкнула. Он глянул на труд своих рук и бессонных ночей: "Выручай, родимая!"
Бирон стоял рядом. На лице ласковая улыбка, умные, холодные глаза.
Он мельком взглянул на моляра, и тому стало холодно. С таким же вот ласковым взглядом светлейший отсылал в Тайную канцелярию малых и средних чинов двора. До больших людей он, кажется, еще не касался. Но верный ключ у него был к каждому. И это знали все.
Императрица поднялась, держа шаль в руке, подошла к картине и наклонилась, ее рассматривая.
Сбоку Андрей видел, что государыня была отменно толстая медлительная баба, похожая на молочницу или купчиху. Ничего в ней не было державного, царственного. Даже голос у нее был обыкновенный бабий, с легкой хрипотцой и скрипом.
Художник не знал, куда девать себя. Он мечтал сейчас выпасть отсюда каким-нибудь чудом в улицу, во двор. Бежать без оглядки. Избавиться от напасти. Чтоб оставили в покое, не мешали б жить, работать.
Все, все здесь против него: люди, комната, даже карлица, что сидела в углу на маленьком стульчике и белела крошечным, словно испеченным ликом. Ее он заметил сразу, как вошел, но потом она исчезла, улетучилась из его внимания. Для него в мире существовало только два человека — императрица и герцог.
А сейчас Андрей увидел карлицу снова, низкорослую, тощую. Она подошла и встала позади императрицы. И он рассмотрел ее всю, начиная от нарумяненных вялых щечек до крохотных черных туфелек, так смешно и трогательно торчащих из-под ее богатого алого платья.
Андрей суеверно боялся этого крошечного народца. Маленьких ростом не поймешь, и не пытайся.
Карлица стояла, уставясь на картину.
"Не глядит в мою сторону, будто меня нет на свете", — неприязненно поежился моляр.
Проколок, видать, будет полный. Но никто ведь и не просил его рисовать свое лицо заместо принца Антона, а принцессу делать похожей на жену Орину. Вышло это как-то даже невольно. Моляр созорничал. Поэтому в Андрее страх был наравне со стыдом. Будто он вор и подсовывает покупателю негодный товар за честные деньги.
Андрей снова зыркнул на карлицу и увидел — к нему струится маленькая, слабая улыбка. Это добрый знак.
Вдруг раздался тонкий, свистящий, пронзительно чмокающий звучок. Карлица чихнула.
Бирон нахмурил брови, поморщился. Императрица молча и неподвижно смотрела на портрет, на изображение лиц молодого мужчины и злой девушки, которых она из-за своих династийных соображений решила наречь женихом и невестой. Мужчина был принц Антон, которого Бирон терпеть не мог.
"Этот моляр, — думалаимператрица, — хороший мастер, он изобразил их так, как и требовалось, — в непринужденной позе, и они у него точно влюбленные голубки".
Анна Иоанновна смотрела, а у Андрея шевелилась кожа на спине. Ведь он опасно сосвоевольничал — взял и вместо жениха едва заметно представил самого себя, благо что они были несколько похожи. Это не принц Антон, это он, Андрей Матвеев, обнимал принцессу одной рукой, а другой держал ее за тонкие, длинные пальцы. А невеста, которой было наплевать и на портрет, и на жениха, не то молчаливо допустила эту подмену, не то просто ничего не заметила. Во всяком случае, когда она видела портрет в последний раз у него в мастерской, она ничего не сказала, а только улыбнулась одной половиной лица.
— Ну что ж, неси показывай государыне!
Эту штуку тогда Матвеев проделал с легким сердцем, с наглостью какого-то отчаянья: "Э, все равно!" А сейчас стоял и ждал, чем же это все окончится, и ему было страшно.
Правда, накануне того дня, как ему пришел вызов во дворец для просмотра, к ним заглянул Иван Яковлевич Вишняков. Андрей ему очень обрадовался и, не давая раздеться, потащил в мастерскую, поставил картину на мольберт.
— Ну, гляди, Иван, и говори все, что видишь и думаешь.
Иван Яковлевич долго смотрел, отходил, нагибал голову то влево, то вправо, потом сказал:
— Хорошая картина! Отделка тщательная, колорит выдержан, прилежания и усилий истрачено много! Вот и все. Вольная картина, видать, что писана по охоте, а не по принужденью.
— Ну, спасибо, Иван.
Андрей подошел к нему, чмокнул в жесткую щеку.
Вишняков взглянул на Матвеева, загадочно улыбнулся, спросил:
— Ты что же, хочешь это сдать заместо заказного? Того же Савку, да на других санках, а?
"Раскусил-таки! Вот злыдень! — оцепенело подумал Андрей. — Разгадал, дьявол".
А сказал как ни в чем не бывало с усмешечкой:
— А что? Была не была, хочу спробовать, авось сойдет.
— Гляди, Андрей, одна спробовала — медведя родила, как бы голова твоя с плеч долой не сошла. — Вишняков провел указательным пальцем по горлу.
А сам с гордостью подумал о том, что такому, как Матвеев, художнику все по плечу. Высвободил он все немалые свои силы, оперся на собственные крылья и летит, летит, никто его не остановит… Большую Андрей высоту набрал в художестве, большую!
— Дьявол ты, Андрюха, — сказал Вишняков Матвееву. — Написано нежно, светло, цветно! Все крепко, богатый коричневый фон. Раскатал слой краски, как аглицкое сукно. Увязано в одно, слажено, это ж надо, сущий дьявол! Ну, тащи с богом! Ничего они не раскусят. Сполнено по всей форме и со тщанием. Чего же им еще?!
Меж тем императрица постояла, посмотрела, потом обернулась к герцогу.
А Бирон, или Бирен, а может, и Бюрен, смотрел на картину внимательно и холодно. Андрею казалось — подозрительно. У Бирона был цепкий взгляд знатока. Андрей ощутил укол дурного предчувствия.
"Курляндца не проведешь!"
А Бирон, который кроме лошадей питал тайную слабость к свободным художествам и уважал их, обратился к Андрею:
— Это и есть…
— Так точно, это двойной портрет, ваше высочество… Сие мне и заказывали!
Неожиданно для себя Андрей бойко ответил по-немецки и тут же почтительно поклонился, хотя у него все поджилки дрожали.
Герцог продолжал молча смотреть на картину, словно вслушивался в нее.
Карлица вдруг едва заметно, но все-таки явственно кивнула моляру головкой и подмигнула крошечным, как бусинка, глазком.
"Сойдет, — вдруг мгновенно решил Андрей, — ей-богу сойдет, честное слово, сойдет!"
А карлица скорчила гримасу в спину Бирона и показала ему розовый язык толщиной с палец.
От неожиданности Матвеев хмыкнул носом.
Бирон повернулся к императрице и сделал какое-то незаметное движение. Потом он порывисто подошел к самой картине, присмотрелся к какому-то месту на ней и даже потрогал это место растопыренными пальцами. Он глянул на Матвеева жестким, царапающим взглядом.
"Попался, — застучало у Андрея в висках. — Теперь могила. Если герцог раскусил, унюхал, то ждать от него милости — все равно что от бабы добродетели".
— Так, значит, это двойной портрет, что тебе заказывали к свадьбе принцессы Анны? — спросил Бирон. Его толстый короткий палец указывал на картину, а глаза, темные, страшные, совершенно без зрачков, вопросительно вонзились в моляра.
— Он самый, ваше высочество, это принцесса Анна и принц Антон, — ответил Матвеев, выдерживая взгляд герцога.
Глаза Бирона держали моляра, как когти. И Андрей увидел в них коварную, торжествующую хитрость, но он так и не понял: догадался герцог или только заподозрил?
Матвеев посмотрел на императрицу, потом на Бирона. Она — вся черная, он — весь белый. Оба чужие, холодные. А где-то там, между ними, невидимый и неслышимый, положив голову на лапы, дремал ангел смерти Андрея.
Императрица подошла к креслу и тяжело опустилась в него. Бирон стал рядом.
Андрей искал зацепку спасения.
И тут ему в глаза ударило большое квадратное зеркало на стене над креслом императрицы. Не само даже зеркало, а часть спины императрицы, отраженная в нем. Ее величество как бы вывернули вдруг задней частью вперед.
Андрей сделал полшага влево и сдвинул спину. Теперь она пришлась по центру зеркала. Андрей видел уже целиком широкую, выпуклую, крутую спину с мощными, круглыми плечами и короткой молочно-белой шеей с глубокой впадиной, закрытой кудельками. Художник смотрел на спину цепким взглядом мастера, прикидывающего, как лучше рисовать.
"Бабища! — подумал Андрей с облегчением. — Даром что самодержавная, такой бы в самый раз на Сенной рынок за покупками ездить!"
Восторг перед натурой сделал свое, страх в Андрее понемногу начал растворяться.
— То, что важнее всего дня нас было в этом портрете, как будто есть, — заговорила императрица, — взаимная любовь и согласие… Только сдается мне, что сходство сбилось: что-то Анна вышла на себя не похожа, а? — спросила она, обращаясь к Бирону. — Да и принц тоже…
Герцог молча кивнул головой и пожал плечами:
— Такие портреты делают в разных странах давно. В Нидерландах, во Франции и в Испании. Даже моляры часто малюют сами себя с супругой. Что-то такое, помнится, есть у Ван Рейна и у его светлости Питера Рубенса… Так что…
— Двойной портрет, — повторила императрица задумчиво и значительно, но, кажется, только с тем, чтобы хоть что-нибудь сказать. Она как-то враз сникла и погасла.
В глазах ее уже не было ничего, кроме обычной скуки. Ей все очень быстро надоедало. Сдержку ее падающего настроения мог произвести только герцог.
Бирон снова взял в обе руки руку Анны Иоанновны. И сказал:
— Яхонты-то как блестят…
— Их сиянье, — бойко подхватил Андрей, — и есть тот священный символ слияния двух любящих сердец, коего я более всего добивался!
Матвеев, забыв обо всем, посмотрел на Бирона победно и весело. На его большие коричневые вывернутые уши с пучками черных волос, посмотрел на бычью его шею, на гладкое, холеное лицо. Он уже как-то привык к герцогу. Живоглот-то он живоглот, а так из себя мужчина заметный, чем-то даже привлекательный, не зря же эта… А лютость его от страха и ненависть от страха…
Тут Андрей оборвал себя, а вслух сказал, обращаясь к императрице:
— Ваше великое державство, касательно до портретного сходства, как вы соизволили заметить, и ваша светлость тоже, — обратился он уже и к Бирону с поклоном, — что оно нечаянно сбилось, то смею нижайше заверить со всею моей заботливостью и тщанием, хотел я обратить в оном двойном портрете вниманье на то, из каких тонких материй состоит существо чувствий человеческих.
При этих словах живописца Бирон зловеще ухмыльнулся, но Матвеев уже знал, что останавливаться ему нельзя, и он молол старательно, как добрая голландская мельница:
— Принцесса Анна как женщина не может совладать со своею душой, тогда как принц Антон как мужчина умеет победить всякую страсть умеренной и строгой думой…
Анна Иоанновна слушала живописца с интересом, ее глаза опять ожили, она примеряла слова моляра на себя и на Бирона. Ей нравилось толкование картины, которое давал моляр, еще более, чем сама картина. Она вспомнила, что когда отдала принцессе Анне указание готовиться к свадьбе, та обвила руками ее шею и залилась слезами. И сама императрица тогда заплакала. И теперь ей было приятно об этом думать. "Хорошо быть молодой, готовиться к свадьбе, шить наряды, забываться в мечтах о любовных предметах. Хотя и нет меж Анной и Антоном притяжения взаимности, а вот стоят на картине, как живые, и любят друг друга, и за руки держатся, и в полном согласии… Хорошо бы, чтоб этот же моляр срисовал вот так же и меня с герцогом. Ах, как бы я любила сию картину. Но это невозможно". Государыня горестно вздохнула.
— Мне, вашему рабу нижайшему, — долетел до нее голос моляра, и она стала его слушать, — принцесса виделась как жемчужина всех добродетелей. Я тщился силой своей художества и ремесла передать силу той власти, какую имеет над нами любимый человек.
Анна Иоанновна, услыхав эти слова, многозначительно посмотрела на герцога, а тот улыбнулся ей в ответ и беззлобно подумал: "И что этот моляр басни плетет, ему бы молчать следовало. Принца сделал похожим на себя и заливается". Но герцог видел, что императрица слушает моляра с видимым удовольствием, и решил ему не мешать. Он только хмыкнул и сказал:
— Картина изрядно получилась, только тут они у тебя уж больно оба красивые… — Он слегка покачал головой и добавил: — А принц в особенности!
Сказано это было без осуждения, но с легкой насмешкой. Императрица эту насмешку поняла, а герцог продолжал:
— Таково уж ремесло молярское, видно, ни меры в нем, ни веса нету, и легко сбиться с верного курса.
Тонкие губы герцога дрогнули в еле заметной усмешке.
Затем снова была тишина, страх и ожидание.
Карлица улыбнулась Андрею по-прежнему ласково и спокойно. Императрица взглянула на курносого Матвеева и подумала:
"Как простодушно и славно излагает он смысл картины. Каравакк — тот только надувается, потеет и пыхтит, парик ему на ухо съезжает, а про этого говорили, что он дерзок и гордец, но он же и мастер превеликой, а доброму мастеру можно все простить".
— Ну хорошо, — решила наконец императрица, — мы довольны, и твое усердие будет вознаграждено. — Она протянула Андрею белую, пухлую, по-детски перетянутую ниточкой длань.
Моляр бросился к креслу, рухнул на колени и принял эту длань бережно, как драгоценную святыню, и коснулся ее пересохшими губами.
Потом отполз на несколько шагов и поднял голову. Посмотрел вокруг.
Все улыбались. Андрей встал.
Давно не испытываемое приятное расположение овладело российской государыней.
— Герцог, извольте обрадовать принцессу Анну, что парный портрет вышел удачен.
Бирон кивнул.
А Матвеев сказал неведомо для чего:
— Будет ли высочайше дозволено взять мне сей портрет для внесения в него некоторых исправлений касательно до большего сходства?
— Да, бери! Бери! — вместо императрицы ответил Бирон по-простецки и чуточку раздраженно. Ему это затянувшееся смотренье давно надоело и хотелось скорей попасть в манеж, к любимым лошадям. — Бери, поправь, что тебе — для наилучшего сходства — указали, и немедля доставишь во дворец.
Андрей взял картину и вышел. Он обтер лицо рукавом камзола.
Лоб у него был потный, лицо, как он увидел в зеркало, желтовато-зеленое. От напряга чуть сердце не лопнуло. Он смертельно устал и хотел спать.
Его снова бережно вели по переходам, лестницам и коридорам, по зеркальным полам и залам. Кто-то забегал вперед, двери распахивались, ему кланялись.
Он ничего не видел.
Очнулся Андрей только на крыльце. Дворец сиял огнями.
Моляр набрал полную грудь воздуха, выдохнул и набрал снова. Несколько минут он стоял, закрыв глаза и опустив голову. Потом быстро обернул картину в простыню, завязал накрест веревкой и побрел к воротам.
На карауле при выходе из дворца стоял солдат. Андрей вынул кошель, набитый медью и мелким серебром, и положил у его ног. Тот стоял так же деревянно, не шелохнувшись, приставя мушкет к тяжелому блестящему штиблету.
— Выпей, братец, за господ живописцев!
 ак-то летом случилось такое: поручили петербургскому придворному живописцу Андрею Матвееву поехать в Москву и там наторелых мастеров набрать для всякой искусной работы в царских покоях.
Ходить пришлось много, говорить тоже много, а все же порученье Канцелярии от строений Андрей выполнил добросовестно, не сплоховал, и людей нужных нашел, и о материалах договорился. И даже мастеров самых знатных, как они ни упирались, обломал и убедил.
Дело сделано, можно было и просто так побродить.
Пошел Андрей по Арбату — от площади до Смоленского рынка. Давно ему полюбилась особая прелесть небольших московских улочек. Вот он, Арбат, — неустанный водоворот! И название у него какое-то странное, диковинное даже. То ли от кривизны местности (горбат? так ведь и вся Москва и горбата, и кривоколенна). А может, от татарского еще владычества названье сюда прикипело — от арбы, или перс какой содержал постоялый двор — рабат… Кто что знает? Как бы там ни было, но Арбат вселял в художника бодрость. Уютно зеленели небольшие сады в подворьях за железными оградами и воротами. Толпился народ у Троицкой церкви и у торговых ларьков. Посмотрел Андрей на дам и кавалеров, на простолюдинов, а потом поднялся к Собачьей площадке, сверху вниз поглядел и почувствовал: тут все же не так, как дома, в городе святого Петра. Он, Матвеев, был до мозга костей петербуржец, но в Москве отдыхал душой. То есть истинно счастливым чувствовал он себя оттого только, что хотя на время отдалился от придворной жизни с ее вечным влиянием, суетой и маетой, от всех этих обрыдлых обер-камергеров и статс-дам, от величественных обер-церемониймейстеров и юрких камер-фрейлин, от вельмож и знаков материнского попечения всемилостивейшей императрицы.
Сердце Андрея жило одним художеством, а от всего прочего так оно ожесточалось, так земленело, что не имело уже сил воспарить к горним высотам. А ведь истинное художество только там и пребывает.
И чтоб в себе охранить его, нужно было все одолеть, перешагнуть все печали и неудачи, а вкупе с ними пронырство и завистливое честолюбие, интриги и клеветы. Матвеев знал, что его ремесло никому зла не творит, а меж тем столько на пути лежало рытвин и пропастей, рвов и ямин…
Несколько часов бродил он, любуясь Москвой златоглавой, людной, обителью многих просвещенных и мыслящих людей, умеющих наслаждаться прекрасными твореньями муз.
Вспомнил Андрей с удовольствием, что сходно договорился о покупке тонкого фламандского холста по тринадцати рублев за кусок. Сам директор полотняной фабрики в Москве Иван Тамес обещал Андрею быстро отправить полотно.
Терся Андрей среди шумливой московской черни, от которой за версту бьет крепким запахом пота, лука и табака.
Уже у заставы Калужской присел Андрей на каменный заборчик отдохнуть. На изломе лета солнце греет мало, да и светит совсем не так, как раньше, но все равно тепла его хватает, чтоб камень нагреть.
Хотелось Матвееву средь людей затеряться, молча посидеть и помечтать. Славный град Москва — тут во всем особый дух. Не зря же говорят: что город, то и норов, что человек, то и обычай. В Москве вон и воронье на особый манер летает — как-то боком вперед. Всего-то оно навидалось на длинном своем веку…
Глядит Андрей вокруг, и окрыляется душа его от красоты, куда ни взглянь, всюду глазу художника прибыль. С одной стороны исполинские башни высоченные, с другой — дрожат, сияют, будто движутся в небе, ажурные кресты. Краски вокруг нежные, а на землю тени ложатся лиловые. В старых липах птицы поют.
Почувствовал Андрей себя легко и молодо, как в прежние года. И жизнь показалась ему чистой и безмятежной в своем движенье. Хорошо художнику, когда живет он беззаботно и вольно и глядит на все не холодным, пустым взором, а живыми глазами. И жизнь кажется бесконечной. Тогда забываешь о прошлых невзгодах, когда одним днем живешь.
Московское небо над головой желтое, тугое, как холст на подрамнике. И углы того холста нерушимо закреплены златоверхими куполами.
Чудно все ж тут после невской столицы. Спешит белокаменная, будто калачом ее кто поманил. Никому дела до другого нет. Будни ли, праздники, а на улицах толпы. Камзолы вперемежку с мундирами, с поддевками, армяками, кафтанами. Нищета роскоши в затылок. И особенно на проезжих гвардейцев Андрей засмотрелся. Хороши они: молодые, рослые, в коротких красных штанах и в шерстяных черных шляпах, обшитых белым шнуром. И вышагивают, как гусаки, чинно, ровно, по одной ниточке.
А с полей и болот, что вблизи, тянет в воздухе горькими травами и прелым сеном.
Все, что глаз Андрея выхватывает, — человека, баржу на воде, мелкий розовый облак в небе, — все картина. Все красиво. Так, поди, и не напишешь. А кажется: куда как просто — взял самый дух и выразил его, как твоя душа желает. Станешь к мольберту, возьмешь в руки кисть и задумаешься: ну, а за этим всем что? Что за этим-то, там, внутри, в сути вещей? Красишь-красишь, а все не так. Сухо получается, бедно. Уж сто разов проверил все по живой натуре, фигурам место нашел, и так, и эдак их ставил, а все скверно. Так и бьешься у холста вусмерть. Хочешь открыть самородное по-новому. Об этом-то и есть ревнивая забота художника, чтоб natura naturalis[7] заново засияла, чтоб новые связки найти в красках, по-своему теплое с холодным сочетать. Тут к месту икону вспомнишь, и на голландский манер испробуешь, и на сурового, правдивого Ивана Никитина оглянешься, господина живописца, знатного персонного мастера, обласканного Петром и сосланного Анной Иоанновной в Сибирь. Эх, Иван Никитич, не войти уже в твои новоманерные каменные палаты на Тверской улице. Был живописец, стал колодник. И все мы, художники, колодники — под надзором ли Тайной канцелярии иль под арестом совести своей живем… И удача у нас гость редкий, дорогой. Мило волку теля, да где его взять? Томишься в собственном соку, испреешь весь, пока добьешься в холстинке желанного.
Неведомо от кого сверкнуло в Матвееве — от родной ли матушки, давшей жизнь, от грустной ли березы, что колыбельно под окном качалась и шептала, иль совсем уж от дальних предков-иконописцев пошла по разветвлениям, побежала горячая кровиночка. Бежит себе по живым, тонким, прозрачным стволам и звенит. Родился он художником, художником и помрет. Какой бы удел ему ни выпал — слава или осужденье, почести или забвенье. Бывает, что талант утомляется и состав его гибнет, крошится, на нет исходит. Только это Андрею не грозит. Он о том и не думает, уповая на себя и на господа. Одному богу известно, кого мертвить в художестве, а кого живить. Кого забыть, а кого и на все времена запомнить. У гоф-малера Матвеева Андрея то было только свойство, что весь он к живописи обращен был, всею душой в ней содержался и никогда не гнался, не стремился ухватить власть, деньги или чины.
Знал Андрей крепко одно — чины с художеством враги смертные. Молярство живописное как шило, если в костях засело, так его и из мяса не выколотишь. А чины разрушают в художнике возможность думать…
Трудно жить художником и невыносимо порой. Час работаешь, а день и ночь думаешь о трудах своих. Такая жизнь кому хочешь бедной покажется, работа всю мочь отъедает, на жену не останется. Когда днем чего не доделаешь, так ночью приснится. Вскинешься утром и к холсту, чтоб не дай бог не забыть. А как пишешь, так все тебе в строку идет: и колер какой-нибудь, тому лет пять назад виденный, сгодится, и свет употребишь в картине, запомненный случайно, и раскосость скул какой-нибудь девки в портрет спишешь…
"И впрямь мы, художники, и самое счастливое, и самое несчастное племя на земле, — думал Андрей. — Сколько недоешь, недоспишь, не поживешь, как все. Жить из руки в рот, что заработал, то и проел, тяжко. Денежного запасу никогда нет. И все же в художестве что-то постоянно манит, загораются впереди какие-то неясные огни. Дойдешь до них, а за ними в сумраке жизни новый дальний свет зреет, зовет. И некогда останавливаться. Остановишься — окаменеешь…
И отчего это, — думал он, — когда сам человек захочет стать художником, то он идет с запасом лишнего, что потом сбросит и обнажит свое художество во всей красе — и видишь его ясно, как бабу в каленой бане. Сверкает бриллиантом. А когда человека определят в художники и начнут на ухо лгать, уча рисовать, то всюду так обкорнают, так сомнут живое, костяк так ему обломают, что с фонарем его не сыщешь. Прекратят учить, и уже ничего у него не остается. Какой там бриллиант — одна колкая пыль, мелкота".
ак-то летом случилось такое: поручили петербургскому придворному живописцу Андрею Матвееву поехать в Москву и там наторелых мастеров набрать для всякой искусной работы в царских покоях.
Ходить пришлось много, говорить тоже много, а все же порученье Канцелярии от строений Андрей выполнил добросовестно, не сплоховал, и людей нужных нашел, и о материалах договорился. И даже мастеров самых знатных, как они ни упирались, обломал и убедил.
Дело сделано, можно было и просто так побродить.
Пошел Андрей по Арбату — от площади до Смоленского рынка. Давно ему полюбилась особая прелесть небольших московских улочек. Вот он, Арбат, — неустанный водоворот! И название у него какое-то странное, диковинное даже. То ли от кривизны местности (горбат? так ведь и вся Москва и горбата, и кривоколенна). А может, от татарского еще владычества названье сюда прикипело — от арбы, или перс какой содержал постоялый двор — рабат… Кто что знает? Как бы там ни было, но Арбат вселял в художника бодрость. Уютно зеленели небольшие сады в подворьях за железными оградами и воротами. Толпился народ у Троицкой церкви и у торговых ларьков. Посмотрел Андрей на дам и кавалеров, на простолюдинов, а потом поднялся к Собачьей площадке, сверху вниз поглядел и почувствовал: тут все же не так, как дома, в городе святого Петра. Он, Матвеев, был до мозга костей петербуржец, но в Москве отдыхал душой. То есть истинно счастливым чувствовал он себя оттого только, что хотя на время отдалился от придворной жизни с ее вечным влиянием, суетой и маетой, от всех этих обрыдлых обер-камергеров и статс-дам, от величественных обер-церемониймейстеров и юрких камер-фрейлин, от вельмож и знаков материнского попечения всемилостивейшей императрицы.
Сердце Андрея жило одним художеством, а от всего прочего так оно ожесточалось, так земленело, что не имело уже сил воспарить к горним высотам. А ведь истинное художество только там и пребывает.
И чтоб в себе охранить его, нужно было все одолеть, перешагнуть все печали и неудачи, а вкупе с ними пронырство и завистливое честолюбие, интриги и клеветы. Матвеев знал, что его ремесло никому зла не творит, а меж тем столько на пути лежало рытвин и пропастей, рвов и ямин…
Несколько часов бродил он, любуясь Москвой златоглавой, людной, обителью многих просвещенных и мыслящих людей, умеющих наслаждаться прекрасными твореньями муз.
Вспомнил Андрей с удовольствием, что сходно договорился о покупке тонкого фламандского холста по тринадцати рублев за кусок. Сам директор полотняной фабрики в Москве Иван Тамес обещал Андрею быстро отправить полотно.
Терся Андрей среди шумливой московской черни, от которой за версту бьет крепким запахом пота, лука и табака.
Уже у заставы Калужской присел Андрей на каменный заборчик отдохнуть. На изломе лета солнце греет мало, да и светит совсем не так, как раньше, но все равно тепла его хватает, чтоб камень нагреть.
Хотелось Матвееву средь людей затеряться, молча посидеть и помечтать. Славный град Москва — тут во всем особый дух. Не зря же говорят: что город, то и норов, что человек, то и обычай. В Москве вон и воронье на особый манер летает — как-то боком вперед. Всего-то оно навидалось на длинном своем веку…
Глядит Андрей вокруг, и окрыляется душа его от красоты, куда ни взглянь, всюду глазу художника прибыль. С одной стороны исполинские башни высоченные, с другой — дрожат, сияют, будто движутся в небе, ажурные кресты. Краски вокруг нежные, а на землю тени ложатся лиловые. В старых липах птицы поют.
Почувствовал Андрей себя легко и молодо, как в прежние года. И жизнь показалась ему чистой и безмятежной в своем движенье. Хорошо художнику, когда живет он беззаботно и вольно и глядит на все не холодным, пустым взором, а живыми глазами. И жизнь кажется бесконечной. Тогда забываешь о прошлых невзгодах, когда одним днем живешь.
Московское небо над головой желтое, тугое, как холст на подрамнике. И углы того холста нерушимо закреплены златоверхими куполами.
Чудно все ж тут после невской столицы. Спешит белокаменная, будто калачом ее кто поманил. Никому дела до другого нет. Будни ли, праздники, а на улицах толпы. Камзолы вперемежку с мундирами, с поддевками, армяками, кафтанами. Нищета роскоши в затылок. И особенно на проезжих гвардейцев Андрей засмотрелся. Хороши они: молодые, рослые, в коротких красных штанах и в шерстяных черных шляпах, обшитых белым шнуром. И вышагивают, как гусаки, чинно, ровно, по одной ниточке.
А с полей и болот, что вблизи, тянет в воздухе горькими травами и прелым сеном.
Все, что глаз Андрея выхватывает, — человека, баржу на воде, мелкий розовый облак в небе, — все картина. Все красиво. Так, поди, и не напишешь. А кажется: куда как просто — взял самый дух и выразил его, как твоя душа желает. Станешь к мольберту, возьмешь в руки кисть и задумаешься: ну, а за этим всем что? Что за этим-то, там, внутри, в сути вещей? Красишь-красишь, а все не так. Сухо получается, бедно. Уж сто разов проверил все по живой натуре, фигурам место нашел, и так, и эдак их ставил, а все скверно. Так и бьешься у холста вусмерть. Хочешь открыть самородное по-новому. Об этом-то и есть ревнивая забота художника, чтоб natura naturalis[7] заново засияла, чтоб новые связки найти в красках, по-своему теплое с холодным сочетать. Тут к месту икону вспомнишь, и на голландский манер испробуешь, и на сурового, правдивого Ивана Никитина оглянешься, господина живописца, знатного персонного мастера, обласканного Петром и сосланного Анной Иоанновной в Сибирь. Эх, Иван Никитич, не войти уже в твои новоманерные каменные палаты на Тверской улице. Был живописец, стал колодник. И все мы, художники, колодники — под надзором ли Тайной канцелярии иль под арестом совести своей живем… И удача у нас гость редкий, дорогой. Мило волку теля, да где его взять? Томишься в собственном соку, испреешь весь, пока добьешься в холстинке желанного.
Неведомо от кого сверкнуло в Матвееве — от родной ли матушки, давшей жизнь, от грустной ли березы, что колыбельно под окном качалась и шептала, иль совсем уж от дальних предков-иконописцев пошла по разветвлениям, побежала горячая кровиночка. Бежит себе по живым, тонким, прозрачным стволам и звенит. Родился он художником, художником и помрет. Какой бы удел ему ни выпал — слава или осужденье, почести или забвенье. Бывает, что талант утомляется и состав его гибнет, крошится, на нет исходит. Только это Андрею не грозит. Он о том и не думает, уповая на себя и на господа. Одному богу известно, кого мертвить в художестве, а кого живить. Кого забыть, а кого и на все времена запомнить. У гоф-малера Матвеева Андрея то было только свойство, что весь он к живописи обращен был, всею душой в ней содержался и никогда не гнался, не стремился ухватить власть, деньги или чины.
Знал Андрей крепко одно — чины с художеством враги смертные. Молярство живописное как шило, если в костях засело, так его и из мяса не выколотишь. А чины разрушают в художнике возможность думать…
Трудно жить художником и невыносимо порой. Час работаешь, а день и ночь думаешь о трудах своих. Такая жизнь кому хочешь бедной покажется, работа всю мочь отъедает, на жену не останется. Когда днем чего не доделаешь, так ночью приснится. Вскинешься утром и к холсту, чтоб не дай бог не забыть. А как пишешь, так все тебе в строку идет: и колер какой-нибудь, тому лет пять назад виденный, сгодится, и свет употребишь в картине, запомненный случайно, и раскосость скул какой-нибудь девки в портрет спишешь…
"И впрямь мы, художники, и самое счастливое, и самое несчастное племя на земле, — думал Андрей. — Сколько недоешь, недоспишь, не поживешь, как все. Жить из руки в рот, что заработал, то и проел, тяжко. Денежного запасу никогда нет. И все же в художестве что-то постоянно манит, загораются впереди какие-то неясные огни. Дойдешь до них, а за ними в сумраке жизни новый дальний свет зреет, зовет. И некогда останавливаться. Остановишься — окаменеешь…
И отчего это, — думал он, — когда сам человек захочет стать художником, то он идет с запасом лишнего, что потом сбросит и обнажит свое художество во всей красе — и видишь его ясно, как бабу в каленой бане. Сверкает бриллиантом. А когда человека определят в художники и начнут на ухо лгать, уча рисовать, то всюду так обкорнают, так сомнут живое, костяк так ему обломают, что с фонарем его не сыщешь. Прекратят учить, и уже ничего у него не остается. Какой там бриллиант — одна колкая пыль, мелкота".
 спыхнула у Андрея в памяти приговорочка карусельная: "Уж ты ль, моя красная краса, русая коса, тридцати братов сестра, сорока бабушек внучка, трехматерина дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепелочка!"
У них на Новгородщине подобное устраивали. Бывало, спустится молодежь к Вишере-реке, пробьют во льду прорубь круглую, в нее кол всадят, а на кол прилаживают колесо от телеги. Между спиц колеса оглобли вставляют, а к концам сани прикрепят. Парни вертят самокат, а девушки с замирающими сердцами весело кружатся по льду. И ребятня к ним на руки на ходу запрыгивает, срывается, верещит, падает, взвизгивает.
Счастье юности нахлынуло на Андрея. Умилением, безмятежностью потянуло из тех лет. И щемящею утратой. Догони, возврати свою молодость! Да попробуй-ка! Нет дорог к невозвратному. И давно же это было! Счастие, мечта… А может, и недавно.
Сошел Андрей с каруселя, неподвижно стал в сторонке. Оставил глазам узкие щелки, сложил пальцы, глянул в кулак — все художники так издавна глядят, чтобы уединиться от всего остального, увидеть несколько дальше, охватить целиком.
Андрей видел в кулак кус неба, клочок каруселя, золотые отблески солнца. Вот она, картина, у него в кулаке, она собирается — просто, ясно. И сильное движение, и свет, и цвет. Уберешь кулак, приставишь снова — опять готовая картина выткалась. Никогда виденное не будило в Андрее такой печали по несделанному. Ну как можно было до сих пор такое не написать! Будто проходило несметное богатство мимо рук и само просилось: "Возьми! На!" А он и бровью не повел. Дурень дурнем, какой тут спрос? Да, многое из давно задуманного не свершено, все некогда, все некогда, все недосуг. То одно, то другое. Проходит земной чудный сон, жизнь на убыль, и все меньше ростом струя родника, что бьет из души. Двор заказами рвет его, а если соберешь картину в голове да не напишешь, так она на мелкие куски рассыплется.
До любимых портретов не доберешься взяться, когда еще задумал Андрей списать несколько парных подобных Голицыным, начал, да на середине и бросил. А куда как интересно рисовать с моделя, с живого человека!
"Баста, хватит отлынивать, приеду и напишу два портрета непременно, хоть трава не расти. А то и неча было рядиться, людей зря морочил. Глаголано есть, должно быть и намалевано".
А народ увязчивый прет к каруселю, хлебом не корми, только волю душе полную дай! На то, видать, русский человек и рожден, всю жизнь готов он в один миг прожить, только чтобы во всю ивановскую гудело, гулять, так до упаду — об этом кровь его вопиет на небо.
Увидел вдруг Матвеев — статной молодухе ногу в толчее отдавили. Захромала она и то плачет, то смеется. Поглядел художник на лицо ее фарфоровое. Пожалел. А девке некуда деться, утерлась головным платком, и дальше ее толпа понесла.
Старается кружильница, встряхивает души и тела, от восторга у многих глаза на лоб выкатываются. А сиденья в каруселе добрые, фигурные: заморские львы, белая лебедь-птица с распластанными крыльями, разные амуры с воздетыми руками и карлы с оскаленными зубьями. Да так все искусно нарезано — любо глядеть. "Дивный мастер какой-то сработал, ишь сукин сын — надо бы имя-фамилью узнать, — думает Матвеев, — может сгодиться".
Глядит живописец, пропитывается виденным, как сахар водой, ничего от зренья его не утаивается. Ни одной крупицы. Так-то видеть все цельно и враз, кроме художника, кто сможет? Разве только стрекозы. И до чего же звонкая палитра красок в этом народном каруселе!
Люди и недвижимость в розовом мареве заходящего солнца расцвечены на особый лад — тут тебе и пурпурный, и желтый, и фиолетовый. Затосковал Андрей по работе, по кистям и краскам. Ему больше открывается в увиденном, полнее и ярче. Художнику и в дереве простом почудятся вдруг райские кущи и царство небесное. На то он и живет воображеньем, домыслом, фантазией и догадкой. Волшебные сны наяву смотрит!
Иному служивому человеку невдомек: и чего с этими художниками носятся, при дворе содержат, деньги немалые отваливают, от повинностей освобождают?! Заставить бы всю ихнюю братию-шатию землю копать, пусть-ка попляшут, жилы порвут. А то они вечно пьют, гуляют, бабьи угодники, и жрут хлеб задарма. И то сказать: о пользах художества здраво судить не многие могут. Те только, кого бог живым разумом снабдил. Бытие земное тленно. Это так, а художество вечно. Сколько художников в землю сойдет, а содеянное-то останется! Картины останутся. Память останется. Чье сердце каменное не шевельнется от этой мысли! Способность жизни человеческой от художества умножается. Как этого-то не понять? Ведь художник на белом свете — подарок, редкая удача. Даже самый непутевый творец на сто голов выше любого государева чиновника…
Прут к каруселю обоего пола люди. Но все же девок и баб много больше. У них потребность к игрищу карусельному захватистей. Прорвутся на круг — обо всем позабудут. Глаза закатят, и сосцы у них под сарафанами торчмя торчат. У них в теле куражу куда больше, чем в голове!
Ан денек-то кончается. Над столетними липами в парке воронье кружит, у них там свой карусель!
Перед вечером с заливных замоскворецких лугов тянет свежестью. Бежит-торопится карусельный самокат — кружит баб и мужиков до полного затемнения памяти.
А в верхней части шатра, под самой крышей парусиновой, — тесное, узкое помещенье, пропитанное горячим потом. Четверо вертунов бегают, крутят бревенчатую звезду шатра — карусельный шкилет. Вертуны — самое сердце каруселя. Они отдыха не знают. От утра и до позднего вечера, пока стемнеет, бегут они так друг за дружкой.
Откинув полу шатра, сощурившись после темноты на яркий свет, выглянул оттуда человек, мокрый от натуги, с лицом, налитым тяжелой кровью. До пояса оголенный, с густою черною бородой, стал он на верхней площадке прямо, и длинные руки чуть до колен не достали. Смахнул вертун пот с лица, утерся ладонью, огладил бороду и вздохнул полной грудью.
Во всей фигуре его, в том, как стоял, набыча лохматую голову, что-то ужасающе знакомое Андрею почудилось. Он вытаращил глаза, глядел на вертуна, словно чего-то ждал, прикованный к месту. Вертун был вылитый Лёха Степанов, закадычный Андреев друг, что обретался раньше в команде живописной науки у Матвеева. Вместе они писали картины и "эмблематы" для триумфальных ворот, которые к пришествию императрицы были поставлены на Адмиралтейском острову, на прешпективной дороге. А сколько пота с них сошло при разных других живописных работах и у написания икон в святую церковь праведного Симеона Богоприимца и святыя Анны Пророчицы! Дивную церковь поставил русский архитектор Михайло Земцов.
Андрея от неимоверного сходства вертуна с Лёхой под ребро кольнуло, и холод по спине потек. А вертун зыркнул вниз, на толпу, еще раз глубоко втянул в себя воздух, потер грудь кулаком и скользнул взглядом по тому месту, где Матвеев стоял.
В этот миг кто-то толкнул Андрея:
— Слышь, мил друг, табачку не уделишь?
Стоял пред ним порядочно хмельной старик со свернутым набок носом.
— Да нету табачку! — отмахнулся Андрей от него. — Не курю.
А вертун у себя наверху как-то весь замер, окаменел, но тут же и шагнул боком обратно под шатер. Андрей взглянул туда — на площадке никого уж нет. Ошеломленный видением этим, стоял Андрей и все же не спускал глаз с площадки. Ему стало не по себе. В пот бросило. Не каждый день так въявь встречаются те, кого давно в покойниках числят.
Андрей подумал, что в чужом городе все может статься, даже наважденье. Он скрестил пальцы и три раза поплевал, приговаривая: "Свят-свят! Чур меня! Чур меня!"
Теперь, когда вертуна на прежнем месте не было, он уже иначе стоял перед глазами художника. То была теперь персона в картине, мираж, облаченный в живую плоть. Андрей прикидывал к призрачной фигуре самый натуральный фон. И вспомнил картину Брейгеля Питера "Иоанн на Патмосе". А что, сделать бы этого вертуна с Лёхиным лицом тож с крыльями! И складывал Матвеев картину в уме, так увлекся, обо всем позабыл. Минута истинного наслаждения для него была, когда полон был диким стремленьем души, подымающейся туда, куда никому доступа не было из земных.
Кабы знал Андрей, кабы ведал! Ах ты господи, святая воля! Кто был смутно виденный силуэт на московском небе, кто состоял вертуном при калужском веселом каруселе?
Людей на земле эвон сколько, пройти негде. Так и кажется, один человек уйдет — ничего не изменится. Ан нет, ушел человек — и дыра образовалась. И никто-никтошеньки его не заменит ни в жизнь. Вот не стало Лёхи рядом — и пусто. И чем дальше, тем больше пустоты. И никем дыра та проклятая не заполняется. Хоть лопни! И кто скажет, как надо жить? Любой ошибется. Почему-то всегда люди одни и те же ошибки вершат. Думаешь, голова? Думай! Дум много, голова одна…
Зрелище каруселя, возбудившее в Андрее поначалу неописуемый восторг, привело его теперь, после встречи с вертуном, похожим на старого друга, в печаль и смятенье. Душевное опьянение улетучилось незнамо куда, взгляд потух. Даже лицо у художника спало, и под глазами вышли синие круги. Андрей не знал, что ему делать. Есть? Не тянуло, значит, сыт. Уходить? Было некуда, незачем, да и не хотелось. Андрей создан был живописцем, но когда краски меркли, жизнь становилась мелкой и ненужной. Белое в белом, серое в сером, белое в сером — загадки нет… Хотелось выть.
Как не стало Лёхи, так что-то большое от жизни отпало. Такой мастер был, а сгинул нипочем, зря. Как в воду канул. Город весь тогда перерыли, кабаки обшарили — не нашли. В толк не могли взять, куда подевался, не иголка же. Так и осталось по сию пору загадкой — ушел из дому и растаял, как дух. Был человек и бесследно исчез.
Ну, нарывался он, это было. Особливо по пьяному делу. Сколько раз выручать его приходилось из всевозможных историй. Лез Лёха на рожон, во всем меру переходил, ввязывался в драки. Живописцы говорили Матвееву: "Гляди, Андрей, хорошим Лёха не кончит, нарвется где-либо на пулю или нож, приглядывать за ним надо бы. Как бы худа не вышло…"
Да где там приглянешь? На себя оборотиться некогда. Живописная команда, заказы, дети, дом, жена, ученики — все на нем. Постоянные срочности у всяких ея императорского величества живописных дел. Как пришел Лёха в живописную команду к Матвееву, положили ему получать шестьдесят рублев в год и двадцать пять юфтей муки и овса. А через два года добился Андрей для Лёхи нового оклада — в полтораста рублей.
Канцелярия от строений поручила тогда Матвееву и архитекторам Трезини и Земцову освидетельствовать художество Степанова, как живописное, так и в золочении, при которых он обретался.
Андрей Матвеев и архитекторы Трезини и Земцов донесли в Канцелярию от строений, что Лексей Степанов "в живописной работе и в заданных ему гисториях, как божественных, так светских, за обыкновение справлять может без нужды, в золотарном же как на полюмент золотом и серебром и поталью преизрядно превзошел, и золочение его явилось лучше иноземческого, как доброму и искусному мастеру надлежит". И Лёха стал получать новый оклад, но пить не бросил.
Раз, после сильного запоя, в смертельной тоске в петлю полез. Еле отходили его тесть да жена…
Однако ж и после того был Лёха полон смятенья. Большего, чем имел, жаждал он, что ли? Места не мог себе найти. И что ему нужно было? Живи да трудись. Или хотел лучшею кистью России прослыть, славу первого живописца снискать, первенство его чтоб признали? Кто его знает…
Такие, как Лёха, всегда себя до предела доводят. Однажды он сознался Андрею:
— Мне цыганка нагадала, что умру молодым от пули. Я спросил ее: "А что, войне быть?" — "Нет, говорит, войны не будет, а только умрешь от пули, так карта показывает…"
Жил он, казнил сердце свое, ждал смерти за самому неведомые грехи. А после и сгинул. И по сию пору больно было Андрею. Сколько они всего переделали вместе! Иконы писали, картины малевали, опочивальню государыне разделывали, модели и рисунки сочиняли. Всего не перечтешь. И разом все оборвалось. А ведь редкий был человек и живописец был удивительный. Да что кому надо! И дела до этого никому не было… Только Андрей сам не свой ходил да живописных художеств мастер Иван Яковлев сын Вишняков сокрушался…
Не мог поверить себе Андрей, что мужик, похожий на друга пропавшего, был воистину Лёха Степанов. Жив-живехонек, хотя без малого семь годов в неживых числился. Только сам Лёха и знал, как жил эти годы. Как мыкался. Чего только не испытал в бродягах! И послушником в монастыре был, и кузнецом работал, и камень грузил, и землю носил, а все для того только, чтоб лакейство придворное из себя вытравить. Так и сяк мотало его, а ныне к Москве прибило. Нарезал Лёха фигур знатных деревянных у калужского каруселя, расписал их, вывески исполнил. Как до художества любимого дорвался — за уши не оторвать. Дивился тому хозяин каруселя, не приходилось ему видеть такое доброе и искусное мастерство, что прямо на глазах его нарождалось. Так возрадовался хозяин, что против учиненного договора двойной платы не пожалел. А Лёха все пропил, прогулял, да еще и вдобавок буянство у каруселя устроил. И стал тогда в вертуны проситься. А хозяину что? Не устала кобыла, что до Киева сходила, так и верти себе на здоровье!
В живописной команде Матвеев с Лёхой крепко сдружился. Обретались они у одних живописных работ, зависимы были от двора полностью, были бедны одинаково, и в силу этого нужно было крутиться волчком. Матвеев относился к ремеслу своему с почтеньем. Когда требовали, старательно накладывал румяна, терпеливо выполнял прихоти, следовал шаблонам и прописям иноземным. Он знал твердо: есть ремесло и есть художество настоящею ценою. И то, и другое чтилось. Только первому больше предпочтенья.
Андрей выполнял требуемое усердно и хорошо. Крепок был духом. А Лёха бесился, куролесил, пил, выказывал нерачение и непослушанье. Матвеев покрывал его, сколько мог, выгораживал, но иногда терпенье Канцелярии от строений истощалось, и она приказывала: "Означенного живописца Лексея Степанова за вышеописанное пианство близ месяца в кузнечной и прочей работе содержать, а в каком порядке и поступках он находиться будет, в Канцелярию рапортовать".
Любил Лёха приговаривать: землица российская сложная, трудная, а жизнь наша тоскливая, нудная. Доходил до отчаяния, взбрыкивая, и убеждал надрывно себя, что не живописный он мастер, а обер-лакей при дворе. Не мог он, как Андрей, любой заказ старательно работать. Матвееву дай роспись — сделает бессловесно, плафоны распишет в срок, украшение панелей во дворцах, золочение, персон знатных — извольте, расписание внутри триумфальных ворот на Троицкой пристани и в церкви святых апостолов Петра и Павла — готово!
Более всего любил Андрей портреты списывать, его хлебом не корми, дай только до персоны дорваться, тут уж он все свое прилежание и умение употребит и живописную науку со всем тщаниемприменить сумеет. Ему и вольготно, и радостно. Одна забота — достигнуть божественного изображенья души человеческой.
Матвеев все сносил, бывали и у него буйства, но никто их не видел. Сколько раз, придя к себе в мастерскую, сбрасывал Матвеев на пол парадный камзол, срывал с головы парик и топтал их и тер ногами в бессильной злобе. Потом приходил в себя от такого азарта, выпивал чарку водки и становился с бледным, изможденным лицом к мольберту.
Проходило немного времени — Андрей обо всем забывал, начинал напевать себе под нос и насвистывать, а то и вовсе смеялся счастливым смехом. Глядел на свою "Аллегорию живописи", на которой сзади было подписано: "Тщанием Андрея Матвеева в 1725 году". Дивился, сколько доброты было в этой его старой ученической картине. Да и хорошо, что была в нем самом доброта, потому и в картины переходила.
Давно известно: злоба художеству плохая попутчица!
Для Лёхи же толчки и приказы непосильны были, нагрузки художества он не снес, плюнул себе под ноги и сбежал ото всего разом. От дома, от двора, от семьи, от живописи. А почему его жизнь такой вывих дала — и сам того не знал.
спыхнула у Андрея в памяти приговорочка карусельная: "Уж ты ль, моя красная краса, русая коса, тридцати братов сестра, сорока бабушек внучка, трехматерина дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепелочка!"
У них на Новгородщине подобное устраивали. Бывало, спустится молодежь к Вишере-реке, пробьют во льду прорубь круглую, в нее кол всадят, а на кол прилаживают колесо от телеги. Между спиц колеса оглобли вставляют, а к концам сани прикрепят. Парни вертят самокат, а девушки с замирающими сердцами весело кружатся по льду. И ребятня к ним на руки на ходу запрыгивает, срывается, верещит, падает, взвизгивает.
Счастье юности нахлынуло на Андрея. Умилением, безмятежностью потянуло из тех лет. И щемящею утратой. Догони, возврати свою молодость! Да попробуй-ка! Нет дорог к невозвратному. И давно же это было! Счастие, мечта… А может, и недавно.
Сошел Андрей с каруселя, неподвижно стал в сторонке. Оставил глазам узкие щелки, сложил пальцы, глянул в кулак — все художники так издавна глядят, чтобы уединиться от всего остального, увидеть несколько дальше, охватить целиком.
Андрей видел в кулак кус неба, клочок каруселя, золотые отблески солнца. Вот она, картина, у него в кулаке, она собирается — просто, ясно. И сильное движение, и свет, и цвет. Уберешь кулак, приставишь снова — опять готовая картина выткалась. Никогда виденное не будило в Андрее такой печали по несделанному. Ну как можно было до сих пор такое не написать! Будто проходило несметное богатство мимо рук и само просилось: "Возьми! На!" А он и бровью не повел. Дурень дурнем, какой тут спрос? Да, многое из давно задуманного не свершено, все некогда, все некогда, все недосуг. То одно, то другое. Проходит земной чудный сон, жизнь на убыль, и все меньше ростом струя родника, что бьет из души. Двор заказами рвет его, а если соберешь картину в голове да не напишешь, так она на мелкие куски рассыплется.
До любимых портретов не доберешься взяться, когда еще задумал Андрей списать несколько парных подобных Голицыным, начал, да на середине и бросил. А куда как интересно рисовать с моделя, с живого человека!
"Баста, хватит отлынивать, приеду и напишу два портрета непременно, хоть трава не расти. А то и неча было рядиться, людей зря морочил. Глаголано есть, должно быть и намалевано".
А народ увязчивый прет к каруселю, хлебом не корми, только волю душе полную дай! На то, видать, русский человек и рожден, всю жизнь готов он в один миг прожить, только чтобы во всю ивановскую гудело, гулять, так до упаду — об этом кровь его вопиет на небо.
Увидел вдруг Матвеев — статной молодухе ногу в толчее отдавили. Захромала она и то плачет, то смеется. Поглядел художник на лицо ее фарфоровое. Пожалел. А девке некуда деться, утерлась головным платком, и дальше ее толпа понесла.
Старается кружильница, встряхивает души и тела, от восторга у многих глаза на лоб выкатываются. А сиденья в каруселе добрые, фигурные: заморские львы, белая лебедь-птица с распластанными крыльями, разные амуры с воздетыми руками и карлы с оскаленными зубьями. Да так все искусно нарезано — любо глядеть. "Дивный мастер какой-то сработал, ишь сукин сын — надо бы имя-фамилью узнать, — думает Матвеев, — может сгодиться".
Глядит живописец, пропитывается виденным, как сахар водой, ничего от зренья его не утаивается. Ни одной крупицы. Так-то видеть все цельно и враз, кроме художника, кто сможет? Разве только стрекозы. И до чего же звонкая палитра красок в этом народном каруселе!
Люди и недвижимость в розовом мареве заходящего солнца расцвечены на особый лад — тут тебе и пурпурный, и желтый, и фиолетовый. Затосковал Андрей по работе, по кистям и краскам. Ему больше открывается в увиденном, полнее и ярче. Художнику и в дереве простом почудятся вдруг райские кущи и царство небесное. На то он и живет воображеньем, домыслом, фантазией и догадкой. Волшебные сны наяву смотрит!
Иному служивому человеку невдомек: и чего с этими художниками носятся, при дворе содержат, деньги немалые отваливают, от повинностей освобождают?! Заставить бы всю ихнюю братию-шатию землю копать, пусть-ка попляшут, жилы порвут. А то они вечно пьют, гуляют, бабьи угодники, и жрут хлеб задарма. И то сказать: о пользах художества здраво судить не многие могут. Те только, кого бог живым разумом снабдил. Бытие земное тленно. Это так, а художество вечно. Сколько художников в землю сойдет, а содеянное-то останется! Картины останутся. Память останется. Чье сердце каменное не шевельнется от этой мысли! Способность жизни человеческой от художества умножается. Как этого-то не понять? Ведь художник на белом свете — подарок, редкая удача. Даже самый непутевый творец на сто голов выше любого государева чиновника…
Прут к каруселю обоего пола люди. Но все же девок и баб много больше. У них потребность к игрищу карусельному захватистей. Прорвутся на круг — обо всем позабудут. Глаза закатят, и сосцы у них под сарафанами торчмя торчат. У них в теле куражу куда больше, чем в голове!
Ан денек-то кончается. Над столетними липами в парке воронье кружит, у них там свой карусель!
Перед вечером с заливных замоскворецких лугов тянет свежестью. Бежит-торопится карусельный самокат — кружит баб и мужиков до полного затемнения памяти.
А в верхней части шатра, под самой крышей парусиновой, — тесное, узкое помещенье, пропитанное горячим потом. Четверо вертунов бегают, крутят бревенчатую звезду шатра — карусельный шкилет. Вертуны — самое сердце каруселя. Они отдыха не знают. От утра и до позднего вечера, пока стемнеет, бегут они так друг за дружкой.
Откинув полу шатра, сощурившись после темноты на яркий свет, выглянул оттуда человек, мокрый от натуги, с лицом, налитым тяжелой кровью. До пояса оголенный, с густою черною бородой, стал он на верхней площадке прямо, и длинные руки чуть до колен не достали. Смахнул вертун пот с лица, утерся ладонью, огладил бороду и вздохнул полной грудью.
Во всей фигуре его, в том, как стоял, набыча лохматую голову, что-то ужасающе знакомое Андрею почудилось. Он вытаращил глаза, глядел на вертуна, словно чего-то ждал, прикованный к месту. Вертун был вылитый Лёха Степанов, закадычный Андреев друг, что обретался раньше в команде живописной науки у Матвеева. Вместе они писали картины и "эмблематы" для триумфальных ворот, которые к пришествию императрицы были поставлены на Адмиралтейском острову, на прешпективной дороге. А сколько пота с них сошло при разных других живописных работах и у написания икон в святую церковь праведного Симеона Богоприимца и святыя Анны Пророчицы! Дивную церковь поставил русский архитектор Михайло Земцов.
Андрея от неимоверного сходства вертуна с Лёхой под ребро кольнуло, и холод по спине потек. А вертун зыркнул вниз, на толпу, еще раз глубоко втянул в себя воздух, потер грудь кулаком и скользнул взглядом по тому месту, где Матвеев стоял.
В этот миг кто-то толкнул Андрея:
— Слышь, мил друг, табачку не уделишь?
Стоял пред ним порядочно хмельной старик со свернутым набок носом.
— Да нету табачку! — отмахнулся Андрей от него. — Не курю.
А вертун у себя наверху как-то весь замер, окаменел, но тут же и шагнул боком обратно под шатер. Андрей взглянул туда — на площадке никого уж нет. Ошеломленный видением этим, стоял Андрей и все же не спускал глаз с площадки. Ему стало не по себе. В пот бросило. Не каждый день так въявь встречаются те, кого давно в покойниках числят.
Андрей подумал, что в чужом городе все может статься, даже наважденье. Он скрестил пальцы и три раза поплевал, приговаривая: "Свят-свят! Чур меня! Чур меня!"
Теперь, когда вертуна на прежнем месте не было, он уже иначе стоял перед глазами художника. То была теперь персона в картине, мираж, облаченный в живую плоть. Андрей прикидывал к призрачной фигуре самый натуральный фон. И вспомнил картину Брейгеля Питера "Иоанн на Патмосе". А что, сделать бы этого вертуна с Лёхиным лицом тож с крыльями! И складывал Матвеев картину в уме, так увлекся, обо всем позабыл. Минута истинного наслаждения для него была, когда полон был диким стремленьем души, подымающейся туда, куда никому доступа не было из земных.
Кабы знал Андрей, кабы ведал! Ах ты господи, святая воля! Кто был смутно виденный силуэт на московском небе, кто состоял вертуном при калужском веселом каруселе?
Людей на земле эвон сколько, пройти негде. Так и кажется, один человек уйдет — ничего не изменится. Ан нет, ушел человек — и дыра образовалась. И никто-никтошеньки его не заменит ни в жизнь. Вот не стало Лёхи рядом — и пусто. И чем дальше, тем больше пустоты. И никем дыра та проклятая не заполняется. Хоть лопни! И кто скажет, как надо жить? Любой ошибется. Почему-то всегда люди одни и те же ошибки вершат. Думаешь, голова? Думай! Дум много, голова одна…
Зрелище каруселя, возбудившее в Андрее поначалу неописуемый восторг, привело его теперь, после встречи с вертуном, похожим на старого друга, в печаль и смятенье. Душевное опьянение улетучилось незнамо куда, взгляд потух. Даже лицо у художника спало, и под глазами вышли синие круги. Андрей не знал, что ему делать. Есть? Не тянуло, значит, сыт. Уходить? Было некуда, незачем, да и не хотелось. Андрей создан был живописцем, но когда краски меркли, жизнь становилась мелкой и ненужной. Белое в белом, серое в сером, белое в сером — загадки нет… Хотелось выть.
Как не стало Лёхи, так что-то большое от жизни отпало. Такой мастер был, а сгинул нипочем, зря. Как в воду канул. Город весь тогда перерыли, кабаки обшарили — не нашли. В толк не могли взять, куда подевался, не иголка же. Так и осталось по сию пору загадкой — ушел из дому и растаял, как дух. Был человек и бесследно исчез.
Ну, нарывался он, это было. Особливо по пьяному делу. Сколько раз выручать его приходилось из всевозможных историй. Лез Лёха на рожон, во всем меру переходил, ввязывался в драки. Живописцы говорили Матвееву: "Гляди, Андрей, хорошим Лёха не кончит, нарвется где-либо на пулю или нож, приглядывать за ним надо бы. Как бы худа не вышло…"
Да где там приглянешь? На себя оборотиться некогда. Живописная команда, заказы, дети, дом, жена, ученики — все на нем. Постоянные срочности у всяких ея императорского величества живописных дел. Как пришел Лёха в живописную команду к Матвееву, положили ему получать шестьдесят рублев в год и двадцать пять юфтей муки и овса. А через два года добился Андрей для Лёхи нового оклада — в полтораста рублей.
Канцелярия от строений поручила тогда Матвееву и архитекторам Трезини и Земцову освидетельствовать художество Степанова, как живописное, так и в золочении, при которых он обретался.
Андрей Матвеев и архитекторы Трезини и Земцов донесли в Канцелярию от строений, что Лексей Степанов "в живописной работе и в заданных ему гисториях, как божественных, так светских, за обыкновение справлять может без нужды, в золотарном же как на полюмент золотом и серебром и поталью преизрядно превзошел, и золочение его явилось лучше иноземческого, как доброму и искусному мастеру надлежит". И Лёха стал получать новый оклад, но пить не бросил.
Раз, после сильного запоя, в смертельной тоске в петлю полез. Еле отходили его тесть да жена…
Однако ж и после того был Лёха полон смятенья. Большего, чем имел, жаждал он, что ли? Места не мог себе найти. И что ему нужно было? Живи да трудись. Или хотел лучшею кистью России прослыть, славу первого живописца снискать, первенство его чтоб признали? Кто его знает…
Такие, как Лёха, всегда себя до предела доводят. Однажды он сознался Андрею:
— Мне цыганка нагадала, что умру молодым от пули. Я спросил ее: "А что, войне быть?" — "Нет, говорит, войны не будет, а только умрешь от пули, так карта показывает…"
Жил он, казнил сердце свое, ждал смерти за самому неведомые грехи. А после и сгинул. И по сию пору больно было Андрею. Сколько они всего переделали вместе! Иконы писали, картины малевали, опочивальню государыне разделывали, модели и рисунки сочиняли. Всего не перечтешь. И разом все оборвалось. А ведь редкий был человек и живописец был удивительный. Да что кому надо! И дела до этого никому не было… Только Андрей сам не свой ходил да живописных художеств мастер Иван Яковлев сын Вишняков сокрушался…
Не мог поверить себе Андрей, что мужик, похожий на друга пропавшего, был воистину Лёха Степанов. Жив-живехонек, хотя без малого семь годов в неживых числился. Только сам Лёха и знал, как жил эти годы. Как мыкался. Чего только не испытал в бродягах! И послушником в монастыре был, и кузнецом работал, и камень грузил, и землю носил, а все для того только, чтоб лакейство придворное из себя вытравить. Так и сяк мотало его, а ныне к Москве прибило. Нарезал Лёха фигур знатных деревянных у калужского каруселя, расписал их, вывески исполнил. Как до художества любимого дорвался — за уши не оторвать. Дивился тому хозяин каруселя, не приходилось ему видеть такое доброе и искусное мастерство, что прямо на глазах его нарождалось. Так возрадовался хозяин, что против учиненного договора двойной платы не пожалел. А Лёха все пропил, прогулял, да еще и вдобавок буянство у каруселя устроил. И стал тогда в вертуны проситься. А хозяину что? Не устала кобыла, что до Киева сходила, так и верти себе на здоровье!
В живописной команде Матвеев с Лёхой крепко сдружился. Обретались они у одних живописных работ, зависимы были от двора полностью, были бедны одинаково, и в силу этого нужно было крутиться волчком. Матвеев относился к ремеслу своему с почтеньем. Когда требовали, старательно накладывал румяна, терпеливо выполнял прихоти, следовал шаблонам и прописям иноземным. Он знал твердо: есть ремесло и есть художество настоящею ценою. И то, и другое чтилось. Только первому больше предпочтенья.
Андрей выполнял требуемое усердно и хорошо. Крепок был духом. А Лёха бесился, куролесил, пил, выказывал нерачение и непослушанье. Матвеев покрывал его, сколько мог, выгораживал, но иногда терпенье Канцелярии от строений истощалось, и она приказывала: "Означенного живописца Лексея Степанова за вышеописанное пианство близ месяца в кузнечной и прочей работе содержать, а в каком порядке и поступках он находиться будет, в Канцелярию рапортовать".
Любил Лёха приговаривать: землица российская сложная, трудная, а жизнь наша тоскливая, нудная. Доходил до отчаяния, взбрыкивая, и убеждал надрывно себя, что не живописный он мастер, а обер-лакей при дворе. Не мог он, как Андрей, любой заказ старательно работать. Матвееву дай роспись — сделает бессловесно, плафоны распишет в срок, украшение панелей во дворцах, золочение, персон знатных — извольте, расписание внутри триумфальных ворот на Троицкой пристани и в церкви святых апостолов Петра и Павла — готово!
Более всего любил Андрей портреты списывать, его хлебом не корми, дай только до персоны дорваться, тут уж он все свое прилежание и умение употребит и живописную науку со всем тщаниемприменить сумеет. Ему и вольготно, и радостно. Одна забота — достигнуть божественного изображенья души человеческой.
Матвеев все сносил, бывали и у него буйства, но никто их не видел. Сколько раз, придя к себе в мастерскую, сбрасывал Матвеев на пол парадный камзол, срывал с головы парик и топтал их и тер ногами в бессильной злобе. Потом приходил в себя от такого азарта, выпивал чарку водки и становился с бледным, изможденным лицом к мольберту.
Проходило немного времени — Андрей обо всем забывал, начинал напевать себе под нос и насвистывать, а то и вовсе смеялся счастливым смехом. Глядел на свою "Аллегорию живописи", на которой сзади было подписано: "Тщанием Андрея Матвеева в 1725 году". Дивился, сколько доброты было в этой его старой ученической картине. Да и хорошо, что была в нем самом доброта, потому и в картины переходила.
Давно известно: злоба художеству плохая попутчица!
Для Лёхи же толчки и приказы непосильны были, нагрузки художества он не снес, плюнул себе под ноги и сбежал ото всего разом. От дома, от двора, от семьи, от живописи. А почему его жизнь такой вывих дала — и сам того не знал.
 о свою жизнь Матвеев был верен себе и своему ремеслу. Он был художник. А больше ничего не умел.
То, что он мог, он делал по возможности хорошо. Знал, чего ради ему жить: усердно изучал природу, перенимал лучшее, что было у других. Его влек чистый холст, он набрасывался на него с жаром, потому что ему было что сказать. Матвееву редко удавалось сохранить хладнокровие в работе, он опьянялся ею.
Художество было магией, доводившей почти до потери рассудка. Какое счастье, бывало, испытывал Андрей, когда входил к себе в мастерскую, закрывал дверь, оставался один. Один! Никакими деньгами нельзя оплатить это счастье художника. Умен он или глуп, горяч или холоден, пишет ли по привычке бесстрастно или задыхается от восторга, добрый он человек или скряга — все достоинство художника в том, что он хочет сказать людям и как владеет ремеслом.
Андрей приходил к себе, брал в руки веник, прибирался, заметал, чтобы настроиться на работу. У чистого холста он оживал и чувствовал себя как тигр перед еще более страшным зверем. Порой он ходил вокруг мольберта с кистью, воспламеняясь и злясь оттого, что никак не мог заставить свою руку прикоснуться к холсту.
Белый холст слепил и горел, как фонарь в ночи. И почему это так бывает, думал Матвеев, что человек идет один в ночной мгле, держа фонарь в руке? Человек одинок и только собранностью воли и силой света из фонаря, которым сам себе светит, преодолевает страх этого одиночества. Страх перед жизнью, перед тем неизведанным, что ждет его. А у другого вместо фонаря в руке кисть живописца. Она одна фонарит ему в темноте бытия. Он беседует сам с собой. И все чувства, и весь белый свет сжаты в нем одним усилием. Верно сказал кто-то из мучеников нашего цеха, что художество — посох странника, а не костыль калеки.
Для художника все собирается в одном касании. Обо всем забываешь и видишь только плоть холста. Тронешь кистью, мазнешь, отважишься-таки. И вера ярко возгорается в твоем фонаре. Получаешь высшую на земле власть. Самую чудную, самую добрую. Начинаешь говорить красками о самом себе. О том, что ты понял в жизни. Говоришь и выговариваешься весь, и становишься выше себя.
И эта власть художества, власть заново рожденного ужасно честна, предельно проста. Она единственная из всех властей, которая заключает в себе благо.
Андрей Матвеев привык жить открыто и незащищенно. Он владел ремеслом своим искусно, удивляя собратьев своих — и русских, и чужеземных. В работе у него бывали сомнения, но редко впадал он в малодушие. А уж в притворство — никогда!
Для двора такая жизнь, не знавшая притворства, стоила немного. Приносишь пользу — и ладно. А нет тебя — другие сыщутся. Вспомнил Андрей, как однажды кабинет-секретарь Макаров приказал ему срочно прибыть в Петергоф. Нужно было починить в деревянных покоях поврежденные картины.
Еле подавил он в себе мутную злобу, что снова отрывают от работы в мастерской. Войдя в один из кабинетов, отделанных на английский манер дубом, он засмотрелся на богато декорированный потолок, разглядывал лепку и роспись плафона, выполненную, как он знал, художником французской нации Филиппом Пильманом. В соседней комнате дверь была распахнута настежь. Там и приключилась с Андреем такая странность: войдя, увидел он — навстречу ему из темноты идет человек наинеприятнейший, с маленькими злыми глазами. Он был похож на него, но совсем-совсем другой. Андрей закрыл лицо руками, тот сделал то же самое, дернулся Андрей в сторону — и тот туда ж, поворотил Андрей в другую — и тот поворотил. Тогда Андрей резко рванулся вперед и больно ушибся. Зеркало, выписанное из Баварии и занимавшее всю стену, очередная прихоть императрицы Анны Иоанновны…
Потирая лоб, смотрел Матвеев на того, что стоял рядом, придирчиво: ну и поистрепала его нелегкая, из-под сбившегося парика выглядывала седая прядь, бледное лицо застыло в неподвижности, только правая щека подергивалась непроизвольно. А еще видел Андрей около себя человека, по виду хорошего, знавшего и ту любовь, что как огонь, и горюшка по ноздри хлебнувшего. Такой и сильному сдерэит, и слабого, притесняемого не оставит без защиты, а чрез то и сам опирается на дружеское плечо, спасаясь и зная, что не помогающий ближнему не может и сам ожидать избавленья.
Лицо в зеркале расплывалось, а Матвеев приходил к выводу: вот и все, можно ставить последний мазок и расписаться в нижнем правом углу прожитой картины. А все же, а все же, ваше державное величество, чаша жизни не совсем исчерпана, и может быть вполне, что жизнь только еще начинается. И то было робкое упованье, едва наметившаяся надежда, которая и есть первейшее благо для всякого живого человека. Тем паче для художника.
А художник всегда прав.
Вернувшись из Москвы, Матвеев в два сеанса написал портрет генерала Семена Салтыкова. Давно к нему приглядывался, нравился ему этот сановник, а чем — и сказать бы не смог. Просто казался славным человеком.
Дома у них принят был Матвеев ласково, душевно. Стены кабинета хозяина были украшены картинами, гравюрами, картами. Все свободное пространство занимали книги.
Для работы Матвееву отвели просторную камору. Приятно было видеть Андрею внимание к своему ремеслу.
В первый сеанс он сделал беглую пропись прямо на холсте, вечером без натуры написал костюм, а на другой день окончательно написал лицо. Вышло неплохо. Все собрались в гостиной смотреть.
— Вот оно, художество русское, — сказал генерал, удовлетворенно отдуваясь, — просто, ясно, четко. Благодарствую, Матвеев, благодарствую, а сейчас ужинать!
Салтыков был чадолюбив, но Андрей подметил, что более всего он внимателен к себе самому. Человек умный, любящий жить широко и весело, Семен Андреевич Салтыков, генерал-аншеф и бывший московский губернатор, сочетал в себе струи старинных дворянских родов. У подножия неохватного толщиной родословного древа Салтыковых стоял Михаил Прушапин — "муж честен из прусс".
Императрица Анна Иоанновна благоволила к Салтыковым и оказывала им всяческие одобрения.
Однажды на именины генерал-губернатор Салтыков получил от императрицы вместо традиционной золотой табакерки зараз тысячу рублев.
Само собой Салтыкову предрешен был от знатного рода, связей и заслуг поступательный ход жизни и богатства. Однако такого обильно-щедрого подарка от императрицы не ждал и он, а потому написал Семен Андреич Бирону в письме: "Истинно с такой радости и радуюсь, и плачу".
Салтыков всегда имел доступ к особе императрицы. Он управлял дворцовой канцелярией, приводил к присяге придворных чинов, был главным смотрителем дворцовых зданий и церквей, заведовал аудиенциями иноземцев, вершил правосудие, был верен, секретен, истинен.
Матвеев ничего этого не знал. Да и на что ему знать? Семена Андреевича он чувствовал так, как видел. В распоряжении его были краски, и ему нужно было сказать правду. То и сделал.
А после принялся и за следующий портрет.
Когда кабинет-министр Волынский был арестован по обвинению в попытке свержения царствующей особы, все лица, с которыми он был в сношении, попали на заметку. В числе подозреваемых оказался и князь Яков Петрович Шаховской: ему Волынский благотворительствовал.
Нестерпимое время настало для Шаховского. Кабинетные министры граф Остерман и князь Черкасский стали подчеркнуто холодны с ним, его светлость герцог Бирон имел в разговоре вид весьма суровый. А это совсем дурной был знак, зловещий. При дворе не было человека, чтоб от нерасположения Бирона не ожидал себе несчастья.
Сидел Шаховской в своем доме, в тепле и уюте, а уже чудились ему какие-то вопли, будто кого-то пытали, становилось душно, хотелось куда-нибудь выскочить, оторваться от мрачных дум. Струхнул не на шутку князь. Шею теснило. Узелок затягивался. Что могло ждать его? Да самое худшее! Пытка, смрадный подвал Тайной канцелярии и если не смерть, то ссылка в окоченелую Сибирь. Таковое уразумение поддержало его решимость позвать к себе живописца, чтоб оставить на вечную память потомкам образ своей персоны.
Вызвал он к себе Андрея Матвеева и заказал ему свой портрет. От многих об искусстве Матвеева наслышан был.
Одутловатое и бледное лицо князя привлекло Андрея своей растерянностью. Все лишнее с него спало, порастряслось. Чувство захлопнутой клетки отрезвило Шаховского.
Матвееву понравились выразительные карие глаза, высоко очерченные брови. Живописец решил изобразить князя в парике и камзоле, расшитом на отворотах золотыми позументами, в ленте чрез правое плечо, со звездой и орденом на груди. А сзади фоном портрета будут книги на полках, что виднелись за приподнятою занавесью.
Писать такого человека было удовольствием. Заказной портрет, но не парадный. Нужды нет румяна накладывать, а потому писал Матвеев как хотел, без прикрас. Добиться хотел, чтоб фигура и фон составляли нераздельное целое.
Шаховской, зная Матвеева, как петровского заграничного пенсионера, отнесся к нему благосклонно, добродушно. Он видел перед собой человека искусного и скромного, рассказывал ему случаи из своей жизни и видел, что слушает Матвеев с живым любопытством.
Князю немалое удовольствие было провести несколько часов в беседе, выйти из своего затруднения, дать отдых душе.
Когда Матвеев пришел на второй сеанс, князь встретил его еще более дружески.
— Что-то бледен чрезмерно ты, братец, не захворал ли? — приблизив к художнику лицо, участливо и ласково спросил князь у Андрея.
Матвеева это тронуло. Впервые из вельмож кто-то интересовался лично им.
— Благодарствую, ваша светлость. За участие ваше во мне затрудняюсь слова найти для изъявления признательности.
Матвеев почтительно склонил голову и продолжал, глядя исподлобья:
— И впрямь в груди колет, поустал я, ваша светлость, должностью, на себя предпринятой в команде живописной.
— Ну, я тебя счастливее, мой друг. Богу благодарение, ни один из моих членов не приносит мне болезненного чувства. И если б не слабость глаз моих и не беспокойственная бережливость, к которой я для них часто принужденным бываю, то смело сказать бы мог, что я совершенно здоров и свеж. Я тебя понимаю: художество дело заковыристое, дрязгу хватает, вы всегда у всех на виду. А мы теперь не принимаем никого и из круга своего не выходим… Не стану от тебя скрывать, при дворе дали мне причину терять мою надежду о благополучиях, можно ожидать самого худшего.
— Нельзя ни о чем судить заранее, ваша светлость, — ответил Матвеев из-за мольберта. — На все воля господня, как повернет, может, и пронесет, все мы, человеки, ожидаем покорно своих жребиев. Один италианский моляр сказал хорошо: "Господи, помоги мне, потому что я сам себе помогаю!"
— Сказано мудро, — повелел князь, — а только ты сам познать можешь, в каком я положении оказался ныне.
— К прискорбию своему, разделяю тревогу вашу.
Андрей понизил голос, ибо Бироновы уши торчали нынче во всех углах. Слежка, доносы, аресты все усиливались.
— Время теперь смутное, — сказал Андрей тихо, — с Бироном шутки плохи, не знаешь, чего завтра ждать.
— То-то и оно: нет хуже, нежели быть в неведении о своей участи. В душе страх, ибо закон, нарушаемый блюстителями оного, не имеет святости.
Шаховской горестно вздохнул, уселся поудобнее в кресло, сказал:
— Эх, господь, взял бы ты от нас знание, лишающее нас покоя!
Матвеев сочувственно ему улыбнулся и углубился в работу.
о свою жизнь Матвеев был верен себе и своему ремеслу. Он был художник. А больше ничего не умел.
То, что он мог, он делал по возможности хорошо. Знал, чего ради ему жить: усердно изучал природу, перенимал лучшее, что было у других. Его влек чистый холст, он набрасывался на него с жаром, потому что ему было что сказать. Матвееву редко удавалось сохранить хладнокровие в работе, он опьянялся ею.
Художество было магией, доводившей почти до потери рассудка. Какое счастье, бывало, испытывал Андрей, когда входил к себе в мастерскую, закрывал дверь, оставался один. Один! Никакими деньгами нельзя оплатить это счастье художника. Умен он или глуп, горяч или холоден, пишет ли по привычке бесстрастно или задыхается от восторга, добрый он человек или скряга — все достоинство художника в том, что он хочет сказать людям и как владеет ремеслом.
Андрей приходил к себе, брал в руки веник, прибирался, заметал, чтобы настроиться на работу. У чистого холста он оживал и чувствовал себя как тигр перед еще более страшным зверем. Порой он ходил вокруг мольберта с кистью, воспламеняясь и злясь оттого, что никак не мог заставить свою руку прикоснуться к холсту.
Белый холст слепил и горел, как фонарь в ночи. И почему это так бывает, думал Матвеев, что человек идет один в ночной мгле, держа фонарь в руке? Человек одинок и только собранностью воли и силой света из фонаря, которым сам себе светит, преодолевает страх этого одиночества. Страх перед жизнью, перед тем неизведанным, что ждет его. А у другого вместо фонаря в руке кисть живописца. Она одна фонарит ему в темноте бытия. Он беседует сам с собой. И все чувства, и весь белый свет сжаты в нем одним усилием. Верно сказал кто-то из мучеников нашего цеха, что художество — посох странника, а не костыль калеки.
Для художника все собирается в одном касании. Обо всем забываешь и видишь только плоть холста. Тронешь кистью, мазнешь, отважишься-таки. И вера ярко возгорается в твоем фонаре. Получаешь высшую на земле власть. Самую чудную, самую добрую. Начинаешь говорить красками о самом себе. О том, что ты понял в жизни. Говоришь и выговариваешься весь, и становишься выше себя.
И эта власть художества, власть заново рожденного ужасно честна, предельно проста. Она единственная из всех властей, которая заключает в себе благо.
Андрей Матвеев привык жить открыто и незащищенно. Он владел ремеслом своим искусно, удивляя собратьев своих — и русских, и чужеземных. В работе у него бывали сомнения, но редко впадал он в малодушие. А уж в притворство — никогда!
Для двора такая жизнь, не знавшая притворства, стоила немного. Приносишь пользу — и ладно. А нет тебя — другие сыщутся. Вспомнил Андрей, как однажды кабинет-секретарь Макаров приказал ему срочно прибыть в Петергоф. Нужно было починить в деревянных покоях поврежденные картины.
Еле подавил он в себе мутную злобу, что снова отрывают от работы в мастерской. Войдя в один из кабинетов, отделанных на английский манер дубом, он засмотрелся на богато декорированный потолок, разглядывал лепку и роспись плафона, выполненную, как он знал, художником французской нации Филиппом Пильманом. В соседней комнате дверь была распахнута настежь. Там и приключилась с Андреем такая странность: войдя, увидел он — навстречу ему из темноты идет человек наинеприятнейший, с маленькими злыми глазами. Он был похож на него, но совсем-совсем другой. Андрей закрыл лицо руками, тот сделал то же самое, дернулся Андрей в сторону — и тот туда ж, поворотил Андрей в другую — и тот поворотил. Тогда Андрей резко рванулся вперед и больно ушибся. Зеркало, выписанное из Баварии и занимавшее всю стену, очередная прихоть императрицы Анны Иоанновны…
Потирая лоб, смотрел Матвеев на того, что стоял рядом, придирчиво: ну и поистрепала его нелегкая, из-под сбившегося парика выглядывала седая прядь, бледное лицо застыло в неподвижности, только правая щека подергивалась непроизвольно. А еще видел Андрей около себя человека, по виду хорошего, знавшего и ту любовь, что как огонь, и горюшка по ноздри хлебнувшего. Такой и сильному сдерэит, и слабого, притесняемого не оставит без защиты, а чрез то и сам опирается на дружеское плечо, спасаясь и зная, что не помогающий ближнему не может и сам ожидать избавленья.
Лицо в зеркале расплывалось, а Матвеев приходил к выводу: вот и все, можно ставить последний мазок и расписаться в нижнем правом углу прожитой картины. А все же, а все же, ваше державное величество, чаша жизни не совсем исчерпана, и может быть вполне, что жизнь только еще начинается. И то было робкое упованье, едва наметившаяся надежда, которая и есть первейшее благо для всякого живого человека. Тем паче для художника.
А художник всегда прав.
Вернувшись из Москвы, Матвеев в два сеанса написал портрет генерала Семена Салтыкова. Давно к нему приглядывался, нравился ему этот сановник, а чем — и сказать бы не смог. Просто казался славным человеком.
Дома у них принят был Матвеев ласково, душевно. Стены кабинета хозяина были украшены картинами, гравюрами, картами. Все свободное пространство занимали книги.
Для работы Матвееву отвели просторную камору. Приятно было видеть Андрею внимание к своему ремеслу.
В первый сеанс он сделал беглую пропись прямо на холсте, вечером без натуры написал костюм, а на другой день окончательно написал лицо. Вышло неплохо. Все собрались в гостиной смотреть.
— Вот оно, художество русское, — сказал генерал, удовлетворенно отдуваясь, — просто, ясно, четко. Благодарствую, Матвеев, благодарствую, а сейчас ужинать!
Салтыков был чадолюбив, но Андрей подметил, что более всего он внимателен к себе самому. Человек умный, любящий жить широко и весело, Семен Андреевич Салтыков, генерал-аншеф и бывший московский губернатор, сочетал в себе струи старинных дворянских родов. У подножия неохватного толщиной родословного древа Салтыковых стоял Михаил Прушапин — "муж честен из прусс".
Императрица Анна Иоанновна благоволила к Салтыковым и оказывала им всяческие одобрения.
Однажды на именины генерал-губернатор Салтыков получил от императрицы вместо традиционной золотой табакерки зараз тысячу рублев.
Само собой Салтыкову предрешен был от знатного рода, связей и заслуг поступательный ход жизни и богатства. Однако такого обильно-щедрого подарка от императрицы не ждал и он, а потому написал Семен Андреич Бирону в письме: "Истинно с такой радости и радуюсь, и плачу".
Салтыков всегда имел доступ к особе императрицы. Он управлял дворцовой канцелярией, приводил к присяге придворных чинов, был главным смотрителем дворцовых зданий и церквей, заведовал аудиенциями иноземцев, вершил правосудие, был верен, секретен, истинен.
Матвеев ничего этого не знал. Да и на что ему знать? Семена Андреевича он чувствовал так, как видел. В распоряжении его были краски, и ему нужно было сказать правду. То и сделал.
А после принялся и за следующий портрет.
Когда кабинет-министр Волынский был арестован по обвинению в попытке свержения царствующей особы, все лица, с которыми он был в сношении, попали на заметку. В числе подозреваемых оказался и князь Яков Петрович Шаховской: ему Волынский благотворительствовал.
Нестерпимое время настало для Шаховского. Кабинетные министры граф Остерман и князь Черкасский стали подчеркнуто холодны с ним, его светлость герцог Бирон имел в разговоре вид весьма суровый. А это совсем дурной был знак, зловещий. При дворе не было человека, чтоб от нерасположения Бирона не ожидал себе несчастья.
Сидел Шаховской в своем доме, в тепле и уюте, а уже чудились ему какие-то вопли, будто кого-то пытали, становилось душно, хотелось куда-нибудь выскочить, оторваться от мрачных дум. Струхнул не на шутку князь. Шею теснило. Узелок затягивался. Что могло ждать его? Да самое худшее! Пытка, смрадный подвал Тайной канцелярии и если не смерть, то ссылка в окоченелую Сибирь. Таковое уразумение поддержало его решимость позвать к себе живописца, чтоб оставить на вечную память потомкам образ своей персоны.
Вызвал он к себе Андрея Матвеева и заказал ему свой портрет. От многих об искусстве Матвеева наслышан был.
Одутловатое и бледное лицо князя привлекло Андрея своей растерянностью. Все лишнее с него спало, порастряслось. Чувство захлопнутой клетки отрезвило Шаховского.
Матвееву понравились выразительные карие глаза, высоко очерченные брови. Живописец решил изобразить князя в парике и камзоле, расшитом на отворотах золотыми позументами, в ленте чрез правое плечо, со звездой и орденом на груди. А сзади фоном портрета будут книги на полках, что виднелись за приподнятою занавесью.
Писать такого человека было удовольствием. Заказной портрет, но не парадный. Нужды нет румяна накладывать, а потому писал Матвеев как хотел, без прикрас. Добиться хотел, чтоб фигура и фон составляли нераздельное целое.
Шаховской, зная Матвеева, как петровского заграничного пенсионера, отнесся к нему благосклонно, добродушно. Он видел перед собой человека искусного и скромного, рассказывал ему случаи из своей жизни и видел, что слушает Матвеев с живым любопытством.
Князю немалое удовольствие было провести несколько часов в беседе, выйти из своего затруднения, дать отдых душе.
Когда Матвеев пришел на второй сеанс, князь встретил его еще более дружески.
— Что-то бледен чрезмерно ты, братец, не захворал ли? — приблизив к художнику лицо, участливо и ласково спросил князь у Андрея.
Матвеева это тронуло. Впервые из вельмож кто-то интересовался лично им.
— Благодарствую, ваша светлость. За участие ваше во мне затрудняюсь слова найти для изъявления признательности.
Матвеев почтительно склонил голову и продолжал, глядя исподлобья:
— И впрямь в груди колет, поустал я, ваша светлость, должностью, на себя предпринятой в команде живописной.
— Ну, я тебя счастливее, мой друг. Богу благодарение, ни один из моих членов не приносит мне болезненного чувства. И если б не слабость глаз моих и не беспокойственная бережливость, к которой я для них часто принужденным бываю, то смело сказать бы мог, что я совершенно здоров и свеж. Я тебя понимаю: художество дело заковыристое, дрязгу хватает, вы всегда у всех на виду. А мы теперь не принимаем никого и из круга своего не выходим… Не стану от тебя скрывать, при дворе дали мне причину терять мою надежду о благополучиях, можно ожидать самого худшего.
— Нельзя ни о чем судить заранее, ваша светлость, — ответил Матвеев из-за мольберта. — На все воля господня, как повернет, может, и пронесет, все мы, человеки, ожидаем покорно своих жребиев. Один италианский моляр сказал хорошо: "Господи, помоги мне, потому что я сам себе помогаю!"
— Сказано мудро, — повелел князь, — а только ты сам познать можешь, в каком я положении оказался ныне.
— К прискорбию своему, разделяю тревогу вашу.
Андрей понизил голос, ибо Бироновы уши торчали нынче во всех углах. Слежка, доносы, аресты все усиливались.
— Время теперь смутное, — сказал Андрей тихо, — с Бироном шутки плохи, не знаешь, чего завтра ждать.
— То-то и оно: нет хуже, нежели быть в неведении о своей участи. В душе страх, ибо закон, нарушаемый блюстителями оного, не имеет святости.
Шаховской горестно вздохнул, уселся поудобнее в кресло, сказал:
— Эх, господь, взял бы ты от нас знание, лишающее нас покоя!
Матвеев сочувственно ему улыбнулся и углубился в работу.
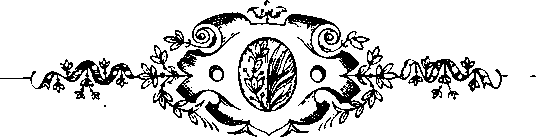

 атвеев уже несколько дней жил в Саарском селе.
Утром в его бревенчатый домик врывалась лесная прохлада, запахи земли, ночного дождя, терпкий аромат распаренной, не остывшей за ночь хвои. И было тихо-тихо.
За годы петербургской столичной жизни тишины, пожалуй, больше всего и не хватало Андрею. Он как-то совершенно по-новому, словно в дни детства, прислушивался к ней. Но тишина эта не была глухой.
Лес жил. Его наполнял тихий, осторожный шорох. Просыпались и чистились утренние птахи. Что-то похрустывало. Ползла хвоя. На клочке голой земли высился огромный муравейник. Вверх и вниз по нему сновали большие рыжие муравьи.
Сосны шумели, как море в час затишья и легкого бриза.
Когда-то здесь стояла деревушка Саари-моис, что по-фински означает "Верхняя мыза". Петр побывал в этих местах, и мыза ему очень понравилась за тишину и покой. Он снес старые домишки и возвел на их месте деревянный терем со службами, скотным двором и птичником. А потом преподнес все это милой супруге своей Екатеринушке.
И вот через несколько лет вместо хором лубяных поднялись тут хоромы каменные, а вокруг раскинулся парк. Он был не большой и не густой, но Андрею нравились его вековые корабельные сосны, старые дубы, темные аллеи, прямые и строгие. И воздух стоял здесь густой, смолистый. Видно, не зря Саарское считалось одним из самых здоровых мест в окрестностях Санкт-Петербурга.
Андрей вставал еще затемно и сразу же распахивал окно настежь. Потом умывался, брился, одевался и тихонько выходил в парк. Там он шагал до пригорка, садился на деревянную, росную еще скамью и ждал.
Солнце вставало светлое, чистое, почти прозрачное. От него сразу зарождались светлые, голубоватые тени. Он сидел и ждал. А солнце поднималось все выше и выше. Тени в парке сгущались, обретали плоть, отрывались наконец от земли, от жухлой хвои, и начинали вдруг бродить по парку. А стволы сосен, обращенных на запад, сразу вспыхивали золотым огнем. Тогда он вставал и шел к себе работать.
Светило, щебетало, порхало вокруг Андрея. Вот так было, есть и будет, думал живописец, и через сто лет то же солнце встанет, и птахи запоют то же и так же. И он вспоминал безымянную римскую эпитафию: "Не был, был, больше никогда не будет".
Умели древние изъясняться кратко, гибельно точно!
Андрей приходил к себе в просторную, залитую светом камору, по дороге он уже соображал, что будет писать. И когда брал в руки то кисти, то тряпку, то банки с краской, писал уверенно и твердо. Отдавшись на волю фантазии и воспоминаний, он писал пейзажи со старых своих голландских рисунков. Работалось ему хорошо, в охотку.
А вечером возвращался снова к той же скамье. Но теперь парк представал перед ним совсем иным. Светила луна, и все — деревья, кусты, скамейка, на которой он сидел, и он сам — окрашивалось в потусторонние, призрачные тона — в серебро, бирюзу, перламутр. Так старые мастера, в такой гамме, изображали Гефсиманский сад и моление о чаше.
В Саарское село Матвеев приехал в середине лета. Рожь в ту пору стояла золотая и тяжелая. Яблоки наливались пурпуром и багрянцем. Пошли грибы, и Андрея будил кошачий визг девок. Они спозаранку с лукошками отправлялись в дальний лес по грибы, по ягоды.
А какие хмельные, ароматные, звездные ночи стояли в ту пору в этих местах!
Андрей любил в это время ходить в ночное вместе с мальчишками. Собирались с первой темнотой и шли на опушку небольшой березовой рощицы. Дальше разбегался широкий заливной луг, и мальчишки разжигали костер. Андрей опускался на пень и, неподвижный, отрешенный от всего, сидел, вглядываясь в стреляющее хвоей и дымками пламя.
Где-то в реке плескала рыба, тонко кричала какая-то ночная птица, кто-то быстрый и легкий пробегал рядом, и вовсю квакали и надрывались в канавах лягушки. Андрей невольно поддавался очарованию этих голосов ночи, боялся их нарушить и поэтому так же, как и все, начинал говорить вполголоса. Скоро, однако, дрема смежала ему веки, и наступал тот момент полусна, когда поляна и роща куда-то исчезали и Андрею казалось, что он один несется по небу — мимо Саарского села, града святого Петра и дальше, дальше, в годы юности и мальчишества.
Однажды в таком забытьи он увидел царя. Петр сидел на белом коне в какой-то необычайной золотой одежде или ризах, и от него слепило глаза. Затем он что-то крикнул и дал шпоры коню. И полетел по черному небу. А по обе стороны от него неслись большие атласные лоси с вдумчивыми бородатыми мордами.
Андрей вспомнил, что был раньше строжайший царский указ лосей не трогать, не стрелять и не гнать под опасеньем порки и тяжких штрафов. А ныне их стреляют все кому не лень. Пример дала сама императрица Анна Иоанновна. Ее Бирон обожает загоны, травли, звериную облаву, пальбу и рогатины. Для него императрица построила зверовые дворы и содержит там лосей, дичь и птиц для ружейной охоты. А на прежние Петровы указы ей наплевать, потому что царь умер и потому что она сама теперь императрица.
Так он не то спал и видел сны, не то грезил наяву, и ему чудился то царь, то плац-парад. Он слышал то голос Петра, то дробь барабанов, то пение флейт, то переливчатую трель рожков.
А когда он просыпался, то видел, что уже почти рассвело, утренние сумерки стали тонкими, костер трещит, догорая и замирая. Мальчишки ловили лошадей и разговаривали между собой уже обыкновенными, дневными голосами. Вставал и он, отряхивался, зевал и говорил: "Хорошо!"
Потом думал, что сон ему приснился не к добру, дурной, но махнул рукой: "Ну и бес с ним. Посмотрим". И был доволен.
Так моляр Андрей Матвеев провожал свое последнее лето.
атвеев уже несколько дней жил в Саарском селе.
Утром в его бревенчатый домик врывалась лесная прохлада, запахи земли, ночного дождя, терпкий аромат распаренной, не остывшей за ночь хвои. И было тихо-тихо.
За годы петербургской столичной жизни тишины, пожалуй, больше всего и не хватало Андрею. Он как-то совершенно по-новому, словно в дни детства, прислушивался к ней. Но тишина эта не была глухой.
Лес жил. Его наполнял тихий, осторожный шорох. Просыпались и чистились утренние птахи. Что-то похрустывало. Ползла хвоя. На клочке голой земли высился огромный муравейник. Вверх и вниз по нему сновали большие рыжие муравьи.
Сосны шумели, как море в час затишья и легкого бриза.
Когда-то здесь стояла деревушка Саари-моис, что по-фински означает "Верхняя мыза". Петр побывал в этих местах, и мыза ему очень понравилась за тишину и покой. Он снес старые домишки и возвел на их месте деревянный терем со службами, скотным двором и птичником. А потом преподнес все это милой супруге своей Екатеринушке.
И вот через несколько лет вместо хором лубяных поднялись тут хоромы каменные, а вокруг раскинулся парк. Он был не большой и не густой, но Андрею нравились его вековые корабельные сосны, старые дубы, темные аллеи, прямые и строгие. И воздух стоял здесь густой, смолистый. Видно, не зря Саарское считалось одним из самых здоровых мест в окрестностях Санкт-Петербурга.
Андрей вставал еще затемно и сразу же распахивал окно настежь. Потом умывался, брился, одевался и тихонько выходил в парк. Там он шагал до пригорка, садился на деревянную, росную еще скамью и ждал.
Солнце вставало светлое, чистое, почти прозрачное. От него сразу зарождались светлые, голубоватые тени. Он сидел и ждал. А солнце поднималось все выше и выше. Тени в парке сгущались, обретали плоть, отрывались наконец от земли, от жухлой хвои, и начинали вдруг бродить по парку. А стволы сосен, обращенных на запад, сразу вспыхивали золотым огнем. Тогда он вставал и шел к себе работать.
Светило, щебетало, порхало вокруг Андрея. Вот так было, есть и будет, думал живописец, и через сто лет то же солнце встанет, и птахи запоют то же и так же. И он вспоминал безымянную римскую эпитафию: "Не был, был, больше никогда не будет".
Умели древние изъясняться кратко, гибельно точно!
Андрей приходил к себе в просторную, залитую светом камору, по дороге он уже соображал, что будет писать. И когда брал в руки то кисти, то тряпку, то банки с краской, писал уверенно и твердо. Отдавшись на волю фантазии и воспоминаний, он писал пейзажи со старых своих голландских рисунков. Работалось ему хорошо, в охотку.
А вечером возвращался снова к той же скамье. Но теперь парк представал перед ним совсем иным. Светила луна, и все — деревья, кусты, скамейка, на которой он сидел, и он сам — окрашивалось в потусторонние, призрачные тона — в серебро, бирюзу, перламутр. Так старые мастера, в такой гамме, изображали Гефсиманский сад и моление о чаше.
В Саарское село Матвеев приехал в середине лета. Рожь в ту пору стояла золотая и тяжелая. Яблоки наливались пурпуром и багрянцем. Пошли грибы, и Андрея будил кошачий визг девок. Они спозаранку с лукошками отправлялись в дальний лес по грибы, по ягоды.
А какие хмельные, ароматные, звездные ночи стояли в ту пору в этих местах!
Андрей любил в это время ходить в ночное вместе с мальчишками. Собирались с первой темнотой и шли на опушку небольшой березовой рощицы. Дальше разбегался широкий заливной луг, и мальчишки разжигали костер. Андрей опускался на пень и, неподвижный, отрешенный от всего, сидел, вглядываясь в стреляющее хвоей и дымками пламя.
Где-то в реке плескала рыба, тонко кричала какая-то ночная птица, кто-то быстрый и легкий пробегал рядом, и вовсю квакали и надрывались в канавах лягушки. Андрей невольно поддавался очарованию этих голосов ночи, боялся их нарушить и поэтому так же, как и все, начинал говорить вполголоса. Скоро, однако, дрема смежала ему веки, и наступал тот момент полусна, когда поляна и роща куда-то исчезали и Андрею казалось, что он один несется по небу — мимо Саарского села, града святого Петра и дальше, дальше, в годы юности и мальчишества.
Однажды в таком забытьи он увидел царя. Петр сидел на белом коне в какой-то необычайной золотой одежде или ризах, и от него слепило глаза. Затем он что-то крикнул и дал шпоры коню. И полетел по черному небу. А по обе стороны от него неслись большие атласные лоси с вдумчивыми бородатыми мордами.
Андрей вспомнил, что был раньше строжайший царский указ лосей не трогать, не стрелять и не гнать под опасеньем порки и тяжких штрафов. А ныне их стреляют все кому не лень. Пример дала сама императрица Анна Иоанновна. Ее Бирон обожает загоны, травли, звериную облаву, пальбу и рогатины. Для него императрица построила зверовые дворы и содержит там лосей, дичь и птиц для ружейной охоты. А на прежние Петровы указы ей наплевать, потому что царь умер и потому что она сама теперь императрица.
Так он не то спал и видел сны, не то грезил наяву, и ему чудился то царь, то плац-парад. Он слышал то голос Петра, то дробь барабанов, то пение флейт, то переливчатую трель рожков.
А когда он просыпался, то видел, что уже почти рассвело, утренние сумерки стали тонкими, костер трещит, догорая и замирая. Мальчишки ловили лошадей и разговаривали между собой уже обыкновенными, дневными голосами. Вставал и он, отряхивался, зевал и говорил: "Хорошо!"
Потом думал, что сон ему приснился не к добру, дурной, но махнул рукой: "Ну и бес с ним. Посмотрим". И был доволен.
Так моляр Андрей Матвеев провожал свое последнее лето.


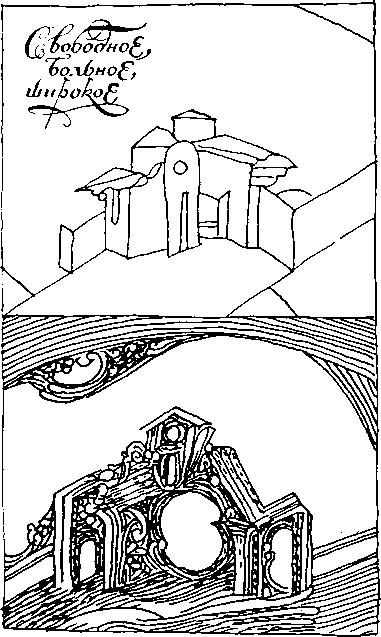
 осподь наш в занятости своей как бы не видит порой протянутые к нему руки, словно он не в духе или слишком уж погружен в более спешные и безотлагательные заботы, а потому и приносится в жертву то, что необходимей всего, самое лучшее, ценное, талантливое. Словно свершается некий привычный ритуал…"
Растрелли стоял, опустив голову, он думал о судьбе Андрея Матвеева, о печальной его участи. Архитектор всегда благоволил к этому мастеру, и вот теперь он был у его свежей могилы.
Матвеев… Сколько б мог еще сделать… Глава живописной команды, лучший из лучших…
Двенадцать лет были они рядом, работали сообща, и Растрелли не знал человека более доброжелательного, благородного и столь одаренного. Заместить Андрея Матвеева было просто некем. Живой ум, мягкость Андрея, самоотверженная и безграничная любовь к своему делу снискали ему всеобщее уважение.
А ведь ему приходилось сталкиваться с людьми разными — их нужно было сплотить, направить, обучить, приспособить. Да еще и заставить мыслить самостоятельно и трудиться добросовестно. Матвееву попадались люди разные: лживые, мелкие, полные вражды ко всему, ленивые, бузотеры и скандалисты. Они шли в общей упряжке без ропота.
Андрей мог каждого распознать, найти подход. Растрелли вдруг вспомнил, как Матвеев приехал в Петергоф, нагруженный фламским холстом, подбойными гвоздями, красками, кистями, бумагой. Солдаты разгружали подводы, таскали банки с белилами, маковым маслом и скипидаром.
Матвеев стоял подле, и на лице его было выражение счастливое и возвышенное, словно он наконец-то нашел себе здесь утешение. Это было лицо неземного блаженства. Светоносное. Горячее.
Не зря ж говорят, что блаженному теплей других на белом свете.
осподь наш в занятости своей как бы не видит порой протянутые к нему руки, словно он не в духе или слишком уж погружен в более спешные и безотлагательные заботы, а потому и приносится в жертву то, что необходимей всего, самое лучшее, ценное, талантливое. Словно свершается некий привычный ритуал…"
Растрелли стоял, опустив голову, он думал о судьбе Андрея Матвеева, о печальной его участи. Архитектор всегда благоволил к этому мастеру, и вот теперь он был у его свежей могилы.
Матвеев… Сколько б мог еще сделать… Глава живописной команды, лучший из лучших…
Двенадцать лет были они рядом, работали сообща, и Растрелли не знал человека более доброжелательного, благородного и столь одаренного. Заместить Андрея Матвеева было просто некем. Живой ум, мягкость Андрея, самоотверженная и безграничная любовь к своему делу снискали ему всеобщее уважение.
А ведь ему приходилось сталкиваться с людьми разными — их нужно было сплотить, направить, обучить, приспособить. Да еще и заставить мыслить самостоятельно и трудиться добросовестно. Матвееву попадались люди разные: лживые, мелкие, полные вражды ко всему, ленивые, бузотеры и скандалисты. Они шли в общей упряжке без ропота.
Андрей мог каждого распознать, найти подход. Растрелли вдруг вспомнил, как Матвеев приехал в Петергоф, нагруженный фламским холстом, подбойными гвоздями, красками, кистями, бумагой. Солдаты разгружали подводы, таскали банки с белилами, маковым маслом и скипидаром.
Матвеев стоял подле, и на лице его было выражение счастливое и возвышенное, словно он наконец-то нашел себе здесь утешение. Это было лицо неземного блаженства. Светоносное. Горячее.
Не зря ж говорят, что блаженному теплей других на белом свете.

 озки, кареты, потные лошади, тяжело груженные мебелью подводы. Это царский поезд Петра подъезжает к Парижу. Еще в Кале щеголеватый, вежливый и предупредительный маршал Нель встречает русского царя. Он предлагает ему свою карету. А Петр упрямо твердит, что ему не пристало сидеть на подушках, он любит двуколку. Повсюду ищут ее, но найти не могут. Царь злится, торопит.
Булонь, Амьен, Бове царский поезд проезжает без остановок. Русского царя везде жаждут принимать с почестями. Но ни обеды, ни иллюминации, ни фейерверки в его честь не трогают Петра. Наконец ему находят двуколку.
Хитрые глазки Ягужинского загораются. Он подмигивает царю: расстарались французы, нашли наконец то, что надо.
Петр раскуривает трубку, задумчиво смотрит на возок.
— Двуколка — ни к черту! — говорит царь. — Но здесь не Россия, сойдет и такая.
Он приказывает снять кузов своей двуколки и поставить его на французские каретные дроги. Лично помогает каретникам. И, довольный, потирает руки.
— Вот теперь ладно! Можно ехать дальше. Ну, тетеря, давай, пошел! — орет он на кучера и тяжело прыгает на жесткое сиденье.
Перед въездом в столицу Франции русский царь по нас-стоянию маршала пересаживается в королевскую карету. Царя сопровождают пажи в бархате и золоте. За ним мчатся изящные повозки с зеркальными стеклами.
Маршал Тиесе — маленький и расторопный — весь так и вспыхнул, когда подошел к царю:
— Вас давно ждут, ваше величество, апартаменты в Лувре готовы!
А сам думает, что там наверняка еще не успели стереть пыль.
— Попроще, чем Лувр, ничего нет?
Предупрежденный графом Толстым о том, что царь любит скромные помещения, Тиесе с готовностью отвечает:
— Есть, есть! К вашим услугам отель Леди Тьер на улице Серизей. Это рядом с Арсеналом…
— Ну что ж, везите! Отель так отель…
Отведенная резиденция после подробного осмотра оставляет у Петра самое хорошее впечатление. Он располагается, приводит себя в порядок. Закусывает наспех. Потом идет в соседний кабак, где остановились бродячие музыканты, и там пьет с ними допоздна.
На следующий день царь отправляет письмо жене: "Принужден в доме быть для визит и протчей церемонии и для того еще ничего не видел здесь, а с завтрее или после завтрее начну всего смотреть. А сколько дорогою видели — бедность в людях подлых великая". Своя-то российская лютая скудость государю не так в глаза бросается, как чужеземная…
Все дипломаты и правители считают, что Петра привела в Париж свойственная ему ненасытная любознательность. Это не совсем так. Страсть как русские любят все обращать в тайну. Специально приставленный к русскому императору французским двором уполномоченный и соглядатай доносит своему правительству: "Действительная причина путешествия царя — врожденная любознательность". Истинная же причина — совсем в другом. Мотивы — чисто государственные. Царские послы Куракин и Шафиров вовсю ведут переговоры с французскими дипломатами и каждодневно докладывают царю. Самое главное для Петра в поездке, чтобы Франция взяла на себя роль посредницы в переговорах России со Швецией. Без Франции им меж собой не договориться.
Поездка Петра во французскую столицу вызвана прежде всего этим.
"Его величество ежедневно посещает публичные места и частных лиц, стремясь видеть все, что удовлетворяет его интерес к наукам и искусствам". Так сообщают французские газеты.
Петр остается самим собой. Он ни в чем не изменяет привычкам. Ходит в коричневом кафтане с золотыми пуговицами, перчаток и манжет с позументом не надевает. Охотно бывает в мастерских жестянщиков, столяров, интересуется бочарным делом. Он присутствует на операции знаменитого английского хирурга доктора Вулюза. Посещает гобеленную фабрику. Любуется картинами Рубенса в Люксембургском дворце. Его везут в Оперу. Но больше трех актов царь не выдерживает. И уезжает к себе ужинать.
Вот как описывает царя французский философ Сен-Симон: "У него округлое лицо, высокий лоб и прекрасные глаза — темные, живые, проницательные". Сен-Симон провел в беседе с царем несколько часов.
Куракин докладывает: дипломатические переговоры идут вполне успешно. Значит, не зря он торчит в Париже, когда дома дел по горло…
К тому же царю доносят, что нашим коммерц-советникам удалось наконец уговорить Растрелли — знатного скульптора, склонить его в российскую службу. Птица крупная, не уступает Леблону, только сильно заламывает в цене.
— Дать, сколько просит, — велит царь.
озки, кареты, потные лошади, тяжело груженные мебелью подводы. Это царский поезд Петра подъезжает к Парижу. Еще в Кале щеголеватый, вежливый и предупредительный маршал Нель встречает русского царя. Он предлагает ему свою карету. А Петр упрямо твердит, что ему не пристало сидеть на подушках, он любит двуколку. Повсюду ищут ее, но найти не могут. Царь злится, торопит.
Булонь, Амьен, Бове царский поезд проезжает без остановок. Русского царя везде жаждут принимать с почестями. Но ни обеды, ни иллюминации, ни фейерверки в его честь не трогают Петра. Наконец ему находят двуколку.
Хитрые глазки Ягужинского загораются. Он подмигивает царю: расстарались французы, нашли наконец то, что надо.
Петр раскуривает трубку, задумчиво смотрит на возок.
— Двуколка — ни к черту! — говорит царь. — Но здесь не Россия, сойдет и такая.
Он приказывает снять кузов своей двуколки и поставить его на французские каретные дроги. Лично помогает каретникам. И, довольный, потирает руки.
— Вот теперь ладно! Можно ехать дальше. Ну, тетеря, давай, пошел! — орет он на кучера и тяжело прыгает на жесткое сиденье.
Перед въездом в столицу Франции русский царь по нас-стоянию маршала пересаживается в королевскую карету. Царя сопровождают пажи в бархате и золоте. За ним мчатся изящные повозки с зеркальными стеклами.
Маршал Тиесе — маленький и расторопный — весь так и вспыхнул, когда подошел к царю:
— Вас давно ждут, ваше величество, апартаменты в Лувре готовы!
А сам думает, что там наверняка еще не успели стереть пыль.
— Попроще, чем Лувр, ничего нет?
Предупрежденный графом Толстым о том, что царь любит скромные помещения, Тиесе с готовностью отвечает:
— Есть, есть! К вашим услугам отель Леди Тьер на улице Серизей. Это рядом с Арсеналом…
— Ну что ж, везите! Отель так отель…
Отведенная резиденция после подробного осмотра оставляет у Петра самое хорошее впечатление. Он располагается, приводит себя в порядок. Закусывает наспех. Потом идет в соседний кабак, где остановились бродячие музыканты, и там пьет с ними допоздна.
На следующий день царь отправляет письмо жене: "Принужден в доме быть для визит и протчей церемонии и для того еще ничего не видел здесь, а с завтрее или после завтрее начну всего смотреть. А сколько дорогою видели — бедность в людях подлых великая". Своя-то российская лютая скудость государю не так в глаза бросается, как чужеземная…
Все дипломаты и правители считают, что Петра привела в Париж свойственная ему ненасытная любознательность. Это не совсем так. Страсть как русские любят все обращать в тайну. Специально приставленный к русскому императору французским двором уполномоченный и соглядатай доносит своему правительству: "Действительная причина путешествия царя — врожденная любознательность". Истинная же причина — совсем в другом. Мотивы — чисто государственные. Царские послы Куракин и Шафиров вовсю ведут переговоры с французскими дипломатами и каждодневно докладывают царю. Самое главное для Петра в поездке, чтобы Франция взяла на себя роль посредницы в переговорах России со Швецией. Без Франции им меж собой не договориться.
Поездка Петра во французскую столицу вызвана прежде всего этим.
"Его величество ежедневно посещает публичные места и частных лиц, стремясь видеть все, что удовлетворяет его интерес к наукам и искусствам". Так сообщают французские газеты.
Петр остается самим собой. Он ни в чем не изменяет привычкам. Ходит в коричневом кафтане с золотыми пуговицами, перчаток и манжет с позументом не надевает. Охотно бывает в мастерских жестянщиков, столяров, интересуется бочарным делом. Он присутствует на операции знаменитого английского хирурга доктора Вулюза. Посещает гобеленную фабрику. Любуется картинами Рубенса в Люксембургском дворце. Его везут в Оперу. Но больше трех актов царь не выдерживает. И уезжает к себе ужинать.
Вот как описывает царя французский философ Сен-Симон: "У него округлое лицо, высокий лоб и прекрасные глаза — темные, живые, проницательные". Сен-Симон провел в беседе с царем несколько часов.
Куракин докладывает: дипломатические переговоры идут вполне успешно. Значит, не зря он торчит в Париже, когда дома дел по горло…
К тому же царю доносят, что нашим коммерц-советникам удалось наконец уговорить Растрелли — знатного скульптора, склонить его в российскую службу. Птица крупная, не уступает Леблону, только сильно заламывает в цене.
— Дать, сколько просит, — велит царь.
 росветлел лес, и на маленьких озерках захлопотали утки, перевертываясь в воде вверх задом. Чистым изумрудом засверкали на атласном солнышке гладкие шеи молодых селезней. Все это было частью мироздания, встречающей каждый день как праздник. Выбились на парковых газонах первые травы, и такие крепчайшие запахи разбрызнулись — сосновые, влажные, бодрые, что могли любое сердце, любую душу всколыхнуть, успокоить.
Небеса источали покой и мягкую тишину.
В природе, казалось, установилась божья благодать, только вот санкт-петербургский климат… Кто к нему может привыкнуть? В мае возьмут и подуют ни с того ни с сего холодные ветра — и сразу наступит настоящий ноябрь. Дни станут ясными и холодными, а жизнь в такие дни — трезвой и беспощадной. Засвистит, закрутит ветер, завоет, в Неву слетят целые охапки только что народившихся нежнозеленых листочков.
Вдоль по набережной Адмиралтейской стороны стоят дворцы. Когда начинали строить город, предполагали, что он будет деревянный, — лес-то ведь под рукой. И наставили, нарубили деревянные дома с башенками — все-таки Европа. Но время шло, понаехали архитекторы — итальянские, немецкие, французские, голландские, — и в ход пошел кирпич, гранит, камень. Многие из приезжих не выдерживали тягот и бед российских — на кого хворь нападала, на кого тоска, трудно было усвоить здешнее обыкновение относиться к художнику с полнейшим равнодушием к его повседневной жизни. Конечно, были среди приезжих и люди выносливые, терпячие — они страдали, сносили нужды, держались, работали, надеясь на лучшее, не из кротости и смиренья, а потому что не иссякало в них мужество, не избывала сила духа. Такие были уверены, что за терпенье дает бог спасенье. Потому и прижились они, навсегда остались в России, считая ее второй родиной.
А слишком запальчивые, требовательные, непостоянные притерпеться не могли, под любым предлогом они стремились отделаться и бежали из города без оглядки.
Но начатое уже было не остановить.
Еще с Петра, влюбленного в свой парадиз, принято было и узаконено денег на строительство города не жалеть. Потому и ехали в Петербург знаменитости из разных углов Европы.
Заправлял строительством начальник Канцелярии от строений Ульян Акимович Синявин — солидный, сиятельный мужчина. Его энергия и редкий талант упорства премного способствовали возведенью фортификаций, дворцов, церквей, палат и вообще украшению русской столицы.
Главным же в этих делах был неистовый и благородный мастер, не щадящий себя подвижник, человек талантливый и разносторонний, архитектор Варфоломей Растрелли.
Как он оказался при российском дворе, почему остался в России вплоть до своей смерти, став величайшим русским зодчим, творцом неувядаемых шедевров архитектуры, — об этом будет рассказано. Но возьмем на заметку одно соображенье: давно известно, что поденщики ничем не гнушаются, а душа истинного художника жгуче стремится к честности — без этого она мертвеет, ссыхается и пропадает Живший намного позднее, но такой же, как и Растрелли, одержимый искусством мастер и человек, столь же беспредельно влюбленный в свое дело, поведал однажды, что во время нездоровья и бессонницы было ему видение. А именно: появился Петр I и многозначительно сказал:
— Время подобно железу горящему, которое ежели остынет…
И мастер твердо решил: "Да! Это ясно: ковать, ковать железо, пока горячо!"
Всю жизнь Растрелли и собрат его Андрей Матвеев ковали. Железо не остывало.
В 1716 году, когда юный русский пенсионер Матвеев покидал столицу на Неве, отправляясь на долгие годы обучаться живописи в Голландию, в Санкт-Петербург из Парижа в погоне за счастьем и обуреваемый самыми радужными надеждами приехал молодой Франческо Растрелли. Судьба развела их надолго, чтобы потом соединить в одном огненном вихре художества. Растрелли строил нарядные, волшебные дворцы с такими торжественными, бесконечными, сияющими фасадами, каких еще не было на земле, а Матвеев наполнял эти дворцы живописью — страстной, неистовой, и тут сомнений не было: такое может родить живая душа. Особенность этих двух гениальных людей России состояла в том, что они нашли в себе мужество целиком отдаться искусству и в силу своего великого дара и доброты сумели значительно подняться над своей грубой и тяжеловесной эпохой.
росветлел лес, и на маленьких озерках захлопотали утки, перевертываясь в воде вверх задом. Чистым изумрудом засверкали на атласном солнышке гладкие шеи молодых селезней. Все это было частью мироздания, встречающей каждый день как праздник. Выбились на парковых газонах первые травы, и такие крепчайшие запахи разбрызнулись — сосновые, влажные, бодрые, что могли любое сердце, любую душу всколыхнуть, успокоить.
Небеса источали покой и мягкую тишину.
В природе, казалось, установилась божья благодать, только вот санкт-петербургский климат… Кто к нему может привыкнуть? В мае возьмут и подуют ни с того ни с сего холодные ветра — и сразу наступит настоящий ноябрь. Дни станут ясными и холодными, а жизнь в такие дни — трезвой и беспощадной. Засвистит, закрутит ветер, завоет, в Неву слетят целые охапки только что народившихся нежнозеленых листочков.
Вдоль по набережной Адмиралтейской стороны стоят дворцы. Когда начинали строить город, предполагали, что он будет деревянный, — лес-то ведь под рукой. И наставили, нарубили деревянные дома с башенками — все-таки Европа. Но время шло, понаехали архитекторы — итальянские, немецкие, французские, голландские, — и в ход пошел кирпич, гранит, камень. Многие из приезжих не выдерживали тягот и бед российских — на кого хворь нападала, на кого тоска, трудно было усвоить здешнее обыкновение относиться к художнику с полнейшим равнодушием к его повседневной жизни. Конечно, были среди приезжих и люди выносливые, терпячие — они страдали, сносили нужды, держались, работали, надеясь на лучшее, не из кротости и смиренья, а потому что не иссякало в них мужество, не избывала сила духа. Такие были уверены, что за терпенье дает бог спасенье. Потому и прижились они, навсегда остались в России, считая ее второй родиной.
А слишком запальчивые, требовательные, непостоянные притерпеться не могли, под любым предлогом они стремились отделаться и бежали из города без оглядки.
Но начатое уже было не остановить.
Еще с Петра, влюбленного в свой парадиз, принято было и узаконено денег на строительство города не жалеть. Потому и ехали в Петербург знаменитости из разных углов Европы.
Заправлял строительством начальник Канцелярии от строений Ульян Акимович Синявин — солидный, сиятельный мужчина. Его энергия и редкий талант упорства премного способствовали возведенью фортификаций, дворцов, церквей, палат и вообще украшению русской столицы.
Главным же в этих делах был неистовый и благородный мастер, не щадящий себя подвижник, человек талантливый и разносторонний, архитектор Варфоломей Растрелли.
Как он оказался при российском дворе, почему остался в России вплоть до своей смерти, став величайшим русским зодчим, творцом неувядаемых шедевров архитектуры, — об этом будет рассказано. Но возьмем на заметку одно соображенье: давно известно, что поденщики ничем не гнушаются, а душа истинного художника жгуче стремится к честности — без этого она мертвеет, ссыхается и пропадает Живший намного позднее, но такой же, как и Растрелли, одержимый искусством мастер и человек, столь же беспредельно влюбленный в свое дело, поведал однажды, что во время нездоровья и бессонницы было ему видение. А именно: появился Петр I и многозначительно сказал:
— Время подобно железу горящему, которое ежели остынет…
И мастер твердо решил: "Да! Это ясно: ковать, ковать железо, пока горячо!"
Всю жизнь Растрелли и собрат его Андрей Матвеев ковали. Железо не остывало.
В 1716 году, когда юный русский пенсионер Матвеев покидал столицу на Неве, отправляясь на долгие годы обучаться живописи в Голландию, в Санкт-Петербург из Парижа в погоне за счастьем и обуреваемый самыми радужными надеждами приехал молодой Франческо Растрелли. Судьба развела их надолго, чтобы потом соединить в одном огненном вихре художества. Растрелли строил нарядные, волшебные дворцы с такими торжественными, бесконечными, сияющими фасадами, каких еще не было на земле, а Матвеев наполнял эти дворцы живописью — страстной, неистовой, и тут сомнений не было: такое может родить живая душа. Особенность этих двух гениальных людей России состояла в том, что они нашли в себе мужество целиком отдаться искусству и в силу своего великого дара и доброты сумели значительно подняться над своей грубой и тяжеловесной эпохой.
 ачалось у них все слишком даже хорошо. В экстракте[14], который учинили с отцом в Париже в октябре 1715 года, было сказано, чтоб оному Растреллию с большим своим сыном и учеником в службе императорской быть три года и работать во всех художествах и ремеслах, которые он умеет, и обучать оному русских, а жалованья давать обоим по тысяче пятьсот рублей на год… Дорожные протори от Парижа до С.-Петербурга за него, за сына и ученика его заплатить ему, безденежную квартиру на три года, в которое время дать ему даром место на строение особливого его дому, и ежели по трех годах не похочет больше быть в службе, вольно ему ехать, куда он похочет…
Условия, какие им тогда предложили, были так выгодны, что отказываться от них было просто глупо.
И все равно настроение, в котором они покидали Париж, было не из веселых: оставляли нажитое место, дом, матушку, родственников, ринувшись в неведомую страну. За тридевять земель. Большую часть дороги отец молчал, а сын смотрел в окно коляски и сдерживал себя — ему хотелось болтать, расспрашивать отца, делиться впечатлениями. Порой он испытывал вдруг необъяснимую радость: новое манило… Они ехали работать. Ехали возделывать необъятное поле российского художества.
…Красота Тироля вывела отца из оцепенения. Горы, горы, горы — в продолжение восьми дней. Крутые вершины, облаченные в снежные мантии, скалы, напоминающие орган, вселяли светлые мечты. "Все будет хорошо, все сложится как нельзя лучше", — думал младший Растрелли.
"Мама, я вижу лунный рог сквозь мокрые сучья, — писал он в Париж, — его отлили из самого чистого серебра, мы уже двенадцать дней движемся в сторону России, а пока за окном чудесная Италия, оттуда морским путем к северу".
Из Аугсбурга ехали на Триест, и все немецкое давно убежало назад, сменившись итальянским. Другим стало небо, другой земля, по-другому засвистали птицы в кустах. Мантуя, Модена, Болонья сразу же поколебали желание ехать скорее и нигде не задерживаться. Россия все еще была очень далеко, а Италия звала наслаждаться жизнью и забыть обо всем. Наконец они приехали в Кенигсберг, и там 14 февраля 1716 года нагнал их царский поезд. Беседа отца с царем Петром происходила в порту, когда переменяли подводы и царь осматривал верфь.
Около часу беседовали они. Петру отец, очевидно, понравился, ведь он видел перед собой человека основательного, надежного, верного. Он чувствовал в нем искушенного мастера. По вкусу, видно, пришлись ему здравые и откровенные суждения отца. И о царе отец рассказывал сыну потом с большой теплотой, совершенно им покоренный. Франческо понял, что отец не только искал в нем опору для всей их будущей жизни. Он охватил как художник весь облик Петра — с его простодушием, с его человеческим достоинством. Это была модель — что надо! Человек упорный, настойчивый, мужественный, взваливший на свои плечи добровольно управление огромной державой, которую ему захотелось переделать и обновить.
— Езжай, Растрелли, трудись, — напутствовал отца царь, — может, пользу принесешь моему отечеству, а я прикажу сделать для тебя все, что надобно для безнуждной жизни. Дам тебе письмо к Меншикову с необходимыми указаниями.
— Будем способствовать благу России художеством по мере дарований наших! — весело выпалил отец в ответ.
Письмо царя Меншикову гласило: "Доноситель сего Растрелли, который нанят во Франции, и которого тракта-мент при сем прилагаю, и когда он к вам прибудет, то проб против договору исправно было плачено на наш счет, также квартиры и прочее. Также чтобы даром времени не тратить, велите пробы ему своего мастерства делать и модель палатам и огороду (саду) в Стрельне, и понеже вы не всегда в Петербурге будете, того для прикажите Брюсу, дабы он за ним смотрел, а они к нему и прибежище имеют".
Но сего монарху показалось не совсем достаточно. Он, как передавали, приписал еще и Брюсу: "Мастеровые люди Растреллий с товарищи из Франции едут в нашу службу, о которых я довольно писал к князю Меншикову, но понеже оной отлучаться будет (о чем и к нему писал), дабы они к вам прибежище имели, и вы о них старайтесь же, чтобы даром не жили, но пробы своего мастерства делали, также чтоб модель палатам и огороду в Стрелине своего мнения сделали".
Франческо выпросил это письмо у Меншикова, когда узнал о смерти Петра. Таковой царский рескрипт был и памятью доброй о нем и мог когда-нибудь сгодиться. Было в этих письмах что-то очень доброе, живое, человеческое.
И вот при таком благоприятствии колесо фортуны все же скрипнуло.
Все дело в архитекторе Леблоне и в некоторых щекотливых свойствах старшего Растрелли.
Жан-Батист Леблон — архитектор французской нации — приехал в Россию чуть позже их. Он привез с собой запас блестящих идей, которые намеревался воплотить в жизнь в Санкт-Питербурхе.
Петр хотел облечь несбывшиеся мечты России в форму прекрасного града. Муки и страдания оставались величественным фасадом.
Пристойное могуществу державы великолепие новой северной столицы позволило впоследствии одному замечательному испанцу заметить, что Петр I был самым великим художником России в широком смысле этого слова, ибо он нарисовал в своем воображении замечательный город и упорно создавал его на огромном холсте природы.
Леблон был человек необыкновенный и хорошо знал, для чего живет на этом свете. Вот он-то, Леблон, а вернее, ссора между ним и отцом способствовала тому, что царь резко изменил свое первоначальное зародившееся к Растрелли доброе мнение и весьма охладел и переменился к фамилии Растрелли.
Но спервоначала следовало бы почтить достойной памятью большого архитектора, каковым был Леблон. Он был честен, не умел притворяться и, получив выгодный ангажемент от Петра, отнесся к своим обязанностям крайне добросовестно.
Ради справедливости заметим, что старший Растрелли бывал слишком упоен собой, успехами сына, болезненно тщеславен. Его пьянила удачливость в делах. Общение с ним в такие периоды становилось невозможным. Он смотрел на всех свысока, его охватывала какая-то дьявольская дерзость и нетерпимость, исступленное самообожание. Потом это проходило. Но он успевал нажить себе врагов, которые мстили ему в отместку за обиды, нанесенные им невзначай, или вымещали на нем свою бездарность. Это его состояние напоминало внезапно налетевший южный ветер, который взбаламучивает все вокруг, подымает на море шторм, гнет и ломает деревья. А после внезапно исчезает.
Только объятое беспокойством море еще долго шумит и бьется в ярости.
Так вот тот же Иван Лефорт, который уговорил Растрелли ехать в Россию, указал царю и на знаменитого парижского архитектора Леблона, рекомендуя его как искусного мастера многоразличных художеств, пользующегося во Франции большим авторитетом.
Петр, как известно, на веру ничего не принимал и поручил разузнать о Леблоне прозорливому комиссару Адмиралтейства Конону Зотову, который был тогда в Париже. Зотов разузнал и заключил с Леблоном контракт, где француз титулован генерал-архитектором с окладом в пять тысяч рублей в год. Зотов сам решил сопровождать архитектора, чтоб ускорить дело и чтоб дешевле стала дорога.
В мае 1716 года они оба прибыли в Амстердам, затем через Нарден и Оснабрюк пустились в Пирмонт. Здесь Петр отдыхал и пользовался лечебными водами.
Художник был представлен русскому царю. Тогда же Петр написал Меншикову: "На сих днях приехал сюда Конон Зотов и привез с собою из Франции славного архитектора и механика Леблона и прочих мастеров, которые приняли нашу службу, и оных к вам отправим сухим путем".
С Леблоном царь был неотлучно не только во время пребывания своего в Пирмонте, но и в пути до Шверина. В июне Петр снова пишет Меншикову: "Доносителя сего Леблона примите приятно и по его контракту довольствуйте, ибо сей мастер из лучших и прямою диковинкою есть, как я в короткое время мог его рассмотреть. К тому же не ленив, добрый и умный человек, также кредит имеет великий в мастеровых во Франции и кого надобно через него достать можем. И для того объяви всем архитекторам, чтобы все дела, которые вновь начинать будут, чтобы без его подписи на чертежах не строили, также и старое что можно еще исправить".
О государственной пользе хлопотал царь, хотел порядок навести в градостроительстве, да не учел важного обстоятельства: четкость военного приказа хороша в среде людей покорных. Но отдать команду художнику, его внутреннему побуждению, его одержимости — пустое дело. Всякая попытка сделать это — несостоятельна. Никак нельзя не считаться с самолюбиями художников, в коих и проявляется вернее всего их настоящая ценность.
Ментиков отдал официальный приказ: собрать всех архитекторов в городовую Канцелярию, где Леблон изложит им свои соображения.
Ну и собрались инженер-полковник Трезини, Матарнови, Браунштейн, граф Растрелли, Михайло Земцов, Шедель, Швертфегер и прочие.
Все это были опытные и добрые мастера, наделенные и талантом, и трезвым расчетом, но Леблон стал разговаривать с ними заносчиво и прибавил, что планировать будет он, а остальные будут контролерами на стройке, что все его решения обязательны. Тут старший Растрелли не выдержал, вспылил, затопал ногами как ужаленный. Он закричал:
— Как другие — не знаю, а я лично тебя слушать не хочу и не буду! Леблон, мне ты не указчик! Ты генерал, а я архитектор и скульптор, я таких, как ты, генералов могу за день вылепить целую дюжину! А приказы я буду выполнять только двоих — господа бога нашего и императора всероссийского. Да и то, пока я у него на службе…
Отец не верил, что царская воля такова, чтобы все подчинялись Леблону, который не хочет считаться ни с русской строительной традицией, ни с мнением коллег, ни даже с самим князем Меншиковым, которому он прямо говорил о его упущениях. А того это бесило неимоверно. Недовольство Леблоном росло среди вельмож, которые имели отношение к строительству. Роптать-то на Леблона роптали, но с известной осторожностию, потому что царь мог за это строго взыскать. Все знали, в какую ярость мог прийти Петр, если видел, что кто-то пытается ему мешать, становится поперек.
Леблон обладал многими знаниями, провести его было невозможно. Его энергия преодолевала все затруднения. Он представил царю свой проект застройки и планировки Петербурга. Он отобрал у Растрелли-старшего план Стрельны, признав его малопригодным. Генерал-архитектор Леблон сам произвел точное исследование местности и нивелировку. Он подал царю "Положение места и строения", с планом Стрельнинского дворца. В это же время Меншиков жаловался Петру, что у Леблона ничего не делается, хотя сам мешал французу, задерживая производство работ.
В своих планах Леблон слишком доверялся геометрическому духу. Он не хотел считаться с природными условиями. Его город должен был быть строгим, сухим, тесным. Так, он наложил овал, образуемый крепостными стенами Петербурга, прямо на то место, где Нева сливается с Невкой.
Это вызвало у всех архитекторов недоумение, а потом сильно развеселило. Леблон молча и задумчиво глядел на свой проект и был, казалось, невозмутим. Он моргал своими густыми белесыми ресницами, а потом взял и передвинул центр города на запад. Сердцевиной Петербурга Леблон хотел сделать императорский дворец в центре Васильевского острова. Но по общему мнению всех петербургских архитекторов, сердцем новой столицы должно было стать Адмиралтейство на берегу Невы. Когда центр передвинулся в излучину реки, Нева — эта дразнящая блистательная красавица с ее плавным течением — сама собой вошла в общую композицию города.
Есть архитекторы, которые уповают на линейку и циркуль, забывая, что города рождаются, как люди, и не поддаются выравниванию и образумлению. Вон вдоль берегов Невы вытянулись парадные постройки, дворцы, напротив них — Петропавловская крепость. Хмуро поглядывают они друг на друга. Три магистрали прошили город, словно в Версале, сойдясь в одной точке, но им наперерез устремились поперечные проспекты и каналы. Это создает впечатление спокойствия и простора. А Леблон считает, что в Петербурге все идет вопреки единому продуманному общему плану.
Но оставим пока что в покое планировку города. Нас больше волнует судьба самого Леблона в России. Она вдруг пересеклась с судьбой семьи Растрелли.
Случилось так, что Леблон потребовал, чтобы все начальнейшие художники, которые работают при фортификациях, домах, садах, мануфактуре и при других художествах в городе Санкт-Питербурхе, собирались в назначенный день и час раз в неделю. Собрание это должно было обсуждать вопросы о ходе работ и рабочих силах, и тут же, смотря по надобности, давались бы приказания и заявлялись требования о материалах и рабочих письменно. И настаивал еще, чтобы учреждена была должность комиссара, на обязанности которого была корреспонденция с подлежащими местами и лицами. Леблон предложил князю Меншикову создать Канцелярию строений как специальное учреждение для заведования строительной частью. Он хотел завести всюду, везде и всему самый строгий контроль. Ведь любая проверка есть господство над тобой чужой воли. Это было невыгодно многим. И прежде всего Меншикову.
Отказ Растрелли повиноваться Леблону стал известен царю. I учи сгустились над головами графской фамилии.
Ждали гроз и молний.
Но Растрелли и не думал уступать претензиям пришельца.
И вот тайный советник и кавалер Алексей Михайлович Черкасский передал скульптору, что он отстраняется от дел и отныне будет производить работы не из жалованья, а с торгу, по договорам. Отрешение от жалованья и подрядные работы поштучно показались Растрелли немалым униженьем. И он подал челобитную, что ежели ему в службе отказывают за негодностью, то пусть Канцелярия даст ему полный расчет. Вскоре им объявили, что вновь контракта с отцом заключать не будут, а чтобы он впредь не имел причины бить челом, дать ему из Коллегии иностранных дел абшит[15].
Из правительствующего Сената к генерал-майору г. Сенявину пошло строгое указание: "Обретающиеся у графа Растрелли разные вещи работ его принять под охрану, а его, Растреллия, отпустить в Москву, дав ему пашпорт".
Сыну тогда показалось, что дела их пойдут кувырком и, возможно, им вообще следует подумать о возвращении в Европу.
Но отец воспринял события по-своему…
ачалось у них все слишком даже хорошо. В экстракте[14], который учинили с отцом в Париже в октябре 1715 года, было сказано, чтоб оному Растреллию с большим своим сыном и учеником в службе императорской быть три года и работать во всех художествах и ремеслах, которые он умеет, и обучать оному русских, а жалованья давать обоим по тысяче пятьсот рублей на год… Дорожные протори от Парижа до С.-Петербурга за него, за сына и ученика его заплатить ему, безденежную квартиру на три года, в которое время дать ему даром место на строение особливого его дому, и ежели по трех годах не похочет больше быть в службе, вольно ему ехать, куда он похочет…
Условия, какие им тогда предложили, были так выгодны, что отказываться от них было просто глупо.
И все равно настроение, в котором они покидали Париж, было не из веселых: оставляли нажитое место, дом, матушку, родственников, ринувшись в неведомую страну. За тридевять земель. Большую часть дороги отец молчал, а сын смотрел в окно коляски и сдерживал себя — ему хотелось болтать, расспрашивать отца, делиться впечатлениями. Порой он испытывал вдруг необъяснимую радость: новое манило… Они ехали работать. Ехали возделывать необъятное поле российского художества.
…Красота Тироля вывела отца из оцепенения. Горы, горы, горы — в продолжение восьми дней. Крутые вершины, облаченные в снежные мантии, скалы, напоминающие орган, вселяли светлые мечты. "Все будет хорошо, все сложится как нельзя лучше", — думал младший Растрелли.
"Мама, я вижу лунный рог сквозь мокрые сучья, — писал он в Париж, — его отлили из самого чистого серебра, мы уже двенадцать дней движемся в сторону России, а пока за окном чудесная Италия, оттуда морским путем к северу".
Из Аугсбурга ехали на Триест, и все немецкое давно убежало назад, сменившись итальянским. Другим стало небо, другой земля, по-другому засвистали птицы в кустах. Мантуя, Модена, Болонья сразу же поколебали желание ехать скорее и нигде не задерживаться. Россия все еще была очень далеко, а Италия звала наслаждаться жизнью и забыть обо всем. Наконец они приехали в Кенигсберг, и там 14 февраля 1716 года нагнал их царский поезд. Беседа отца с царем Петром происходила в порту, когда переменяли подводы и царь осматривал верфь.
Около часу беседовали они. Петру отец, очевидно, понравился, ведь он видел перед собой человека основательного, надежного, верного. Он чувствовал в нем искушенного мастера. По вкусу, видно, пришлись ему здравые и откровенные суждения отца. И о царе отец рассказывал сыну потом с большой теплотой, совершенно им покоренный. Франческо понял, что отец не только искал в нем опору для всей их будущей жизни. Он охватил как художник весь облик Петра — с его простодушием, с его человеческим достоинством. Это была модель — что надо! Человек упорный, настойчивый, мужественный, взваливший на свои плечи добровольно управление огромной державой, которую ему захотелось переделать и обновить.
— Езжай, Растрелли, трудись, — напутствовал отца царь, — может, пользу принесешь моему отечеству, а я прикажу сделать для тебя все, что надобно для безнуждной жизни. Дам тебе письмо к Меншикову с необходимыми указаниями.
— Будем способствовать благу России художеством по мере дарований наших! — весело выпалил отец в ответ.
Письмо царя Меншикову гласило: "Доноситель сего Растрелли, который нанят во Франции, и которого тракта-мент при сем прилагаю, и когда он к вам прибудет, то проб против договору исправно было плачено на наш счет, также квартиры и прочее. Также чтобы даром времени не тратить, велите пробы ему своего мастерства делать и модель палатам и огороду (саду) в Стрельне, и понеже вы не всегда в Петербурге будете, того для прикажите Брюсу, дабы он за ним смотрел, а они к нему и прибежище имеют".
Но сего монарху показалось не совсем достаточно. Он, как передавали, приписал еще и Брюсу: "Мастеровые люди Растреллий с товарищи из Франции едут в нашу службу, о которых я довольно писал к князю Меншикову, но понеже оной отлучаться будет (о чем и к нему писал), дабы они к вам прибежище имели, и вы о них старайтесь же, чтобы даром не жили, но пробы своего мастерства делали, также чтоб модель палатам и огороду в Стрелине своего мнения сделали".
Франческо выпросил это письмо у Меншикова, когда узнал о смерти Петра. Таковой царский рескрипт был и памятью доброй о нем и мог когда-нибудь сгодиться. Было в этих письмах что-то очень доброе, живое, человеческое.
И вот при таком благоприятствии колесо фортуны все же скрипнуло.
Все дело в архитекторе Леблоне и в некоторых щекотливых свойствах старшего Растрелли.
Жан-Батист Леблон — архитектор французской нации — приехал в Россию чуть позже их. Он привез с собой запас блестящих идей, которые намеревался воплотить в жизнь в Санкт-Питербурхе.
Петр хотел облечь несбывшиеся мечты России в форму прекрасного града. Муки и страдания оставались величественным фасадом.
Пристойное могуществу державы великолепие новой северной столицы позволило впоследствии одному замечательному испанцу заметить, что Петр I был самым великим художником России в широком смысле этого слова, ибо он нарисовал в своем воображении замечательный город и упорно создавал его на огромном холсте природы.
Леблон был человек необыкновенный и хорошо знал, для чего живет на этом свете. Вот он-то, Леблон, а вернее, ссора между ним и отцом способствовала тому, что царь резко изменил свое первоначальное зародившееся к Растрелли доброе мнение и весьма охладел и переменился к фамилии Растрелли.
Но спервоначала следовало бы почтить достойной памятью большого архитектора, каковым был Леблон. Он был честен, не умел притворяться и, получив выгодный ангажемент от Петра, отнесся к своим обязанностям крайне добросовестно.
Ради справедливости заметим, что старший Растрелли бывал слишком упоен собой, успехами сына, болезненно тщеславен. Его пьянила удачливость в делах. Общение с ним в такие периоды становилось невозможным. Он смотрел на всех свысока, его охватывала какая-то дьявольская дерзость и нетерпимость, исступленное самообожание. Потом это проходило. Но он успевал нажить себе врагов, которые мстили ему в отместку за обиды, нанесенные им невзначай, или вымещали на нем свою бездарность. Это его состояние напоминало внезапно налетевший южный ветер, который взбаламучивает все вокруг, подымает на море шторм, гнет и ломает деревья. А после внезапно исчезает.
Только объятое беспокойством море еще долго шумит и бьется в ярости.
Так вот тот же Иван Лефорт, который уговорил Растрелли ехать в Россию, указал царю и на знаменитого парижского архитектора Леблона, рекомендуя его как искусного мастера многоразличных художеств, пользующегося во Франции большим авторитетом.
Петр, как известно, на веру ничего не принимал и поручил разузнать о Леблоне прозорливому комиссару Адмиралтейства Конону Зотову, который был тогда в Париже. Зотов разузнал и заключил с Леблоном контракт, где француз титулован генерал-архитектором с окладом в пять тысяч рублей в год. Зотов сам решил сопровождать архитектора, чтоб ускорить дело и чтоб дешевле стала дорога.
В мае 1716 года они оба прибыли в Амстердам, затем через Нарден и Оснабрюк пустились в Пирмонт. Здесь Петр отдыхал и пользовался лечебными водами.
Художник был представлен русскому царю. Тогда же Петр написал Меншикову: "На сих днях приехал сюда Конон Зотов и привез с собою из Франции славного архитектора и механика Леблона и прочих мастеров, которые приняли нашу службу, и оных к вам отправим сухим путем".
С Леблоном царь был неотлучно не только во время пребывания своего в Пирмонте, но и в пути до Шверина. В июне Петр снова пишет Меншикову: "Доносителя сего Леблона примите приятно и по его контракту довольствуйте, ибо сей мастер из лучших и прямою диковинкою есть, как я в короткое время мог его рассмотреть. К тому же не ленив, добрый и умный человек, также кредит имеет великий в мастеровых во Франции и кого надобно через него достать можем. И для того объяви всем архитекторам, чтобы все дела, которые вновь начинать будут, чтобы без его подписи на чертежах не строили, также и старое что можно еще исправить".
О государственной пользе хлопотал царь, хотел порядок навести в градостроительстве, да не учел важного обстоятельства: четкость военного приказа хороша в среде людей покорных. Но отдать команду художнику, его внутреннему побуждению, его одержимости — пустое дело. Всякая попытка сделать это — несостоятельна. Никак нельзя не считаться с самолюбиями художников, в коих и проявляется вернее всего их настоящая ценность.
Ментиков отдал официальный приказ: собрать всех архитекторов в городовую Канцелярию, где Леблон изложит им свои соображения.
Ну и собрались инженер-полковник Трезини, Матарнови, Браунштейн, граф Растрелли, Михайло Земцов, Шедель, Швертфегер и прочие.
Все это были опытные и добрые мастера, наделенные и талантом, и трезвым расчетом, но Леблон стал разговаривать с ними заносчиво и прибавил, что планировать будет он, а остальные будут контролерами на стройке, что все его решения обязательны. Тут старший Растрелли не выдержал, вспылил, затопал ногами как ужаленный. Он закричал:
— Как другие — не знаю, а я лично тебя слушать не хочу и не буду! Леблон, мне ты не указчик! Ты генерал, а я архитектор и скульптор, я таких, как ты, генералов могу за день вылепить целую дюжину! А приказы я буду выполнять только двоих — господа бога нашего и императора всероссийского. Да и то, пока я у него на службе…
Отец не верил, что царская воля такова, чтобы все подчинялись Леблону, который не хочет считаться ни с русской строительной традицией, ни с мнением коллег, ни даже с самим князем Меншиковым, которому он прямо говорил о его упущениях. А того это бесило неимоверно. Недовольство Леблоном росло среди вельмож, которые имели отношение к строительству. Роптать-то на Леблона роптали, но с известной осторожностию, потому что царь мог за это строго взыскать. Все знали, в какую ярость мог прийти Петр, если видел, что кто-то пытается ему мешать, становится поперек.
Леблон обладал многими знаниями, провести его было невозможно. Его энергия преодолевала все затруднения. Он представил царю свой проект застройки и планировки Петербурга. Он отобрал у Растрелли-старшего план Стрельны, признав его малопригодным. Генерал-архитектор Леблон сам произвел точное исследование местности и нивелировку. Он подал царю "Положение места и строения", с планом Стрельнинского дворца. В это же время Меншиков жаловался Петру, что у Леблона ничего не делается, хотя сам мешал французу, задерживая производство работ.
В своих планах Леблон слишком доверялся геометрическому духу. Он не хотел считаться с природными условиями. Его город должен был быть строгим, сухим, тесным. Так, он наложил овал, образуемый крепостными стенами Петербурга, прямо на то место, где Нева сливается с Невкой.
Это вызвало у всех архитекторов недоумение, а потом сильно развеселило. Леблон молча и задумчиво глядел на свой проект и был, казалось, невозмутим. Он моргал своими густыми белесыми ресницами, а потом взял и передвинул центр города на запад. Сердцевиной Петербурга Леблон хотел сделать императорский дворец в центре Васильевского острова. Но по общему мнению всех петербургских архитекторов, сердцем новой столицы должно было стать Адмиралтейство на берегу Невы. Когда центр передвинулся в излучину реки, Нева — эта дразнящая блистательная красавица с ее плавным течением — сама собой вошла в общую композицию города.
Есть архитекторы, которые уповают на линейку и циркуль, забывая, что города рождаются, как люди, и не поддаются выравниванию и образумлению. Вон вдоль берегов Невы вытянулись парадные постройки, дворцы, напротив них — Петропавловская крепость. Хмуро поглядывают они друг на друга. Три магистрали прошили город, словно в Версале, сойдясь в одной точке, но им наперерез устремились поперечные проспекты и каналы. Это создает впечатление спокойствия и простора. А Леблон считает, что в Петербурге все идет вопреки единому продуманному общему плану.
Но оставим пока что в покое планировку города. Нас больше волнует судьба самого Леблона в России. Она вдруг пересеклась с судьбой семьи Растрелли.
Случилось так, что Леблон потребовал, чтобы все начальнейшие художники, которые работают при фортификациях, домах, садах, мануфактуре и при других художествах в городе Санкт-Питербурхе, собирались в назначенный день и час раз в неделю. Собрание это должно было обсуждать вопросы о ходе работ и рабочих силах, и тут же, смотря по надобности, давались бы приказания и заявлялись требования о материалах и рабочих письменно. И настаивал еще, чтобы учреждена была должность комиссара, на обязанности которого была корреспонденция с подлежащими местами и лицами. Леблон предложил князю Меншикову создать Канцелярию строений как специальное учреждение для заведования строительной частью. Он хотел завести всюду, везде и всему самый строгий контроль. Ведь любая проверка есть господство над тобой чужой воли. Это было невыгодно многим. И прежде всего Меншикову.
Отказ Растрелли повиноваться Леблону стал известен царю. I учи сгустились над головами графской фамилии.
Ждали гроз и молний.
Но Растрелли и не думал уступать претензиям пришельца.
И вот тайный советник и кавалер Алексей Михайлович Черкасский передал скульптору, что он отстраняется от дел и отныне будет производить работы не из жалованья, а с торгу, по договорам. Отрешение от жалованья и подрядные работы поштучно показались Растрелли немалым униженьем. И он подал челобитную, что ежели ему в службе отказывают за негодностью, то пусть Канцелярия даст ему полный расчет. Вскоре им объявили, что вновь контракта с отцом заключать не будут, а чтобы он впредь не имел причины бить челом, дать ему из Коллегии иностранных дел абшит[15].
Из правительствующего Сената к генерал-майору г. Сенявину пошло строгое указание: "Обретающиеся у графа Растрелли разные вещи работ его принять под охрану, а его, Растреллия, отпустить в Москву, дав ему пашпорт".
Сыну тогда показалось, что дела их пойдут кувырком и, возможно, им вообще следует подумать о возвращении в Европу.
Но отец воспринял события по-своему…
 так, его зовут Франческо Бартоломео Растрелли. Он приехал в Россию, в Санкт-Питербурх из Парижа в 1716 году, 23 марта. День этот он помнит хорошо — такие дни оставляют в жизни глубокий след. После Франции Россия кажется иноземцу косолапой и первобытной. И он начал открывать ее для себя в первый же день, поражаясь то мрачной угрюмости людей и природы, то их неожиданному веселью — бесшабашному, с надсадной хрипотой пьяных песен.
Шумела в ушах новая жизнь, казавшаяся и нелепой, и наивно прекрасной.
В рекомендательном письме, которое царь Петр дал Растрелли-отцу для Меншикова, было предписано, чтобы им исправно платили и довольствовали во всем. Для привады других. Это исполнялось неукоснительно. Поселены они были на Васильевском острову возле Меншикова. Как он сказал, — для лучшего надзирания. Их возили на обеды с сиятельствами и высочествами, с пышными трапезами, музыками и хорошенькими женщинами. Они сразу почувствовали себя здесь людьми не чужими, не случайными постояльцами. Радушию, казалось, не было границ. А потому — к новой жизни Растрелли привыкали быстро, все больше и больше окунаясь в работу, которая была для них истинным наслажденьем. Великий государь по горло загружал старшего Растрелли — модели машин для исполнения фонтанных труб, бюст самого царя, бюст Меншикова, восковая барельефа с красками, являющая Полтавскую баталию, модель фонтанного каскада для Петергофии, фронтиспис на книге морского регламента, чертеж для строения Сената, портрет Петра в дереве для военного корабля, модели для маскарадных платьев, персону майора Бухвостова. Все нужно было беспокойному государю. Способность действовать толково и энергично ценилась в России высоко — это Растрелли сразу почувствовали. Произведения их труда принимались благосклонно, с благодарностью. Тут-то сын увидел воочию высокую одаренность своего отца, его искушенность и опытность в делах самых разных. Франческо восхищался способностью отца думать быстро, решать неотложно, делать все необыкновенно убедительно. Позднее он понял, как много значило для него, что рядом есть такой надежный человек, такая светлая голова. Деловая напористость зажигала душу, расшевеливала, да так, что чесались руки. Хотелось самому работать, работать, работать.
Теперь Франческо тридцать лет, и сделать в России он уже успел много: составил подробный генеральный план расположения мызы Стрельны, а также приступил к изготовлению модели большого сада с видом на море. Руководил постройкой каменного дворца в Бенгенбауме, равно как и нижнего сада и увеселительного дома, который ранее принадлежал князю Меншикову и находится в девяти верстах от Петергофа. Построил в конце Миллионной улицы дворец государю Волосскому, князю Молдавии, сенатору и кавалеру ордена святого Андрея Дмитрию Кантемиру на набережной Невы и в течение двух лет отделывал покои дома барона Шафирова. За свое архитектурное искусство в палатах Шафирова по распоряжению императрицы Екатерины I получено им триста шестьдесят рублей. Это его первый большой заработок в России. Да, он, граф Франческо Бартоломео Растрелли, итальянской нации, но он знает — строить в Санкт-Питербурхе надобно на манер голландских особняков и парижского учителя маэстро Блонделя. Работу ищет, которая была бы ему по сердцу. Труд архитектора для Растрелли — радостная основа жизни. Более всего хочется ему строить дворцы в италианском стиле на принципах, выработанных Витрувием и Виньолой. Он любит игру света, скульптурность и живописность, великолепие и торжественную нарядность. Все должно быть в гармоничном единстве — колонны, пилястры, бесконечные фасады, богатство светотени.
Он твердо знает теперь: нужно искать свой собственный стиль — простой и сложный, свежий и утонченный. Никто не станет спорить: классицизм Трезини, Земцова, Коробова, Квасова хорош, содержателен, наполнен. Настойчивое терпенье подымает их творения до совершенства. А он, Растрелли, хочет передать в архитектуре свое живое волнение. Он поглощен идеей легкого, стройного, изящного здания. Стиль — в этом он уже убедился на опыте, когда строил деревянный Анненгоф и воздвигал громадный деревянный дворец в Лефортове, — должен оставлять впечатление массивности и силы, точного чувства пропорций и величия. От дворца Кантемира — первой самостоятельной постройки Растрелли — до дворцов Бирона в Ругентале и Митаве, Третьего зимнего дворца, особняков Кикина и Апраксина архитектор откроет систему собственных мерил. Верхним чутьем он поймет, что главное — это монументальная анфилада, развивающаяся перспектива, протяженность.
1730 годом помечены собственноручные проекты молодого зодчего. Это план бельэтажа летнего Анненгофского дворца и вариант устройства лабиринта, фасад со стороны реки Яузы и главный фасад со стороны Головинских садов, наружный фасад галерей, план части террас со рвом, расположенным перед дворцом. Тут же спланированы Головинский дом и при нем церковь, Оперный дом и прочие строения. И каждое на свой манер: Летний дворец — он летний и есть, легкий, прозрачный, открытый солнцу. А Зимний — совсем другой: добротный и прочный, он в любую метель выстоит, только заиндевеет на сильном морозе, его небесно-голубой цвет ни от холода, ни от ветра и дождя не выгорит.
Франческо чертит, набрасывает, прикидывает. Лицо у него пылает, но рука тверда. Чертежи Растрелли делает очень тщательно тушью и акварелью на бумаге верже.
"Господи, как хорошо, что отец подписал в Париже тогда контракт с русскими! Какой папа молодец", — с гордостью думает он, поражаясь дару его предвиденья. Отец ему говорил: "Ну что же, поедем, поглядим… Если справимся — честь нам и хвала. Этот советник коммерции Иван Лефорт, что договор со мной заключал, искушенный, как старый змий, у него один закон: на торгу все сойдет, торг дружб не признает… Между прочим, этот Иван Лефорт — племянник знаменитого друга царя Франца Лефорта. В дядю умом пошел племянничек, не сплоховал!" Отец трепетал от радости, когда царь Петр дал ему аудиенцию. И царь торопил, просил времени зря не терять и сразу же заняться постройкой дворца в Стрельне.
С этой мызой Стрельна, находящейся в восьми верстах от Петергофа, им, Растрелли, пришлось немало повозиться. И отцу, которого считали мастером на все руки, и сыну. Но от услуг отца потом отказались: в Петербург приехали два видных мастера — Леблон и Микетти. А сыну, которого стали звать Варфоломеем Варфоломеевичем, пришлось приводить в окончание начатые работы. Неспешно шло дело в Стрелиной мызе: начали в 1716-м и только в 1751-м последовал указ об ассигновании средств на возобновленье дворца. В 1754-м начались штукатурные работы, стали строить деревянную парадную лестницу. Потом соорудили двое каменных ворот по чертежу Растрелли. Еще через год к оным воротам изготовили модели статуй и ваз. Заменяли кровлю, делали штучные полы. Стремились к тому, чтобы в Стрельне мог проживать весь двор. В начале 1760 года работы приостановились. А еще через пять лет Контора строения в Стрельне была и вовсе упразднена. "За неимением там строения". Полвека строили и решили: хватит…
…Как только Растрелли приехали в Санкт-Петербург, к ним сразу же пригнали верзилу шведа, из пленных, портного, и он сшил обоим костюмы, какие полагались придворным мастерам: камзол, кафтан, панталоны из добротного красного сукна.
Натянули они на себя парадные чулки небесного цвета, потопали в деревянный пол кожаными башмаками и посмотрели друг на друга. У отца на лице — счастливая улыбка, а у сына глаза вспыхнули. Не так он за себя рад, как за отца: то, что ему не удалось в королевском Париже, наконец-то осуществится здесь, в царском Санкт-Питербурхе. А что место диковатое и не слишком-то обжитое — не беда. Уже целых четырнадцать лет архитектор имеет честь состоять на службе их императорских величеств. С ними носились, окружали заботами. Сам светлейший князь Меншиков ездил с ними на мызу Стрельна, чтобы осмотреть, где чему быть. Прикинули, разметили, и он сразу отдал распоряжение. И уже через неделю пригнали две сотни землекопов. Они тотчас приступили к рытью каналов.
Пошло все как по маслу: будто само собой предполагалось, что для отца и сына Растрелли наступят счастливые времена, никто в их дела лезть не будет, мешать не станет и оскорбительным окриком не оглушит. По учиненной с Лефортом капитуляции[16] перед ними открылось необъятное поле, словно приготовленное для вспашки. Радужные мечты наполняли отца и сына. Еще бы! Жизнь всякого человека бессмысленна, если он не испытывает хотя бы краткий миг счастья. Попробуй проживи, если все затянуто паутиной тоски, одето в серый цвет, словно в петербургский береговой туман. Нет, нужен хоть луч радости. Им дали возможность проявить свои таланты, показать силу. А достоинства, прилежания, мастерства — им не занимать!
Был Растрелли-сын счастлив сверх положенного. Сладко замирала в нем душа. Его обуревали замыслы — один грандиозней другого. Мечты становились снами. Легкими, радужными. Ему снились дворцы с золочеными скульптурами и богато украшенными лепниной залами, снились вереницы окон, вельможи, важно шествующие по лестницам в изысканных златотканых одеждах. Снились шелковые обои всех цветов и оттенков, зеркала, дорогая резная мебель. Иногда он видел в своих снах отца и самого себя, картинных, окруженных редкостной, царски щедрой почтительностью. Он не удивлялся: природный художник достоин благ, как никто другой на земле.
Любовь к художеству среди людей — проявление их творящего естества, а в государстве забота об искусствах — знак гуманной нравственности и правительственной мудрости. Франческо не обращал внимания на жалобы отца, что, дескать, дом им дали тесный: комнат мало, холодновато, пустовато, не так, как было в Париже. Отец "забывал, что в Париже он не замечал ничего, потому что ждал славы, а вместо нее дождался мыслей о горькой судьбе… А таковые убивают человека и жизненные силы подрывают весьма основательно. В петербургских домах повсюду сыро и холодно. Это не беда. Город на гнилом месте стоит.
Генерал-губернатор Мсншиков обещал им подыскать жилье получше, сказал, что есть у него на примете домец на Первой Береговой улице. А улица эта особенная, там что ни строенье — то дворец. Вельможная линия. И живут там избранные из отобранных, самая богатая и знатная местная община. Ну, к примеру, сестра царя — Наталья, нежно им любимая; там же флигель сына государя — Алексея, Жили на Первой Береговой и любовница царя — княгиня Голицына, гофмаршал курляндец Левенвольде, министры, генералы, обер-офицеры, советники, сенаторы, вместе с царствующей фамилией удерживавшие российский державный руль.
Чувства и намерения сына находили у отца отклик, одобренье. Привязанности у них были сходные — больше всего они любили работу, охотно встречались с мастерами из Канцелярии от строений за кружкой пива, чтоб обсудить насущные дела. Частенько туда наведывались архитекторы Шедель, Швертфегер, Николо Микетти, Михайло Земцов — люди достойные, мастера больших дарований.
Это была плеяда, готовая к полной самоотдаче. А потому в них не было низменного равнодушия и черствости, какие сплошь и рядом встречаются среди людей сытых и самодовольных. Эти были упрямы, честны, уверены в себе. Постепенно пиво подогревало, языки развязывались, возникал шум, разгорались споры, чаще всего о художестве. Прислушивался Растрелли-младший к их разговорам, делал для себя открытия, веселился, глядя на разгоряченные лица архитекторов, которые то добродушно отмахивались от чужих доводов, то вдруг закипали и с негодованием набрасывались друг на друга из-за какой-нибудь мелочи, потом снова успокаивались и, устав, лениво отделывались шутливыми язвительными репликами.
— Нет, что вы там ни говорите о барокко в Версале, но согласись, старина Теодор, что вы, немцы, любите сухость, строгость и протокольность, а нам, итальянцам, больше по душе затейливость — пилястры[17], наличники с лепными маскаронами[18], крупный антаблемент[19], арки, колонны, овальные окна, — слышал Франческо голос отца, обращенный к Теодору Швертфегеру, которого он очень любил за ясный ум, доброту и мягкий нрав.
Рука у него в художестве была невероятно уверенная, Швертфегер приехал в Россию в 1716 году, и его сразу же назначили руководителем строительства Александро-Невской лавры. Проект Швертфегера привел обоих Растрелли в восхищение — особенно хороши и выразительны были у него четырехъярусные башни-колокольни с вертикальными плоскими выступами в стене и расставленными на втором ярусе статуями.
— Да что ты ко мне привязался, Растрелли, — слышал Франческо высокий и звонкий голос Теодора Швертфегера. — Оставь, оставь, пожалуйста, в покое немцев, они толк знают, они еще вам, итальянцам, нос утрут — это тебе говорю я, Швертфегер! Мы поднаторели в архитектуре препорядочно, у нас есть и голландская простота, и французский напор идей, и своя собственная стройность.
— Вот я и говорю — понатаскали у всех! — Захмелевший отец таращил глаза и победно улыбался. — Немецкие мышки, все к себе в норку!
И тут, как всегда, на помощь Теодору приходил Микетти. Один только он мог укротить отца, признанного спорщика, человека с необузданным нравом: разойдясь, Растрелли-старший мог свободно огреть противную сторону увесистой палкой, с которой никогда не расставался. Такого рода доводы трудно оспорить. Микетти же мог спорить с любым на равных. Во-первых, у него был увесистый кулак — это не секрет. Во-вторых, у себя на родине Микетти состоял помощником самого Карло Фонтано, выдающегося мастера барочной архитектуры в Италии. В-третьих, он негласно имел звание "генерал-архитектора". А самое главное — он был открытым и прекраснодушным человеком с необычайно острым умом. И на счету Микетти уже были шедевры — и в Италии, и в Германии. Его знали в Европе, охотно приглашали строить.
— Ты, Растрелли, — добродушно махал рукой Микетти, — отливай свои скульптуры, ты в этом мастер, мы знаем, равного тебе, наверно, нет, — хитровато и зычно говорил Микетти и на всякий случай издавал грозный рык — уррр! — а в наше дело ты не лезь! Я тебя прошу! И ты хорошо знаешь, что Теодор из всех немцев больше всего итальянец. Он последователь Райнальди и Борромини. Ты задираешь Теодора просто так, чтоб позлить его, потешить душу, правильно я говорю, господа? А?
Господа — архитекторы и мастера, порядком уже захмелевшие, — согласно кивали головами.
Хитрец Микетти сумел бросить вызов самому русскому царю: он заключил очень выгодный и дорогой контракт, приехал в Россию и стал строить злополучный дворец в Стрельне по собственному проекту. Потом ненадолго отпросился в Италию за какими-то нужными ему материалами и скульптурами. Съездил, вернулся, недолго пожил в Санкт-Питербурхе. В 1723 году снова получил разрешение поехать на родину — и больше в Россию не вернулся никогда. Этот обман привел державного хозяина русской северной столицы в большую ярость.
так, его зовут Франческо Бартоломео Растрелли. Он приехал в Россию, в Санкт-Питербурх из Парижа в 1716 году, 23 марта. День этот он помнит хорошо — такие дни оставляют в жизни глубокий след. После Франции Россия кажется иноземцу косолапой и первобытной. И он начал открывать ее для себя в первый же день, поражаясь то мрачной угрюмости людей и природы, то их неожиданному веселью — бесшабашному, с надсадной хрипотой пьяных песен.
Шумела в ушах новая жизнь, казавшаяся и нелепой, и наивно прекрасной.
В рекомендательном письме, которое царь Петр дал Растрелли-отцу для Меншикова, было предписано, чтобы им исправно платили и довольствовали во всем. Для привады других. Это исполнялось неукоснительно. Поселены они были на Васильевском острову возле Меншикова. Как он сказал, — для лучшего надзирания. Их возили на обеды с сиятельствами и высочествами, с пышными трапезами, музыками и хорошенькими женщинами. Они сразу почувствовали себя здесь людьми не чужими, не случайными постояльцами. Радушию, казалось, не было границ. А потому — к новой жизни Растрелли привыкали быстро, все больше и больше окунаясь в работу, которая была для них истинным наслажденьем. Великий государь по горло загружал старшего Растрелли — модели машин для исполнения фонтанных труб, бюст самого царя, бюст Меншикова, восковая барельефа с красками, являющая Полтавскую баталию, модель фонтанного каскада для Петергофии, фронтиспис на книге морского регламента, чертеж для строения Сената, портрет Петра в дереве для военного корабля, модели для маскарадных платьев, персону майора Бухвостова. Все нужно было беспокойному государю. Способность действовать толково и энергично ценилась в России высоко — это Растрелли сразу почувствовали. Произведения их труда принимались благосклонно, с благодарностью. Тут-то сын увидел воочию высокую одаренность своего отца, его искушенность и опытность в делах самых разных. Франческо восхищался способностью отца думать быстро, решать неотложно, делать все необыкновенно убедительно. Позднее он понял, как много значило для него, что рядом есть такой надежный человек, такая светлая голова. Деловая напористость зажигала душу, расшевеливала, да так, что чесались руки. Хотелось самому работать, работать, работать.
Теперь Франческо тридцать лет, и сделать в России он уже успел много: составил подробный генеральный план расположения мызы Стрельны, а также приступил к изготовлению модели большого сада с видом на море. Руководил постройкой каменного дворца в Бенгенбауме, равно как и нижнего сада и увеселительного дома, который ранее принадлежал князю Меншикову и находится в девяти верстах от Петергофа. Построил в конце Миллионной улицы дворец государю Волосскому, князю Молдавии, сенатору и кавалеру ордена святого Андрея Дмитрию Кантемиру на набережной Невы и в течение двух лет отделывал покои дома барона Шафирова. За свое архитектурное искусство в палатах Шафирова по распоряжению императрицы Екатерины I получено им триста шестьдесят рублей. Это его первый большой заработок в России. Да, он, граф Франческо Бартоломео Растрелли, итальянской нации, но он знает — строить в Санкт-Питербурхе надобно на манер голландских особняков и парижского учителя маэстро Блонделя. Работу ищет, которая была бы ему по сердцу. Труд архитектора для Растрелли — радостная основа жизни. Более всего хочется ему строить дворцы в италианском стиле на принципах, выработанных Витрувием и Виньолой. Он любит игру света, скульптурность и живописность, великолепие и торжественную нарядность. Все должно быть в гармоничном единстве — колонны, пилястры, бесконечные фасады, богатство светотени.
Он твердо знает теперь: нужно искать свой собственный стиль — простой и сложный, свежий и утонченный. Никто не станет спорить: классицизм Трезини, Земцова, Коробова, Квасова хорош, содержателен, наполнен. Настойчивое терпенье подымает их творения до совершенства. А он, Растрелли, хочет передать в архитектуре свое живое волнение. Он поглощен идеей легкого, стройного, изящного здания. Стиль — в этом он уже убедился на опыте, когда строил деревянный Анненгоф и воздвигал громадный деревянный дворец в Лефортове, — должен оставлять впечатление массивности и силы, точного чувства пропорций и величия. От дворца Кантемира — первой самостоятельной постройки Растрелли — до дворцов Бирона в Ругентале и Митаве, Третьего зимнего дворца, особняков Кикина и Апраксина архитектор откроет систему собственных мерил. Верхним чутьем он поймет, что главное — это монументальная анфилада, развивающаяся перспектива, протяженность.
1730 годом помечены собственноручные проекты молодого зодчего. Это план бельэтажа летнего Анненгофского дворца и вариант устройства лабиринта, фасад со стороны реки Яузы и главный фасад со стороны Головинских садов, наружный фасад галерей, план части террас со рвом, расположенным перед дворцом. Тут же спланированы Головинский дом и при нем церковь, Оперный дом и прочие строения. И каждое на свой манер: Летний дворец — он летний и есть, легкий, прозрачный, открытый солнцу. А Зимний — совсем другой: добротный и прочный, он в любую метель выстоит, только заиндевеет на сильном морозе, его небесно-голубой цвет ни от холода, ни от ветра и дождя не выгорит.
Франческо чертит, набрасывает, прикидывает. Лицо у него пылает, но рука тверда. Чертежи Растрелли делает очень тщательно тушью и акварелью на бумаге верже.
"Господи, как хорошо, что отец подписал в Париже тогда контракт с русскими! Какой папа молодец", — с гордостью думает он, поражаясь дару его предвиденья. Отец ему говорил: "Ну что же, поедем, поглядим… Если справимся — честь нам и хвала. Этот советник коммерции Иван Лефорт, что договор со мной заключал, искушенный, как старый змий, у него один закон: на торгу все сойдет, торг дружб не признает… Между прочим, этот Иван Лефорт — племянник знаменитого друга царя Франца Лефорта. В дядю умом пошел племянничек, не сплоховал!" Отец трепетал от радости, когда царь Петр дал ему аудиенцию. И царь торопил, просил времени зря не терять и сразу же заняться постройкой дворца в Стрельне.
С этой мызой Стрельна, находящейся в восьми верстах от Петергофа, им, Растрелли, пришлось немало повозиться. И отцу, которого считали мастером на все руки, и сыну. Но от услуг отца потом отказались: в Петербург приехали два видных мастера — Леблон и Микетти. А сыну, которого стали звать Варфоломеем Варфоломеевичем, пришлось приводить в окончание начатые работы. Неспешно шло дело в Стрелиной мызе: начали в 1716-м и только в 1751-м последовал указ об ассигновании средств на возобновленье дворца. В 1754-м начались штукатурные работы, стали строить деревянную парадную лестницу. Потом соорудили двое каменных ворот по чертежу Растрелли. Еще через год к оным воротам изготовили модели статуй и ваз. Заменяли кровлю, делали штучные полы. Стремились к тому, чтобы в Стрельне мог проживать весь двор. В начале 1760 года работы приостановились. А еще через пять лет Контора строения в Стрельне была и вовсе упразднена. "За неимением там строения". Полвека строили и решили: хватит…
…Как только Растрелли приехали в Санкт-Петербург, к ним сразу же пригнали верзилу шведа, из пленных, портного, и он сшил обоим костюмы, какие полагались придворным мастерам: камзол, кафтан, панталоны из добротного красного сукна.
Натянули они на себя парадные чулки небесного цвета, потопали в деревянный пол кожаными башмаками и посмотрели друг на друга. У отца на лице — счастливая улыбка, а у сына глаза вспыхнули. Не так он за себя рад, как за отца: то, что ему не удалось в королевском Париже, наконец-то осуществится здесь, в царском Санкт-Питербурхе. А что место диковатое и не слишком-то обжитое — не беда. Уже целых четырнадцать лет архитектор имеет честь состоять на службе их императорских величеств. С ними носились, окружали заботами. Сам светлейший князь Меншиков ездил с ними на мызу Стрельна, чтобы осмотреть, где чему быть. Прикинули, разметили, и он сразу отдал распоряжение. И уже через неделю пригнали две сотни землекопов. Они тотчас приступили к рытью каналов.
Пошло все как по маслу: будто само собой предполагалось, что для отца и сына Растрелли наступят счастливые времена, никто в их дела лезть не будет, мешать не станет и оскорбительным окриком не оглушит. По учиненной с Лефортом капитуляции[16] перед ними открылось необъятное поле, словно приготовленное для вспашки. Радужные мечты наполняли отца и сына. Еще бы! Жизнь всякого человека бессмысленна, если он не испытывает хотя бы краткий миг счастья. Попробуй проживи, если все затянуто паутиной тоски, одето в серый цвет, словно в петербургский береговой туман. Нет, нужен хоть луч радости. Им дали возможность проявить свои таланты, показать силу. А достоинства, прилежания, мастерства — им не занимать!
Был Растрелли-сын счастлив сверх положенного. Сладко замирала в нем душа. Его обуревали замыслы — один грандиозней другого. Мечты становились снами. Легкими, радужными. Ему снились дворцы с золочеными скульптурами и богато украшенными лепниной залами, снились вереницы окон, вельможи, важно шествующие по лестницам в изысканных златотканых одеждах. Снились шелковые обои всех цветов и оттенков, зеркала, дорогая резная мебель. Иногда он видел в своих снах отца и самого себя, картинных, окруженных редкостной, царски щедрой почтительностью. Он не удивлялся: природный художник достоин благ, как никто другой на земле.
Любовь к художеству среди людей — проявление их творящего естества, а в государстве забота об искусствах — знак гуманной нравственности и правительственной мудрости. Франческо не обращал внимания на жалобы отца, что, дескать, дом им дали тесный: комнат мало, холодновато, пустовато, не так, как было в Париже. Отец "забывал, что в Париже он не замечал ничего, потому что ждал славы, а вместо нее дождался мыслей о горькой судьбе… А таковые убивают человека и жизненные силы подрывают весьма основательно. В петербургских домах повсюду сыро и холодно. Это не беда. Город на гнилом месте стоит.
Генерал-губернатор Мсншиков обещал им подыскать жилье получше, сказал, что есть у него на примете домец на Первой Береговой улице. А улица эта особенная, там что ни строенье — то дворец. Вельможная линия. И живут там избранные из отобранных, самая богатая и знатная местная община. Ну, к примеру, сестра царя — Наталья, нежно им любимая; там же флигель сына государя — Алексея, Жили на Первой Береговой и любовница царя — княгиня Голицына, гофмаршал курляндец Левенвольде, министры, генералы, обер-офицеры, советники, сенаторы, вместе с царствующей фамилией удерживавшие российский державный руль.
Чувства и намерения сына находили у отца отклик, одобренье. Привязанности у них были сходные — больше всего они любили работу, охотно встречались с мастерами из Канцелярии от строений за кружкой пива, чтоб обсудить насущные дела. Частенько туда наведывались архитекторы Шедель, Швертфегер, Николо Микетти, Михайло Земцов — люди достойные, мастера больших дарований.
Это была плеяда, готовая к полной самоотдаче. А потому в них не было низменного равнодушия и черствости, какие сплошь и рядом встречаются среди людей сытых и самодовольных. Эти были упрямы, честны, уверены в себе. Постепенно пиво подогревало, языки развязывались, возникал шум, разгорались споры, чаще всего о художестве. Прислушивался Растрелли-младший к их разговорам, делал для себя открытия, веселился, глядя на разгоряченные лица архитекторов, которые то добродушно отмахивались от чужих доводов, то вдруг закипали и с негодованием набрасывались друг на друга из-за какой-нибудь мелочи, потом снова успокаивались и, устав, лениво отделывались шутливыми язвительными репликами.
— Нет, что вы там ни говорите о барокко в Версале, но согласись, старина Теодор, что вы, немцы, любите сухость, строгость и протокольность, а нам, итальянцам, больше по душе затейливость — пилястры[17], наличники с лепными маскаронами[18], крупный антаблемент[19], арки, колонны, овальные окна, — слышал Франческо голос отца, обращенный к Теодору Швертфегеру, которого он очень любил за ясный ум, доброту и мягкий нрав.
Рука у него в художестве была невероятно уверенная, Швертфегер приехал в Россию в 1716 году, и его сразу же назначили руководителем строительства Александро-Невской лавры. Проект Швертфегера привел обоих Растрелли в восхищение — особенно хороши и выразительны были у него четырехъярусные башни-колокольни с вертикальными плоскими выступами в стене и расставленными на втором ярусе статуями.
— Да что ты ко мне привязался, Растрелли, — слышал Франческо высокий и звонкий голос Теодора Швертфегера. — Оставь, оставь, пожалуйста, в покое немцев, они толк знают, они еще вам, итальянцам, нос утрут — это тебе говорю я, Швертфегер! Мы поднаторели в архитектуре препорядочно, у нас есть и голландская простота, и французский напор идей, и своя собственная стройность.
— Вот я и говорю — понатаскали у всех! — Захмелевший отец таращил глаза и победно улыбался. — Немецкие мышки, все к себе в норку!
И тут, как всегда, на помощь Теодору приходил Микетти. Один только он мог укротить отца, признанного спорщика, человека с необузданным нравом: разойдясь, Растрелли-старший мог свободно огреть противную сторону увесистой палкой, с которой никогда не расставался. Такого рода доводы трудно оспорить. Микетти же мог спорить с любым на равных. Во-первых, у него был увесистый кулак — это не секрет. Во-вторых, у себя на родине Микетти состоял помощником самого Карло Фонтано, выдающегося мастера барочной архитектуры в Италии. В-третьих, он негласно имел звание "генерал-архитектора". А самое главное — он был открытым и прекраснодушным человеком с необычайно острым умом. И на счету Микетти уже были шедевры — и в Италии, и в Германии. Его знали в Европе, охотно приглашали строить.
— Ты, Растрелли, — добродушно махал рукой Микетти, — отливай свои скульптуры, ты в этом мастер, мы знаем, равного тебе, наверно, нет, — хитровато и зычно говорил Микетти и на всякий случай издавал грозный рык — уррр! — а в наше дело ты не лезь! Я тебя прошу! И ты хорошо знаешь, что Теодор из всех немцев больше всего итальянец. Он последователь Райнальди и Борромини. Ты задираешь Теодора просто так, чтоб позлить его, потешить душу, правильно я говорю, господа? А?
Господа — архитекторы и мастера, порядком уже захмелевшие, — согласно кивали головами.
Хитрец Микетти сумел бросить вызов самому русскому царю: он заключил очень выгодный и дорогой контракт, приехал в Россию и стал строить злополучный дворец в Стрельне по собственному проекту. Потом ненадолго отпросился в Италию за какими-то нужными ему материалами и скульптурами. Съездил, вернулся, недолго пожил в Санкт-Питербурхе. В 1723 году снова получил разрешение поехать на родину — и больше в Россию не вернулся никогда. Этот обман привел державного хозяина русской северной столицы в большую ярость.
 х, Леблон, Леблон! Грех у Растрелли-старшего на душе перед тобой, и грех немалый… Но что поделать ему с собой, если он в полном помешательстве и злости не может ничего, не волен с собой совладать. Художники — народ легковозбудимый, нервический. Их постоянно заносит.
"Санкт-Петербург по неколиком времени будет величайшим и славнейшим паче всех городов на свете". Это твои слова, Леблон, и оба Растрелли готовы подписаться под ними тысячу раз.
Меншиков — герцуг Ижорский — прилагал силы к тому, чтобы обвинить тебя, Леблон, в бездействии, возбудить к тебе недоверие царя. Запятнать чистого человека, сделать его жертвой легко — это везде умеют, а в России делают со страстью, упоеньем и татарским коварством.
Почему — и сам не знает — так мрачно отозвались в его ушах слова Леблона, что все архитекторы должны ему подчиняться?
Растрелли-старший тогда подумал, что вовсе это не царская воля, а распоряжение Меншикова. "Без боя не уступлю", — решил он.
Леблону рекомендовали служителя, который перед тем ушел от Растрелли, и он послал к нему спросить: хороший ли человек, рекомендуемый ему?
Тут Растрелли совсем взбесился и велел передать, что он, граф Растрелли, не желает, чтобы слуга этот у Леблона служил, а если, паче чаянья, возьмет он его к себе, то Растрелли всякими случаями будет творить ему позор и бесчестие. К этой угрозе Растрелли прибавил через посыльного и еще кое-какие обидные жестокие слова. Леблон жаловался Меншикову, но тот только посмеивался.
Потом Леблону случилось проезжать мимо растреллиевского дома. Старший Растрелли велел прикомандированным к нему солдатам выскочить на улицу и как следует француза попугать. Когда его коляска поравнялась с домом, солдаты схватили под уздцы лошадей и стали резать у них упряжь. Переводчик Михей Ершов заорал на солдат, и они нехотя отошли. Но только Леблон успел опять сесть в коляску, как солдаты и еще трое высланных на подмогу лакеев снова бросились, но уже не на лошадей, а на самого Леблона.
Нападавших отогнали. Весть об этом быстро распространилась по всему городу.
Возмущенный до крайности, Леблон написал князю Меншикову, что если он не окажет ему законной защиты от графа Растрелли и его людей, то он принужден будет просить царя отпустить его обратно в отечество.
Меншиков вызвал Растрелли-старшего и строго пригрозил, потребовал оставить Леблона в покое. Граф с веселым бесстрашием потребовал от него полной автономии в своих делах и сказал, что, если его будут заставлять подчиняться Леблону, он немедленно покинет Россию. Меншикову не хотелось терять графа. И он стал склонять Леблона к миру. Тому эта история уже порядком надоела, и он великодушно простил графа.
Растрелли сказали, что Меншиков написал царю письмо, в котором скрыл суть дела, но сообщил, что Растрелли не хочет подчиняться Леблону и просит абшиту, однако ж он, Меншиков, уговорил его и определил, чтобы он в Стрельне, на своем основании начатую модель совершал.
Когда Леблон увидел, что ему всюду ставят палки в колеса, на каждом шагу обманывают, а вокруг кипит вражда и злопыхательство, у него совсем опустились руки. А Растрелли торжествовал.
В этот-то момент и налетел на Леблона царь в Стрельне и увидел, что жалобы Меншикова имеют под собой почву. Стройка почти не движется, обещанное французом не исполнено, мастерских, в которых он обещал обучать русских архитектурии и в помине нет, конца и края начатому не видать. Царь обошел все, повернулся к нему и, выкатив налитые кровью глаза, то ли замахнулся на него дубиной, то ли в сердцах огрел. Леблону этого было слишком. Да еще с его парижской славой.
От огорчения и обиды, как человек гордый и независимый, он приехал домой в сильной тоске, не проболел и недели в горячечном бреду и больше не поднялся. Официально было объявлено, что он болел оспой… Жан-Батисту Леблону не было еще и сорока лет. Россия оказалась для него слишком непосильной ношей. Не так много он успел сделать..
Оставил ты, Леблон, бедного Растрелли с камнем на душе и неспокойной совестью, с чувством стыда и раскаянья за варварскую грубость. И он сделал лишь то единственное, что может сделать один художник для утверждения памяти другого: отлил из бронзы бюст Леблона и отправил его во Францию.
х, Леблон, Леблон! Грех у Растрелли-старшего на душе перед тобой, и грех немалый… Но что поделать ему с собой, если он в полном помешательстве и злости не может ничего, не волен с собой совладать. Художники — народ легковозбудимый, нервический. Их постоянно заносит.
"Санкт-Петербург по неколиком времени будет величайшим и славнейшим паче всех городов на свете". Это твои слова, Леблон, и оба Растрелли готовы подписаться под ними тысячу раз.
Меншиков — герцуг Ижорский — прилагал силы к тому, чтобы обвинить тебя, Леблон, в бездействии, возбудить к тебе недоверие царя. Запятнать чистого человека, сделать его жертвой легко — это везде умеют, а в России делают со страстью, упоеньем и татарским коварством.
Почему — и сам не знает — так мрачно отозвались в его ушах слова Леблона, что все архитекторы должны ему подчиняться?
Растрелли-старший тогда подумал, что вовсе это не царская воля, а распоряжение Меншикова. "Без боя не уступлю", — решил он.
Леблону рекомендовали служителя, который перед тем ушел от Растрелли, и он послал к нему спросить: хороший ли человек, рекомендуемый ему?
Тут Растрелли совсем взбесился и велел передать, что он, граф Растрелли, не желает, чтобы слуга этот у Леблона служил, а если, паче чаянья, возьмет он его к себе, то Растрелли всякими случаями будет творить ему позор и бесчестие. К этой угрозе Растрелли прибавил через посыльного и еще кое-какие обидные жестокие слова. Леблон жаловался Меншикову, но тот только посмеивался.
Потом Леблону случилось проезжать мимо растреллиевского дома. Старший Растрелли велел прикомандированным к нему солдатам выскочить на улицу и как следует француза попугать. Когда его коляска поравнялась с домом, солдаты схватили под уздцы лошадей и стали резать у них упряжь. Переводчик Михей Ершов заорал на солдат, и они нехотя отошли. Но только Леблон успел опять сесть в коляску, как солдаты и еще трое высланных на подмогу лакеев снова бросились, но уже не на лошадей, а на самого Леблона.
Нападавших отогнали. Весть об этом быстро распространилась по всему городу.
Возмущенный до крайности, Леблон написал князю Меншикову, что если он не окажет ему законной защиты от графа Растрелли и его людей, то он принужден будет просить царя отпустить его обратно в отечество.
Меншиков вызвал Растрелли-старшего и строго пригрозил, потребовал оставить Леблона в покое. Граф с веселым бесстрашием потребовал от него полной автономии в своих делах и сказал, что, если его будут заставлять подчиняться Леблону, он немедленно покинет Россию. Меншикову не хотелось терять графа. И он стал склонять Леблона к миру. Тому эта история уже порядком надоела, и он великодушно простил графа.
Растрелли сказали, что Меншиков написал царю письмо, в котором скрыл суть дела, но сообщил, что Растрелли не хочет подчиняться Леблону и просит абшиту, однако ж он, Меншиков, уговорил его и определил, чтобы он в Стрельне, на своем основании начатую модель совершал.
Когда Леблон увидел, что ему всюду ставят палки в колеса, на каждом шагу обманывают, а вокруг кипит вражда и злопыхательство, у него совсем опустились руки. А Растрелли торжествовал.
В этот-то момент и налетел на Леблона царь в Стрельне и увидел, что жалобы Меншикова имеют под собой почву. Стройка почти не движется, обещанное французом не исполнено, мастерских, в которых он обещал обучать русских архитектурии и в помине нет, конца и края начатому не видать. Царь обошел все, повернулся к нему и, выкатив налитые кровью глаза, то ли замахнулся на него дубиной, то ли в сердцах огрел. Леблону этого было слишком. Да еще с его парижской славой.
От огорчения и обиды, как человек гордый и независимый, он приехал домой в сильной тоске, не проболел и недели в горячечном бреду и больше не поднялся. Официально было объявлено, что он болел оспой… Жан-Батисту Леблону не было еще и сорока лет. Россия оказалась для него слишком непосильной ношей. Не так много он успел сделать..
Оставил ты, Леблон, бедного Растрелли с камнем на душе и неспокойной совестью, с чувством стыда и раскаянья за варварскую грубость. И он сделал лишь то единственное, что может сделать один художник для утверждения памяти другого: отлил из бронзы бюст Леблона и отправил его во Францию.
 у студеную зиму 1730 года все запомнили, потому что в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января в начале первого часа скончался император Петр Второй.
Еще с вечера стали съезжаться в московский Лефортовский дворец, где умирал четырнадцатилетний монарх, члены Верховного тайного совета, знать, архиереи, сенаторы, генералитет. Все были настроены тревожно, выжидательно, жались друг к другу, связанные невольным сознаньем общности и перемены судьбы.
Дворец, когда-то построенный итальянцем Джованни Фонтана, трещал от прибывающих. Отец и сын Растрелли затерялись в этой толпе. Никому до них не было дела.
Когда старший Растрелли узнал, что юный император при смерти, его ожгло, нужно быть там! "Немедленно едем в Москву, — заявил отец, — собирайся, Франческо, поедешь со мной!"
Необыкновенно деятельный, теперь он обрел еще и нешуточную проницательность — не только как человек, прошедший сквозь житейские невзгоды, но и как высокопоставленный житель Санкт-Петербурга, и просто как россиянин, который никак не может оборониться от вывертов судьбы.
Новой императрице Анне Иоанновне, надеясь, что сумеет пробиться к ней лично, Растрелли-старший прихватил в подарок бюст ее матери, который до того без дела стоял в его мастерской. Вот она, истинная предусмотрительность художника: без расчета делал, впрок, и вот пригодилось!
За четырнадцать лет, что они прожили в России, уже четвертый государь император сменяется. До сих пор жизнь их складывалась, слава богу, сносно. А теперь что будет? Растрелли хорошо понимал, что условия русской жизни с их внезапной переменчивостью, опасностями и разгулом страстей необычны и приход нового императора означает некий переломный момент истории.
у студеную зиму 1730 года все запомнили, потому что в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января в начале первого часа скончался император Петр Второй.
Еще с вечера стали съезжаться в московский Лефортовский дворец, где умирал четырнадцатилетний монарх, члены Верховного тайного совета, знать, архиереи, сенаторы, генералитет. Все были настроены тревожно, выжидательно, жались друг к другу, связанные невольным сознаньем общности и перемены судьбы.
Дворец, когда-то построенный итальянцем Джованни Фонтана, трещал от прибывающих. Отец и сын Растрелли затерялись в этой толпе. Никому до них не было дела.
Когда старший Растрелли узнал, что юный император при смерти, его ожгло, нужно быть там! "Немедленно едем в Москву, — заявил отец, — собирайся, Франческо, поедешь со мной!"
Необыкновенно деятельный, теперь он обрел еще и нешуточную проницательность — не только как человек, прошедший сквозь житейские невзгоды, но и как высокопоставленный житель Санкт-Петербурга, и просто как россиянин, который никак не может оборониться от вывертов судьбы.
Новой императрице Анне Иоанновне, надеясь, что сумеет пробиться к ней лично, Растрелли-старший прихватил в подарок бюст ее матери, который до того без дела стоял в его мастерской. Вот она, истинная предусмотрительность художника: без расчета делал, впрок, и вот пригодилось!
За четырнадцать лет, что они прожили в России, уже четвертый государь император сменяется. До сих пор жизнь их складывалась, слава богу, сносно. А теперь что будет? Растрелли хорошо понимал, что условия русской жизни с их внезапной переменчивостью, опасностями и разгулом страстей необычны и приход нового императора означает некий переломный момент истории.
 от, кому доводилось ночевать в чужом, незнакомом месте, хорошо знает, что это такое, — пусто, неуютно, одиноко. В России большая часть приезжих иноземцев сильно тяготилась переменой своей судьбы — они печалились, им в голову лезли страшные мысли. Многие безобразия местной жизни для них были неразрешимой загадкой. Они жили с тяжелым сердцем, а досада, как известно, разрушает телесный состав весьма успешно и скоро.
Что до меня — ничего подобного я не испытывал. Занимался своим делом — от темна до темна. Про меня иные говорили: этот Растрелли — продувная бестия, ему все нипочем, он ничего не видит вокруг, никого не любит, кроме самого себя… Такой бабьей трепни и пустобайства я вдоволь наслушался. А знал свое: попал наконец туда, где можно осуществить желанное, давние мечты. Кто не может себе этого позволить, тот плохой художник. Россия стала для меня родным домом. Я гордился участью сына. Он всех поражал быстрыми успехами. Мы стали своими в среде мастеров и очень скоро привыкли к новому образу жизни. О другой судьбе и не помышляли.
В Париже нам вдалбливали: Россия — страна грубая, варварская, полудикая. Там чуть что — свистят плети, рвут ноздри, урезают языки. Говорили, что за малейшую провинность могут подвергнуть экзекуции, упечь безо всякого суда в темницу. Я вспоминаю тогдашние свои чувства: когда слышал все это, становилось не по себе. За себя страха не было, а за сына… По указу Петра Первого мы были причислены на первых же порах к первостатейным гражданам государства как люди благопотребные к делам художества. По видимости, сие служило гарантией от всяких разбойных непотребств, хотя необузданный российский произвол никогда ни с чем не считался. Об этом мы тоже знали. Само собой: поехав, мы с сыном шли на определенный риск. Знание давало подмогу в том хотя б, что врасплох нас застать суду неправому не пришлось бы. А кто из нас, живых, не рискует? Ведь если задуматься, то получится, что вся наша жизнь состоит из мелочного, копеечного риска.
Вот к чему мы никак не могли привыкнуть — так это к угрюмости и мраку погоды, ледяному ветру и ненастью, сырым сумеркам и вьюгам. Мы были южане, привыкли к теплу, солнцу — каждый день, звездному небу — каждую ночь. А Петербург был серый, мрачный, холодный. Вновь обретенное нами отечество ни теплом, ни солнечным светом не баловало — приходилось пожарче топить печи, чтобы хоть дровяным жаром возместить свет.
Помню, я как-то сказал сыну, что архитектура очень нуждается в хорошем освещении, а тут в России его мало и будет трудно вписать любую постройку в местность так, чтобы она в ней не пропала. А сын ответил, что как раз ему и нравится такая среда: ей нужно больше скульптурности, больше живописности, нужно точнее распределять крупные объемы — и тогда сама собой решится задача освещенности.
— Я буду делать яркое на неярком, вот увидишь, отец, это будет получаться, — сказал мне тогда Франческо. — Я понимаю, папа, освещенность — дело важнейшее. Но мне нужна еще и просветленность, озаренность…
Помню свое гордое удовольствие тем, что сын мой трезво и ясно мыслит и, даст бог, на удивленье всем покажет свои таланты именно в России. Думаю я о сыне, и душа моя переполняется странной возвышенностью.
Мы с сыном упивались работой, хотя и предписывалось жалованья Растреллию больше не давать. Пусть, мол, работает как хочет — по договорам, поштучно от рук своего художества. Ну что ж, подумал я, пинки ваши стерпим. Коли самому государю угодно так — мы артачиться пока не будем, он нужен нам больше, чем мы ему. И судьба наша целиком в его руках. На то он и Петр Великий. А мы — люди маленькие, всего лишь художники.
А держался потому я уверенно, что знал: найти другого скульптора, который бы столько понимал и умел, сколько я, не так-то просто. Деваться им некуда, поневоле будут просить у меня сделать то одно, то другое, голова и расчет у меня есть. Так оно и вышло. Нюх, чутье у меня на сей счет — что надо, могу даже похвастать: у меня выдающийся нюх, уменье предвидеть, хотя в этой державе от неприятностей никто не застрахован, любому дереву ветки подрезают, и живешь так, словно на шаткой лестнице стоишь… Славяне не слишком любят тех, кто живет как у Христа за пазухой, к таким у них много презренья и ненависти, даже гораздо более, нежели ревности. Им больше по душе юродивые. Уменье досадовать на чужую удачу очень развито в русских. Нет у тебя здоровья, а у другого есть — плохо, они чужим здоровьем будут болеть; нет у тебя счастья, а у другого есть — тоже негоже, лучше б он горючими слезами залился, а то, видишь ли, возрадовался сдуру; нет у тебя славы или денег, а у другого их — полным-полно, куры не клюют — так это уже никуда, ни в какие ворота не лезет! Страсть у них — всем и всему перезавидовать.
Мы с сыном немало от сего претерпели. Я князю Меншикову жаловался на завистников, а он хитровато глянул на меня и со своей снисходительностью сказал, что у них завсегда так было — на одного доброхота по семи завистников приходится и, мол, это еще славно, что только по семи, а то и еще более число таковое возрастать может.
Одно скажу: в какие бы передряги я ни попадал — все равно я духом не падал, воли не терял.
от, кому доводилось ночевать в чужом, незнакомом месте, хорошо знает, что это такое, — пусто, неуютно, одиноко. В России большая часть приезжих иноземцев сильно тяготилась переменой своей судьбы — они печалились, им в голову лезли страшные мысли. Многие безобразия местной жизни для них были неразрешимой загадкой. Они жили с тяжелым сердцем, а досада, как известно, разрушает телесный состав весьма успешно и скоро.
Что до меня — ничего подобного я не испытывал. Занимался своим делом — от темна до темна. Про меня иные говорили: этот Растрелли — продувная бестия, ему все нипочем, он ничего не видит вокруг, никого не любит, кроме самого себя… Такой бабьей трепни и пустобайства я вдоволь наслушался. А знал свое: попал наконец туда, где можно осуществить желанное, давние мечты. Кто не может себе этого позволить, тот плохой художник. Россия стала для меня родным домом. Я гордился участью сына. Он всех поражал быстрыми успехами. Мы стали своими в среде мастеров и очень скоро привыкли к новому образу жизни. О другой судьбе и не помышляли.
В Париже нам вдалбливали: Россия — страна грубая, варварская, полудикая. Там чуть что — свистят плети, рвут ноздри, урезают языки. Говорили, что за малейшую провинность могут подвергнуть экзекуции, упечь безо всякого суда в темницу. Я вспоминаю тогдашние свои чувства: когда слышал все это, становилось не по себе. За себя страха не было, а за сына… По указу Петра Первого мы были причислены на первых же порах к первостатейным гражданам государства как люди благопотребные к делам художества. По видимости, сие служило гарантией от всяких разбойных непотребств, хотя необузданный российский произвол никогда ни с чем не считался. Об этом мы тоже знали. Само собой: поехав, мы с сыном шли на определенный риск. Знание давало подмогу в том хотя б, что врасплох нас застать суду неправому не пришлось бы. А кто из нас, живых, не рискует? Ведь если задуматься, то получится, что вся наша жизнь состоит из мелочного, копеечного риска.
Вот к чему мы никак не могли привыкнуть — так это к угрюмости и мраку погоды, ледяному ветру и ненастью, сырым сумеркам и вьюгам. Мы были южане, привыкли к теплу, солнцу — каждый день, звездному небу — каждую ночь. А Петербург был серый, мрачный, холодный. Вновь обретенное нами отечество ни теплом, ни солнечным светом не баловало — приходилось пожарче топить печи, чтобы хоть дровяным жаром возместить свет.
Помню, я как-то сказал сыну, что архитектура очень нуждается в хорошем освещении, а тут в России его мало и будет трудно вписать любую постройку в местность так, чтобы она в ней не пропала. А сын ответил, что как раз ему и нравится такая среда: ей нужно больше скульптурности, больше живописности, нужно точнее распределять крупные объемы — и тогда сама собой решится задача освещенности.
— Я буду делать яркое на неярком, вот увидишь, отец, это будет получаться, — сказал мне тогда Франческо. — Я понимаю, папа, освещенность — дело важнейшее. Но мне нужна еще и просветленность, озаренность…
Помню свое гордое удовольствие тем, что сын мой трезво и ясно мыслит и, даст бог, на удивленье всем покажет свои таланты именно в России. Думаю я о сыне, и душа моя переполняется странной возвышенностью.
Мы с сыном упивались работой, хотя и предписывалось жалованья Растреллию больше не давать. Пусть, мол, работает как хочет — по договорам, поштучно от рук своего художества. Ну что ж, подумал я, пинки ваши стерпим. Коли самому государю угодно так — мы артачиться пока не будем, он нужен нам больше, чем мы ему. И судьба наша целиком в его руках. На то он и Петр Великий. А мы — люди маленькие, всего лишь художники.
А держался потому я уверенно, что знал: найти другого скульптора, который бы столько понимал и умел, сколько я, не так-то просто. Деваться им некуда, поневоле будут просить у меня сделать то одно, то другое, голова и расчет у меня есть. Так оно и вышло. Нюх, чутье у меня на сей счет — что надо, могу даже похвастать: у меня выдающийся нюх, уменье предвидеть, хотя в этой державе от неприятностей никто не застрахован, любому дереву ветки подрезают, и живешь так, словно на шаткой лестнице стоишь… Славяне не слишком любят тех, кто живет как у Христа за пазухой, к таким у них много презренья и ненависти, даже гораздо более, нежели ревности. Им больше по душе юродивые. Уменье досадовать на чужую удачу очень развито в русских. Нет у тебя здоровья, а у другого есть — плохо, они чужим здоровьем будут болеть; нет у тебя счастья, а у другого есть — тоже негоже, лучше б он горючими слезами залился, а то, видишь ли, возрадовался сдуру; нет у тебя славы или денег, а у другого их — полным-полно, куры не клюют — так это уже никуда, ни в какие ворота не лезет! Страсть у них — всем и всему перезавидовать.
Мы с сыном немало от сего претерпели. Я князю Меншикову жаловался на завистников, а он хитровато глянул на меня и со своей снисходительностью сказал, что у них завсегда так было — на одного доброхота по семи завистников приходится и, мол, это еще славно, что только по семи, а то и еще более число таковое возрастать может.
Одно скажу: в какие бы передряги я ни попадал — все равно я духом не падал, воли не терял.
 еще от одного не устал праведный царь Петр — от кораблей. Когда он видел море, мачты, паруса — на него нисходила благодать. Тому, кто блуждает в темноте, нужно увидеть море, услышать его, понять его природу. Море таит в себе изначальную чистоту. Оно учит человека постоянству, возвращает его к сущности, помогает пробиться к ясности.
Бесконечное, величавое, неисчерпаемое — маре есть праматерь всего сущего. И оно говорит устами поэта: счастье достижимо как осознанный миг бытия.
Вот и сейчас, когда ему было не по себе и он совсем уже запутался в неразрешимых своих противоречиях, память повела его на санкт-петербургскую Адмиралтейскую верфь. Он вспомнил день необычно жаркого и сухого июня и торжественный спуск военного корабля "Орел". Накануне Петр велел по всему Петербургу под барабанный бой объявить о важном событии.
Петр внезапно подумал, что видеть рождение корабля — неимоверное счастье, и, если кому-нибудь приходилось присутствовать при спуске корабля на воду, значит, он свою жизнь не зазря прожил, не понапрасну на земле мучился.
А уже за его-то жизнь понастроено было полторы сотни одних линейных кораблей и фрегатов. И каждый раз зрелище спуска на воду наполняло его неслыханным блаженством. Это был флот, страшный по имени: "Волк", "Медведь", "Борзая собака", "Ястреб", "Сокол".
У него пробегал мороз по коже каждый раз, когда раздавалась команда: "Клинья выбивай!" Начинался с двух сторон перестук молотков. Потом что-то сухо трещало, натужно скрипело — и Петру казалось, что вся деревянная махина с узкой кормой и острым днищем готовилась к прыжку. И проходил еще один сокровенный миг, корабль вздрагивал и начинал бесшумно скользить по округлым брусам, густо смазанным салом.
Он вспомнил "Орла". То был трехмачтовый красавец со стройным корпусом и срезанным форштевнем. Вспомнил, как он царственно, легко двигался к краю стапеля, к сверкающей воде. Вспомнил гром пушечной и ружейной стрельбы. И государь улыбнулся. Ему стало легче, он ощутил подъем. И еще он вспомнил, как поразили его в тот день две безмолвствующие стихии — особенно чистый и звонкий простор неба, какой бывает только над водой, и зеркальный, слепящий простор широкой полноводной Невы.
Он стоял тогда и смотрел на воду против света — она искрилась, и ему казалось, что все дрожит и шевелится, а небосвод пробивается к воде косыми световыми лучами.
Даже теперь, в своем воспоминании, он снова ощутил ту самую радость, которую хорошо знают художники. Радость творца, автора, создателя. Свет божий. Это радость, которая никогда не предаст, не изменит, не смешается с горем пополам.
Петр вспомнил, что по верху гакаборта "Орла" под окнами был помещен резной геральдический орел работы Растрелли. А слева от него скульптор расположил женскую фигуру с весами — Правосудие. И мужскую — бога войны Марса. Была там, кажется, и фигура женщины с дельфином в руках, что знаменовало Дружелюбие. Все дерево было позолочено, только дельфин выделяется: серебрение по красному фону сделало его фигуру легкой, теплой, живой.
Петр благодарно взглянул на скульптора и хотел что-то сказать ему, но смолчал. В памяти его возник маленький крепыш с густыми бровями, трубкой во рту, в черной бархатной шапочке. Это был строитель "Орла" Ричард Броун.
Отдав кораблю несколько лет труда, Броун был счастлив. В его синих глазах стояли слезы.
— Глядите, ваше величество, хорошо ли стоит на воде мой флейт? — спросил тогда у царя заморский корабельщик.
Царь сказал:
— Стоит что надо!
Отошедший от берега флейт напоминал мечту, нежный розовый облак, что отвлекает нас от забот, бед и нелепостей…
еще от одного не устал праведный царь Петр — от кораблей. Когда он видел море, мачты, паруса — на него нисходила благодать. Тому, кто блуждает в темноте, нужно увидеть море, услышать его, понять его природу. Море таит в себе изначальную чистоту. Оно учит человека постоянству, возвращает его к сущности, помогает пробиться к ясности.
Бесконечное, величавое, неисчерпаемое — маре есть праматерь всего сущего. И оно говорит устами поэта: счастье достижимо как осознанный миг бытия.
Вот и сейчас, когда ему было не по себе и он совсем уже запутался в неразрешимых своих противоречиях, память повела его на санкт-петербургскую Адмиралтейскую верфь. Он вспомнил день необычно жаркого и сухого июня и торжественный спуск военного корабля "Орел". Накануне Петр велел по всему Петербургу под барабанный бой объявить о важном событии.
Петр внезапно подумал, что видеть рождение корабля — неимоверное счастье, и, если кому-нибудь приходилось присутствовать при спуске корабля на воду, значит, он свою жизнь не зазря прожил, не понапрасну на земле мучился.
А уже за его-то жизнь понастроено было полторы сотни одних линейных кораблей и фрегатов. И каждый раз зрелище спуска на воду наполняло его неслыханным блаженством. Это был флот, страшный по имени: "Волк", "Медведь", "Борзая собака", "Ястреб", "Сокол".
У него пробегал мороз по коже каждый раз, когда раздавалась команда: "Клинья выбивай!" Начинался с двух сторон перестук молотков. Потом что-то сухо трещало, натужно скрипело — и Петру казалось, что вся деревянная махина с узкой кормой и острым днищем готовилась к прыжку. И проходил еще один сокровенный миг, корабль вздрагивал и начинал бесшумно скользить по округлым брусам, густо смазанным салом.
Он вспомнил "Орла". То был трехмачтовый красавец со стройным корпусом и срезанным форштевнем. Вспомнил, как он царственно, легко двигался к краю стапеля, к сверкающей воде. Вспомнил гром пушечной и ружейной стрельбы. И государь улыбнулся. Ему стало легче, он ощутил подъем. И еще он вспомнил, как поразили его в тот день две безмолвствующие стихии — особенно чистый и звонкий простор неба, какой бывает только над водой, и зеркальный, слепящий простор широкой полноводной Невы.
Он стоял тогда и смотрел на воду против света — она искрилась, и ему казалось, что все дрожит и шевелится, а небосвод пробивается к воде косыми световыми лучами.
Даже теперь, в своем воспоминании, он снова ощутил ту самую радость, которую хорошо знают художники. Радость творца, автора, создателя. Свет божий. Это радость, которая никогда не предаст, не изменит, не смешается с горем пополам.
Петр вспомнил, что по верху гакаборта "Орла" под окнами был помещен резной геральдический орел работы Растрелли. А слева от него скульптор расположил женскую фигуру с весами — Правосудие. И мужскую — бога войны Марса. Была там, кажется, и фигура женщины с дельфином в руках, что знаменовало Дружелюбие. Все дерево было позолочено, только дельфин выделяется: серебрение по красному фону сделало его фигуру легкой, теплой, живой.
Петр благодарно взглянул на скульптора и хотел что-то сказать ему, но смолчал. В памяти его возник маленький крепыш с густыми бровями, трубкой во рту, в черной бархатной шапочке. Это был строитель "Орла" Ричард Броун.
Отдав кораблю несколько лет труда, Броун был счастлив. В его синих глазах стояли слезы.
— Глядите, ваше величество, хорошо ли стоит на воде мой флейт? — спросил тогда у царя заморский корабельщик.
Царь сказал:
— Стоит что надо!
Отошедший от берега флейт напоминал мечту, нежный розовый облак, что отвлекает нас от забот, бед и нелепостей…
 а другой день, едва забрезжил рассвет, в доме Растрелли поднялась беготня. Каждый знал, что ему делать. Растапливали печь, очищали и зажигали свечи и канделябры, готовили материалы, инструменты. Озабоченный скульптор ходил по мастерской, придирчиво проверяя — все ли так, как следует, ничего не упущено ли. Грузный, строгий, сосредоточенный, он походил на главнокомандующего, который в последний раз осматривал поле предстоящего боя.
Слава богу, все было готово. Растрелли выглянул во двор. Холодный ветер налетал резкими порывами, гудел и выл. Оловянное небо нависало сердито и тяжело, словно и ему было зябко и беспокойно. По дальнему краю его окаймляла широкая свинцовая полоса. Сорванные с деревьев и крыш колкие снежинки впивались в лицо.
Скульптор нырнул обратно в уютное тепло мастерской.
Он с нетерпением ждал государя. Топтался, прислушивался, стоял у окошка. Он весь был наполнен томительным ожиданьем будущей работы. И преисполнен гордой важности и какого-то непонятного торжества: не каждый день и не всякому скульптору доводится снимать форму с лица живого императора, самого Петра Великого. "Тебе и в самом деле пофартило, Бартоломео Карло Растрелли, — подумал он, — да так, что и сказать невозможно!"
Он встречал на себе взгляд сына — одобрительный, восторженный. Обожание сына добавляло ему сил, уверенности в успехе. А Франческо внезапно увидел отца в новом свете. Важный заказ делал отца в его глазах человеком еще более замечательным и необыкновенным.
Наконец-то прибыли. Подкатили богато убранные царские сани, обитые красным бархатом. Разгоряченные кони подымали головы, натягивали поводья, часто дышали, сдувая с губ набежавшую пену.
Петр вошел с мороза свежий, ликующий, в настроении самом благодушном. Ни малейшего следа усталости, вчерашней мрачной грусти не осталось в нем. Растрелли радостно приветствовал его, глубоко кланялся. Теперь для него важность особы государя несколько отходила на второй план. Он видел перед собой только модель, и модель была в хорошем расположении духа, а это для работы было как раз то, что нужно.
Петр с улыбкой спросил:
— Что будешь учинять со мной? Я в твоей власти, жду распоряжений…
— Ваше величество, комиссия вам предстоит такая. Сейчас я быстро приготовлю гипс. Вы будете лежать вот здесь, на топчане, — он точно подогнан по вашему росту.
— И когда ты только успел? — изумленно спросил Петр, не скрывая радости.
Он сам был мастеровой и знал, какую выгоду дает любой работе предусмотрительность. Радение, не упускающее из виду каждую мелочь.
— Да пришлось ночь не поспать… Так вот, все займет не более получаса, ваше величество, — продолжал Растрелли деловито. — Поелику вы говорить и видеть все это время не будете, я дам вам в руки грифельную доску. При надобности вы мне написать наводите. Мой сын и мастер Андрей Хрептиков будут мне помогать. Втроем мы управимся скоро!
— Что ж, валяйте, ребяты, делайте со мной что хотите, раз я к вам сам в лапы поддался. Только до смерти не замуруйте. А дышать-то я как буду?
— Для дыхания, ваше величество, я вставлю в нос две удобные трубки…
— Чего только с живым человеком не делают, — промолвил Петр с безобидным упреком и стал укладываться на топчан.
— Хочу еще упредить ваше императорское величество об одном моменте…
— Слушаю тебя, граф.
— Когда все лицо закрывается гипсом — сие мне самому довелось испытать, — случается чувство неприятное, страх находит, робость. Не все могут выдержать подобное, Я ваше величество, говорю об этом, чтоб вы приуготовились к подобному испытанью!
Петр, укладываясь поудобнее, внимательно выслушал замечание скульптора, понимающе кивнул.
— Франческо, бери вон ту медную кастрюлю, заводи гипс, литра три, не больше. А ты, Андрей, приготовь-ка мне заводную лопатку и кожаную гипсовку!
Растрелли-отец был крайне сосредоточен, он вглядывался в лицо царя так цепко и проницательно, что тот даже глаза отвел и подумал: "От такого не укроешь ничего, он на два аршина в землю зрит!"
Гипс был готов. Растрелли проверил вязкость. Сметана была что надо. Он вставил государю трубки в нос, спросил:
— Впору? Ваше величество" попробуйте подышать…
— Будто ничего, — сказал Петр, шумно втягивая воздух и выдыхая его в трубки, — дышать можно.
Растрелли удовлетворительно кивнул, взял небольшой горшочек с широкой тульей и стал смазывать лицо Петра телячьим жиром, тщательно втирая его в кожу. "И что это он охорашивает, к чему приуготовляет?" — подумал Петр. Он испытывал с непривычки замешательство.
— Смазываешь для чего? — спросил царь, улучив минуту, когда его рот был свободен от больших жестких рук скульптора.
— Чтобы гипс не пристал к телу, ваше величество!
Растрелли обмотал голову царя тряпкой и, сделав ленту вокруг, пропустил ее по усам. В последний раз все огладил, ощупал, осмотрел и проверил.
— Ну с богом, начинаем! — резко скомандовал скульптор своим помощникам — они подошли и встали рядом, чтобы быть на подхвате, а Растрелли вежливо спросил: — Можно начинать, ваше величество, вы готовы?
— Готов!
В глазах Петра что-то изменилось: выражение прежнего живого любопытства, как отметил скульптор, стерлось — и теперь вместо него Растрелли увидел слабый отблеск натурального страха.
— Пожалуйста, не беспокойтесь, ваше величество, все будет отменно! — учтиво сказал скульптор.
— Я и не беспокоюсь! Делай, граф, свое дело. Да побыстрей, — сказал Петр строго.
Растрелли возвел глаза кверху и тут же густо начал накладывать на царское лицо понемногу садящийся гипс. Он действовал быстро, но не поспешно, что-то едва слышно бурчал себе под нос, а руки его мелькали со всех сторон, то и дело оглаживая лоб, голову, щеки, скулы, подбородок и прохаживаясь по всему костяку лица сразу.
Благословенны мастерство всякого рода и те, кто владеет им!
Лицо государя на глазах исчезало, словно призрак смерти стирал, превращая в молочно-белую застывающую маску. Оно было уже незрячее, бесформенное, закиданное плотной липкой лавой.
Свободным и живым пока оставался рот. Его скульптор решил залепить напоследок.
Петр внезапно со страхом почувствовал, что глаза его уже не открываются, хотя он делал для этого большое усилие.
Царь дернулся всем телом.
— Угодно ли чего? Скажите, ваше величество! — с удвоенной вежливостью сказал Растрелли и наклонился над царем.
"Он меня еще спрашивает, язвина чертова!" — досадливо подумал Петр. А сказал ровным, спокойным голосом:
— Делай свое дело!
— Сейчас будет самое наинеприятное, — сказал скульптор, — я, ваше величество, принужден залепить вам рот, если желаете, скажите что нужно, а то гипс застывает, если же нет, ваше величество, прошу вас лежать смирно. И, ради бога, не шевелите лицом!
Голос у Растрелли был мягкий и нежный. Петра этот ласковый тон успокаивал, но от слов "залеплю рот" он как-то обмер и подумал: нервы стали сдавать.
— Ишь ты какой! Ишь, игрун! — нижняя губа Петра оттопырилась.
Тут Растрелли взял Петра за губы, свел их вместе, выравнял, ляпнул на них гипс и стал рукой, а потом лопаткой разглаживать закрывшийся царский рот. Этот властный, горячий, бешеный, бунтующий рот закрыть еще не удавалось никому.
"Не дай бог, нитка запутается, тогда пропало", — тоскливо подумал Растрелли, а руки его уже потрогали нитку, подергивали ее. Скульптор успокоился — нитка находилась в нужном положении.
Она во всей этой затее играла немаловажную роль. Скульптору нужно было не по времени, а по чувству определить точный момент, когда гипс только-только схватится, вот тогда он и ухватится за нитку, и она подобно ножу разрежет гипс надвое в нужном месте. Если все правильно угадаешь, маска снимется, как чулок с ноги. Скульптор был напряжен как струна. Стоявший рядом мастер Андрей затаил дыхание, боясь шевельнуться. А младший Растрелли — так тот даже вспотел. Жаркий огонь нежности к отцу, гордость за его виртуозное искусство затопили ему душу.
Теперь Растрелли выправлял слой, слегка утончал его. Он знал, что на мягкие части лица гипс наваливается всей своей сырой тяжестью. Чуть прозеваешь — и кончик носа выйдет приплюснутым, щеки провалятся, и тогда маска будет подобьем не живого лица, а мертвого. И пиши пропало. Сам знаменитый Бенвенуто Челлини еще двести лет назад описал подробно всякие хитроумные способы того, как добиться совершенства слепка. Все это Растрелли давно знал. Его руки делали черную работу так же ловко, как и чистое искусство.
Царь лежал монументально и неподвижно. Он сжался, придавил свое неспокойствие и страх, барабанил пальцами по колену и чувствовал себя странно неодушевленным, случайным, безотносительным ко всему телом. Что-то пытался припомнить — не мог. Успокаивал себя — не получалось. В голове у него все спуталось, словно и туда граф плеснул добрую порцию гипса. Петр чувствовал, что внутри у него все дрожит. Дышать через трубки было затруднительно, от этого ломило в затылке. Замурованный в каменном мешке — незрячий, безмолвный, полуживой — Петр насмехался над собой: хочешь конный статуй — терпи!
Государь нащупал доску на груди, взял грифель и нацарапал: когда оживишь?
Растрелли самодовольно улыбнулся. Ему надо было еще немного протянуть время, но он сказал твердо:
— Сейчас будем снимать, ваше величество!
Он тут же распорядился:
— Франческо, готовь нож!..
Царь хмыкнул носом…
— Работать вас, ваше державство, великое удовольствие, — вдруг бодро и непринужденно заговорил Растрелли, — дело наше тяжелое, легких заработков не знаем. Холст истлеет, краски померкнут, а камень, медь выстоят хоть тысячу лет… На то и скульптура! Мы за чужим не гонимся. А своего в художестве не упустим!
Государь задергал ногой и подумал: "Глаголет, ирод! Стих на него нашел. Уморит ведь — ему что!"
— Поддерживай, поддерживай с обеих сторон! — закричал вдруг Растрелли сыну, и тот бережно взял в руки края отделяющейся маски. Она снималась удивительно легко. Красный, как маков цвет, потный отец стягивал ее с царского лица. Оно понемногу открывалось — бледное, необычно спокойное, словно сонное.
Дело было сделано.
а другой день, едва забрезжил рассвет, в доме Растрелли поднялась беготня. Каждый знал, что ему делать. Растапливали печь, очищали и зажигали свечи и канделябры, готовили материалы, инструменты. Озабоченный скульптор ходил по мастерской, придирчиво проверяя — все ли так, как следует, ничего не упущено ли. Грузный, строгий, сосредоточенный, он походил на главнокомандующего, который в последний раз осматривал поле предстоящего боя.
Слава богу, все было готово. Растрелли выглянул во двор. Холодный ветер налетал резкими порывами, гудел и выл. Оловянное небо нависало сердито и тяжело, словно и ему было зябко и беспокойно. По дальнему краю его окаймляла широкая свинцовая полоса. Сорванные с деревьев и крыш колкие снежинки впивались в лицо.
Скульптор нырнул обратно в уютное тепло мастерской.
Он с нетерпением ждал государя. Топтался, прислушивался, стоял у окошка. Он весь был наполнен томительным ожиданьем будущей работы. И преисполнен гордой важности и какого-то непонятного торжества: не каждый день и не всякому скульптору доводится снимать форму с лица живого императора, самого Петра Великого. "Тебе и в самом деле пофартило, Бартоломео Карло Растрелли, — подумал он, — да так, что и сказать невозможно!"
Он встречал на себе взгляд сына — одобрительный, восторженный. Обожание сына добавляло ему сил, уверенности в успехе. А Франческо внезапно увидел отца в новом свете. Важный заказ делал отца в его глазах человеком еще более замечательным и необыкновенным.
Наконец-то прибыли. Подкатили богато убранные царские сани, обитые красным бархатом. Разгоряченные кони подымали головы, натягивали поводья, часто дышали, сдувая с губ набежавшую пену.
Петр вошел с мороза свежий, ликующий, в настроении самом благодушном. Ни малейшего следа усталости, вчерашней мрачной грусти не осталось в нем. Растрелли радостно приветствовал его, глубоко кланялся. Теперь для него важность особы государя несколько отходила на второй план. Он видел перед собой только модель, и модель была в хорошем расположении духа, а это для работы было как раз то, что нужно.
Петр с улыбкой спросил:
— Что будешь учинять со мной? Я в твоей власти, жду распоряжений…
— Ваше величество, комиссия вам предстоит такая. Сейчас я быстро приготовлю гипс. Вы будете лежать вот здесь, на топчане, — он точно подогнан по вашему росту.
— И когда ты только успел? — изумленно спросил Петр, не скрывая радости.
Он сам был мастеровой и знал, какую выгоду дает любой работе предусмотрительность. Радение, не упускающее из виду каждую мелочь.
— Да пришлось ночь не поспать… Так вот, все займет не более получаса, ваше величество, — продолжал Растрелли деловито. — Поелику вы говорить и видеть все это время не будете, я дам вам в руки грифельную доску. При надобности вы мне написать наводите. Мой сын и мастер Андрей Хрептиков будут мне помогать. Втроем мы управимся скоро!
— Что ж, валяйте, ребяты, делайте со мной что хотите, раз я к вам сам в лапы поддался. Только до смерти не замуруйте. А дышать-то я как буду?
— Для дыхания, ваше величество, я вставлю в нос две удобные трубки…
— Чего только с живым человеком не делают, — промолвил Петр с безобидным упреком и стал укладываться на топчан.
— Хочу еще упредить ваше императорское величество об одном моменте…
— Слушаю тебя, граф.
— Когда все лицо закрывается гипсом — сие мне самому довелось испытать, — случается чувство неприятное, страх находит, робость. Не все могут выдержать подобное, Я ваше величество, говорю об этом, чтоб вы приуготовились к подобному испытанью!
Петр, укладываясь поудобнее, внимательно выслушал замечание скульптора, понимающе кивнул.
— Франческо, бери вон ту медную кастрюлю, заводи гипс, литра три, не больше. А ты, Андрей, приготовь-ка мне заводную лопатку и кожаную гипсовку!
Растрелли-отец был крайне сосредоточен, он вглядывался в лицо царя так цепко и проницательно, что тот даже глаза отвел и подумал: "От такого не укроешь ничего, он на два аршина в землю зрит!"
Гипс был готов. Растрелли проверил вязкость. Сметана была что надо. Он вставил государю трубки в нос, спросил:
— Впору? Ваше величество" попробуйте подышать…
— Будто ничего, — сказал Петр, шумно втягивая воздух и выдыхая его в трубки, — дышать можно.
Растрелли удовлетворительно кивнул, взял небольшой горшочек с широкой тульей и стал смазывать лицо Петра телячьим жиром, тщательно втирая его в кожу. "И что это он охорашивает, к чему приуготовляет?" — подумал Петр. Он испытывал с непривычки замешательство.
— Смазываешь для чего? — спросил царь, улучив минуту, когда его рот был свободен от больших жестких рук скульптора.
— Чтобы гипс не пристал к телу, ваше величество!
Растрелли обмотал голову царя тряпкой и, сделав ленту вокруг, пропустил ее по усам. В последний раз все огладил, ощупал, осмотрел и проверил.
— Ну с богом, начинаем! — резко скомандовал скульптор своим помощникам — они подошли и встали рядом, чтобы быть на подхвате, а Растрелли вежливо спросил: — Можно начинать, ваше величество, вы готовы?
— Готов!
В глазах Петра что-то изменилось: выражение прежнего живого любопытства, как отметил скульптор, стерлось — и теперь вместо него Растрелли увидел слабый отблеск натурального страха.
— Пожалуйста, не беспокойтесь, ваше величество, все будет отменно! — учтиво сказал скульптор.
— Я и не беспокоюсь! Делай, граф, свое дело. Да побыстрей, — сказал Петр строго.
Растрелли возвел глаза кверху и тут же густо начал накладывать на царское лицо понемногу садящийся гипс. Он действовал быстро, но не поспешно, что-то едва слышно бурчал себе под нос, а руки его мелькали со всех сторон, то и дело оглаживая лоб, голову, щеки, скулы, подбородок и прохаживаясь по всему костяку лица сразу.
Благословенны мастерство всякого рода и те, кто владеет им!
Лицо государя на глазах исчезало, словно призрак смерти стирал, превращая в молочно-белую застывающую маску. Оно было уже незрячее, бесформенное, закиданное плотной липкой лавой.
Свободным и живым пока оставался рот. Его скульптор решил залепить напоследок.
Петр внезапно со страхом почувствовал, что глаза его уже не открываются, хотя он делал для этого большое усилие.
Царь дернулся всем телом.
— Угодно ли чего? Скажите, ваше величество! — с удвоенной вежливостью сказал Растрелли и наклонился над царем.
"Он меня еще спрашивает, язвина чертова!" — досадливо подумал Петр. А сказал ровным, спокойным голосом:
— Делай свое дело!
— Сейчас будет самое наинеприятное, — сказал скульптор, — я, ваше величество, принужден залепить вам рот, если желаете, скажите что нужно, а то гипс застывает, если же нет, ваше величество, прошу вас лежать смирно. И, ради бога, не шевелите лицом!
Голос у Растрелли был мягкий и нежный. Петра этот ласковый тон успокаивал, но от слов "залеплю рот" он как-то обмер и подумал: нервы стали сдавать.
— Ишь ты какой! Ишь, игрун! — нижняя губа Петра оттопырилась.
Тут Растрелли взял Петра за губы, свел их вместе, выравнял, ляпнул на них гипс и стал рукой, а потом лопаткой разглаживать закрывшийся царский рот. Этот властный, горячий, бешеный, бунтующий рот закрыть еще не удавалось никому.
"Не дай бог, нитка запутается, тогда пропало", — тоскливо подумал Растрелли, а руки его уже потрогали нитку, подергивали ее. Скульптор успокоился — нитка находилась в нужном положении.
Она во всей этой затее играла немаловажную роль. Скульптору нужно было не по времени, а по чувству определить точный момент, когда гипс только-только схватится, вот тогда он и ухватится за нитку, и она подобно ножу разрежет гипс надвое в нужном месте. Если все правильно угадаешь, маска снимется, как чулок с ноги. Скульптор был напряжен как струна. Стоявший рядом мастер Андрей затаил дыхание, боясь шевельнуться. А младший Растрелли — так тот даже вспотел. Жаркий огонь нежности к отцу, гордость за его виртуозное искусство затопили ему душу.
Теперь Растрелли выправлял слой, слегка утончал его. Он знал, что на мягкие части лица гипс наваливается всей своей сырой тяжестью. Чуть прозеваешь — и кончик носа выйдет приплюснутым, щеки провалятся, и тогда маска будет подобьем не живого лица, а мертвого. И пиши пропало. Сам знаменитый Бенвенуто Челлини еще двести лет назад описал подробно всякие хитроумные способы того, как добиться совершенства слепка. Все это Растрелли давно знал. Его руки делали черную работу так же ловко, как и чистое искусство.
Царь лежал монументально и неподвижно. Он сжался, придавил свое неспокойствие и страх, барабанил пальцами по колену и чувствовал себя странно неодушевленным, случайным, безотносительным ко всему телом. Что-то пытался припомнить — не мог. Успокаивал себя — не получалось. В голове у него все спуталось, словно и туда граф плеснул добрую порцию гипса. Петр чувствовал, что внутри у него все дрожит. Дышать через трубки было затруднительно, от этого ломило в затылке. Замурованный в каменном мешке — незрячий, безмолвный, полуживой — Петр насмехался над собой: хочешь конный статуй — терпи!
Государь нащупал доску на груди, взял грифель и нацарапал: когда оживишь?
Растрелли самодовольно улыбнулся. Ему надо было еще немного протянуть время, но он сказал твердо:
— Сейчас будем снимать, ваше величество!
Он тут же распорядился:
— Франческо, готовь нож!..
Царь хмыкнул носом…
— Работать вас, ваше державство, великое удовольствие, — вдруг бодро и непринужденно заговорил Растрелли, — дело наше тяжелое, легких заработков не знаем. Холст истлеет, краски померкнут, а камень, медь выстоят хоть тысячу лет… На то и скульптура! Мы за чужим не гонимся. А своего в художестве не упустим!
Государь задергал ногой и подумал: "Глаголет, ирод! Стих на него нашел. Уморит ведь — ему что!"
— Поддерживай, поддерживай с обеих сторон! — закричал вдруг Растрелли сыну, и тот бережно взял в руки края отделяющейся маски. Она снималась удивительно легко. Красный, как маков цвет, потный отец стягивал ее с царского лица. Оно понемногу открывалось — бледное, необычно спокойное, словно сонное.
Дело было сделано.


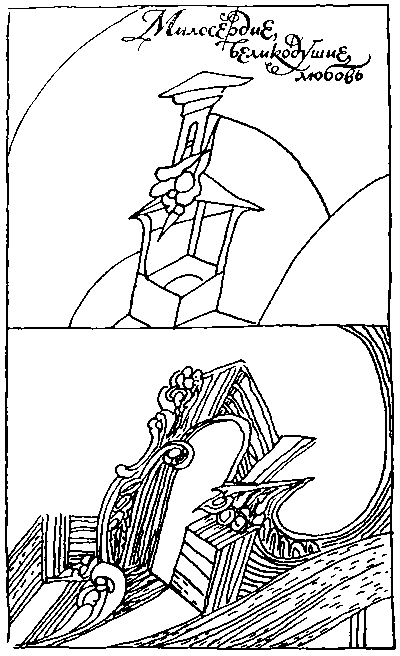

 егодня был куртаг, играла италианская музыка. Она ласкает мой слух и вызывает вдруг какую-то легкомысленную веселость.
В последнее время заметил я, что теперь уже далеко не так, как бывало прежде, увлекаюсь я тем, чем занят. Не так интересно стало. От этого тревожится душа. Все чаще ловлю себя на мысли, что мне много облегчило сердце, если рядом был бы человек близкий, такой, как отец, коему я мог бы излить наболевшее.
Во время куртажного вечернего кушанья императрица Елизавета милостиво заговорила со мной, о строительных работах здесь, в Петергофе и в Царском Селе. Сказала, что ждет от меня, чтоб дворец был всеконечным совершенством. Ей легко так говорить, а у меня нет ни хороших мастеров-каменщиков, ни десятников. Я должен в оба глаза беспрерывно следить за стройкой…
Всем хорош царский куртаг. Хлопают пробки от шампанского, спасибо французскому посланнику маркизу де ла Шетарди, — это он первым привез его в Россию. Вино понравилось — облегчает сердце и приятно кружит голову. А еще и помогает поболее съесть некоторым обжорам, помогает улечься в их животах окорокам и колбасам, блинам и рыбе, говяжьим глазам в соусе и филейке по-султански. У тех, кто ест без меры, не раз отмечал Растрелли, глаза чисто по-жабьи выпирало. Это только говорится — подперто, так не валится. Валится, да еще как! А слуги все подносили к столам закуски: то крошенные телячьи уши, то говяжью нёбную часть, запеченную в золе. От таковых обильных ед и пития наступало у некоторых гостей стесненное сердечное трепещанье — от этого они мычали и постанывали, им хотелось поскорей домой, но этикет не разрешал портить другим праздник.
И господа терпели.
А вечером был знатно сожжен фейерверк, изготовленный маленьким толстым полковником-немцем. Сей искусник был одним из лучших в Европе мастеров своего дела. Его и наняли за немалые деньги, а после уже платили кое-как. Этот опытный шпаррейтер — так звалась его профессия — служил начальником порохового завода. Перед началом огненного действа немец бегал, суетился, что-то исправлял, всплескивал ручками и нырял в какие-то маленькие будочки, где уже вовсю сыпались искры в темноту, валил дым и раздавались резкие хлопки: пух! Пуух! Пуух!
Наконец все было налажено — и шпаррейтер взмахивал белым платком. Петергофский парк освещался неземным фантастическим светом — то розовым, зеленым и голубым, то белым, синим и фиолетовым. Взлетали в небо столбы огня, крутились шары, конусы и свечи, полыхали обручи, и ярко осветились в вышине двуглавые орлы. Они освещали нарядных дам в корсажах из белой ткани с гирляндами цветов на головах, придавали таинственность набухшим рожам гульливых, изрядно клюнувших кавалеров, бросали косые блики на стол, протянувшийся на всю длину парковой аллеи, буфеты тускло отсвечивали столовой посудой и фарфором.
За высокой шпалерой усердно и безостановочно наяривали музыканты. На теплом ветру хлопал полог из шелковой ткани, натянутой над столом. Красота и полная чаша рождали хорошее настроение духа, давали полную усладу, и даже у человека сухого могло дрогнуть сердце.
Когда куртажные гости разъехались, граф Растрелли пошел на дачу и смотрел оттуда на свой Большой дворец. Пленительное, бесподобное совершенство "Корпуса под гербом", счастливо найденные пропорции купола вызвали у архитектора улыбку восторженного умиления. Он не мог налюбоваться на свое детище.
Серебрились огромные полуциркульные окна, отражая легкий лунный свет.
Стояла такая тишина, что каждый шорох в кустах под окнами, любой писк зверька, стрекотанье настораживали уши и острили слух, словно у собаки. Тайно засматриваясь на творение рук своих, Растрелли никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Озаренное лицо его было радостным и беззаботным, мягким и нежным. В дневное время оно таким не бывало.
На соседней даче не спалось армейскому полковнику Строганову, брату барона, Сергея Григорьевича. Ему, видать с перепою, на сердце ангел уселся, сидел-сидел, а после и разлегся. И нежил, и покоил. Да так, что блуждающий взгляд полковника не мог зацепиться за какой-нибудь один предмет. Мир внезапно проваливался и мерк, оставляя вместо себя черные дыры.
А еще вчера Строганов был в полной силе. Ощущал сноровистость во всем теле, упругость ног и горячий румянец на щеках. От распирающей его силы в голове полковника роились некие весьма приятственные и беспорядочные картины будущего вечернего досуга. А над его головой и надо всем императорским Санкт-Петербургом раскатывалась дробью и, как в петровские времена, с подъемом, весело и браво гремела полевая военная музыка. И на зависть толпе тщедушных зевак Строганов вчера же, когда совсем не то что сейчас сжало обручем голову, печатал шаг — жаркий, твердый, топором врубающийся в мостовую.
А думал ой в это самое время о том, что вот он, старый вояка, давно мог бы гнить в сырой матушке-земле, не раз и не два побывать ему пришлось в тяжких сраженьях. Потому что любил он лезть на рожон. Ан нет, жив остался. Ни черта ему не сделалось, жив, курилка, чтим друзьями, обожаем прелестными созданьями. Ни пуля его не взяла, ни кривой янычарский нож не полоснул. И того гляди, вспыхнет на плече генеральский погон, и будет сие венцом достойным за преданную его службу нынешней государыне Елисавет Петровне. Брат Сергей уж давно в генерал-лейтенантах ходит. А он все полковник… Почему нередко один человек легко достигает всего, а другой… А род наш каков? — с гордостью вполне заслуженной думал полковник. Эге, да таких родов в России по пальцам на одной руке счесть можно. Василия Темного кто у татар выкупал, а? Строгановы. А Ермака кто в Сибирь снаряжал да провожал? Тоже Строгановы. А кто в святой Руси солеварни заводил да горнорудное дело налаживал? То-то. Кто Петру Великому деньги давал на шведскую войну? Тоже мы, Строгановы. А не давали б ему денег, могла б Россия ныне свободно шведской провинцией быть. Строгановские наши деньги помогли на Балтике укрепиться, потому что мы никогда не скаредничали. Апраксины, Головины, Толстые, Шафировы государеву казну грабили, тащили, раздергивали, а Строгановы ее наполняли задарма. Вона как выходит…
— Виноват, граф, что ночью беспокою, но вижу, и вам не спится, — негромко сказал Строганов, приближаясь к веранде. — Не найдется ли у вас рюмки рому? Поверите, боль в голове совсем замучила, застрелиться охота, ей-богу. Немилосердно гудит.
— Да, конечно, найдется! А что, помогает?
— Ром-то? Еще как! Он в голове производит сильное расширенье!
Растрелли с готовностью пошел в комнату и вынес кубок первостатейного ямайского рому.
— Премного вами благода…
Строганов немедленно опрокинул в рот кубок, не успев договорить, а только вдохнув воздуха.
— Фух! Фух! Фух! — шумно выдохнул он. — Чую, как душу смягчило, сползает с нее груз, сползает, проклятущий, бальзам по жилам потек. Спасибо вам, Варфоломеевич! Фу-ка… Евхаристия наступает, что означает благодать, да! Хорошо-о.
— А может, еще? — участливо спросил архитектор.
— Ни в коем случае, самый раз. Чтоб от скорби перепойной поправиться, Варфоломей Варфоломеевич, скажу я вам, совсем немного нужно, чуток совсем — и все в тебе опять живое. Спокойной ночи, граф. Блаженно чрево, носившее вас!
— Хороших снов, полковник.
— Ужо теперь поспим на славу! — Строганов разболтанно помахал рукой в воздухе и, нетвердо ступая, пошел к себе.
А вокруг шла обычная укромная ночная жизнь.
Встряхнув колючий свой тулупчик и пошелестев для порядка жесткими иглами, неспешно отправился на охоту еж. Он перебирал по земле мягкими лапками и катился большим черным шаром по тому самому следу, по которому ходил вчера и позавчера.
Как угорелые носились по кустам бездумные кошки, и зеленые кружки их глаз — серьезных и безжалостных — горели в темноте. Кошки издавали по временам такие устрашающие, воинственные и утробные звуки боевого вызова, что в полнейшей растерянности пучила во тьму свои круглые глаза ошалевшая сова. Не могла она взять в толк — для чего нужно кричать в ночном лесу, где все принадлежит тишине и счастливому случаю. Зато это хорошо знала хвостуха-лиса, которая неспешно кралась по тайным делам, замывая свой невидимый след. А глубоко в земле в удобной и хитроумно построенной норе проснулся от голода бурый крот и отправился в угол, где у него хранились припасы, чтобы скромно перекусить.
Со сна на ветках взмахивали крыльями птицы — им снился полет дневной завтрашней жизни.
Ни в Петергофе, ни в других местах обширной земли ход истории ничуть не замедлялся даже в ночное время, отпущенное на отдых и сон.
Поднял красивую гордую голову рогач-олень, прослушал наскоро лес, втянул в себя запахи и снова улегся, надеясь, что все устроится к лучшему…
А днем на петергофской дороге то и дело скакали экипажи, запряженные четвернею в ряд, с двумя лошадями навылет, сверкающими гладкой коричневато-каштановой кожей, то пробегали молочного цвета кони, похожие на ганноверских, с падающими до земли гривами и хвостами.
Движенье карет всегда привлекало внимание архитектора. Может быть, усталость шептала ему: брось все, прыгай в карету — и пошел куда глаза глядят! А может быть, он, хотя и с большим опозданием, понял, что по натуре своей больше склонен к жизни переменчивой, подвижной, нежели к оседлой.
Он был одержим своей профессией. Архитектура обладала таинственной способностью — растворять его душевную боль.
егодня был куртаг, играла италианская музыка. Она ласкает мой слух и вызывает вдруг какую-то легкомысленную веселость.
В последнее время заметил я, что теперь уже далеко не так, как бывало прежде, увлекаюсь я тем, чем занят. Не так интересно стало. От этого тревожится душа. Все чаще ловлю себя на мысли, что мне много облегчило сердце, если рядом был бы человек близкий, такой, как отец, коему я мог бы излить наболевшее.
Во время куртажного вечернего кушанья императрица Елизавета милостиво заговорила со мной, о строительных работах здесь, в Петергофе и в Царском Селе. Сказала, что ждет от меня, чтоб дворец был всеконечным совершенством. Ей легко так говорить, а у меня нет ни хороших мастеров-каменщиков, ни десятников. Я должен в оба глаза беспрерывно следить за стройкой…
Всем хорош царский куртаг. Хлопают пробки от шампанского, спасибо французскому посланнику маркизу де ла Шетарди, — это он первым привез его в Россию. Вино понравилось — облегчает сердце и приятно кружит голову. А еще и помогает поболее съесть некоторым обжорам, помогает улечься в их животах окорокам и колбасам, блинам и рыбе, говяжьим глазам в соусе и филейке по-султански. У тех, кто ест без меры, не раз отмечал Растрелли, глаза чисто по-жабьи выпирало. Это только говорится — подперто, так не валится. Валится, да еще как! А слуги все подносили к столам закуски: то крошенные телячьи уши, то говяжью нёбную часть, запеченную в золе. От таковых обильных ед и пития наступало у некоторых гостей стесненное сердечное трепещанье — от этого они мычали и постанывали, им хотелось поскорей домой, но этикет не разрешал портить другим праздник.
И господа терпели.
А вечером был знатно сожжен фейерверк, изготовленный маленьким толстым полковником-немцем. Сей искусник был одним из лучших в Европе мастеров своего дела. Его и наняли за немалые деньги, а после уже платили кое-как. Этот опытный шпаррейтер — так звалась его профессия — служил начальником порохового завода. Перед началом огненного действа немец бегал, суетился, что-то исправлял, всплескивал ручками и нырял в какие-то маленькие будочки, где уже вовсю сыпались искры в темноту, валил дым и раздавались резкие хлопки: пух! Пуух! Пуух!
Наконец все было налажено — и шпаррейтер взмахивал белым платком. Петергофский парк освещался неземным фантастическим светом — то розовым, зеленым и голубым, то белым, синим и фиолетовым. Взлетали в небо столбы огня, крутились шары, конусы и свечи, полыхали обручи, и ярко осветились в вышине двуглавые орлы. Они освещали нарядных дам в корсажах из белой ткани с гирляндами цветов на головах, придавали таинственность набухшим рожам гульливых, изрядно клюнувших кавалеров, бросали косые блики на стол, протянувшийся на всю длину парковой аллеи, буфеты тускло отсвечивали столовой посудой и фарфором.
За высокой шпалерой усердно и безостановочно наяривали музыканты. На теплом ветру хлопал полог из шелковой ткани, натянутой над столом. Красота и полная чаша рождали хорошее настроение духа, давали полную усладу, и даже у человека сухого могло дрогнуть сердце.
Когда куртажные гости разъехались, граф Растрелли пошел на дачу и смотрел оттуда на свой Большой дворец. Пленительное, бесподобное совершенство "Корпуса под гербом", счастливо найденные пропорции купола вызвали у архитектора улыбку восторженного умиления. Он не мог налюбоваться на свое детище.
Серебрились огромные полуциркульные окна, отражая легкий лунный свет.
Стояла такая тишина, что каждый шорох в кустах под окнами, любой писк зверька, стрекотанье настораживали уши и острили слух, словно у собаки. Тайно засматриваясь на творение рук своих, Растрелли никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Озаренное лицо его было радостным и беззаботным, мягким и нежным. В дневное время оно таким не бывало.
На соседней даче не спалось армейскому полковнику Строганову, брату барона, Сергея Григорьевича. Ему, видать с перепою, на сердце ангел уселся, сидел-сидел, а после и разлегся. И нежил, и покоил. Да так, что блуждающий взгляд полковника не мог зацепиться за какой-нибудь один предмет. Мир внезапно проваливался и мерк, оставляя вместо себя черные дыры.
А еще вчера Строганов был в полной силе. Ощущал сноровистость во всем теле, упругость ног и горячий румянец на щеках. От распирающей его силы в голове полковника роились некие весьма приятственные и беспорядочные картины будущего вечернего досуга. А над его головой и надо всем императорским Санкт-Петербургом раскатывалась дробью и, как в петровские времена, с подъемом, весело и браво гремела полевая военная музыка. И на зависть толпе тщедушных зевак Строганов вчера же, когда совсем не то что сейчас сжало обручем голову, печатал шаг — жаркий, твердый, топором врубающийся в мостовую.
А думал ой в это самое время о том, что вот он, старый вояка, давно мог бы гнить в сырой матушке-земле, не раз и не два побывать ему пришлось в тяжких сраженьях. Потому что любил он лезть на рожон. Ан нет, жив остался. Ни черта ему не сделалось, жив, курилка, чтим друзьями, обожаем прелестными созданьями. Ни пуля его не взяла, ни кривой янычарский нож не полоснул. И того гляди, вспыхнет на плече генеральский погон, и будет сие венцом достойным за преданную его службу нынешней государыне Елисавет Петровне. Брат Сергей уж давно в генерал-лейтенантах ходит. А он все полковник… Почему нередко один человек легко достигает всего, а другой… А род наш каков? — с гордостью вполне заслуженной думал полковник. Эге, да таких родов в России по пальцам на одной руке счесть можно. Василия Темного кто у татар выкупал, а? Строгановы. А Ермака кто в Сибирь снаряжал да провожал? Тоже Строгановы. А кто в святой Руси солеварни заводил да горнорудное дело налаживал? То-то. Кто Петру Великому деньги давал на шведскую войну? Тоже мы, Строгановы. А не давали б ему денег, могла б Россия ныне свободно шведской провинцией быть. Строгановские наши деньги помогли на Балтике укрепиться, потому что мы никогда не скаредничали. Апраксины, Головины, Толстые, Шафировы государеву казну грабили, тащили, раздергивали, а Строгановы ее наполняли задарма. Вона как выходит…
— Виноват, граф, что ночью беспокою, но вижу, и вам не спится, — негромко сказал Строганов, приближаясь к веранде. — Не найдется ли у вас рюмки рому? Поверите, боль в голове совсем замучила, застрелиться охота, ей-богу. Немилосердно гудит.
— Да, конечно, найдется! А что, помогает?
— Ром-то? Еще как! Он в голове производит сильное расширенье!
Растрелли с готовностью пошел в комнату и вынес кубок первостатейного ямайского рому.
— Премного вами благода…
Строганов немедленно опрокинул в рот кубок, не успев договорить, а только вдохнув воздуха.
— Фух! Фух! Фух! — шумно выдохнул он. — Чую, как душу смягчило, сползает с нее груз, сползает, проклятущий, бальзам по жилам потек. Спасибо вам, Варфоломеевич! Фу-ка… Евхаристия наступает, что означает благодать, да! Хорошо-о.
— А может, еще? — участливо спросил архитектор.
— Ни в коем случае, самый раз. Чтоб от скорби перепойной поправиться, Варфоломей Варфоломеевич, скажу я вам, совсем немного нужно, чуток совсем — и все в тебе опять живое. Спокойной ночи, граф. Блаженно чрево, носившее вас!
— Хороших снов, полковник.
— Ужо теперь поспим на славу! — Строганов разболтанно помахал рукой в воздухе и, нетвердо ступая, пошел к себе.
А вокруг шла обычная укромная ночная жизнь.
Встряхнув колючий свой тулупчик и пошелестев для порядка жесткими иглами, неспешно отправился на охоту еж. Он перебирал по земле мягкими лапками и катился большим черным шаром по тому самому следу, по которому ходил вчера и позавчера.
Как угорелые носились по кустам бездумные кошки, и зеленые кружки их глаз — серьезных и безжалостных — горели в темноте. Кошки издавали по временам такие устрашающие, воинственные и утробные звуки боевого вызова, что в полнейшей растерянности пучила во тьму свои круглые глаза ошалевшая сова. Не могла она взять в толк — для чего нужно кричать в ночном лесу, где все принадлежит тишине и счастливому случаю. Зато это хорошо знала хвостуха-лиса, которая неспешно кралась по тайным делам, замывая свой невидимый след. А глубоко в земле в удобной и хитроумно построенной норе проснулся от голода бурый крот и отправился в угол, где у него хранились припасы, чтобы скромно перекусить.
Со сна на ветках взмахивали крыльями птицы — им снился полет дневной завтрашней жизни.
Ни в Петергофе, ни в других местах обширной земли ход истории ничуть не замедлялся даже в ночное время, отпущенное на отдых и сон.
Поднял красивую гордую голову рогач-олень, прослушал наскоро лес, втянул в себя запахи и снова улегся, надеясь, что все устроится к лучшему…
А днем на петергофской дороге то и дело скакали экипажи, запряженные четвернею в ряд, с двумя лошадями навылет, сверкающими гладкой коричневато-каштановой кожей, то пробегали молочного цвета кони, похожие на ганноверских, с падающими до земли гривами и хвостами.
Движенье карет всегда привлекало внимание архитектора. Может быть, усталость шептала ему: брось все, прыгай в карету — и пошел куда глаза глядят! А может быть, он, хотя и с большим опозданием, понял, что по натуре своей больше склонен к жизни переменчивой, подвижной, нежели к оседлой.
Он был одержим своей профессией. Архитектура обладала таинственной способностью — растворять его душевную боль.
 нилась Растрелли высокая, светловолосая девушка. На ней было фиолетовое платье с тонкой золотой каймой. Красавица стояла, протянув к нему руки, освещенная полным солнцем.
— Ты — сон, виденье неземное или живая? — с изумленным восторгом спросил архитектор.
— Франческо, ты сошел с ума? Не узнаешь меня? — удивленно и разочарованно произнесла девушка.
Стройная, высокая, ладная — она ему очень понравилась. Она была ему давно знакома, была даже очень хорошей знакомой, но как зовут, где он ее видел и откуда знает — Растрелли вспомнить не мог. Он растерянно улыбался и думал, что, наверное, все это ему снится, потому что во сне и не такое бывает. Он ведь хорошо знал, что и самой природе редко удается произвести на свет нечто вполне законченное, во всех отношениях совершенное. Это чудо родил не природа, а обычная женщина… Нет, это сон, конечно, сон…
— Ну, теперь, когда ты наконец вспомнил меня, — сказала ему девушка с улыбкой, — пойдем погуляем. Хорошо?
И они отправились по дороге, по обеим сторонам усаженной кипарисами.
Шли они обнявшись, и Франческо всей длиной руки чувствовал тугое, трепетное молодое тело. Это его сильно волновало и даже повергало в неиспытываемое прежде смятение.
— А знаешь, — обратился он к девушке, — давай спустимся к морю, возьмем лодку и будем долго кататься…
— Нет, Франческо, мне нужно еще заняться делами. Больше всего на свете хотела бы я сейчас с тобой кататься, побыть с тобой подольше. Но никак не могу, ты меня извини!
Растрелли ей говорит:
— Море! Все мирское — ничто в сравнении с ним. Посмотри с горной вершины на горизонт, туда, где вода сливается с небом… Э, да что там говорить. Я как море увижу — во мне сердце растет, а после в пятки уходит… Море свободное, как воздух, вольное, чистое. Я от него хмелею!
Так они разговаривали и спускались по дороге к небольшой круглой площадке, справа от которой петляла вниз, к морю, широкая утоптанная тропа. На площадке стояло белое строение, напоминавшее шляпку гриба.
С площадки предстала бесконечная даль и синяя широкая гладь. Она сверкала, зеркалила небом и притягивала к себе. Хотелось подняться над зелеными горами, над деревьями, над скалистыми провалами и лететь, лететь. Нестись в голубой дымке над водой, вдыхая острый запах соленых волн.
Сразу за площадкой был крутой, глубокий, гибельный обрыв. Далеко внизу, на самом дне этой бездонной пропасти, серебрилась речка, и сверху были хорошо видны все ее зигзаги и повороты. Слева от нее тянулась среди взгорий небольшая долина.
Франческо со своей спутницей заглянули вниз и завороженно замерли: у него закружилась голова, и она сказала вполголоса что-то невнятное.
От полноты сердца Франческо захотелось сделать девушке подарок. Он мягко сказал:
— Вот красота, способная внушить любовь. И у тебя такая же!
Ему не терпелось поскорей отойти от края пропасти. Он взял девушку за руку и отвел ее подальше. Она лучезарно улыбнулась ему, высвободила свою руку, поправила волосы.
А Франческо откровенно любовался ее сияющим лицом, стройной фигурой и длинными ногами с нежными округлыми икрами.
Девушка отошла еще на несколько шагов, по-детски приставляя пятку к носку, потом резко повернулась лицом к морю и посмотрела ему в глаза. Странный блеск осветил на секунду ее лицо. Разбежавшись, девушка безмолвно ринулась в пропасть.
Он оторопело обвел всю площадку глазами. Случилось что-то непоправимое. Его охватил ужас. Франческо быстро пошел к краю, заглянул вниз. И ничего не увидел.
С безмерной мукой подумал: "Ах, почему она не предупредила меня — мы прыгнули бы вместе, мы бы взялись за руки…"
Лететь вдвоем было бы так хорошо…
Странный сон приснился обер-архитектору в веселом и беспечном Петергофе. Он не испытал никакого огорчения оттого, что готов был броситься в пропасть и покончить со всем, но проснулся с тяжелым сердцем и долго думал, что бы этот сон мог означать в его жизни и почему даже теперь, не во сне, он тоже не испытал горького чувства от своей готовности оборвать жизнь. Но так ничего и не придумал.
нилась Растрелли высокая, светловолосая девушка. На ней было фиолетовое платье с тонкой золотой каймой. Красавица стояла, протянув к нему руки, освещенная полным солнцем.
— Ты — сон, виденье неземное или живая? — с изумленным восторгом спросил архитектор.
— Франческо, ты сошел с ума? Не узнаешь меня? — удивленно и разочарованно произнесла девушка.
Стройная, высокая, ладная — она ему очень понравилась. Она была ему давно знакома, была даже очень хорошей знакомой, но как зовут, где он ее видел и откуда знает — Растрелли вспомнить не мог. Он растерянно улыбался и думал, что, наверное, все это ему снится, потому что во сне и не такое бывает. Он ведь хорошо знал, что и самой природе редко удается произвести на свет нечто вполне законченное, во всех отношениях совершенное. Это чудо родил не природа, а обычная женщина… Нет, это сон, конечно, сон…
— Ну, теперь, когда ты наконец вспомнил меня, — сказала ему девушка с улыбкой, — пойдем погуляем. Хорошо?
И они отправились по дороге, по обеим сторонам усаженной кипарисами.
Шли они обнявшись, и Франческо всей длиной руки чувствовал тугое, трепетное молодое тело. Это его сильно волновало и даже повергало в неиспытываемое прежде смятение.
— А знаешь, — обратился он к девушке, — давай спустимся к морю, возьмем лодку и будем долго кататься…
— Нет, Франческо, мне нужно еще заняться делами. Больше всего на свете хотела бы я сейчас с тобой кататься, побыть с тобой подольше. Но никак не могу, ты меня извини!
Растрелли ей говорит:
— Море! Все мирское — ничто в сравнении с ним. Посмотри с горной вершины на горизонт, туда, где вода сливается с небом… Э, да что там говорить. Я как море увижу — во мне сердце растет, а после в пятки уходит… Море свободное, как воздух, вольное, чистое. Я от него хмелею!
Так они разговаривали и спускались по дороге к небольшой круглой площадке, справа от которой петляла вниз, к морю, широкая утоптанная тропа. На площадке стояло белое строение, напоминавшее шляпку гриба.
С площадки предстала бесконечная даль и синяя широкая гладь. Она сверкала, зеркалила небом и притягивала к себе. Хотелось подняться над зелеными горами, над деревьями, над скалистыми провалами и лететь, лететь. Нестись в голубой дымке над водой, вдыхая острый запах соленых волн.
Сразу за площадкой был крутой, глубокий, гибельный обрыв. Далеко внизу, на самом дне этой бездонной пропасти, серебрилась речка, и сверху были хорошо видны все ее зигзаги и повороты. Слева от нее тянулась среди взгорий небольшая долина.
Франческо со своей спутницей заглянули вниз и завороженно замерли: у него закружилась голова, и она сказала вполголоса что-то невнятное.
От полноты сердца Франческо захотелось сделать девушке подарок. Он мягко сказал:
— Вот красота, способная внушить любовь. И у тебя такая же!
Ему не терпелось поскорей отойти от края пропасти. Он взял девушку за руку и отвел ее подальше. Она лучезарно улыбнулась ему, высвободила свою руку, поправила волосы.
А Франческо откровенно любовался ее сияющим лицом, стройной фигурой и длинными ногами с нежными округлыми икрами.
Девушка отошла еще на несколько шагов, по-детски приставляя пятку к носку, потом резко повернулась лицом к морю и посмотрела ему в глаза. Странный блеск осветил на секунду ее лицо. Разбежавшись, девушка безмолвно ринулась в пропасть.
Он оторопело обвел всю площадку глазами. Случилось что-то непоправимое. Его охватил ужас. Франческо быстро пошел к краю, заглянул вниз. И ничего не увидел.
С безмерной мукой подумал: "Ах, почему она не предупредила меня — мы прыгнули бы вместе, мы бы взялись за руки…"
Лететь вдвоем было бы так хорошо…
Странный сон приснился обер-архитектору в веселом и беспечном Петергофе. Он не испытал никакого огорчения оттого, что готов был броситься в пропасть и покончить со всем, но проснулся с тяжелым сердцем и долго думал, что бы этот сон мог означать в его жизни и почему даже теперь, не во сне, он тоже не испытал горького чувства от своей готовности оборвать жизнь. Но так ничего и не придумал.
 оронье в Москве просыпается в весеннюю пору затемно. Часов в пять, едва-едва развиднеется, уже истошно орут. И воробьи про свое житье чирикают — редко, но звонко.
Черные с отливом вороны перелетают с дерева на дерево и беспокойно каркают, а подруги их прилежно сидят в гнездах на яйцах, высунувши наружу голову и зорко поглядывая вокруг. Повсюду у самых макушек чернеют вороньи гнезда, сложенные из тонких веток словно кое-как, на скорую руку, но удобные и прочные. Смотрит Растрелли на воронью возню и вспоминает хорошую российскую присказку: как ни бодрись, ворона, а до сокола тебе далеко. Но у сокола свои, сокольи дела. А эти вороняток высидеть хотят. Потому и сидят, будто привязанные.
И обер-архитектор тоже по-вороньи привязался, да только к чужому гнезду. Семь лет назад прибился он к театру италианских комедиантов. Овладела им страсть не только к сценическому действу, но и к Анне — жене Момоло.
Растрелли вдруг встрепенулся. На него повеяло странным жаром.
"Да, Анну я никогда-никогда не забуду, — подумал он. — Милая, пленительная женщина. Жизнь загнала ее в силки. Выбора у нее не было, и она жила с чувством непрощенной обиды. И не слишком-то унывала. Как могла, боролась с трудностями. Вопреки всему сохранила чистосердечие ребенка".
Муж Анны был комик по природе. Он играл в жизни, играл с жизнью, играл и с Анной, считая любую свою ложь по отношению к ней вполне невинной. Был он легкий, бездумный, бесчувственный. Актерствовал всегда с удовольствием. Он и не подозревал, что в его Анне ворочаются жернова горьких сожалений и что она давно его разлюбила.
— Франческо, ты мне многое дал, ты обогатил мою жизнь, — говорила Анна, заглядывая в глаза Растрелли — добрые и влюбленные. — Ты не такой, как все, — говорила Анна.
— А что же во мне такого особенного?
— Не знаю… Мне порой так стыдно за свою робость, за полную зависимость от мужа. Он никогда не знал и не хотел знать, что такое моя душа и каково ей. Не ведал бескорыстной потребности во мне. А нынче мне его очень-очень жалко… Он потянулся ко мне, да у меня-то все давно перегорело… Поздно спохватился. Сама не знаю, что мне делать…
Извини, Франческо, что я тебе докучаю своими переживаниями, тебе хватает забот. Но когда я все отдавала мужу, он этого не замечал. Заводил интрижки, думая, что наши отношения целиком зависят от его доброй воли. И внезапно почувствовал, что я выхожу из-под его власти. Моя свобода поступать так, как мне хочется, его испугала. Он растерялся, засуетился. Я услыхала за короткое время столько клятв и заверений, что их на две жизни хватило бы. Он клялся, просил, каялся, обещал исправиться. Говорил, что без меня жизнь его пуста и никчемна. И мне стало искренне жаль его, захотелось помочь ему…
То, что Анна делилась с ним самым сокровенным, трогало сердце Растрелли. Ее сомнения, страхи, доброе сердце, преданность высоким понятиям дружбы вызывали у Варфоломея Варфоломеевича горячее и щемящее чувство к Анне. Испытывая его, Растрелли сам себя не узнавал. "И что это со мной случилось, господи", — удивлялся он.
…Семь лет назад Анна с мужем уехала в Италию. Сердце Растрелли опустело. Больше он никогда Анну не видел.
оронье в Москве просыпается в весеннюю пору затемно. Часов в пять, едва-едва развиднеется, уже истошно орут. И воробьи про свое житье чирикают — редко, но звонко.
Черные с отливом вороны перелетают с дерева на дерево и беспокойно каркают, а подруги их прилежно сидят в гнездах на яйцах, высунувши наружу голову и зорко поглядывая вокруг. Повсюду у самых макушек чернеют вороньи гнезда, сложенные из тонких веток словно кое-как, на скорую руку, но удобные и прочные. Смотрит Растрелли на воронью возню и вспоминает хорошую российскую присказку: как ни бодрись, ворона, а до сокола тебе далеко. Но у сокола свои, сокольи дела. А эти вороняток высидеть хотят. Потому и сидят, будто привязанные.
И обер-архитектор тоже по-вороньи привязался, да только к чужому гнезду. Семь лет назад прибился он к театру италианских комедиантов. Овладела им страсть не только к сценическому действу, но и к Анне — жене Момоло.
Растрелли вдруг встрепенулся. На него повеяло странным жаром.
"Да, Анну я никогда-никогда не забуду, — подумал он. — Милая, пленительная женщина. Жизнь загнала ее в силки. Выбора у нее не было, и она жила с чувством непрощенной обиды. И не слишком-то унывала. Как могла, боролась с трудностями. Вопреки всему сохранила чистосердечие ребенка".
Муж Анны был комик по природе. Он играл в жизни, играл с жизнью, играл и с Анной, считая любую свою ложь по отношению к ней вполне невинной. Был он легкий, бездумный, бесчувственный. Актерствовал всегда с удовольствием. Он и не подозревал, что в его Анне ворочаются жернова горьких сожалений и что она давно его разлюбила.
— Франческо, ты мне многое дал, ты обогатил мою жизнь, — говорила Анна, заглядывая в глаза Растрелли — добрые и влюбленные. — Ты не такой, как все, — говорила Анна.
— А что же во мне такого особенного?
— Не знаю… Мне порой так стыдно за свою робость, за полную зависимость от мужа. Он никогда не знал и не хотел знать, что такое моя душа и каково ей. Не ведал бескорыстной потребности во мне. А нынче мне его очень-очень жалко… Он потянулся ко мне, да у меня-то все давно перегорело… Поздно спохватился. Сама не знаю, что мне делать…
Извини, Франческо, что я тебе докучаю своими переживаниями, тебе хватает забот. Но когда я все отдавала мужу, он этого не замечал. Заводил интрижки, думая, что наши отношения целиком зависят от его доброй воли. И внезапно почувствовал, что я выхожу из-под его власти. Моя свобода поступать так, как мне хочется, его испугала. Он растерялся, засуетился. Я услыхала за короткое время столько клятв и заверений, что их на две жизни хватило бы. Он клялся, просил, каялся, обещал исправиться. Говорил, что без меня жизнь его пуста и никчемна. И мне стало искренне жаль его, захотелось помочь ему…
То, что Анна делилась с ним самым сокровенным, трогало сердце Растрелли. Ее сомнения, страхи, доброе сердце, преданность высоким понятиям дружбы вызывали у Варфоломея Варфоломеевича горячее и щемящее чувство к Анне. Испытывая его, Растрелли сам себя не узнавал. "И что это со мной случилось, господи", — удивлялся он.
…Семь лет назад Анна с мужем уехала в Италию. Сердце Растрелли опустело. Больше он никогда Анну не видел.
 ля художника, считал Растрелли, есть закон твердый, единственный и несомненный; он состоит в том, что нужно работать вопреки всему — ударам, обстоятельствам, бедам. Закон этот Варфоломей Варфоломеевич не раз проверил на самом себе и втайне считал его стоящим выше всех других законов, которые придумали люди.
Когда он приезжал в Царское Село, душа его приходила в равновесие. Здесь он успокаивался — то ли потому, что очень любил это место, то ли потому, что перед красотой непрочность бытия отступала на второй план. А главное было тут то, что на каждом шагу восторженно утверждалась вечность. Сама природа была трогательна и прелестна с ее молодыми восходами и нежным заревом закатов.
Он ходил, ходил, думал, наблюдал, всматривался, слушал. И постепенно обретал точку опоры. Боль издерганной души стихала. Ослабшие силы восстанавливались.
Растрелли давно убедился: Царское — это рай, ибо нигде на всей видимой земле не может быть такого ласкового солнца, таких тенистых боскетов, изумительно-задумчивых парков, тем паче такого великолепного дворца, возвышающегося над вековой зеленью. Это его детище, его гордость. Здесь он воплотил в архитектуре свое пониманье цели и смысла жизни. И все, что здесь было, — и небо, и солнце, и деревья, и дворец — отражалось в зеркале вод, возникало на светлой поверхности как волшебное повторение.
…Было прохладно, шумели вершины сосен — и в шуме их Растрелли слышалось что-то грустное, томительное, прощальное. "Что будет, то будет, — думал Растрелли, вздыхал, глядел на небо, — а еще и то будет, что и нас не будет…"
Почему-то прежде у него было не так. Он жил тогда в гору. А сейчас пошло под уклон… Тогда строил в Петергофе и думал о Екатерининском дворце в Царском, а параллельно с этим строил еще и дворец в Измайлове, потом в Перове, а после в селе Покровском. А сейчас у него случилась остановка. И он в который раз понял: работа спасительна. Без нее человеку творческому и податься некуда. Работа — единственное пристанище, надежный и легчительный кров.
В подмосковных усадьбах дворцы были деревянные, недолговечные. Но сочный и полнокровный стиль Растрелли и в этих усадьбах проявлялся в полную силу. Все, чего касалась рука Растрелли, — был ли дворец временный, деревянный или каменный, какому и три века — не срок, — сработано было на совесть. Та же была цельность, та же пластика, насыщенность цвета и скульптурная форма. Иначе он не мог. По разбивке фасада и декорировке творение Растрелли можно было узнать за версту.
Он любил в архитектуре резкое, мощное, чеканное. Он словно вставлял в природу недостающее звено, ничего в ней не нарушая, не всаживая насильно. Свои постройки он вдвигал нежно, как свят дух, не мешая земле жить самой по себе. И потому постройки Растрелли не выпирали из земли, не вспучивались из ее чрева, а стояли легко и естественно, словно были еще загодя увидены вместе с окружающим каким-то единым духом, зорким, пытливым глазом.
Дворцы Растрелли — это дворцы волшебной игры, безумной щедрости, наслаждения жизнью. Казалось, что создать такое мог только очень счастливый хороший человек. Улыбались со стен круглощекие амуры, бежали друг за другом большие окна, тянулись панели с золочеными рамочками, потом слепительно сверкала полоса зеркал, а выше искрились чередующиеся барочные подзеркальники.
ля художника, считал Растрелли, есть закон твердый, единственный и несомненный; он состоит в том, что нужно работать вопреки всему — ударам, обстоятельствам, бедам. Закон этот Варфоломей Варфоломеевич не раз проверил на самом себе и втайне считал его стоящим выше всех других законов, которые придумали люди.
Когда он приезжал в Царское Село, душа его приходила в равновесие. Здесь он успокаивался — то ли потому, что очень любил это место, то ли потому, что перед красотой непрочность бытия отступала на второй план. А главное было тут то, что на каждом шагу восторженно утверждалась вечность. Сама природа была трогательна и прелестна с ее молодыми восходами и нежным заревом закатов.
Он ходил, ходил, думал, наблюдал, всматривался, слушал. И постепенно обретал точку опоры. Боль издерганной души стихала. Ослабшие силы восстанавливались.
Растрелли давно убедился: Царское — это рай, ибо нигде на всей видимой земле не может быть такого ласкового солнца, таких тенистых боскетов, изумительно-задумчивых парков, тем паче такого великолепного дворца, возвышающегося над вековой зеленью. Это его детище, его гордость. Здесь он воплотил в архитектуре свое пониманье цели и смысла жизни. И все, что здесь было, — и небо, и солнце, и деревья, и дворец — отражалось в зеркале вод, возникало на светлой поверхности как волшебное повторение.
…Было прохладно, шумели вершины сосен — и в шуме их Растрелли слышалось что-то грустное, томительное, прощальное. "Что будет, то будет, — думал Растрелли, вздыхал, глядел на небо, — а еще и то будет, что и нас не будет…"
Почему-то прежде у него было не так. Он жил тогда в гору. А сейчас пошло под уклон… Тогда строил в Петергофе и думал о Екатерининском дворце в Царском, а параллельно с этим строил еще и дворец в Измайлове, потом в Перове, а после в селе Покровском. А сейчас у него случилась остановка. И он в который раз понял: работа спасительна. Без нее человеку творческому и податься некуда. Работа — единственное пристанище, надежный и легчительный кров.
В подмосковных усадьбах дворцы были деревянные, недолговечные. Но сочный и полнокровный стиль Растрелли и в этих усадьбах проявлялся в полную силу. Все, чего касалась рука Растрелли, — был ли дворец временный, деревянный или каменный, какому и три века — не срок, — сработано было на совесть. Та же была цельность, та же пластика, насыщенность цвета и скульптурная форма. Иначе он не мог. По разбивке фасада и декорировке творение Растрелли можно было узнать за версту.
Он любил в архитектуре резкое, мощное, чеканное. Он словно вставлял в природу недостающее звено, ничего в ней не нарушая, не всаживая насильно. Свои постройки он вдвигал нежно, как свят дух, не мешая земле жить самой по себе. И потому постройки Растрелли не выпирали из земли, не вспучивались из ее чрева, а стояли легко и естественно, словно были еще загодя увидены вместе с окружающим каким-то единым духом, зорким, пытливым глазом.
Дворцы Растрелли — это дворцы волшебной игры, безумной щедрости, наслаждения жизнью. Казалось, что создать такое мог только очень счастливый хороший человек. Улыбались со стен круглощекие амуры, бежали друг за другом большие окна, тянулись панели с золочеными рамочками, потом слепительно сверкала полоса зеркал, а выше искрились чередующиеся барочные подзеркальники.
 н видел море. В пенных барашках — оно было то синим, то зеленым, то фиолетовым. Над ним клубились белые, желтоватые, свинцовые облака. Они медленно плыли — неуклюжие, холодные, пустые. И море становилось отвесно, вздымаясь вверх, и соединялось с небом, скрывая линию горизонта. Море, по которому он плыл в родную Италию, не имело названия. Это было просто Море, которое нельзя было измерить итальянскими милями. Бесконечное, оно убегало в синие дали, колыхалось, проваливалось, исступленно закипало чернильной густотой. Неслись по нему корабли — из Петербурга и Архангельска, из Либавы и Ревеля. Везли рогожу и строевой лес, щетину и рыбий клей, сало и конский волос. Крутой ветер наполнял паруса, и капитаны были рады прекрасной погоде, ибо можно было идти до шести узлов в час. А таковая скорость предвещала благополучный исход, если, конечно, с закатом солнца не засвежеет ветер, не переменит направленья и ночью не повалит сильный снег, что может принудить ко всяким испытаньям. Море есть море.
Спешили корабли, а впереди слабо намечалась неясная черта берега с главнейшим торговым портом Европы — Роттердамом. Туда шли корабли с разных широт. Водочным и пивоваренным заводам Европы нужны были рожь и ячмень, а корабельным верфям и канатным заводам — льняное семя, пенька и смола. Всего этого в России было пруд пруди, а назад везли бумагу и хлопок, табак и пряности, красильные материалы и кофей.
До торговли и обмена товарами обер-архитектору дела не было. Его манили высокие шпицы, колокольни и башни, подъемные мосты и остроконечные крыши, каменные строенья и древняя ратуша Флесингена с прекрасным готическим зданием.
Весь Роттердам был обнесен высокими брустверами. С обеих сторон города тянулись дюны.
Император всероссийский Петр Великий был великолепен. Он стоял в треугольной шляпе, в кафтане из голубого гродетура, который собственноручно расшила серебром Екатерина. Сняв шляпу, Петр низко поклонился на все стороны и, сопровождаемый знатью, вошел в церковь. Отец и сын Растрелли вошли следом.
— А что, ребята, да неужто и вправду побили мы шведов?
— Ну уж, брат, вестимо! Православному люду трудно запруду поставить, коли он попрет. Нас все насмерть боятся ныне, при таком-то белом царе!
н видел море. В пенных барашках — оно было то синим, то зеленым, то фиолетовым. Над ним клубились белые, желтоватые, свинцовые облака. Они медленно плыли — неуклюжие, холодные, пустые. И море становилось отвесно, вздымаясь вверх, и соединялось с небом, скрывая линию горизонта. Море, по которому он плыл в родную Италию, не имело названия. Это было просто Море, которое нельзя было измерить итальянскими милями. Бесконечное, оно убегало в синие дали, колыхалось, проваливалось, исступленно закипало чернильной густотой. Неслись по нему корабли — из Петербурга и Архангельска, из Либавы и Ревеля. Везли рогожу и строевой лес, щетину и рыбий клей, сало и конский волос. Крутой ветер наполнял паруса, и капитаны были рады прекрасной погоде, ибо можно было идти до шести узлов в час. А таковая скорость предвещала благополучный исход, если, конечно, с закатом солнца не засвежеет ветер, не переменит направленья и ночью не повалит сильный снег, что может принудить ко всяким испытаньям. Море есть море.
Спешили корабли, а впереди слабо намечалась неясная черта берега с главнейшим торговым портом Европы — Роттердамом. Туда шли корабли с разных широт. Водочным и пивоваренным заводам Европы нужны были рожь и ячмень, а корабельным верфям и канатным заводам — льняное семя, пенька и смола. Всего этого в России было пруд пруди, а назад везли бумагу и хлопок, табак и пряности, красильные материалы и кофей.
До торговли и обмена товарами обер-архитектору дела не было. Его манили высокие шпицы, колокольни и башни, подъемные мосты и остроконечные крыши, каменные строенья и древняя ратуша Флесингена с прекрасным готическим зданием.
Весь Роттердам был обнесен высокими брустверами. С обеих сторон города тянулись дюны.
Император всероссийский Петр Великий был великолепен. Он стоял в треугольной шляпе, в кафтане из голубого гродетура, который собственноручно расшила серебром Екатерина. Сняв шляпу, Петр низко поклонился на все стороны и, сопровождаемый знатью, вошел в церковь. Отец и сын Растрелли вошли следом.
— А что, ребята, да неужто и вправду побили мы шведов?
— Ну уж, брат, вестимо! Православному люду трудно запруду поставить, коли он попрет. Нас все насмерть боятся ныне, при таком-то белом царе!
 то с нами случилось? — вы спрашиваете. — Голубые спокойные глаза Романа ярко вспыхнули. Он выдержал длинную паузу, тяжело вздохнул и, полузакрыв глаза, тихо произнес: — Кто мне ответит, почему всевышний отворачивает лицо свое от нас? Почему лишает милости и защищения? Почему? Кому это ведомо? Никто не ответит. Даже сама императрица. Живешь, живешь, и начинает судьба твоя катиться вниз, и переменить этого скатыванья, остановить его невозможно. Как-то я спросил об этом у брата Ивана. А он, помню, долго так и жалостно смотрел на меня, а после отшутился: Авоська, говорит, веревку вьет, а Небоська петлю закидывает. Уразумел? — спрашивает. He-а, отвечаю, это тебе, гоф-малеру двора, виднее, а мы люди простые, обычные живописные мастера.
Мы в изящных искусствах как в лесу густом бродим, каждый свои цветы отыскивает…
"Ну вот и отыскивай себе на здоровье! Не мудрствуй!"
От Ивана тогда как раз ушла жена. Он жил в глубокой печали, был тяжко болен. Большую часть дня лежал, отвернувшись к стене. Ни с кем говорить не хотел. И тут — на беду нашу — принес к нам старец Иона, монах, двоюродный мой брат, тетрадку с пасквилем на Феофана Прокоповича. Называлась она "Житие Феофана, архиепископа Новгородского". Написано было про него там зло, беспощадно. А после и еще две тетрадки подметные появились в нашем доме. Ну, пасквиль как пасквиль, по всем правилам, со всякими предерзостными и непристойными словами в адрес Феофана — и что он присваивал себе церковное имущество, и что содействовал императрице Анне грабить казну, транжирить богатства и препровождать их в Курляндию, и что он лицемер, жеривол и дьявольский жрец.
Брат наш Иродион возрадовался тем тетрадкам и стал их громко читать с амвона в своем московском приходе. В открытую. Прихожане слушали разоблачения Феофана. Ничего не стоило донести на протопопа. А он как с цепи сорвался. Совсем безумный стал. Я ему говорю: "Ты, брат, фискалов устрашись. Побойся. За такие речи твои могут жизни лишить всех нас! Подумай об этом". А он свое гнет. Откроет тетрадку и на весь дом возглашает: "Ах, Феофан, Феофан, жадный поп, гневливый пес, прежде царю Петру похвальные стихи писал, а ныне немчуре курляндской зад лижешь! Мотаешься по Руси, ровно саранча, чревище великое, а крыльца малые. Со слабыми надменный, а как Бирона завидишь — по земле стелешься, трепещешь! На словах за просвещенье ратуешь. А на деле? Личных врагов своих объявляешь врагами державы, что ж, так куды легче с ними счеты свести".
Я слушаю брата со страхом. По сути-то согласен со всем, что он говорит, а душа неспокойна, ох неспокойна! Брату Ивану говорю про это, а он в ответ: "Вы, братья мои родные, для бога меня к сим тетрадкам не приплетайте, прошу вас. Мне, больному человеку, вас слушать тошно! И без вас это все мне ведомо! Оставьте меня, оставьте, богом прошу!"
Брат Иродион уверовал, что его никто не тронет, поскольку он духовник сестры императрицы, герцогини Мекленбургской — Екатерины Иоанновны. Надеялся, что, коли гром грянет, тут же заступятся за него люди влиятельные. "У меня единомышленники есть, — говорил брат, — архимандриты Маркел Родышевский, Варлаам Высоцкий, цейх-директор Михайло Аврамов…" — Роман махнул рукой и продолжал: — Эх, Родион, Родион, в простоте своей и наивности сгубил ты нас всех. Надеялся на тени, будто не знал, что императрицей управляют Бирон и Левенвольд. А за их спиной Остерман… А всем им угождает вице-президент синода, прехитрый и преподлый Феофан Прокопович. Он создал на нас дело и подметные тетради, что мы читали, представил двору в нужном ему свете — как попытку государственного переворота. Как заговор и смуту…
Растрелли был обескуражен, слушая Романа. Выражение глаз обер-архитектора постоянно менялось — они то вспыхивали и оживали, то застывали в недоуменном изумлении, то наполнялись жалостью сострадания и замкнутой горькой грустью.
Судьба Никитиных — людей чистых, богато одаренных — сильно задела Растрелли. Ведь после падения Бирона и ему немало крови попортили, требовали объяснений, почему он именует себя графом, на каком основании прибавляет к своей фамилии приставку "де". И приказали впредь именоваться фон Растрелли, а диплом на графское достоинство без объяснений отобрали. Покровительство Бирона, который питал к Растрелли непонятное расположение, едва не обернулось для архитектора бедой. От тюрьмы да сумы, от скорой расправы в России во все времена спасу никому не было — ни правителям, ни святым, ни угодникам. Где, кто и когда слышал последний задушенный крик мученика?
— Вы чаю попейте, Варфоломей Варфоломеевич. Я вас вконец заговорил!
— Пью, Роман, пью… Что же было дальше? — нетерпеливо спросил он.
В тоне его вопроса Роман услыхал душевную заинтересованность. И лицо графа, породистое и твердое, было необыкновенно добрым и приветливым, укрепляя в Романе сразу возникшее чувство доверия.
Никитин громко хмыкнул и сказал, оглаживая ладонью густую, длинную бороду:
— А дальше… Дальше отверзлась алчная пасть Тайной канцелярии. Простерлись к нам кровожадные лапы самого генерал-адъютанта Ушакова. У него-то давно все было налажено. У него мастерская что надо! — струмент всякого рода пыточный наготове. А пытчик Андрей Иваныч — ого-го! Все предусмотрел. Он знает средства, что пособляют дознанью; в его канцелярии — целый набор: подымали на пялы, чтоб шкура не ссохлась, вывертывали лопатки, гладили по спине раскаленным утюгом, кололи под ногти иглами, били кнутом. Скучать не давали.
Самые жестокие испытания Ушаков проводил самолично. Так у них было заведено. Он опасался, что помощники его не столь искусны и беспощадны, как надобно. И еще он помнил строгое наставленье Феофана Прокоповича: "Ты, любезный, бесперечь старайся! А я тебя в благороднейшее сословие введу. Графом сделаю. Надобно повычистить всех сверчков изо всех уголов: хватит им посвистывать. А я матери нашей императрице донесу, как ты ее трудами своими утешаешь…"
И Ушаков старался. И утешал. И от его утешения кости трещали. Видать, он катом еще в матерней утробе сформовался. Мучить человека, чинить ему страданье, истязать было для него вроде любимого занятия.
Дело наше велось под непосредственным наблюдением Остермана и Прокоповича. Они обо всем докладывали императрице. Именно она-то, а не кто другой, указала Семену Андреевичу Салтыкову: взять живописца Романа Никитина под караул, осмотреть все бумаги и письма и тут же донести. Когда сам начальник Конторы розыскных дел явился к нам домой, я понял: труба наше дело! Конец!
Ивану (к тому времени его, как и меня, взяли) успели сломать на дыбе плечевые кости… Лютый зверь был Ушаков, чтоб ему в гробу перевернуться, господи помилуй! Так и вижу его дьявольские толстые брови — одна выше другой. Кривой нос, сбитый на правый бок, тонкие, злые, поджатые губы. И глаза его помню — белые, с помрачненным взглядом. У людей таких глаз не бывает.
Второго брата моего — Родиона — расстригли, чтобы можно было пытать. Дважды подымали на дыбу, не выдержал.
И стал называть имена. Все, какие только мог вспомнить. Списки названных Родионом тут же отсылали с курьерами в Москву. Там шли повальные аресты. Иван молчал, как камень. "Я вам сказал все без всякой утайки, — говорил он Ушакову, — сущую правду сказал. Тетрадок подметных не читал, заговора противу императрицы не замышлял. И в том во всем утверждаюсь и под жестоким истязаньем, коему меня подвергли, готов руку приложить…"
Воспоминания всколыхнули в Романе затаенную боль. Никитин весь помертвел и делал усилия, чтобы не разрыдаться. Его состояние передалось графу.
Растрелли выругался уличной итальянской бранью. Он встал и отошел к окну. И не видел, как внезапно встрепенулся Роман, улыбнулся и благодарно посмотрел в широкую округлую спину обер-архитектора.
Растрелли прошелся по комнате, заложив руки за спину, глядя прямо перед собой. Потом остановился у стены и стал разглядывать копию с одной из мадонн мастера Рафаэля из Урбино.
Этот молодой, пылкий, исполненный страстью маэстро написал, по-видимому, свою возлюбленную. У нее было чудное светоносное лицо. Только любовь может так накалить кисть. Лицо мерцало, светилось — благородное, нежное, задумчивое. Волшебный мягкий свет очей мадонны струил такую свежесть, такое сиянье, что весь облик женщины казался неземным. Он пленял, как чистый луч с неба, как приятный, желанный сон. Развернутое в глубину пространство за спиной мадонны, на руке которой сидел розовый ребенок, открывало перспективу неба, зеленых полей, серебристой речной глади с лодкой.
А точеное, полное непостижимой жизни, молодое лицо, склоненная фигура в красном платье, глубокая погруженность в себя создавали некий идеальный тип сосредоточенной жизни, поэтического движения души. Рафаэль создал пленительный образ женщины. Он сумел передать в статичном изображении силу и искренность ее чувств. Сие под силу художнику, который испытал порыв безумной и безудержной влюбленности, решил Растрелли. От одного взгляда на такую картину душа становится вольной, как море, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И вольной душе жаждется чуда…
Мадонна была воплощенным стремлением человека обрести счастье.
— Это малевал Иван во Флоренции, — негромко пояснил Роман.
Растрелли сел в кресло, откинулся, внимательно посмотрел на Романа, закрыл глаза — и в ту же минуту увидел Ивана Никитина…
…На лице Ивана мелькнуло что-то наподобие беспомощной улыбки. От этой вымученной улыбки Растрелли содрогнулся и сразу почувствовал себя неуютно.
— А что, Анна Иоанновна уже умерла? — тихо спросил Иван Никитич.
Растрелли молча подтвердил.
— Вот кстати, вот кстати! Значит, и Ушаков больше не удержится. И пытки будут отменены. Господи, как хорошо… А Феофан — тоже умер? — снова спросил Никитин.
— Да, и уже давно!
— Так, так. — Никитин вдруг громко расхохотался и резко оборвал смех, прикрыв рот рукой. Потом снова насильственно хохотнул. И снова резко себя оборвал. — А знаете, любезный Варфоломей Варфоломеевич, какая это была душа и какое редкое милосердие! Ого-о! поискать… Умер, значит. Отлились, значит, ему свинцом наши муки. Да, да. Я совсем позабыл, ведь Феофан умер, когда мы были еще в каземате. Надо же, память как черная дыра… Знаете, не успел почить Феофан, как нас перестали вызывать на допросы с пристрастием. Он нас сгубил. Сгубил во цвете лет. Такие всегда губят. Губят настоящее в пользу будущего. А прошлое губят, чтоб продлить для себя настоящее. Все бы хорошо, только благо-то их нашими кровавыми слезами полито. Вона как… Знаете, почему Феофан был против патриаршества? Потому что ему ни за что нельзя было добраться до такой высоты. Ростом не вышел. И он учредил коллегиальный орган управления православной церковью — синод. И сразу оказался наверху, крайне потребным, незаменимым. Возглавил синод.
Ах, вражья нелюдь, омерзительная морда, мошенник! Устроил торжище. Немецкий балаган завел… Побоку пустил петровские реформы. А ведь как ратовал за них, христопродавец! Такие злодеи, как он, заливают землю ядом своей жадности, зверской жестокости. И что же о них скажут потомки? Про их черную душу они смолчат. Если вдуматься, потомки слепы и глухи. Им и дела нет, что русский живописец, любимый Петром Великим, награжденный почетным аттестатом старейшей в Европе Флорентийской Академии художеств, гнил заживо на сыром полу в каземате Петропавловской крепости. Изломанный, растерзанный, он стонал, и стон его глухо отзывался в жуткой, мучительной тишине. Крайним напряжением тюремной неволи собирал в себе остаток сил, готовился вынести новый допрос. Об этом записей не будет.
то с нами случилось? — вы спрашиваете. — Голубые спокойные глаза Романа ярко вспыхнули. Он выдержал длинную паузу, тяжело вздохнул и, полузакрыв глаза, тихо произнес: — Кто мне ответит, почему всевышний отворачивает лицо свое от нас? Почему лишает милости и защищения? Почему? Кому это ведомо? Никто не ответит. Даже сама императрица. Живешь, живешь, и начинает судьба твоя катиться вниз, и переменить этого скатыванья, остановить его невозможно. Как-то я спросил об этом у брата Ивана. А он, помню, долго так и жалостно смотрел на меня, а после отшутился: Авоська, говорит, веревку вьет, а Небоська петлю закидывает. Уразумел? — спрашивает. He-а, отвечаю, это тебе, гоф-малеру двора, виднее, а мы люди простые, обычные живописные мастера.
Мы в изящных искусствах как в лесу густом бродим, каждый свои цветы отыскивает…
"Ну вот и отыскивай себе на здоровье! Не мудрствуй!"
От Ивана тогда как раз ушла жена. Он жил в глубокой печали, был тяжко болен. Большую часть дня лежал, отвернувшись к стене. Ни с кем говорить не хотел. И тут — на беду нашу — принес к нам старец Иона, монах, двоюродный мой брат, тетрадку с пасквилем на Феофана Прокоповича. Называлась она "Житие Феофана, архиепископа Новгородского". Написано было про него там зло, беспощадно. А после и еще две тетрадки подметные появились в нашем доме. Ну, пасквиль как пасквиль, по всем правилам, со всякими предерзостными и непристойными словами в адрес Феофана — и что он присваивал себе церковное имущество, и что содействовал императрице Анне грабить казну, транжирить богатства и препровождать их в Курляндию, и что он лицемер, жеривол и дьявольский жрец.
Брат наш Иродион возрадовался тем тетрадкам и стал их громко читать с амвона в своем московском приходе. В открытую. Прихожане слушали разоблачения Феофана. Ничего не стоило донести на протопопа. А он как с цепи сорвался. Совсем безумный стал. Я ему говорю: "Ты, брат, фискалов устрашись. Побойся. За такие речи твои могут жизни лишить всех нас! Подумай об этом". А он свое гнет. Откроет тетрадку и на весь дом возглашает: "Ах, Феофан, Феофан, жадный поп, гневливый пес, прежде царю Петру похвальные стихи писал, а ныне немчуре курляндской зад лижешь! Мотаешься по Руси, ровно саранча, чревище великое, а крыльца малые. Со слабыми надменный, а как Бирона завидишь — по земле стелешься, трепещешь! На словах за просвещенье ратуешь. А на деле? Личных врагов своих объявляешь врагами державы, что ж, так куды легче с ними счеты свести".
Я слушаю брата со страхом. По сути-то согласен со всем, что он говорит, а душа неспокойна, ох неспокойна! Брату Ивану говорю про это, а он в ответ: "Вы, братья мои родные, для бога меня к сим тетрадкам не приплетайте, прошу вас. Мне, больному человеку, вас слушать тошно! И без вас это все мне ведомо! Оставьте меня, оставьте, богом прошу!"
Брат Иродион уверовал, что его никто не тронет, поскольку он духовник сестры императрицы, герцогини Мекленбургской — Екатерины Иоанновны. Надеялся, что, коли гром грянет, тут же заступятся за него люди влиятельные. "У меня единомышленники есть, — говорил брат, — архимандриты Маркел Родышевский, Варлаам Высоцкий, цейх-директор Михайло Аврамов…" — Роман махнул рукой и продолжал: — Эх, Родион, Родион, в простоте своей и наивности сгубил ты нас всех. Надеялся на тени, будто не знал, что императрицей управляют Бирон и Левенвольд. А за их спиной Остерман… А всем им угождает вице-президент синода, прехитрый и преподлый Феофан Прокопович. Он создал на нас дело и подметные тетради, что мы читали, представил двору в нужном ему свете — как попытку государственного переворота. Как заговор и смуту…
Растрелли был обескуражен, слушая Романа. Выражение глаз обер-архитектора постоянно менялось — они то вспыхивали и оживали, то застывали в недоуменном изумлении, то наполнялись жалостью сострадания и замкнутой горькой грустью.
Судьба Никитиных — людей чистых, богато одаренных — сильно задела Растрелли. Ведь после падения Бирона и ему немало крови попортили, требовали объяснений, почему он именует себя графом, на каком основании прибавляет к своей фамилии приставку "де". И приказали впредь именоваться фон Растрелли, а диплом на графское достоинство без объяснений отобрали. Покровительство Бирона, который питал к Растрелли непонятное расположение, едва не обернулось для архитектора бедой. От тюрьмы да сумы, от скорой расправы в России во все времена спасу никому не было — ни правителям, ни святым, ни угодникам. Где, кто и когда слышал последний задушенный крик мученика?
— Вы чаю попейте, Варфоломей Варфоломеевич. Я вас вконец заговорил!
— Пью, Роман, пью… Что же было дальше? — нетерпеливо спросил он.
В тоне его вопроса Роман услыхал душевную заинтересованность. И лицо графа, породистое и твердое, было необыкновенно добрым и приветливым, укрепляя в Романе сразу возникшее чувство доверия.
Никитин громко хмыкнул и сказал, оглаживая ладонью густую, длинную бороду:
— А дальше… Дальше отверзлась алчная пасть Тайной канцелярии. Простерлись к нам кровожадные лапы самого генерал-адъютанта Ушакова. У него-то давно все было налажено. У него мастерская что надо! — струмент всякого рода пыточный наготове. А пытчик Андрей Иваныч — ого-го! Все предусмотрел. Он знает средства, что пособляют дознанью; в его канцелярии — целый набор: подымали на пялы, чтоб шкура не ссохлась, вывертывали лопатки, гладили по спине раскаленным утюгом, кололи под ногти иглами, били кнутом. Скучать не давали.
Самые жестокие испытания Ушаков проводил самолично. Так у них было заведено. Он опасался, что помощники его не столь искусны и беспощадны, как надобно. И еще он помнил строгое наставленье Феофана Прокоповича: "Ты, любезный, бесперечь старайся! А я тебя в благороднейшее сословие введу. Графом сделаю. Надобно повычистить всех сверчков изо всех уголов: хватит им посвистывать. А я матери нашей императрице донесу, как ты ее трудами своими утешаешь…"
И Ушаков старался. И утешал. И от его утешения кости трещали. Видать, он катом еще в матерней утробе сформовался. Мучить человека, чинить ему страданье, истязать было для него вроде любимого занятия.
Дело наше велось под непосредственным наблюдением Остермана и Прокоповича. Они обо всем докладывали императрице. Именно она-то, а не кто другой, указала Семену Андреевичу Салтыкову: взять живописца Романа Никитина под караул, осмотреть все бумаги и письма и тут же донести. Когда сам начальник Конторы розыскных дел явился к нам домой, я понял: труба наше дело! Конец!
Ивану (к тому времени его, как и меня, взяли) успели сломать на дыбе плечевые кости… Лютый зверь был Ушаков, чтоб ему в гробу перевернуться, господи помилуй! Так и вижу его дьявольские толстые брови — одна выше другой. Кривой нос, сбитый на правый бок, тонкие, злые, поджатые губы. И глаза его помню — белые, с помрачненным взглядом. У людей таких глаз не бывает.
Второго брата моего — Родиона — расстригли, чтобы можно было пытать. Дважды подымали на дыбу, не выдержал.
И стал называть имена. Все, какие только мог вспомнить. Списки названных Родионом тут же отсылали с курьерами в Москву. Там шли повальные аресты. Иван молчал, как камень. "Я вам сказал все без всякой утайки, — говорил он Ушакову, — сущую правду сказал. Тетрадок подметных не читал, заговора противу императрицы не замышлял. И в том во всем утверждаюсь и под жестоким истязаньем, коему меня подвергли, готов руку приложить…"
Воспоминания всколыхнули в Романе затаенную боль. Никитин весь помертвел и делал усилия, чтобы не разрыдаться. Его состояние передалось графу.
Растрелли выругался уличной итальянской бранью. Он встал и отошел к окну. И не видел, как внезапно встрепенулся Роман, улыбнулся и благодарно посмотрел в широкую округлую спину обер-архитектора.
Растрелли прошелся по комнате, заложив руки за спину, глядя прямо перед собой. Потом остановился у стены и стал разглядывать копию с одной из мадонн мастера Рафаэля из Урбино.
Этот молодой, пылкий, исполненный страстью маэстро написал, по-видимому, свою возлюбленную. У нее было чудное светоносное лицо. Только любовь может так накалить кисть. Лицо мерцало, светилось — благородное, нежное, задумчивое. Волшебный мягкий свет очей мадонны струил такую свежесть, такое сиянье, что весь облик женщины казался неземным. Он пленял, как чистый луч с неба, как приятный, желанный сон. Развернутое в глубину пространство за спиной мадонны, на руке которой сидел розовый ребенок, открывало перспективу неба, зеленых полей, серебристой речной глади с лодкой.
А точеное, полное непостижимой жизни, молодое лицо, склоненная фигура в красном платье, глубокая погруженность в себя создавали некий идеальный тип сосредоточенной жизни, поэтического движения души. Рафаэль создал пленительный образ женщины. Он сумел передать в статичном изображении силу и искренность ее чувств. Сие под силу художнику, который испытал порыв безумной и безудержной влюбленности, решил Растрелли. От одного взгляда на такую картину душа становится вольной, как море, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И вольной душе жаждется чуда…
Мадонна была воплощенным стремлением человека обрести счастье.
— Это малевал Иван во Флоренции, — негромко пояснил Роман.
Растрелли сел в кресло, откинулся, внимательно посмотрел на Романа, закрыл глаза — и в ту же минуту увидел Ивана Никитина…
…На лице Ивана мелькнуло что-то наподобие беспомощной улыбки. От этой вымученной улыбки Растрелли содрогнулся и сразу почувствовал себя неуютно.
— А что, Анна Иоанновна уже умерла? — тихо спросил Иван Никитич.
Растрелли молча подтвердил.
— Вот кстати, вот кстати! Значит, и Ушаков больше не удержится. И пытки будут отменены. Господи, как хорошо… А Феофан — тоже умер? — снова спросил Никитин.
— Да, и уже давно!
— Так, так. — Никитин вдруг громко расхохотался и резко оборвал смех, прикрыв рот рукой. Потом снова насильственно хохотнул. И снова резко себя оборвал. — А знаете, любезный Варфоломей Варфоломеевич, какая это была душа и какое редкое милосердие! Ого-о! поискать… Умер, значит. Отлились, значит, ему свинцом наши муки. Да, да. Я совсем позабыл, ведь Феофан умер, когда мы были еще в каземате. Надо же, память как черная дыра… Знаете, не успел почить Феофан, как нас перестали вызывать на допросы с пристрастием. Он нас сгубил. Сгубил во цвете лет. Такие всегда губят. Губят настоящее в пользу будущего. А прошлое губят, чтоб продлить для себя настоящее. Все бы хорошо, только благо-то их нашими кровавыми слезами полито. Вона как… Знаете, почему Феофан был против патриаршества? Потому что ему ни за что нельзя было добраться до такой высоты. Ростом не вышел. И он учредил коллегиальный орган управления православной церковью — синод. И сразу оказался наверху, крайне потребным, незаменимым. Возглавил синод.
Ах, вражья нелюдь, омерзительная морда, мошенник! Устроил торжище. Немецкий балаган завел… Побоку пустил петровские реформы. А ведь как ратовал за них, христопродавец! Такие злодеи, как он, заливают землю ядом своей жадности, зверской жестокости. И что же о них скажут потомки? Про их черную душу они смолчат. Если вдуматься, потомки слепы и глухи. Им и дела нет, что русский живописец, любимый Петром Великим, награжденный почетным аттестатом старейшей в Европе Флорентийской Академии художеств, гнил заживо на сыром полу в каземате Петропавловской крепости. Изломанный, растерзанный, он стонал, и стон его глухо отзывался в жуткой, мучительной тишине. Крайним напряжением тюремной неволи собирал в себе остаток сил, готовился вынести новый допрос. Об этом записей не будет.
 рхитектор Растрелли увидел третью казарму казематов Петропавловской крепости. Здесь не было дневного света, никто не спал вволю и не наедался досыта. В бывшем Преображенском приказе, который стал называться Тайной канцелярией, ничего не делалось наспех. Весь персонал Канцелярии трудился с большим усердием. В полумраке с людьми проделывали такие штуки, что кровавая тень вставала над гигантской империей.
И снова увидел Растрелли закованного в ножные и ручные железа первостатейного живописца Ивана Никитина. Он спал на сыром полу, босой, опухший от голода, с затекшим от побоев лицом…
…Бесформенная груда в черной рясе склонилась над лежащим. Массивный золотой крест на цепи раскачивался во тьме.
Вынырнула голова. В полутьме, словно мрамор на кладбище, засветились необъятные щеки. Из-за жирного плеча этой глыбы выступал сам хозяин Канцелярии — главный палач Российской империи Ушаков.
Глава синода Феофан Прокопович доволен. Он улыбается. Строптивый Никитин когда-то отказался писать иконостас. Кому отказал? Самому Феофану. Наглец. Насмелился на дерзость и высокомерие. Теперь, голубчик, ничего уже не напишешь. Ручки-то поломаны основательно. Ушаков знает, что делает. Феофан ничего из виду не упускает.
Забылся в тяжелом сне Иван Никитин, не видел Феофана. Лучшей натуры для того, чтобы оставить на холсте лик Зла, трудно было сыскать.
Стояли они рядом — Феофан и Ушаков. Были достойны друг друга. Выдающийся оратор и выдающийся заплечный мастер. Теоретик литературы и практик застенка. Два сапога пара… Олицетворенное воплощение уродливого родства преступления и закона.
Когда-то сын купца из Киева Елеазар Прокопович постригся в монахи и стал Феофаном, мужем весьма ученым. А Ушаков выбился в графы. Точней бы сказать, не графом он стал, а самым настоящим грифом. Ибо граф-дворянин по своей природе непременно должен быть благороден. А гриф — не должен, он питается падалью.
Родовое название этих хищных птиц — сип. Сип — ординарный, серый, с голой шеей. Мозг его большими знаньями не обременен. А вот Феофан Прокопович — совсем другое дело. Он один из самых образованных сипов своего времени.
рхитектор Растрелли увидел третью казарму казематов Петропавловской крепости. Здесь не было дневного света, никто не спал вволю и не наедался досыта. В бывшем Преображенском приказе, который стал называться Тайной канцелярией, ничего не делалось наспех. Весь персонал Канцелярии трудился с большим усердием. В полумраке с людьми проделывали такие штуки, что кровавая тень вставала над гигантской империей.
И снова увидел Растрелли закованного в ножные и ручные железа первостатейного живописца Ивана Никитина. Он спал на сыром полу, босой, опухший от голода, с затекшим от побоев лицом…
…Бесформенная груда в черной рясе склонилась над лежащим. Массивный золотой крест на цепи раскачивался во тьме.
Вынырнула голова. В полутьме, словно мрамор на кладбище, засветились необъятные щеки. Из-за жирного плеча этой глыбы выступал сам хозяин Канцелярии — главный палач Российской империи Ушаков.
Глава синода Феофан Прокопович доволен. Он улыбается. Строптивый Никитин когда-то отказался писать иконостас. Кому отказал? Самому Феофану. Наглец. Насмелился на дерзость и высокомерие. Теперь, голубчик, ничего уже не напишешь. Ручки-то поломаны основательно. Ушаков знает, что делает. Феофан ничего из виду не упускает.
Забылся в тяжелом сне Иван Никитин, не видел Феофана. Лучшей натуры для того, чтобы оставить на холсте лик Зла, трудно было сыскать.
Стояли они рядом — Феофан и Ушаков. Были достойны друг друга. Выдающийся оратор и выдающийся заплечный мастер. Теоретик литературы и практик застенка. Два сапога пара… Олицетворенное воплощение уродливого родства преступления и закона.
Когда-то сын купца из Киева Елеазар Прокопович постригся в монахи и стал Феофаном, мужем весьма ученым. А Ушаков выбился в графы. Точней бы сказать, не графом он стал, а самым настоящим грифом. Ибо граф-дворянин по своей природе непременно должен быть благороден. А гриф — не должен, он питается падалью.
Родовое название этих хищных птиц — сип. Сип — ординарный, серый, с голой шеей. Мозг его большими знаньями не обременен. А вот Феофан Прокопович — совсем другое дело. Он один из самых образованных сипов своего времени.


 других странах, помимо России, работать Варфоломею Растрелли не пришлось. По своему опыту он мог сказать — служба архитектора здесь изрядно тяжела.
Никогда и нигде не виданная и не слыханная волокита с прохождением бумаг, вечное откладывание дела на завтра, нехватка людей, инструмента, материалов — все это изо дня в день выматывало душу, подрывало силы. Когда-то за границей агенты Петра, а затем и его наследников усердно искали мастеров. Искали в Германии, Италии, Голландии, Франции. Ехали и ехали в Россию архитекторы, художники, инженеры, ученые.
Иноземцы приезжали, энергично брались за дело, потом уставали и заметно охладевали, наталкиваясь на неразбериху, воровство, разбой подрядчиков, на пасмурную российскую администрацию.
Они жаловались, писали челобитные, встречая неблагоприятные обстоятельства, чудовищные конфузии и пучины, из коих выбраться было невозможно. Многие из приезжих умирали, не выдерживая здешнего безрассудства, глупости, непротеки, видя, что все их усилия уходят и теряются в песках и болотах. Суровый быт приводил в отчаянье, а потом и добивал многих иноземных архитекторов. Умученный беспрерывными царскими понуканьями, уснул и больше не проснулся слабый и болезненный Андреас Шлютер. Навеки приютила его петербургская земля, бывшего архитектора прусского короля, знаменитого строителя Берлинского дворца, проектировщика Монплезира в Петергофе и Летнего дворца Петра. Всего два с половиною года выдержал в Петербурге Леблон.
12 ноября 1719 года пьяный подрядчик, потеряв равновесие, невзначай столкнул с лесов Георга Маттарнови, проектировщика Зимнего дворца и церкви Исаакия Долматского, автора Кунсткамеры, разбившегося насмерть о камни своего же детища. Меньше пяти лет продержался строитель Конюшенного двора Николай Гербель.
Северная столица не щадила не только иноземных мастеров, не могших ни понять, ни принять местных условий. Крайне сурово обходилась она и со своими мастерами — лучшими из лучших.
Самой большой надежде русской архитектуры, совсем молодому Петру Еропкину, обученному в Италии, отрубили голову на плахе, создав выдуманное политическое дело. А был он великий знаток градостроительства, искусный инженер, который впервые перевел на русский язык многие труды знатных иноземных архитекторов.
А оба брата Никитины? Учились во Флоренции у Том-мазо Реди, и по возвращении в Россию Иван Никитин по таланту и умению сразу же признан лучшим из всех русских живописцев. И что же? Братья подверглись пыткам.
Слушайте, глухие, смотрите, слепые, русских художников истязают. Ни совести, ни страха, ни стыда у грозных палачей…
Всего двадцать восемь лет довелось прожить Тимофею Усову, руководившему постройками в Петергофе, а до того получившему художественное образование в Италии. Не-, многим больше было Александру Захарову, обучавшемуся в Голландии, затем в Италии. Он писал Петра Великого, был им обласкан и сделан придворным художником, смотрителем всех картин. Императору знатоки говорили, что такого искусного и сильного живописца еще не было в России, но вскоре его отвергли, отставили, забыли. С досады он запил горькую и умер в молодых годах.
Архитектор Варфоломей Растрелли всегда высоко ставил Матвеева. Ни на кого не похожий Матвеев достиг такой виртуозности, какая определила ему особое место в художестве. Матвеев на деле показал, что он — большой мастер живописи. Он восходил быстро и, занимая пост начальника живописной команды в Канцелярии от строений, оставался таким же добрым, простым. После долгого пребывания в Голландии Андрею Матвееву не так-то легко было приспособиться к жестким и суровым условиям жизни мастерового в России. Многие художники так и не смогли привыкнуть к средневековому цеховому гнету и пускались в бега. Тех, кого удалось поймать, били кнутом, вырезали ноздри и ссылали на вечную работу на галеры.
А как платили художнику за каторжный труд? Скудно платили, скупо. Казна истощалась на содержание двора. Пришлось облагать долговыми поборами даже помещиков, пощипать архиереев, монастырских владык. Что же тут говорить о черном народе?..
Растрелли видел, что Матвеев работает, задыхаясь от непомерного количества спешных заказов двора. Он писал картины в Петропавловский собор — "Вознесение господне", "Моление о чаше", "Фомино уверение", разрабатывал композиции многих других полотен.
К приезду императрицы Анны Иоанновны в Петербурге были построены трое триумфальных ворот — Аничковские, Адмиралтейские и Троицкие. Высокий, худой, подвижный Растрелли все время проводил меж строителей. Небесно-голубые, с позолотой и резьбой — ворота эти обильно были изукрашены живописью. Команда мастеров под началом Андрея Матвеева сбивалась с ног, чтоб поспеть к сроку. Матвеев спешно писал большой портрет императрицы в рост. Она была в короне и порфире, со скипетром и державой. И все это писано самым добрым и искусным художеством.
В 1732 и 1733 годах, когда Растрелли строил дворец в Летнем саду на Неве, Матвеев снова не успевал ни есть, ни пить, ни спать. Нужно было срочно подновить всю живопись, починить старые плафоны, написать множество новых. Спешная царская работа, словно моровая язва, преследовала мастера. В конце концов — настигла, ударила наотмашь. "Осталась после мужа своего с малолетними детьми на руках и не имею даже средств, чтоб погребсти тело мужа своего для расплаты долгов и на пропитание" — это из прошения жены Матвеева — Ирины Степановны. Не было на истинных художников в казне денег, не было! На все было, а на это не было. И на прошение вдовы Матвеева — самого видного российского мастера живописи — ответили, что маленько помогут. И выдали тридцать рублей. Живи как хочешь…
Канцелярия от строений выполняла предписание ее императорского величества: найти того среди мастеров, кто по искусству живописной науки достоин быть в ведомстве на место означенного умершего мастера Матвеева. Спрашивали совета у Растрелли. К присяге решили наконец привести Михаила Захарова, обучавшегося художеству за границей, в Италии. Не судьба была этому мастеру устоять на матвеевском месте. Меньше месяца пробыл Захаров на посту начальника живописной команды, и уже его жена, ставшая вдовой, так же, как и Ирина Степановна Матвеева, просит выдать ей жалованье мужа, так как он "волею божей умре".
Угасли яркие цветущие жизни, нужные и полезные державе, которых она, однако, или не больно замечала, или уничтожала равнодушной своей жестокостью.
Бог его знает, как сам Варфоломей Растрелли выдерживал, как отец его сносил все напасти! И не только сносил, но и создал столько превосходных кунштов!
Они были в узде. Самый выносливый, ретивый, могучий конь, если его не выпрягать, рухнет. Художники, покуда могли, держались.
Растрелли, печальный, величественный, уже слегка сгорбленный возрастом, стоял у окна и смотрел на липы, с которых слетели последние сухие листья.
Было тихо. Затаилась нескончаемая Русь, умолкли все ее большие и малые колокола, притих работный люд, не шумели и разбойники по лесным чащобам, и кандальные не бренькали ржавыми цепями.
Весь мир божий, получив необходимую передышку между летом и зимой, наслаждался короткими минутами земного счастья. И был он очень простой и трогательный в этой тишине под белым небом.
Судьба не баловала Растрелли. Хлебнул он и горьких мук, и убийственного равнодушия. В земле были его дети, а на земле стояли дворцы. В новом граде Санкт-Питер-Бурхе катила свои холодные воды спокойная Нева, а в Москве серые мужики сплавляли по Яузе сырые бревна. Ох, сколько довелось всего перенести, как у обер-архитектора за длинную его жизнь изнывала душа, как меркло в глазах, как отшибало память! Все было в его жизни, а искусство оставалось радостным, волшебным. Как ему удавалось пробить лбом стену невежества, холуйства, бессмыслицы, он и сам не знал. Но сохранить образ классической гармонии, пронизать огромный и широко растянутый фасад цельным ритмом — это он знал. И знал так, что хоть в смоле его кипяти — не вышибешь!
Стояли его дворцы — безмолвные, нарядные, гордые.
Это была роскошь. Это была победа. Это был праздник. Дворцы были пронизаны духом торжествующей свободы. Могучий поток лестниц, колонн, сочная и причудливая игра света и тени — в этом Растрелли не имел себе равных во всей Западной Европе.
"Нужно уметь бесстрашно заглянуть в бездну, — размышлял Варфоломей Варфоломеевич, — все дело в мужестве, оно возвышает человека. Не стоит бояться поражения — всегда кажется, что ничего не выходит, а потом видишь: все-таки что-то получилось. Гораздо хуже, когда поражение как две капли воды похоже на удачу".
Казалось ему, что он идет по нескончаемой дороге, которая внезапно выводит его к триумфальной арке, созданной каким-то блистательным мастером. Быть может, дорога эта вела прямо в рай. Только она была мрачновата. Наверное, и рай — такой же…
Вечная земля — Россия, со своими полями и суходолами, суровыми ликами святых и угодников в церквах, со своими белыми монастырями, мужиками и бабами, неуклюжими, косолапыми, обнищавшими, но неунывающими. Обер-архитектор припомнил ведомость, по которой он получал жалованье в Канцелярии.
Воспоминанье кольнуло его.
Там, в той ведомости, был Растрелли затерян между именами пажей и лекарей, камер-лакеев и гайдуков, скороходов и карлиц, поваров и хлебников, музыкантов и часовых дел мастеров, стрелков и конфетников, состоящих в штате вдов и гардеробных девушек. Будто не заслужил он большего. Далеко не регулярно платили ему жалованье, по прошествии каждой трети, по тысяче двести рублей в год, включая сюда карету, дом, дрова и свечи. И порой сильно дивился зодчий своей выдержке, тому, что удалось ему так прочно сжиться с Россией, так полюбить ее, что даже на итальянской земле чувствовал он себя чужеземцем. Но всюду и везде художество для него — дело святое. И даже когда нужда в деньгах прижимала крепко, а работа продвигалась вперед — он был счастлив.
Отрешенный от всего, Растрелли смотрел в одну точку и все пытался понять — видел он недавно Ивана Никитина или нет или померещилось ему, от рассказа Романа.
Тянулся бесконечный золотой фасад. Без мелочной игры узора, тяжеловесности и беспокойного плетения линий. Все было крупно, ясно, устойчиво и легко. Архитектурная фраза лилась могучим потоком. Глаз охватывал целое, переходил к частям, взбегал к окнам верхнего этажа, повторявшим очертания нижней части фасада. Да, это был Петергоф — Растрелли узнал его — с мощной гармонией и жизнерадостной красочностью. Петергоф, рожденный горячим беспрерывным вдохновением.
Но даже самый лучший, беспечный и заповедный фасад не мог скрыть бед и несчастий гениальных художников, возвысивших Россию в ее переломный момент. Художнику истинному всегда больше хотелось выразить общий тип человеческого благородства и красоты. А то, что вокруг себя видели они всяческих монстров, не суть важно…
Скоро придут непогоды — и в Москве, и в Санкт-Питер-Бурхе подернется небо темной тяжелой завесой. А в дальних краях все так же будет светить солнце. И плеск моря будет, зовущий жить и надеяться. Море… То синее, то зеленое, то фиолетовое. Оно вздымается отвесно, соединяясь с небом, скрывая линию горизонта.
Растрелли, печальный, величественный, стоял у окна и смотрел на липы, с которых слетели последние сухие листья.
других странах, помимо России, работать Варфоломею Растрелли не пришлось. По своему опыту он мог сказать — служба архитектора здесь изрядно тяжела.
Никогда и нигде не виданная и не слыханная волокита с прохождением бумаг, вечное откладывание дела на завтра, нехватка людей, инструмента, материалов — все это изо дня в день выматывало душу, подрывало силы. Когда-то за границей агенты Петра, а затем и его наследников усердно искали мастеров. Искали в Германии, Италии, Голландии, Франции. Ехали и ехали в Россию архитекторы, художники, инженеры, ученые.
Иноземцы приезжали, энергично брались за дело, потом уставали и заметно охладевали, наталкиваясь на неразбериху, воровство, разбой подрядчиков, на пасмурную российскую администрацию.
Они жаловались, писали челобитные, встречая неблагоприятные обстоятельства, чудовищные конфузии и пучины, из коих выбраться было невозможно. Многие из приезжих умирали, не выдерживая здешнего безрассудства, глупости, непротеки, видя, что все их усилия уходят и теряются в песках и болотах. Суровый быт приводил в отчаянье, а потом и добивал многих иноземных архитекторов. Умученный беспрерывными царскими понуканьями, уснул и больше не проснулся слабый и болезненный Андреас Шлютер. Навеки приютила его петербургская земля, бывшего архитектора прусского короля, знаменитого строителя Берлинского дворца, проектировщика Монплезира в Петергофе и Летнего дворца Петра. Всего два с половиною года выдержал в Петербурге Леблон.
12 ноября 1719 года пьяный подрядчик, потеряв равновесие, невзначай столкнул с лесов Георга Маттарнови, проектировщика Зимнего дворца и церкви Исаакия Долматского, автора Кунсткамеры, разбившегося насмерть о камни своего же детища. Меньше пяти лет продержался строитель Конюшенного двора Николай Гербель.
Северная столица не щадила не только иноземных мастеров, не могших ни понять, ни принять местных условий. Крайне сурово обходилась она и со своими мастерами — лучшими из лучших.
Самой большой надежде русской архитектуры, совсем молодому Петру Еропкину, обученному в Италии, отрубили голову на плахе, создав выдуманное политическое дело. А был он великий знаток градостроительства, искусный инженер, который впервые перевел на русский язык многие труды знатных иноземных архитекторов.
А оба брата Никитины? Учились во Флоренции у Том-мазо Реди, и по возвращении в Россию Иван Никитин по таланту и умению сразу же признан лучшим из всех русских живописцев. И что же? Братья подверглись пыткам.
Слушайте, глухие, смотрите, слепые, русских художников истязают. Ни совести, ни страха, ни стыда у грозных палачей…
Всего двадцать восемь лет довелось прожить Тимофею Усову, руководившему постройками в Петергофе, а до того получившему художественное образование в Италии. Не-, многим больше было Александру Захарову, обучавшемуся в Голландии, затем в Италии. Он писал Петра Великого, был им обласкан и сделан придворным художником, смотрителем всех картин. Императору знатоки говорили, что такого искусного и сильного живописца еще не было в России, но вскоре его отвергли, отставили, забыли. С досады он запил горькую и умер в молодых годах.
Архитектор Варфоломей Растрелли всегда высоко ставил Матвеева. Ни на кого не похожий Матвеев достиг такой виртуозности, какая определила ему особое место в художестве. Матвеев на деле показал, что он — большой мастер живописи. Он восходил быстро и, занимая пост начальника живописной команды в Канцелярии от строений, оставался таким же добрым, простым. После долгого пребывания в Голландии Андрею Матвееву не так-то легко было приспособиться к жестким и суровым условиям жизни мастерового в России. Многие художники так и не смогли привыкнуть к средневековому цеховому гнету и пускались в бега. Тех, кого удалось поймать, били кнутом, вырезали ноздри и ссылали на вечную работу на галеры.
А как платили художнику за каторжный труд? Скудно платили, скупо. Казна истощалась на содержание двора. Пришлось облагать долговыми поборами даже помещиков, пощипать архиереев, монастырских владык. Что же тут говорить о черном народе?..
Растрелли видел, что Матвеев работает, задыхаясь от непомерного количества спешных заказов двора. Он писал картины в Петропавловский собор — "Вознесение господне", "Моление о чаше", "Фомино уверение", разрабатывал композиции многих других полотен.
К приезду императрицы Анны Иоанновны в Петербурге были построены трое триумфальных ворот — Аничковские, Адмиралтейские и Троицкие. Высокий, худой, подвижный Растрелли все время проводил меж строителей. Небесно-голубые, с позолотой и резьбой — ворота эти обильно были изукрашены живописью. Команда мастеров под началом Андрея Матвеева сбивалась с ног, чтоб поспеть к сроку. Матвеев спешно писал большой портрет императрицы в рост. Она была в короне и порфире, со скипетром и державой. И все это писано самым добрым и искусным художеством.
В 1732 и 1733 годах, когда Растрелли строил дворец в Летнем саду на Неве, Матвеев снова не успевал ни есть, ни пить, ни спать. Нужно было срочно подновить всю живопись, починить старые плафоны, написать множество новых. Спешная царская работа, словно моровая язва, преследовала мастера. В конце концов — настигла, ударила наотмашь. "Осталась после мужа своего с малолетними детьми на руках и не имею даже средств, чтоб погребсти тело мужа своего для расплаты долгов и на пропитание" — это из прошения жены Матвеева — Ирины Степановны. Не было на истинных художников в казне денег, не было! На все было, а на это не было. И на прошение вдовы Матвеева — самого видного российского мастера живописи — ответили, что маленько помогут. И выдали тридцать рублей. Живи как хочешь…
Канцелярия от строений выполняла предписание ее императорского величества: найти того среди мастеров, кто по искусству живописной науки достоин быть в ведомстве на место означенного умершего мастера Матвеева. Спрашивали совета у Растрелли. К присяге решили наконец привести Михаила Захарова, обучавшегося художеству за границей, в Италии. Не судьба была этому мастеру устоять на матвеевском месте. Меньше месяца пробыл Захаров на посту начальника живописной команды, и уже его жена, ставшая вдовой, так же, как и Ирина Степановна Матвеева, просит выдать ей жалованье мужа, так как он "волею божей умре".
Угасли яркие цветущие жизни, нужные и полезные державе, которых она, однако, или не больно замечала, или уничтожала равнодушной своей жестокостью.
Бог его знает, как сам Варфоломей Растрелли выдерживал, как отец его сносил все напасти! И не только сносил, но и создал столько превосходных кунштов!
Они были в узде. Самый выносливый, ретивый, могучий конь, если его не выпрягать, рухнет. Художники, покуда могли, держались.
Растрелли, печальный, величественный, уже слегка сгорбленный возрастом, стоял у окна и смотрел на липы, с которых слетели последние сухие листья.
Было тихо. Затаилась нескончаемая Русь, умолкли все ее большие и малые колокола, притих работный люд, не шумели и разбойники по лесным чащобам, и кандальные не бренькали ржавыми цепями.
Весь мир божий, получив необходимую передышку между летом и зимой, наслаждался короткими минутами земного счастья. И был он очень простой и трогательный в этой тишине под белым небом.
Судьба не баловала Растрелли. Хлебнул он и горьких мук, и убийственного равнодушия. В земле были его дети, а на земле стояли дворцы. В новом граде Санкт-Питер-Бурхе катила свои холодные воды спокойная Нева, а в Москве серые мужики сплавляли по Яузе сырые бревна. Ох, сколько довелось всего перенести, как у обер-архитектора за длинную его жизнь изнывала душа, как меркло в глазах, как отшибало память! Все было в его жизни, а искусство оставалось радостным, волшебным. Как ему удавалось пробить лбом стену невежества, холуйства, бессмыслицы, он и сам не знал. Но сохранить образ классической гармонии, пронизать огромный и широко растянутый фасад цельным ритмом — это он знал. И знал так, что хоть в смоле его кипяти — не вышибешь!
Стояли его дворцы — безмолвные, нарядные, гордые.
Это была роскошь. Это была победа. Это был праздник. Дворцы были пронизаны духом торжествующей свободы. Могучий поток лестниц, колонн, сочная и причудливая игра света и тени — в этом Растрелли не имел себе равных во всей Западной Европе.
"Нужно уметь бесстрашно заглянуть в бездну, — размышлял Варфоломей Варфоломеевич, — все дело в мужестве, оно возвышает человека. Не стоит бояться поражения — всегда кажется, что ничего не выходит, а потом видишь: все-таки что-то получилось. Гораздо хуже, когда поражение как две капли воды похоже на удачу".
Казалось ему, что он идет по нескончаемой дороге, которая внезапно выводит его к триумфальной арке, созданной каким-то блистательным мастером. Быть может, дорога эта вела прямо в рай. Только она была мрачновата. Наверное, и рай — такой же…
Вечная земля — Россия, со своими полями и суходолами, суровыми ликами святых и угодников в церквах, со своими белыми монастырями, мужиками и бабами, неуклюжими, косолапыми, обнищавшими, но неунывающими. Обер-архитектор припомнил ведомость, по которой он получал жалованье в Канцелярии.
Воспоминанье кольнуло его.
Там, в той ведомости, был Растрелли затерян между именами пажей и лекарей, камер-лакеев и гайдуков, скороходов и карлиц, поваров и хлебников, музыкантов и часовых дел мастеров, стрелков и конфетников, состоящих в штате вдов и гардеробных девушек. Будто не заслужил он большего. Далеко не регулярно платили ему жалованье, по прошествии каждой трети, по тысяче двести рублей в год, включая сюда карету, дом, дрова и свечи. И порой сильно дивился зодчий своей выдержке, тому, что удалось ему так прочно сжиться с Россией, так полюбить ее, что даже на итальянской земле чувствовал он себя чужеземцем. Но всюду и везде художество для него — дело святое. И даже когда нужда в деньгах прижимала крепко, а работа продвигалась вперед — он был счастлив.
Отрешенный от всего, Растрелли смотрел в одну точку и все пытался понять — видел он недавно Ивана Никитина или нет или померещилось ему, от рассказа Романа.
Тянулся бесконечный золотой фасад. Без мелочной игры узора, тяжеловесности и беспокойного плетения линий. Все было крупно, ясно, устойчиво и легко. Архитектурная фраза лилась могучим потоком. Глаз охватывал целое, переходил к частям, взбегал к окнам верхнего этажа, повторявшим очертания нижней части фасада. Да, это был Петергоф — Растрелли узнал его — с мощной гармонией и жизнерадостной красочностью. Петергоф, рожденный горячим беспрерывным вдохновением.
Но даже самый лучший, беспечный и заповедный фасад не мог скрыть бед и несчастий гениальных художников, возвысивших Россию в ее переломный момент. Художнику истинному всегда больше хотелось выразить общий тип человеческого благородства и красоты. А то, что вокруг себя видели они всяческих монстров, не суть важно…
Скоро придут непогоды — и в Москве, и в Санкт-Питер-Бурхе подернется небо темной тяжелой завесой. А в дальних краях все так же будет светить солнце. И плеск моря будет, зовущий жить и надеяться. Море… То синее, то зеленое, то фиолетовое. Оно вздымается отвесно, соединяясь с небом, скрывая линию горизонта.
Растрелли, печальный, величественный, стоял у окна и смотрел на липы, с которых слетели последние сухие листья.





